Нина Воронель Содом тех лет
Пролог. Меня пугает власть моя над миром
Я не была близко знакома с Ахматовой. Я видела ее один раз, но она цельно и художественно раскрылась даже в этой единственной встрече.
Не помню, кто меня к ней привел или замолвил словечко, но было мне позволено переступить порог сумрачно-петербургской комнаты, где у правой стены, на полдороге между дверью и окном – окно было напротив двери, за окном моросил дождь – возвышалась (именно возвышалась, а не стояла) резная кровать красного дерева, на которой возлежала Ахматова, бледная, грузная, в распахнутой на груди ночной сорочке. Ее только на днях выписали из больницы после сердечного приступа, и лицо ее на фоне смятых подушек было желтовато-серым, но это не только не снижало ее царственного статуса, а скорей подчеркивало его.
Подавив естественно возникшее желание поцеловать ей руку, я подошла и остановилась в ногах кровати.
– Что вы, собственно, хотите? – спросила она.
– Я хотела вас увидеть, услышать ваш голос, – лживо пробормотала я, смущаясь объяснить ей, что я вовсе не стремлюсь послушать ее стихи, а одержима эгоистичным желанием почитать ей свои.
– Я теперь всегда спрашиваю, зачем люди ко мне приходят, – объяснила Ахматова, – а то один нахал на днях ворвался ко мне в больницу, чтобы выяснить, кто лучше, я или Цветаева.
Узнав, что я – поэтесса, она сразу догадалась, чего я хочу.
– Вы, небось, хотите почитать мне свои стихи? – спросила она. – Прочтите одно, которое вам особенно нравится.
Срывающимся от волнения голосом я прочла ей свое стихотворение:
Меня пугает власть моя над миром, Над разными людьми и над вещами, Не я, конечно, шар земной вращаю И управляю войнами и миром, Но есть во мне таинственная сила, Исполненная прихотей и каверз, Чтоб на паркетах люди спотыкались, Чтоб на шоссе машины заносило…Прикрыв глаза рукой, Ахматова полусидела среди высоко взбитых подушек, и мне было не ясно, слушала она меня или просто пережидала, пока я закончу. Потом она открыла глаза и властно указала мне на стоящий возле кровати стул с высокой спинкой:
– А теперь садитесь, я вам тоже почитаю.
Она взяла с прикроватной тумбочки рукописный листок и, приподнявшись на локте, начала читать, – как ни странно, голос ее тоже прерывался от волнения:
Плывет в тоске необъяснимой Среди кирпичного надсада Ночной кораблик негасимый Из Александровского сада…Закончив читать, она устало откинулась на подушки и спросила:
– Ну как?
И хотя я заранее готова была восхититься всем, что она прочтет, и хотя завораживающая музыка стихотворения так соответствовала полумраку комнаты и дождю за окном, четкий внутренний голос сказал мне: «Это не ее стихи!»
И я выпалила, немедленно ужасаясь неловкости возможной ошибки:
– Это прекрасные стихи, но они не ваши, правда?
Она вся засветилась от радости, что мне понравилось:
– Это стихи Иосифа Бродского. Чудные, чудные стихи!
Имя Иосифа Бродского мне ничего тогда не говорило – я его слышала впервые. И потому спросила, опасаясь прозвучать, как тот нахал, что выяснял в больнице про Цветаеву:
– Он хороший поэт, этот Бродский?
Она прикрыла глаза, но не устало, а сладострастно:
– Он такой рыжий! У него такая нежная кожа! Когда он читает мне свои стихи, мне все время хочется погладить его по щеке!
В дверь заглянула сморщенная сиделка, выразительно намекая, что мое время истекло. Я покорно поднялась, удостоившись царственного кивка, – знаменитый горбоносый профиль отбросил на подушки крылатую орлиную тень, и я пошла к выходу. Когда я дошла до двери, Ахматова окликнула меня:
– Погодите!
Я остановилась, хотя рука сиделки, вцепившись в мой рукав, настойчиво волокла меня прочь из комнаты. Из белизны подушек на меня глядели все еще блестящие, полные любопытства глаза:
– Скажите, а что – у вас и вправду есть такая власть над миром?
Тогда я растерялась и не нашлась, как ответить. Но с тех пор я убедилась, что какая-то власть над миром у меня и впрямь есть. Не то, чтобы могущество, но некий скромный аппарат управления отдельными, не существенными для других, но важными для меня процессами.
В первый раз это абсолютно не поддающееся никакому контролю свойство обнаружило себя, когда меня предал Лев Нусинов, нежно мною почитаемый оппонент моего дипломного сценария на Высших сценарных курсах. В то время моя власть над миром только-только начинала оформляться, и я еще не знала, как моя обида опасна для того, на кого я обиделась.
Трудно описать ту обжигающую обиду, которая охватила меня, когда я прочла речь Нусинова на закрытом обсуждении дипломных проектов. Защита дипломов на Высших сценарных курсах проходила в отсутствие дипломника и была строго засекречена, но какой-то доброжелатель тайком вынес мне стенограмму заседания. Там черным по белому было описано, как мой обожаемый оппонент, с которым было переговорено столько задушевных бесед, выпито столько дружеских чашек кофе и нагуляно столько километров для проветривания его любимой собачки, объявил худсовету, что считает фабулу моего сценария антисоветской. Не пошлой, не банальной, не неумелой, а АНТИСОВЕТСКОЙ! Прямо в яблочко! В то время не было обвинения страшней…
Я прочла и не поверила своим глазам – неужели он так ловко притворялся, пока мы с ним, выгуливая собачку, обсуждали детали этого сценария на общей волне взаимного понимания? Я бы сочла стенограмму фальшивкой, но далее следовало весьма убедительное обсуждение речи Нусинова и вынесение приговора. Мой диплом зарубили как антисоветский – это был безусловный факт. Я так жгуче обиделась на Нусинова, что он этого не пережил – через неделю после злополучной защиты он отправился в морскую экспедицию на военном судне, где на третий день скоропостижно скончался. Молодой, здоровый, красивый – предатель!
Я еще не знала, приписывать ли это ужасное событие своей обиде или нет, но со временем подобные странные явления стали нанизываться одно на другое. Через пару лет после смерти Нусинова мне довелось побывать в Игарке – не в роли подневольного ЗэКа, а в привольном качестве туристки. Меня доставил в порт Игарка красивый белый пароход. Пассажиры в купальных костюмах целый полярный день прохлаждались в шезлонгах на продуваемой легким ветерком палубе, а к обеду наряжались в лучшие одежки и отправлялись есть поданную на красивых белых тарелках свежеподжаренную, только что выловленную рыбу-чавычу. Только редким счастливцам удается попробовать эту необычайного вкуса рыбу, которую невозможно транспортировать – она такая нежная, что портится даже от прикосновения, не то что от перевозки.
И все же мне редко приходилось чувствовать себя погруженной в такое море печали, в какое вогнала меня и моих спутников Игарская земля. Мне все время виделись тысячи тысяч замученных и погребенных в ее недрах – сколько их было? Кто они были? Они канули в безвестность – над их могилами нет ни плит, ни крестов, да и могил самих тоже нет. Их кости засосала вечная мерзлота.
Меня вдруг прожгла жгучая обида за этих людей, бесследно исчезнувших, без вины виноватых. Эта обида душила и терзала меня, пока я не очистилась – я на одном дыхании сочинила стихотворение:
«Я виновата в пожаре Игарки, Хоть не бросала окурка в опилки, Спичек не жгла в деревянной хибарке И не курила на лесопилке. Бревна при мне под навесом лежали, Пламя не кралось по ним воровато, Но все-таки я виновата в пожаре, Не делом, а помыслом виновата. Мысленно я пробиралась во мраке, Чутко послушная злому прозренью, И поджигала кривые бараки, И выжигала проклятую землю. …………………. Пламя гуляло по гулким настилам И деловито по доскам плясало, А я не гасила его, не гасила И ничего из огня не спасала! Я никого не брала на поруки, И, окончательно пепел рассея, Я омывала горячие руки В зеленоватой воде Енисея».Не успела я записать последнюю строчку этого стихотворения, как проклятая мною Игарка полностью сгорела во вспыхнувшем неизвестно почему пожаре. Чем прикажете это объяснить – случайным совпадением или магической силой моего проклятия?
Да и что это такое – власть над миром? Колдовские чары Мерлина или хитрый трюк волшебника изумрудного города? Как рационально объяснить тот удивительный факт, что во многих жизненных передрягах меня осеняло охранительное крыло какой-то доброй феи?
Никогда не забуду, как я, четырех лет отроду, пробегая по пустынному вечернему двору, неловко наступила на плохо закрытый канализационный люк и повисла над зловонным колодцем на слабых детских ручках. Надежды на спасение не было никакой – во дворе было темно и безлюдно. Но чья-то невидимая рука простерлась надо мной. И хотя в моих цепляющихся за край колодца ладошках не было никакой силы, я все же не упала вниз, а непостижимым усилием воли вытащила себя наружу и на коленках доползла до подъезда, где потеряла сознание.
Та же спасительная рука протянулась ко мне, когда я, вскочив на ходу на обледенелую подножку харьковского трамвая, круто сворачивающего с Маяковской на Бассейную, не успела ухватиться за поручни и начала головокружительно-медленно выпадать назад, под колеса второго вагона. Правда, на этот раз милосердная рука материализовалась из абстрактной в конкретную руку ничем не примечательного паренька в ватнике, который неизвестно как оказался на трамвайной площадке. Я точно помню, что, когда я вскакивала на подножку, там никого не было.
Меня прямо преследовали удачи – я всегда блестяще сдавала все экзамены, независимо от того, знала я предмет или нет. Так я сдала экзамен на водительские права, абсолютно не умея водить, в то время, как другие, владеющие рулем гораздо лучше меня, этот экзамен завалили.
В молодости мы любили ходить в кино, и часто перед началом сеанса, имея один билет, разыгрывали его с другой парой, тоже владеющей одним билетом. Игру обычно вела я, и не было случая, чтобы та, другая, пара выиграла. С годами я даже начала испытывать некоторую неловкость от того, что вступала в эту авантюру, заранее предвидя результат. Но и отказаться было трудно.
Но это были мелочи. Я без всякой протекции поступала во все учебные заведения, в которые хотела попасть, даже если евреев туда практически не принимали. Я выигрывала все конкурсы, в которых участвовала, и получала разнообразные призы, даже от антисемитского жюри Всероссийского конкурса на лучшую пьесу для кукольного театра.
Сразу по выезде на Запад две мои пьесы поставили в Нью-Йоркском театре, а третью экранизовали на Лондонском телевидении. Вопреки всем прогнозам телевидение БиБиСи заключило со мной контракт на написание сценария телесериала о жизни Ф. Достоевского – и заплатило мне за него кучу денег.
Но главная удача постигла меня в девятнадцать лет, когда я против воли родителей вышла замуж за Сашу Воронеля, который считался самым красивым мальчиком на нашем курсе физико-математического факультета. Я тогда еще не знала, что он окажется одним из выдающихся людей нашего времени и что его верная поддержка поможет мне стать тем, кем я стала. Не мне судить об объективной ценности полученного результата, но в светлые минуты мне кажется, что дело обстоит не так уж плохо.
Впрочем, случались и сбои, когда никто не приходил на выручку, а, может быть, обстоятельства эти были предназначены мне намеренно, с высшим замыслом преподать какой-то урок. Ведь зачем-то было нужно, чтобы я, выйдя в первый раз в густо населенный детворой двор сибирского города Кемерово, куда нас забросила военная судьба, с ходу присоединилась к веселой группе, играющей в лунки? Было мне лет девять, и в лунки я никогда не играла. Не твердо понимая правила игры, я со счастливым смехом куда-то бежала, останавливалась по чьей-то команде, ловила брошенный в меня теннисный мяч и нисколько не волновалась, наблюдая, как растет горка камешков в моей лунке.
Потом наступил роковой момент, значения которого мое сознание никак не зарегистрировало, когда все остановились и уставились на меня.
«Как тебя зовут?» – спросил большой мальчик в ушанке, – несомненный вожак всей компании.
«Неля», – ответила я, не предполагая опасности.
«Сейчас будем тебя парить, Неля», – ласково объявил вожак, и я согласно кивнула, не представляя себе, что значит «парить». Каким-то образом я оказалась в центре круга, который начал медленно и довольно зловеще смыкаться. Невидимая девчонка у меня за спиной пискнула: «Беги!», но бежать было некуда, круг стоял плотно, плечом к плечу. Я попятилась, но пятиться было тоже некуда. По команде вожака два мальчика постарше сорвали с меня пальто и, жестко подхватив под локти, развернули спиной к центральной группе, которая выделялась среди других ростом и возрастом.
«Каждому по пять мячей», – определил вожак и демократично спросил, кто хочет начать. Вызвалось сразу несколько голосов, и экзекуция началась. Мяч был теннисный, твердый, как камень, били они изо всех сил и с близкого расстояния. Били под возбужденные крики толпы: «Слабый удар! Давай крепче!» Рыдая в голос, я извивалась и корчилась в стальной хватке своих мучителей, но мои рыдания только побуждали их лупить еще яростней, еще больней. Особенно отличились некоторые сердобольные девочки: не в состоянии причинить боль ближнему, они отдавали свои пять мячей взрослым мальчишкам, охваченным садистским экстазом.
Не помню, как этот кошмар кончился, и как я добралась до своей комнаты в коммунальной квартире, где мы ютились вшестером на тесно прижатых друг к другу топчанах. Помню только истошный вопль мамы, который вырвался у нее, когда она увидела мою спину – багрово-синюю и вздутую, как подушка. У меня нашли острый отек легких, и несколько дней я, обложенная компрессами, металась в жару, и врачи не были уверены, выживу я или нет. Но я все же не умерла, а только перестала верить в сладкую легенду, будто человек по природе добр.
В награду за это у меня развилась жестокая память – она почти не хранит умильного или утешительного, зато цепко удерживает мельчайшие детали смешного и разоблачительного.
Так я вижу, так я помню, так я пишу – иначе писать не интересно. Иногда хочется спросить – зачем пишу? Но ответ заложен наверно где-то в глубинах генетического кода.
После смерти моего прадеда с материнской стороны у него под кроватью был обнаружен сундук, полный рукописей. Это были длинные поэмы, написанные им сразу на трех языках – на русском, на идиш и на иврите, – причем языки произвольно перемежались и смешивались, не стесняя себя грамматическими правилами. Прадед так тщательно скрывал свое пристрастие к стихосложению, что даже для прабабки открытие этих замысловатых поэм было сюрпризом. Сейчас его, вполне возможно, зачислили бы в постмодернисты, но в те далекие времена рукописи его просто пустили на растопку вопреки нынешнему общему убеждению, что рукописи не горят.
А ведь он создавал эти странные лингвистические чудища всю жизнь, втайне от всех, без какого бы то ни было расчета на публикацию. Разве можно было спросить его – зачем он их писал? Был он меламедом в хедере еврейской земледельческой колонии и вряд ли даже грешил помыслами об искусстве – он просто не мог не писать.
Мой случай выглядит гораздо понятней – то ли времена случились такие, то ли мне просто повезло, но я выросла, окрыленная наивной верой в превосходство искусства над жизнью.
Конечно, реальность моего детства, кровавой рекой перетекавшая из чистилища Тридцать Седьмого в ад Сорок Первого, была малоутешительна, но она не оставляла сомнений в возможности переплавить все страдания в высокое всеочищающее Слово. Жизнь могла унизить и стереть в порошок, зато всегда можно было найти прибежище и утешение в нетленных ценностях искусства.
Из всех искусств самым заманчивым мне представлялся театр, я даже написала корявыми детскими буквами в верхнем углу первой (и последней) страницы своего первого (и последнего) дневника: «Мир – театр, люди – актеры». Из затеи с дневником ничего не вышло, так как он должен был отражать жизнь, а она не стоила внимания. И я все ждала наступления той минуты, когда мое существование, то есть жизнь, превратится в Жизнь, то есть в Искусство.
Моя театральная карьера началась, когда мне было пять лет. Было это в большом промышленно-провинциальном городе Харькове, очень интеллигентном, хотя и по-советски, и столь же по-советски некрасивом: там не было ни одной достопримечательности, которую стоило бы показать приезжим.
Мама купила мне билет в кукольный театр на спектакль «Гусенок». Я сидела в первом ряду, напряженно переживая приключения храброй девочки Маши, которая ни за что не отдавала хитрой лисе своего любимого гусенка. На макушке у меня в такт дыханию трепыхался большой голубой бант. Вдруг в самый драматический момент представления Маша обернулась, поманила меня к себе и сказала: «Девочка в первом ряду с голубым бантом, иди сюда!»
Мне, конечно, и в голову не пришло, что она зовет меня: тогда я еще почитала искусство делом неземным и, следовательно, неспособным вступить в связь с моей скромной персоной. Но мои соседи мигом смекнули, что к чему, и меня проворно вытолкнули вперед, на просцениум. Маша вручила мне свой прутик, велела зорко сторожить гусенка от лисы и убежала по каким-то неотложным делам. Как только она скрылась за кулисами, на сцену выскочила лиса. Игриво помахивая хвостом, она коварно попыталась выманить у меня гусенка, не скупясь ни на посулы, ни на угрозы. Но я была непреклонна и неподкупна. Тогда лиса сказала: «Я вижу, ты хоть и маленькая девочка, но замечательный сторож и верный друг. За это тебе полагается награда». И она протянула мне маленькую пеструю коробочку.
Восхищенная признанием моих заслуг, я поспешно открыла коробочку: в ней лежала вторая, в которой лежала третья. Пока я открывала их одну за другой своими не очень ловкими маленькими пальчиками, лиса успела украсть гусенка и скрыться. Организаторы спектакля были довольны: все шло по плану. Появилась безутешная Маша и, не тратя времени на упреки, помчалась искать гусенка. Моя роль была окончена, мне полагалось сесть на место и благополучно наслаждаться спектаклем до самого хэппи-энда. Но не тут-то было: рыдая в голос, я остервенело бросалась на сцену с воплем: «Где гусенок? Отдайте мне гусенка!» Я швырнула в распорядителя коробочкой, подаренной мне за труды, выскочила на сцену и попыталась растоптать декорации. В конце концов меня скрутили и на руках вынесли из зала.
Так я впервые поняла, что искусство требует жертв.
Потом был большой перерыв, длиной почти в целую жизнь: я изучала физику в университете, выходила замуж, переводила «Балладу Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда и всерьез считала свое существование подлинным. Я тогда еще не подозревала, что все это было лишь подготовкой к той истинной жизни, смутный зов которой я услышала, когда пыталась изменить ход отлично отлаженного кукольного спектакля.
Дверца в истинную жизнь открылась для меня так случайно и буднично, что я в тот момент и не заметила роковой перемены. Но момент этот я запомнила до мельчайших подробностей. Я запомнила синеватую хмурость московского зимнего неба за окном, подсинивающую фаянсовые чашечки с остатками остывшего кофе на столиках кафе в Доме литераторов. Я запомнила приглушенный гул множества несогласованных разговоров и перекрывающий их веселый басок театрального художника за соседним столиком: он уговаривал своих собеседников написать пьесу для кукольного театра, уверяя, что нет нынче более ходкого товара.
Хоть уговаривал он вовсе не меня и не мне предлагал свою помощь, я восприняла его слова как зов судьбы и начала писать свою первую пьесу. До того я писала стихи, пытаясь рассказать о многоликом и неоглядном мире своим слабым голосом. Начав писать пьесы, я вдруг обнаружила, что голоса моих героев гораздо важнее и содержательнее моего.
Конечно, понимание этого пришло ко мне не сразу, равно как и понимание сути драмописательства: мне пришлось немало намучиться, пока я научилась помалкивать и предоставлять слово и поле действия своим персонажам.
Первые мои пьесы, написанные после подслушанного судьбоносного разговора в кафе Дома литераторов, были вполне качественные советские пьесы для кукольного театра: добро было однозначно положительным, зло – однозначно отрицательным, и после недолгой, строго очерченной тремя драматическими единствами борьбы, сюжет приходил к впечатляющей победе положительного добра над отрицательным злом. Следование канонам было для меня вполне результативным: все мои ранние пьесы были куплены соответствующими культурными организациями, а одна – самая плохая – была даже удостоена премии на Всесоюзном конкурсе детских пьес. Это было прекрасно: мне щедро заплатили – и премиальные, и гонорар за пьесу, – так что я даже смогла купить себе на черном рынке недоступное до того пальто из ярко-красного джерси и массу других не менее соблазнительных вещей.
На миг превратившись таким чудесным способом из Золушки у печи в Золушку на балу, я начала бродить по театральным залам и задумывать новые пьесы. Я становилась все мудрей и сноровистей, и это явно не шло мне на пользу – оказалось, что по мере роста моей драмодельческой техники я все больше и больше теряю власть над своими героями. Положительные персонажи начали откалывать странные номера, а отрицательные – позволять себе неожиданно благородные побуждения.
Чтобы привести эти новые качества в соответствие с первоначальным замыслом, я начала вводить в пьесы стабилизирующие моменты. Для этого не нужно было придумывать специальных эффектов. Нужно было только выбрать во времени и пространстве особую взрывную точку, где сходились нити разных, вовсе не похожих на мою, судеб, и рассечь эти нити в самой сердцевине их хитросплетения. Тогда, если точка была выбрана верно, оставалось только залечь в засаде и подслушивать, что скажут подследственные персонажи, и потом записывать их слова с максимальной достоверностью. Главное, нужно было иметь магнитофонное ухо и честное перо, чтобы записывать подслушанное, не перевирая.
О, Господи, что они рассказывали, в каких грехах и слабостях сознавались, эти удивительные незнакомцы, непредсказуемо возникавшие из темных глубин моего подсознания! Да и не только из подсознания: стоило мне наметить взрывной узел рассечения действительности, как из самой жизни навстречу моему замыслу начинали толпами набегать на меня персонажи.
А если нужного характера в данный момент не находилось в небесных закромах, то удача моя придумывала иной выход: она посылала какое-нибудь абсолютно постороннее лицо из другого жизненного спектакля специально для того, чтобы лицо это одарило меня парой недостающих реплик. От меня требовалось лишь терпение, сосредоточенность и умение вовремя сдержаться, чтобы не навязывать другим свои соображения.
И тут я во второй раз поняла, что искусство требует жертв: ведь ничем так не жаль пожертвовать, как своим собственным мнением! Зато жертва эта, в отличие от многих других, вознаграждалась сторицей: мои персонажи зачастую оказывались гораздо умнее меня. То, чего бы я вовек не решилась сказать, до чего я бы просто не додумалась, персонажи мои высказывали порой с недоступной мне легкостью и непринужденностью. Преодолев свое авторское самолюбие, я была вынуждена признать, что в этом и состоит преимущество драматургии перед лирикой.
Не успела я оглянуться, как мои новые пьесы были заклеймены уничижительной кличкой «драмы абсурда», и мое благополучие кончилось: ни одна из обожавших меня доселе культурных организаций не хотела больше ни покупать их, ни ставить.
И даже веселый мюзикл «Шестью восемь – сорок восемь», написанный по мотивам поэзии А. А. Милна, обернулся крамолой. За то, что герой его, печальный король Джон, хочет получить в подарок большой футбольный мяч, мюзикл, поставленный Пермским тюзом, запретили еще до премьеры, директору театра вынесли выговор, а режиссера, Ксению Грушницкую, уволили.
Меня вызвали в Министерство культуры, незадолго до этого наградившее меня премией. Главная начальственная дама министерства, Светлана Романовна Терентьева, полыхая гневными алыми пятнами на щеках и на шее до самого выреза блузки (а, может, и ниже, – не знаю, мне было не видно), заявила мне, что ее режиссеры моих пьес никогда ставить не будут. Выйдя из первоначального шока, я почувствовала странное облегчение: лишив меня надежды, она даровала мне полную и подлинную свободу.
Я стала писать совсем другие пьесы – одну за другой, одну за другой. Они посыпались из меня, как из рога изобилия – наверно, давно уже скопились на выходе из подсознания и только ждали своего часа. Мне самой трудно описать их, и потому я воспользуюсь отрывками из статьи замечательного поэта и эссеиста, покойного Ильи Рубина:
«Пьесы Нины Воронелъ фиксируют момент, когда в результате исторического катаклизма гибнет нравственность целого народа, – последние дни Содома… Это не мир преступления – это мир наказания. Недаром лейтмотивом одной из лучших пьес сборника («Первое апреля») стало пророческое стихотворение Макса Волошина: «С Россией кончено!.. О Господи! Развей и расточи! Пошли нам огнь, проказу и мечи…» Это не мир молодого, свежего, наивного греха, когда ясно видно, кто обманул, а кто – обманут, кто запачкан своей кровью, а кто – чужой. Это мир, до того закосневший в грехе, что грех уже сделался бытом, мелкой житейской подробностью. Социальный, нравственный и религиозный распад всегда сопровождается распадом языка. Речь персонажей Нины Воронель – алогичное бормотание, рептильное косноязычие торжествующего подсознания, непристойный рефрен, лишенный смысловой нагрузки. Ни к кому не обращенное словоизвержение героев, сливается в нечто среднее между гулом, чавканьем и воплем.
При этом театр Нины Воронель – вполне классический театр. Просты и традиционны его сюжеты, герои, обстановка: беседуют обитатели больничной палаты, выпивают и закусывают на рыбалке сотрудники таксопарка, выясняют отношения начальник и подчиненный… Нет нужды в театре абсурда там, где абсурдна сама действительность. Классическая оболочка – подходящий сосуд, которым можно зачерпнуть современную Россию, чтобы перенести ее на сцену, не расплескав».
Не знаю, прав ли Илья Рубин, но в подтверждение его правоты могу привести слова специалиста по русской литературе, профессора университета Глазго Мартина Дьюхерста, с которым мне довелось познакомиться несколько лет спустя. Увидев меня в коридоре радиостанции «Свобода» в Мюнхене, он демонстративно невежливо показал на меня пальцем и громко объявил окружающим его почитателям: «Вот идет женщина, написавшая самую страшную правду о России!»
Почитатели спросили почтительно, но с недоверием:
«Страшней, чем Солженицын и Шаламов?»
«Страшней, – припечатал эксперт. – Потому что ее правда экзистенциальная, а не политическая. Она о народной душе, а не о социальной системе».
Ясно, что с охарактеризованными таким образом пьесами мне не на что было рассчитывать во владениях Светланы Романовны Терентьевой. Оставалось только уехать – хотя, честно говоря, в те времена это звучало совершенно неправдоподобно. Такое могли предложить только наивные американцы, щебетавшие что-то вроде:
«Ах, вам не нравится жить в СССР? Так чего же вы ждете? Уезжайте и все!»
И все-таки я уехала. Не сразу, правда, а после трех лет мучительной борьбы я приземлилась по другую сторону Железного Занавеса. Едва приземлившись, я совершила на первый взгляд безрассудный, но оказавшийся необычайно практичным поступок: я истратила наши скудные эмигрантские доллары на английский перевод своей одноактной пьесы «Первое апреля».
Прижимая к бедру худосочную картонную папку с переводом «Первого апреля», я в конце марта 1975 года впервые ступила на американскую землю, куда меня послал Сионистский Заговор для участия в кампании по вызволению советского еврейства из жесткой хватки советской власти.
В нью-йоркском аэропорту, двигаясь броуновскими кругами в пестрой толпе встречающих, я столкнулась с красивой синеглазой женщиной по имени Шила, которая, восхищаясь моим недавним героизмом в борьбе за выезд, попутно рассказала, что среди ее друзей много актеров и режиссеров. А я в ответ неожиданно для себя самой объявила, что у меня в кустах случайно спрятан рояль, и в доказательство предъявила свою заветную папку.
Шила жадно ее схватила и унесла, а меня с песнями отвезли в отель «Алгонкин» на 34-й улице, прославившийся тем, что там обычно останавливаются знаменитые писатели и деятели искусств. Не знаю, какую роль в дальнейшем развитии событий сыграло мое пребывание в отеле «Алгонкин», но утром следующего дня Шила позвонила мне и, задыхаясь от восторга, сообщила, что первый же режиссер, прочитавший мою пьесу, изъявил горячее желание немедленно ее поставить.
После первых потрясенных минут я все-таки в это поверила. При ближайшем рассмотрении режиссер оказался режиссершей по имени Марго Луитин – крупной русоволосой дамой с мужским голосом и почти нескрываемой склонностью к лесбиянству.
Хоть Марго быстро смекнула, что я ей в любовные партнеры не гожусь, решения своего она не изменила – оно было продиктовано профессиональными интересами, а не сексуальными. Действие пьесы происходит в приюте для престарелых советских писателей, и я долго придумывала самые разнообразные объяснения внезапного увлечения Марго моей трагикомедией из совершенно чуждой ей жизни. Но того объяснения, которое она мне преподнесла, я даже и вообразить бы не смогла:
«Это просто чудо, что за пьеса!» – сказала она.
Я замерла, предвкушая поток комплиментов по части характеров, композиции, остроумия диалога. Но не тут-то было!
«Какая редкая удача – семь стариков на сцене одновременно!»
Вот тебе и на! А я-то вообразила о себе Бог знает что!
Зато после такого откровения мне стал понятен восторг Марго по поводу затребованной ею для комплекта моей второй одноактной пьесы по имени «Матушка-барыня». В этой страшной сказке об абортной палате, которую прямо у меня из-под руки поспешно перевел давний приятель-славист Мартин Хорвиц, на сцене красовались одновременно восемь полуодетых баб и ни одного мужика!
Удовлетворенная полученным материалом Марго срочно вызвала меня в свой «Интерарт театр» для составления и подписания первого в моей заграничной жизни контракта. Через два месяца после подписания договора я прибыла из Израиля в театральную столицу мира уже не скромной туристкой с сионистскими намерениями, а уважаемым автором запущенных в производство пьес. Об этом свидетельствовала встречавшая меня в аэропорту Франсис – секретарша Марго, высокая заплаканная блондинка, присланная для обеспечения моего благополучия. Вид у Франсис был взъерошенный и глаза на мокром месте, потому что, как я вскоре узнала из театральных сплетен, Марго, страстно влюбившись на пробах в одну из актрис, Сюзен Келлерман, отправила свою бывшую возлюбленную Франсис в отставку. Сюзен Келлерман оказалась очень талантливой актрисой – зал во время спектакля так и грохал смехом после каждой ее реплики. С годами она, похоже, сделала неплохую карьеру – мне несколько раз приходилось видеть фильмы с ее участием, причем роли у нее не из последних.
Но таланты Сюзен вряд ли грели душу бедной отвергнутой Франсис. Уже по дороге из аэропорта она попыталась посвятить меня в свою трагедию, – вероятно, в надежде на помощь и утешение, – но я, утомленная многочасовым перелетом, так и не смогла врубиться в душераздирающие переживания неразделенной лесбийской любви. Я и без того с трудом врастала в свой собственный новый образ преуспевшего драматурга – для начала, меня потрясла снятая для меня театром квартира в самом сердце артистической жизни, в Гринвич Вилледж, на Четвертой улице, совсем рядом с Вашингтон Сквер.
Во-первых, мое вселение в настоящую нью-йоркскую квартиру, снятую лично для меня настоящим нью-йоркским театром, полностью опровергало мрачные пророчества моих литературных собратьев. Во-вторых, это была и впрямь настоящая нью-йоркская квартира из тех, в каких живут настоящие нью-йоркские деятели искусств. Впоследствии мне пришлось повидать другие, куда более экзотические жилища художественной интеллигенции – от самых что ни на есть богемистых до отвратительно самодовольно-буржуазных. Но эта квартира была первой, и, в каком-то смысле, символической, и поэтому мне хочется изобразить ее во всей красе.
Размещалась она под самой крышей, так что в случае пожара из нее следовало удирать по крутой железной лестнице-стремянке, черным скелетом торчащей за окном. Состояла она из одной просторной комнаты невероятного роста, украшенной огромным стеклянным люком в потолке и хлипкими деревянными антресолями под потолком.
Лифта в доме не было, и мы с Франсис с трудом втащили наверх мой довольно увесистый чемодан. С грохотом уронив его в центре комнаты, Франсис пожелала мне хорошо выспаться и, всхлипывая, собралась было удалиться. Однако уже на выходе она вспомнила, что ей следует обучить меня пользоваться пятью вделанными в дверь запирающими устройствами различной сложности, одно из которых по прозвищу «полицейский штырь», действительно, представляло собой длинный стальной штырь, диагонально вылезавший из пола и упиравшийся в дыру, просверленную в стальном дверном полотне. Убедившись в моей способности всеми этими сложными агрегатами с грехом пополам оперировать, Франсис настойчиво велела мне запереться на все пять и никому ни за что не открывать.
Я пожала плечами – кто в этом городе мог бы потребовать, чтобы я ему открыла? Ах, как я была неправа!
Я так устала после долгого ночного полета, что решила, не распаковываясь и не принимая душ, кувыркнуться в чьей-то заботливой рукой постланную на антресолях постель и немедленно уснуть. Однако не успела я закрыть глаза, как в пол начали стучать чем-то металлическим, причем стук сопровождался пронзительными женскими воплями. Спать мне хотелось так сильно, что я преодолела шумовые эффекты и начала погружаться в блаженное небытие, чуть-чуть приправленное грохотом и визгом. Но очень скоро в этот сомнительный покой ворвались настойчивые телефонные звонки.
Чертыхаясь, я скатилась с антресолей по узенькой лесенке и, сонно побродив по комнате, отыскала в углу громко верещавший телефон. Я сняла трубку, и на меня выплеснулась невразумительная надсадная брань – похоже, соседка снизу проклинала меня за то, что я, принимая душ, затопила ее квартиру. Я, насколько могла доступно, попыталась внушить ей, что никаких луж я не налила, поскольку душа не принимала, и попросила ее успокоиться и дать мне спать. На что соседка взъярилась еще сильней, и действие стало развиваться в точности по басне Крылова про волка и ягненка – чем разумней были мои кроткие доводы, тем ожесточенней она требовала, чтобы я ее впустила с целью убедиться в правдивости моих утверждений.
С этим требованием она вскоре возникла под дверью и стала орать так громко, что я решила сдаться, только бы она замолчала. Я начала с грохотом отпирать замки, и соседка смолкла, очевидно предвкушая предстоящую ей рукопашную атаку. Но тут, где-то на третьем замке, который никак не поддавался, я вдруг вспомнила наставления Франсис, и струсила – черт ее знает, зачем эта баба ко мне рвется? Я послала ее куда надо и объявила, что не открою. Тогда она побежала к себе, и через полминуты заверещал телефон. Он продолжал верещать, пока после недолгого единоборства я не сообразила, что могу попросту выдернуть шнур из розетки. Осознав мой маневр, соседка еще минут десять с криками колотила в потолок, но, потом, по-видимому, отчаялась, и на какое-то время все стихло.
Я в полусне вскарабкалась на антресоли и с головой укрылась одеялом, но уснуть мне не удалось. Снова раздался громкий стук в дверь, и мужской голос потребовал открыть немедленно. «По крайней мере, не соседка», – промелькнуло у меня в голове, пока я, уже не спеша, спускалась вниз. Не подходя к двери, я довольно неприветливо спросила, кто там. «Суперинтендант» – ответил голос. Я напрягла все свои литературно-исторические познания, пытаясь вспомнить, что это за птица такая – суперинтендант, но на ум приходил только суперинтендант Фуше, глава тайной полиции Франции до, после и во время Наполеона.
Вскорости мои русские друзья просветили меня, что в Америке суперинтендант – всего-навсего дворник, но в то утро мысль о зловещей фигуре Фуше, двойника Берии и Ежова вместе взятых, вновь остановила мою руку, направленную на разгадку устройства не поддавшегося в прошлый раз замка. На мой вопрос, чего ему надо, таинственный суперинтендант сообщил, будто он явился по долгу службы навести порядок по требованию соседки снизу, так что я обязана его впустить.
Я к тому времени уже изрядно озверела и прорычала сквозь дверь, что я иностранка и никому в этой стране ничем не обязана. После чего взобралась на свои антресоли и рухнула в постель, стараясь не вслушиваться в стуки, шорох и призывные крики настырного суперинтенданта. Однако совсем отключиться от него тоже не получалось, и даже, когда он в конце концов убрался прочь, сон с меня как рукой сняло.
И слава Богу, так как заснуть бы мне все равно не удалось. Не успели заглохнуть на лестнице удаляющиеся шаги суперинтенданта, как многострадальная дверь моя подверглась новому испытанию – кто-то негромко, но настойчиво стал сперва в нее скрестись, а потом деликатно стучать по косяку костяшками пальцев, умоляя отворить ему безотлагательно, причем исключительно для моей собственной пользы.
Смирившись с тем, что поспать все равно не дадут, я на нетвердых ногах сползла с антресолей для выяснения личности новоявленного благодетеля, который во что бы то ни стало хотел войти в мою квартиру, чтобы без помех изложить свои соображения, бескорыстно касающиеся моей безопасности. Благодетель, по профессии, как выяснилось из его речи, свободный художник, а по этажу сосед, застенчиво признался, что наблюдал сквозь приоткрытую дверь, как я въезжала в квартиру со своим чемоданом. Он хорошо меня рассмотрел, и потому все утро с нарастающей тревогой следил за попыткой этих ужасных людей ко мне ворваться. Оба они наркоманы, работают в стачке и, верно оценив мою очевидную неопытность, решили поскорее ограбить меня, а то и надругаться. Так что я правильно поступила, не отворив им дверь, но ему я должна довериться, чтобы он с глазу на глаз мог познакомить меня с тайнами и пороками нью-йоркской жизни.
Несмотря на кроткие и рассудительные речи художника-благодетеля, я, не дослушав, бросилась к телефону, включила его в розетку и позвонила Марго. Марго долго не отвечала, но я продолжала набирать ее номер с упорством отчаяния, пока не услыхала, наконец, из трубки знакомый баритон, спросонья переходящий в бас. Услыхав о моих приключениях, она страшно взволновалась и велела мне, получше забаррикадировавшись, ждать ее прихода.
Справедливо предположив, что негодяй-суперинтендант может отключить мой интерком, она наказала мне затаиться у окна и нажать на кнопку парадной двери только тогда, когда она крикнет мне с улицы. Ворвавшись в подъезд, она появилась в моей квартире не сразу – она долго металась по лестнице вверх и вниз, грохотала чем-то железным и трубно пререкалась с жалким хором испуганно блеющих голосов. Ввалившись ко мне, она, раскаленная докрасна, плюхнулась в кресло и объявила, что больше никто меня не тронет.
И вправду, никто из моих назойливых соседей ко мне больше не обращался ни с дружбой, ни с угрозами, только суперинтендант, при ближайшем рассмотрении оказавшийся круглолицым молодым увальнем в усах, встречая меня на лестнице, подобострастно кивал с таким усердием, что я всерьез пугалась, как бы у него не отвалилась голова. Впрочем, встреч этих было немного, так как на следующий день я, отоспавшись, отправилась в театр и почти безвыходно провела там два месяца.
Здание театра ни одной архитектурной чертой не наводило на мысль о Мельпомене. Там не было не только греческого портика с колоннадой, там не было даже вешалки, с которой, как известно, положено начинаться театру. Неприветливая Пятьдесят Вторая Восточная улица выходила этим обшарпанным десятиэтажным зданием на Двенадцатую авеню, последнюю перед набережной Гудзона.
Место, по нью-йоркским стандартам, не из лучших: по вечерам улицы здесь пустеют рано, а в немногих жилых домах обитают в основном пуэрториканцы, о чем свидетельствуют задублированные по-испански объявления на парадной двери, запрещающие жильцам обогреваться газом. Большая часть окружающих домов, тоже угрюмых и потрепанных, мало подходит для жилья, в нижних их этажах чаще всего расположены гаражи или магазины по продаже подержанных машин; что происходит в верхних – ума не приложу.
Однако в неприглядном подъезде этого неприглядного дома, не украшенном ни вывеской, ни афишей, располагается даже не один театр, а два: «Интерарт-театр», приютивший меня с моими пьесами, и «Театр-студия ансамбль». Оба они довольно популярны в театральном мире Нью-Йорка. А театральный мир Нью-Йорка и есть театральная Америка, ибо никакого другого театра в стране практически нет. Есть, правда, Арена Стейдж в Вашингтоне – этакая попытка столичного репертуарного театра, единственного в своем роде, – да горстка провинциальных странствующих трупп, недалеко ушедших от любительских, но все остальное – это Нью-Йорк, Нью-Йорк и только Нью-Йорк.
Мой театр, хоть неказистый снаружи, полностью покорил и поглотил меня – на всех его четырех этажах, скрытых от постороннего глаза за угрюмым фасадом, текла, да и сейчас течет, настоящая жизнь – только уже без меня. Каждый этаж представляет собой огромную площадь, в начале дней своих пустынную и невидную, как наша планета сразу после ее создания Творцом. Но кропотливые пальчики подручных Марго давно превратили главную часть этой площади в большой зрительный зал с примыкающим к нему элегантным фойе, в дни спектаклей отведенным под художественные выставки.
Остальное немерянное пространство превратилось в полезные, хорошо обустроенные подсобные помещения. В хозяйстве Марго есть все, что требуется театру – административный отдел, видеолаборатория, отлично оборудованная костюмерная и декоративный цех.
К моему приезду в Нью-Йорк труппы обеих пьес были уже укомплектованы – претенденток на женские роли в «Матушке-барыне» было так много, что период «кастинга», то есть подбора актеров на соответствующие роли, занял больше месяца. С семью стариками в «Первом апреля» дело обстояло совершенно иначе – хитрая Марго пригласила для участия в спектакле самых отборных актеров, в прошлом знаменитых, но из-за возраста почти невостребованных. Ей даже удалось было заполучить на главную роль Катрин Хепберн, но в последний момент этот амбициозный проект, к нашему великому огорчению, сорвался – Генри Фонда пригласил ее в свой фильм «Золотой пруд», за который оба они получили Оскара. Что ж, как это ни обидно, Катрин Хепберн сделала правильный выбор – даже за самую что ни на есть замечательно исполненную роль в моей пьесе она бы Оскара не получила!
Марго, конечно, немедленно нашла другую актрису для главной роли в «Первом апреля» и приступила к репетициям. Репетиционный период продолжался месяц – каждый день в первой половине дня репетировали «Первое апреля», во второй после короткого перерыва на обед – «Матушку-барыню». Иногда я приводила на репетиции каких-нибудь русскоязычных приятелей, приземлившихся к тому времени в театральной столице мира.
В самых несбыточных мечтах о моих будущих успехах в новой жизни мне виделась порой восхитительная своей абсолютной нереальностью сцена. Я сижу за столиком элегантного парижского – или лондонского, или нью-йоркского – кафе в обществе пары блестящих молодых сценаристов – или драматургов, или режиссеров, – в нашей бывшей московской табели о рангах не признававших меня равной и смотревших на меня свысока. Я подношу к губам чашечку кофе и, изящно откинувшись на спинку стула, говорю с небрежной скромностью:
«Я и сама удивляюсь, почему этот парижский – или лондонский, или нью-йоркский – театр именно мою пьесу принял к постановке».
Но в глубине души, конечно, нисколько не удивляюсь – ведь я-то своим пьесам цену знаю! А оба молодых сценариста – или драматурга, или режиссера, – в прошлом не признававшие меня равной, опять не признают меня равной: они смотрят на меня снизу вверх и жадно ловят каждое мое слово, будто я Дельфийский оракул.
Главной особенностью этой идиллической сцены была абсолютная невозможность ее претворения в реальность. Но реальность оказалась изобретательней – капризно нарушив собственные правила, она усадила меня за столик вовсе не условного, а подлинного нью-йоркского кафе с двумя некогда блестящими, а теперь изрядно поникшими и уже не такими молодыми московскими львами, которые жадно ловили каждое мое слово, будто я Дельфийский оракул.
И не удивительно, ведь мы только что вышли с репетиции моих пьес, и у них уже не было сомнения, что почти два десятка американских актеров при участии дюжины американских работников сцены дружно разыгрывают написанные мною диалоги на настоящем американском – не путать с английским! – языке. Оба они уже немного потерлись в приемных театральных и кинозаведений Нового Света и с прискорбием обнаружили, что никто их там не ждет.
Один из них был совсем недавно взлетевший в московское театральное небо сценограф Игорь Димент, чуть ли не вчера оформлявший спектакли Ефремова во МХАТе. Не знаю, какие силы заставили его прервать столь завидно начатую карьеру, но в Нью-Йорк он прибыл, нисколько не сомневаясь, что любой Бродвейский театр выхватит его прямо из аэропорта. Он даже слайды со своими декорациями не потрудился привезти из Москвы, так он был уверен в своей известности и неотразимости.
«А они, невежды, оказывается, о моих спектаклях даже не слышали», – повторял он растерянно. Ему трудно было примириться с этим фактом, столь же ужасным, сколь непреложным: ведь в Москве «каждый», кто был кем-то, о нем знал! А кто не знал, того и упоминать не стоило!
Зато в Америке его никто не знал и знать не хотел. Ее культурный мир оказался полностью самодостаточным – в его театральном небе сияли другие светила, их вполне и даже с избытком хватало для удовлетворения местной потребности в духовной пище.
Под давлением жестокой реальности мои растерянные земляки, еще вчера полные уверенности в себе, постепенно оставляли заботу о несовершенстве мирового устройства, и начинали лихорадочно заниматься собственным устройством, что зачастую оказывалось задачей столь же невыполнимой.
Как-то ко мне на репетицию пришел известный в московском киномире режиссер Гена Габай. Он сел в кресло рядом со мной в последнем ряду и все три репетиционных часа, не произнеся ни слова, просидел, неотрывно глядя на сцену единственным глазом – второй был скрыт за черным наглазником, совсем как у Моше Даяна. По окончании сценического действа он некоторое время продолжал молча сидеть, пока я с трепетом ожидала его суждения, – я тогда еще верила в справедливые оценки своих российских коллег.
«Да, – произнес, наконец, Габай, поднимаясь с кресла. – Вот оно что…»
Тут он замолк, а я, волнуясь, продолжала ожидать, что он скажет. И он сказал:
«Так они, значит, пьесы берут! А я-то, дурак, чем занимаюсь!»
И, даже не попрощавшись, ушел, обдумывая, какие он мог бы написать пьесы и какие бы тогда открылись перед ним новые перспективы. Не знаю, написал ли он в Нью-Йорке пьесы, знаю только, что поставить ему не удалось ничего – «они» ведь и пьес не брали! То что «они» взяли мои пьесы было просто чудом. Напоминанием, что моя, хоть и маленькая, но неукротимая власть над миром, оказалась дееспособной и на новом континенте!
Раздел первый. В зеркале
Корней Чуковский и Лиля Брик
Хождение по театральным мукам не было началом моего литературного пути. Началом было мое знакомство с Корнеем Ивановичем Чуковским, к которому я попала чудом. Моя школьная подруга Лина работала в каком-то химико-технологическом институте вместе с его внучкой Люшей, и та по ее просьбе устроила мне визит к своему всемогущему деду. Когда по прошествии полувека я попыталась напомнить об этом Люше, она была крайне удивлена, – она знала, что К. И. высоко ценил мой перевод из Уайльда, но понятия не имела о той роли, какую она, Люша, сыграла в моей жизни. То, что произошло со мной после моего первого драматического визита в переделкинский дом К. И. было прижизненной реализацией сказки о Золушке, только я тогда этого совершенно не понимала. Я была еще очень молодая и, закусив удила, мчалась по стремительно стелющимся мне под ноги тропинкам своей судьбы, не слишком раздумывая о том, куда эти тропинки ведут. Все было так ослепительно весело и ярко, люди и события так круто завихрялись вокруг, что некогда было вдумываться в смысл разворачивающегося вокруг действа.
Чудеса начались с того момента, когда нам с Воронелем удалось прорваться в Москву. Весь предыдущий год, сразу по окончании университета, мы прожили в забытом Богом городишке Саранске, столице мордовской автономной республики. В Саранск нам посчастливилось пристроиться после недолгих, но изматывающих душу игр с Министерством просвещения, пытавшегося загнать Сашу учителем физики в памирский аул, в который от последней остановки автобуса нужно было добираться 120 км верхом на осле. Нельзя сказать, что голодный центр Мордовии, средоточия политических лагерей строгого режима, выглядел райским местом. Впрочем, о лагерях мы тогда понятия не имели, но всей кожей чувствовали гнетущую атмосферу тоски и отчаяния, до крыш заполняющую невзрачные улочки нашего временного прибежища.
Как потом оказалось, именно в это время, именно в этом, с позволения сказать, городе томился в ссылке знаменитый культуролог Михаил Бахтин. Но никто из нашего окружения о нем и слыхом не слыхал, да и имени его тогда никто не знал, так что мы даже не заподозрили, что где-то совсем рядом, в непроглядной стуже убогого саранского существования теплится огонек истинной творческой мысли.
Условия для творческой мысли были хуже некуда. Год шел 1955-й, друг детей товарищ Сталин умер совсем недавно, и еще очень немногие успели это осознать, тем более, что жизнь в стране продолжала катиться по рельсам, проложенным покойником хорошо и надежно. На полках магазинов столичного города Саранска не было никаких продуктов, и каждое утро, задолго до рассвета, у дверей булочных собирались огромные очереди, дожидающиеся открытия, чтобы с боем рвать друг у друга буханки кислого черного хлеба, самой съедобной составляющей которого были непропеченные комья холодной скользкой картошки. Лица у людей были изможденные и озлобленные, глаза без блеска, кожа без румянца.
Только через много лет я догадалась, что не только перманентная голодная диета, но и эманация десятков тысяч душ, замордованных где-то по соседству, накладывала печать смерти на лица жителей Саранска. Но тогда мне было не до мистики – мне самой необходимо было выжить, выжить чисто физически, то есть не умереть с голоду. И для этой цели я, не найдя никакой другой работы, подрядилась по путевке обкома партии читать в деревенских клубах лекцию на тему «Использование атомной энергии в мирных целях».
При перепечатке полуграмотная обкомовская машинистка превратила ее в лекцию об «Использовании атомного оружия в мирных целях», и с этой парадоксальной рукописью, утвержденной отделом пропаганды мордовского обкома, я поехала по городам и весям в надежде получить какие-то жалкие гроши за свои выступления. Состояние публики, насильно сгоняемой на мои лекции, с удивительной точностью соответствовало состоянию наземных путей, по которым меня на эти лекции доставляли. Лесные дороги, ведущие в районные центры и в большие деревни, осчастливленные наличием средних школ, были изрыты ямами и колдобинами, в которые запросто мог провалиться любой нормальный грузовик. Что он обычно и делал, подвергая себя и меня опасности утонуть, если в яме скапливалось достаточное количество воды.
Каких только чудес не насмотрелась я в своих путешествиях по мордовской земле! Однажды мой очередной попутный шофер резко затормозил при виде суетливой толпы, дружно ныряющей в довольно полноводную речку. На веселое народное купанье это было явно не похоже – дело было ранней весной, снег только-только стаял, и вода в речке была ледяная.
– Чего у вас там? – крикнул шофер, но ему никто не ответил. Мы пригляделись – мрачные мужики в ватниках и сапогах, матерясь и отплевываясь, тащили из воды на берег какие-то громоздкие, поблескивающие на солнце хвостатые рулоны. «Эх, мать-перемать! – догадался шофер. – Да это ж, никак, лошади!» И помчался вниз, к речке. Я побежала за ним и с содроганием увидела у себя под ногами трупы шести лошадей с неправдоподобно вздутыми животами. Утром их выпустили из стойла в поле – в первый раз после холодной зимовки – и они рванули к речке, чтобы напиться. А, напившись, так отяжелели, что не в силах были выбраться обратно на берег по причине чудовищного голодного истощения.
– Так и утонули, бедолаги! – философски констатировал шофер, пускаясь в дальнейший путь. Мы переправились через речку по хлипкому мостику и въехали на вершину невысокого холма. Небо было нежно-голубое. Едва начавшая пробиваться первая травка отливала изумрудной зеленью, и по этой благодати сомнамбулически бродили странные, лиловато-розовые существа, кое-где испещренные грязно-белыми и темно-серыми пятнами.
– Кто такие? – изумилась я, не в силах охватить происходящее своим наивным разумом балованного городского ребенка.
– Коровы это! Не видишь, что ли? – сердито рявкнул мне в ответ шофер.
– А почему розовые? Порода, что ли, такая? – не унималась я. Шофер в сердцах щедро сплюнул за окно:
– Какая на хрен порода? Шерсть у них с голодухи повылезала. Голые они, вот и розовые!
В районной школе, в которую он меня привез, я должна была читать лекцию местным учителям, и, чтобы не ударить в грязь лицом, я старалась представить им материал как можно научней. В их деревне не было ни одной уборной, – нужду справляли прямо на огородах. Но я этого не знала и потому не могла понять, почему, слушая мой рассказ о хитром устройстве ядерного котла, учителя смотрели на меня такими странно пустыми, мертвыми глазами. Я только чувствовала парализующую неловкость от их напряженного молчания, и мысль моя металась в ужасе: а вдруг то, что я им рассказываю, выдает мою неопытность и неосведомленность? Мне и в голову не приходило, что они просто не понимали ни слова, потому что в борьбе за жизнь давно забыли и физику, и химию, и всякую прочую гуммиарабику.
Наконец, мне удалось вырваться из этого кошмара и пуститься в обратный путь, в свой милый, издалека казавшийся даже уютным, Саранск – ведь в моей квартире была хоть немного дымящая, но все же обогревающая угольная печка и уборная со сливом! Однако счастье мое было неполным – попутной машины найти не удалось, и меня отправили на железнодорожную станцию в легкой однолошадной телеге, возвышающейся на крупных деревянных колесах без рессор. Ехать было недалеко, километров десять, но, как говорят в Одессе, если вы не ездили по проселочной дороге на телеге без рессор, так лучше и не пробуйте.
К концу путешествия меня так растрясло, что я почти ползком добралась до вагона, нечеловеческим усилием преодолевая страшную боль, раздирающую мои внутренности. По приезде выяснилось, что у меня открылась язва желудка – то ли от саранского хлеба, то ли от охватившей мою душу депрессии, то ли и от того, и от другого. Ведь тогда казалось, что мы обречены навек оставаться в Саранске, где для меня не было другой работы, кроме чтения этих дурацких лекций. И убежать откуда было просто опасно – министерство, правая рука которого не знала, что делает левая, все еще продолжало разыскивать Сашу.
Чтобы не умереть от тоски, я отправилась в библиотеку пединститута, не подозревая, что именно там поджидает меня Судьба «с большой буквы». Роясь среди пыльных книг, я наткнулась на тоненький томик в затрепанном бумажном переплете, озаглавленный «Антология англо-американской поэзии», – видимо, в сознании составителя такой кентавр существовал. Почти каждому представленному в этой антологии англо-американскому стихотворению был предпослан советско-русский комментарий вроде такого: «Здесь представлена картина, типичная для капиталистического общества: по трупу умершей от голода молодой матери ползает осиротевший младенец в поисках ласки и тепла».
Перелистывая этот шедевр социалистического реализма, я обнаружила где-то в конце его странную поэму, написанную очень длинными строками, полными внутренних рифм, и не снабженную никаким комментарием. Поэма принадлежала Эдгару Аллану По и называлась «Ворон». Я не заметила, как пролетело время. Мучительно продираясь сквозь свое сомнительное знание английского языка, я все глубже и глубже погружалась в мистический мир дрожащих теней, шелестящих крыльев и беспредельного отчаяния, многократно скрепленного вечной печатью слова «Никогда!» Я очнулась только тогда, когда библиотекарша раздраженно повторила – наверно, уже не в первый раз: «Граждане, сдавайте книги, библиотека закрывается».
Домой я летела, как на крыльях, на тех самых, шелестящих. шуршащих, трепетных крыльях «Ворона». Депрессию мою как рукой сняло, я точно знала, что мне надо делать: прийти в библиотеку завтра утром, переписать поэму Эдгара По и перевести ее на русский язык. Я не задавала себе вопроса, умею ли я переводить и не перевел ли уже поэму кто-нибудь другой – это было несущественно: Я ДОЛЖНА БЫЛА ЕЕ ПЕРЕВЕСТИ. Иначе не стоило жить!
И я ее перевела! На это ушло каких-то полгода жизни, но это была настоящая жизнь! Есть строки, которыми я горжусь и по сей день, почти через полвека:
Окна сумраком повиты… Я, усталый и разбитый, Размышлял над позабытой мудростью старинных книг. Вдруг раздался слабый шорох, тени дрогнули на шторах, И на призрачных узорах заметался светлый блик, Будто кто-то очень робко постучался в этот миг, Постучался и затих. Ах, я помню очень ясно: плыл в дожде декабрь ненастный. И пытался я напрасно задержать мгновений бег. Я со страхом ждал рассвета – в мудрых книгах нет ответа, Нет спасенья, нет забвенья, беззащитен человек, Нет мне счастья без Леноры, словно сотканной из света И потерянной навек. Темных штор невнятный ропот, шелестящий смутный шепот, Шепот, ропот торопливый дрожью комкал мыслей нить, И стараясь успокоить сердце, сжатое тоскою, Говорил я сам с собою: «Кто же это может быть? Это просто гость нежданный просит двери отворить. Кто еще там может быть?» Никогда не улетит он, все сидит он, все сидит он, Словно сумраком повитый, там, где дремлет темнота. Только бледный свет струится, тень тревожно шевелится, Дремлет птица, свет струится, как прозрачная вода, И душе моей измятой, брошенной на половицы, Не подняться, не подняться, Не подняться никогда!И вот с этим переведенным мною «Вороном» я отправилась по Люшиной рекомендации к великому мэтру перевода Корнею Ивановичу Чуковскому. К тому времени мы уже перебрались в Москву – рассказ о том, как нам это удалось и как нам там жилось, занял бы много страниц, и я его опущу.
Оказавшись в Москве, я занялась розысками и обнаружила другие переводы «Ворона», сделанные известными поэтами – Бальмонтом, Брюсовым, Зенкевичем…
И, к моему ужасу, эти переводы мне не понравились – ни один! Я сравнивала их с оригиналом и не находила в них ни его завораживающего ритма, ни его волшебной музыки, ни его трепета. И потому я решилась показать свое детище самому почитаемому мною ценителю.
С самого начала мое путешествие в дачный писательский поселок Переделкино развивалось по законам мелодрамы дурного вкуса. Мне было назначено явиться в пять часов вечера. Когда я села в вагон пригородной электрички, отправлявшейся с Киевского вокзала, за окном угасали мирные декабрьские сумерки. Однако, когда через полчаса я вышла из вагона на Переделкинской платформе, там бушевала редкая для московских широт снежная буря. Не знаю, оказался ли там эпицентр урагана или это были козни потусторонних сил, но воистину мело «по всей земле, во все пределы» – хочется сказать «Переделы».
С трудом продираясь сквозь сокрушительные порывы совершенно полярного ветра, я побрела по колено в снегу без дороги неведомо куда, ослепленная и оглушенная яростью сорвавшейся с цепи природы. Как я потом узнала, путь от станции Переделкино до писательского поселка можно пройти за двадцать минут, но у меня ушло часа полтора, чтобы добраться до дачи Чуковского, – пурга погасила все уличные фонари и спросить дорогу было не у кого: улицы словно вымерли.
Когда я, промокшая и продрогшая, отыскала, наконец, нужный дом, было уже не пять, а шесть часов, но я все же осмелилась позвонить – не поворачивать же было обратно? К тому времени над притихшим поселком уже воцарился тот особый, почти безмятежный покой, какой бывает после бури. На мой звонок открыл сам Корней Иванович и воскликнул с лукавой усмешкой: «Явилась все-таки? Ну, героиня!» Можно было подумать, что он нарочно организовал эту пургу, чтобы проверить меня на прочность.
Однако прочность моя уже подходила к концу, – меня била дрожь, и голова кружилась от холода, голода и напряжения. Окинув меня проницательным взглядом, К. И. крикнул в глубь дома:
– Маша, принесите какие-нибудь сапоги, а то с нее уже лужа натекла!
Пришла домоправительница Маша, ворча, забрала мои мокрые одежки и выдала мне взамен сухие сапоги, толстые шерстяные носки и просторный тулуп. После чего К. И. объявил: «А теперь мы пойдем в Дом творчества, у меня там свидание. Раз уж вы опоздали, слушать ваш перевод я буду потом, когда вернемся».
И повел меня по слабо расчищенным дорожкам в святая святых литературной жизни. Кто знает, может, если бы не пурга, вовек бы мне туда не попасть!
Как только мы вошли, нас окружила возбужденная толпа старичков – такими они мне, во всяком случае, показались, К.И. при этом мне вовсе не казался старым, хоть, все они наверняка были моложе его, но в нем была такая мощная стать, такая элегантность осанки, такая гибкость движений длинных рук со стройными пальцами. Он возвышался над всеми, одновременно снимая пальто и отшучиваясь на какие-то мелкие дружеские нападки.
Сплоченной группой мы двинулись куда-то в глубь дома сквозь строй завистливых взглядов тех, кто не был принят в нашу веселую компанию. К. И. шагал во главе процессии, как главнокомандующий, а я рядом с ним, в каком качестве – неясно. Представив меня как начинающую переводчицу, он начал называть мне имена наших спутников – Луговской, Заболоцкий, Голосовкер. Имен этих я тогда не знала и потому вовсе не впечатлилась, не стала жадно всматриваться в их лица, чтобы запечатлеть, а жаль! Запомнился мне только молодцеватый Луговской, да и то, скорей всего, потому, что я его потом еще пару раз встречала у К. И. и даже читала ему свои стихи, которые он не одобрил.
Но в тот памятный вечер они одобрили меня всем скопом – не за стихи, а за молодость, за большие еврейские глаза и за румянец, вспыхнувший на моих щеках (им, старым лошадям, они, небось показались ланитами), когда я, наконец, отогрелась после пробежки сквозь снежную бурю. Они острили наперебой, говорили друг другу колкости, и каждый стремился выступить передо мной в наилучшем виде. Все это завершилось дружным приглашением разделить с ними их писательский ужин.
Я с восторгом согласилась – я вообще в те времена сильно недоедала, а тут еще борьба с ледяным ветром и промокшие ноги. Так что мы все тем же сплоченным строем с песнями и шутками двинулись в столовую. Там на столах уже стояли тарелки с горячей гречневой кашей, от запаха которой у меня закружилась голова. У официантки была затребована еще одна тарелка, и в нее каждый доброхот от всего сердца отвалил изрядную часть своей порции. Получилась полная тарелка с верхом. Я нарочито замедленно погрузила ложку в душистую коричневую массу, предвкушая восхитительный первый глоток.
Но не успела я донести ложку до рта, как на плечо мне легла длинная рука и рванула меня прочь от заманчивого продукта.
– Вы к ним приехали или ко мне? – рявкнул К. И. – Нечего здесь рассиживаться, скорей пошли ужинать!
Знаменитые поэты так и застыли с разинутыми от изумления ртами, наблюдая, как К. И. быстрым шагом поволок меня к выходу. Кое-как напялив тулуп с чужого плеча, я, оскальзываясь на уже успевшем застыть насте, поспешила за ним.
Ужин у К. И. был воистину царский – писательская гречневая каша не шла с ним ни в какое сравнение. Чего там только не было: и салат-оливье, и красная рыба, и буженина. Пришлось даже выпить чего-то крепкого, так что я вконец опьянела.
– А теперь читайте вашего «Ворона», – скомандовал К. И., когда Маша поставила на стол чай и стаканы в подстаканниках. Читала я хорошо – то ли спьяну, то ли от волнения. Дослушав меня до конца, не перебивая, К. И. несколько секунд помедлил в молчании, а потом поднялся во весь свой гигантский рост, вытянул надо мной руку наподобие семафора и произнес:
– Старик Чуковский ее заметил и, в гроб сходя, благословил!
В голове у меня помутилось, и комок застрял в горле, хоть не думаю, будто я на месте осознала, что Судьба повернулась ко мне лицом. Я не осознала это и тогда, когда К. И. сказал:
– Сейчас езжайте домой, а то ведь уже поздно, а через неделю приезжайте снова почитать мне ваш перевод еще раз. Только снежных бурь больше не устраивайте.
Я выкатилась на заснеженную улицу, прижимая к груди сверток со своими мокрыми сапогами и унося на своих ногах Машины сухие сапоги.
– Не волнуйтесь. Маша, – сказал лукавый К. И., – она ваши сапоги через неделю принесет, как миленькая.
Он был прав – я не только явилась через неделю с Машиными сапогами, но стала регулярно таскаться в Переделкино, благо меня там привечали, и слушать захватывающие дух рассказы К. И. о встреченных им за долгую жизнь людях. Я, как губка, впитывала его рассуждения о поэзии и переводах, быстро-быстро превращаясь из гадкого утенка, сдуру закончившего провинциальный физмат, – если не в лебедя, то в какую-то другую птицу приличной литературной породы.
Когда я приехала к К. И., чтобы прочесть ему мой перевод «Ворона» второй раз, он слушал меня так же внимательно, как и в первый день, а потом спросил, где я училась. Услышав, что я закончила физико-математический факультет, засмеялся:
– Вы напоминаете мне того еврея, который на вопрос, какого он вероисповедания, картаво ответил: римско-католического. А что вы еще переводили?
– Я, собственно, ничего, кроме Эдгара По не переводила. Переехав в Москву я отыскала и перевела «Улялюм».
– Как и «Улялюм» тоже? Ну-ка прочтите.
Хоть поэма «Улялюм» далась мне чуть легче, чем «Ворон», перевод ее тоже был задачей не из простых!
Под унылым седым небосводом Расставались деревья с листвой, С увядающей жухлой листвой, И страшился свиданья с восходом Одинокий Октябрь надо мной. Одиноким отмеченный годом. Плыл туман из пучины лесной И стекался к безрадостным водам, К одинокому озеру Одем. В зачарованной чаще лесной Мы роняли слова мимоходом, И слова опадали листвой, Увядающей жухлой листвой, Нам казалось – Октябрь был иной, Не помеченный памятным годом, Страшным годом – смертельным исходом, Мы не вспомнили озеро Одем. Хоть бывали там в жизни иной, Не узнали мы озера Одем В зачарованной чаще лесной.К.И. вскочил с кресла.
– И откуда только что берется? – спросил он неизвестно кого. – Ведь физику-математику кончала и до вчерашнего дня ничего-ничегошеньки не знала о переводах!
Можно было подумать, что он на меня сердится.
– И вот, пожалуйста «…мы роняли слова мимоходом, и слова опадали листвой». Ну откуда вы эти образы взяли?
На этот вопрос ответ у меня был готов:
– У Эдгара По, конечно.
– Да вы хоть знаете, сколько раз эти стихи переводили? И кто переводил?
Я неопределенно качнула головой, изобразив нечто среднее между «да» и «нет», чтобы скрыть свое невежество. Но хитрый К. И. меня насквозь видел:
– Ясно, значит, ни черта не знаете.
– Ну почему же не знаю… – защищаясь, пробормотала я. – Брюсов, Бальмонт… – и запнулась, исчерпав свой список.
– Да, и Брюсов, и Бальмонт, и многие другие. И никто из них не справился. Правда, был один переводчик «Ворона», который сильно приблизился к оригиналу, почти вплотную. Вы о нем, конечно, не слышали.
С этими словами он снял с книжной полки растрепанный толстый томик и протянул мне. На обложке было написано: «Чтец-декламатор», года издания сейчас не помню, – какой-то очень дореволюционный, потому что бумага совсем пожелтела. Я нашла в оглавлении «Ворона» в переводе некоего или некой Altalеn’ы и хотела было начать читать. Но К. И. замахал руками – мол, не сейчас, возьмите домой и читайте! Как и в случае с Машиными сапогами, он был уверен, что никуда я с его драгоценной книгой не денусь. Он только хотел знать, не догадываюсь ли я, кто скрывается под псевдонимом Альталена.
Ну как я могла догадаться – тогда, в 1956 году? Я и о Жаботинском-то никогда не слышала, а уж об Альталене и подавно. Только много лет спустя, уже после смерти К. И. его секретарша Клара драматическим шепотом рассказала нам о его дружбе с Жаботинским и показала альбом с их юношескими фотографиями. Они ведь долгие годы состояли в тайной переписке – представить только, при Сталине! К. И. был очень рисковый человек.
Перевод Жаботинского и впрямь оказался намного лучше переводов всех остальных страдальцев, в поте лица бившихся над неподатливой внутренней рифмовкой Эдгара По. С тех пор он мне никогда больше не попадался: к сожалению, все попытки – мои и других любителей «Ворона» – были напрасны, нам так и не удалось отыскать заветный томик «Чтеца-декламатора».
Мне порой кажется, что трогательное участие К. И. в моей судьбе было как-то связано с его сентиментом к Жаботинскому. Ну кто я для него была? Наивная провинциалка, в мокрых сапогах ввалившаяся в его дачный уют и не знающая разницы между Михаилом Кольцовым и Алексеем Кольцовым? Ух, и досталось мне и всему моему поколению за этих злополучных Кольцовых!
– Вот уж не думал я, что можно взять и физически вычеркнуть человека из народной памяти, – ядовито процедил К. И. сквозь зубы в ответ на мое невежество, будто именно по моей вине Михаил Кольцов был вычеркнут из народной памяти.
Но это было уже гораздо позже, когда я прижилась в доме Чуковского, и Маша ставила на стол добавочный стакан, как только я переступала порог. Я часто слышала от других жалобы на то, что К. И. никогда никого из простых смертных не угощает – никого, кроме специально приглашенных на трапезу. Мне кажется, это было просто злословие – меня в его доме угощали всегда. И Сашу тоже – с тех пор, как я упросила К. И. позволить мне привезти его разок с собой, его тоже стали принимать как своего.
Нам очень повезло – мы пивали чай в гостеприимном доме К. И. с разными знаменитыми людьми, разок с Константином Фединым, разок с Ильей Сельвинским, пару раз с Владимиром Луговским и даже как-то раз с одноглазым другом Маяковского, Давидом Бурлюком, приехавшим с визитом из заморских краев. И с переводчиком с японского языка, таинственным татарином Рахимом Зея, много лет просидевшим с Даниилом Андреевым в одной камере Владимирской тюрьмы и выдававшим себя за египетского принца по имени Харун ибн Кахар шейх Уль Мюлюк эмир Эль-Каири. А, может, он и вправду был принцем по имени Харун ибн Кахар шейх Уль Мюлюк эмир Эль-Каири, а татарин Рахим Зея, как он утверждал, был ему насильно вписан в паспорт советской властью? Правды не знал никто, – ни мы, ни его собратья по японскому языку, ни сам Корней Иванович.
Кормили меня в доме К. И. не случайно – проницательный его глаз быстро просек мое постоянно полуголодное существование. Почти в самом начале нашего знакомства он спросил:
– А чего это у вас вид какой-то худосочный?
Я пролепетала что-то жалкое в свое оправдание, но К. И. уже все понял, хоть говорят, сытый голодного не разумеет:
– Денег, небось, нет, правда? Хотите у меня подработать? Я тут книгу готовлю по теории перевода, вот вы и проведите для меня сравнительный анализ разных переводов сонетов Шекспира. Хотите попробовать?
Хочу ли я? Да я в лепешку разобьюсь, да я горячие сковородки лизать буду, да я…
– Вот и отлично, прервал мою восторженную декламацию К. И. – Езжайте домой и беритесь за работу. И раз в неделю ко мне, с отчетом. Я буду вам за это платить… – и он назвал сумму, сейчас не помню, какую, но тогда она показалась мне целым состоянием.
Никто никогда не учил меня делать сравнительный анализ разных переводов – меня учили другим, никогда в жизни не пригодившимся мне познаниям, вроде интегрального исчисления или принципа тождественности микрочастиц в квантовой механике. И спросить про этот анализ было не у кого, не говоря уже о том, что я понятия не имела, где искать разные переводы одних и тех же сонетов. Но делать было нечего – ведь я поклялась разбиться в лепешку и вылизать бессчетное количество горячих сковородок.
Ровно через неделю я опять звонила у знакомой двери, зажимая под мышкой большую папку со сравнительным анализом полутора десятков переводов 66-го сонета. Похоже, я перестаралась, – увидев мои листки, К. И. поморщился:
– Ну зачем же всех без разбора? Нужно было отобрать тех, что получше.
Однако листки взял и долго их рассматривал, разглаживал, сверял.
– А, в общем, молодец! На первый раз справилась, можно двигаться дальше.
И вручил мне обещанную купюру, которая позволила нам всю неделю мазать масло на хлеб. Ведь большая часть ничтожной Сашиной зарплаты уходила на съем переменной квартиры, из которой нас каждый раз ровно через месяц после въезда выгоняла милиция, потому что у нас не было московской прописки. По этой же причине я не могла устроиться на работу, и мы жили впроголодь, спасаясь в основном за счет смелой реформы Никиты Хрущева, распорядившегося в народных столовках держать на столах нарезанный хлеб. Мы брали по стакану чая за 32 копейки и заедали его хлебом с горчицей, тоже щедро расставленной по всем столам. Впрочем, примерно раз в три месяца мы обогащали свой рацион контрабандной паюсной черной икрой, присылаемой Сашиной мамой из прикаспийского города Махачкала. Банку такой икры мы съедали за два-три дня, зачерпывая густую черную массу столовой ложкой, а потом опять возвращались к хлебу с горчицей.
Всех этих подробностей К. И., конечно, не знал, – я стеснялась открывать ему нищенскую подноготную нашего быта, – но понимал, что мы страшно нуждаемся. Игрунчик по природе, он любил превращать вручение мне денег в театр одного актера. Мы обычно располагались с моими листочками в столовой, попивая при этом чаек с печеньем, и по окончании работы К. И. выходил в свой кабинет, откуда возвращался бочком, изображая крайнее смущение, медленно подходил ко мне, как бы не решаясь, а потом быстрым движением совал мне в ладонь свернутую в трубочку банкноту. Глаза его при этом сияли – вот, дескать, какой я молодец, ехал на ярмарку ухарь-купец!
Так же сияли его глаза через несколько лет, когда в сиреневом двухтомнике Оскара Уайльда после длительной борьбы был опубликован мой перевод «Баллады Редингской тюрьмы».
– Ну, молодец я или нет? – ликовал К. И. – Разве я не обещал, что мы их всех победим?
На что я, изрядно к тому времени осмелевшая, парировала:
– Были бы вы молодец, им не удалось бы вашу вступительную статью из двухтомника выбросить.
Не знаю, как К. И. пришла в голову фантастическая идея предложить мне переводить знаменитую Уайльдовскую «Балладу», мне – двадцатитрехлетней провинциальной дурочке, только-только закончившей физико-математический факультет Харьковского университета. Теперь эта идея представляется мне в каком-то смысле не менее опасной, чем тайная переписка с Зеевом и Жаботинским. Ведь по существовавшей тогда (да, думаю, и сейчас) казенной табели о рангах за маститых писателей полагалось браться людям маститым же – зрелым, умелым, зарекомендовавшим себя предыдущими достижениями.
Теперь уже не узнать, чувствовал ли себя К. И. рядом со мной Пигмалионом или хотел насолить сыну Коле, жаждавшему этот заказ от него получить. Но какова бы ни была причина, он сказал мне однажды небрежно, как бы между прочим:
– Не хотите попробовать перевести одну вещицу для сборника Оскара Уайльда, который я составляю?
– А что именно? – спросила я, припоминая все то из Уайльда, что я знала и любила, – «Кентервильское привидение», «Как важно быть серьезным», а может, «Портрет Дориана Грея»? Но чего вдруг – ведь я не переводила прозу?
– «Балладу Редингской тюрьмы», – ответил К. И., и я онемела. «Баллада» уж точно была мне не по зубам.
Уловив смятение на моем лице, К. И. тут же начал играть со мной в кошки-мышки:
– В чем дело? Чего вы испугались?
– Да кто мне позволит?
– Что значит – кто, если я вам предложил! Ведь это задача в вашем вкусе – взяться за то, что у других не получилось.
– А вы не боитесь, что и у меня не получится?
– Чего мне бояться? Это вы должны бояться. Мне что – если у вас не получится, я ваш перевод не возьму. Зато, если получится, я вас в обиду не дам.
И я согласилась – сдуру, конечно, совершенно не представляя, в какую петлю лезу. Ведь не случайно никому до тех пор не удалось передать музыку и значительность Уайльдовского стиха – дело в том, что английская баллада должна вместить все свои красоты в очень короткую строку, параметры которой продиктованы особенностями английского языка, по сути своей односложного. В нем почти все слова ударные, они следуют друг за другом, как на параде, отбивая чеканный шаг.
Русский же язык по природе своей многосложный, с малым количеством ударений, гибкий, плавный, струящийся, словно ручей по камешкам. Он совсем не стремится ставить точки над «и» – недаром в русском языке нет «и» с точкой. Какая это была мука – втискивать длинные текучие русские слова в короткую чеканную строку баллады! И какое наслаждение!
Когда я принесла К. И. перевод первой главы, у меня от волнения опять открылась закрывшаяся было язва. Сначала он велел мне прочесть отрывок вслух. Услышав строки:
«Ведь каждый, кто на свете жил, Любимых убивал. Один жестокостью, другой Отравою похвал. Коварным поцелуем трус. А смелый наповал»,– он радостно потер руки, обращаясь к невидимой аудитории, – мол, я же говорил!
А когда я прерывающимся голосом прочитала:
«Не каждый должен видеть высь, Как в каменном кольце, И непослушным языком Молиться о конце, Узнав Каиафы поцелуй На стынущем лице».К. И. выхватил у меня рукопись и начал жадно ее читать. Чем дольше он читал, тем безудержнее была его радость:
– Ох, эти провинциальные еврейские девочки! На что только они не способны! Валяйте, переводите дальше!
И я отправилась в дальнейший путь. Я билась над переводом «Баллады» два с половиной года, а ведь текст там вовсе не длинный – всего 660 строк.
За это время мне посчастливилось попасть в Литературный институт – клянусь, положа руку на сердце – безо всякой протекции. Я ни слова не сказала К. И. о своей попытке прорваться в недоступный питомник советских писателей, куда евреев не принимали принципиально. Стыдно признаться, но мне не столько нужно было литературное образование, сколько полагающаяся студентам московская прописка.
И мне опять повезло – в тот год в Литинституте впервые открыли переводческое отделение, и в эту щель немедленно просочилась горсточка моих соплеменников, включая и меня. Поскольку подправить свое образование мне тоже было невредно, я со страстью погрузилась в захватывающий мир людей, живущих словом, рифмой, строкой.
Однако открывшийся передо мной праздник литературной богемы ни на йоту не помешал главному делу моей жизни – переводу «Баллады». Что бы я ни делала – слушала ли лекции, читала ли тайно ходившие по рукам сборники Цветаевой и Мандельштама, – какая-то часть моей души постоянно прокручивала магнитофонную запись очередной строфы, перебирая, прослушивая, облизывая, отбрасывая и нанизывая слова-слова-слова.
Слова перекатывались у меня в мозгу, как морские камешки в прибрежной полосе, то и дело перестраиваясь, меняясь местами, образуя все новые и новые узоры. И вот через два с половиной года я положила перед К. И. готовый перевод. Он пробежал его глазами и «попробовал на зуб»:
«Пускай до страшного суда Лежит спокойно он, Пусть не ворвется скорбный стон В его последний сон, Убил возлюбленную он И потому казнен».Прочитав эти строки, К. И. произнес то ли торжественно, то ли игриво:
– Клянусь, я заставлю их это напечатать!
Увы, у него были причины сомневаться в том, что «они» напечатают мой перевод. К тому времени, как я закончила работу над «Балладой», К. И. уже не владел ситуацией – «они» умудрились выжить его, выбросив из сборника его вступительную статью, слишком уж была она хороша и фривольна для чопорного советского слуха. Так что он уже не был составителем двухтомника – уж не знаю, сам ли он отказался или «они» его разжаловали, но не он уже решал судьбу моего перевода.
Правда, вместо него был назначен славный человек, специалист по английской литературе Юлий Кагарлицкий, известный всей литературной Москве под псевдонимом Джо Кагер. Джо Кагер был школьным другом входящего в моду поэта Давида Самойлова и героем его веселой серии «Похождения Джо Кагера». Поскольку прототип Джо Кагера Юлий Кагарлицкий был во всем полной противоположностью бабника и выпивохи Самойлова, тот любил его такой же нежной любовью, какой Дориан Грей любил свой портрет. Награждая Джо Кагера своими пороками, он словно списывал на того свои грехи:
«Джо Кагер, будучи свиньей, Решил разделаться с семьей И жизнь он начал холостую, Презревши заповедь шестую. Но чем же кончил этот гад? Тот гад раздавлен был в борделе, Когда сотрясся Ашхабад: Господь, поскольку было надо, Не пожалел и Ашхабада».Или еще лучше: Джо Кагер, упившийся до потери сознания, валяется в канаве, и прохожие спрашивают:
– Что это там за жо…, сэр?
– То просто пьяный Джо, сэр!
Спрашивается, кто бы стал принимать во внимание мнение Джо Кагера? Даже его собственный четырехлетний сын Боря на вопрос хозяина дачи, который, собираясь на охоту, спросил, любит ли охотиться Борин папа, сказал со вздохом: «Ну что вы? Мой папа ведь еврей, он только книжки умеет читать!» Мог ли этот бедный папа противостоять «им»?
Но мне опять повезло. К. И. выполнил свое обещание – он взял на себя почти непосильную задачу: заставить раздраженных его неординарным поступком столпов переводчеcкого цеха признать достоинства моего перевода. Конечно, без его поддержки никакие достоинства не помогли бы мне этот перевод напечатать. Возмутителен был сам факт: мне по рангу было не положено за это даже браться – «на что он руку поднимал?», так сказать.
К. И. выступил против всех – за меня. Он начал таскать меня по каким-то важным кабинетам издательства «Художественная литература», представляя всюду как замечательную молодую переводчицу, до которой никто не сумел адекватно изложить «Балладу» русским стихом.
Однажды мы забрели в кабинет самого могущественного директора Гослитиздата, носившего соответствующую его рангу фамилию Владыкин. Было это в юбилейный день семидесятипятилетия К. И., и Владыкин принял именинника по-царски. В ответ на его поздравления К. И. сообщил, что он, по сути, еще очень молод, и в подтверждение своих слов десять раз подпрыгнул, а потом вытолкнул на просцениум меня и, произнеся свой обычный монолог, потребовал от Владыкина, чтобы тот лично проследил, как продвигается к публикации мой перевод.
Прямо за дверью директорского кабинета К. И. поведал мне свой важнейший жизненный принцип: «Главное, – надо долго жить, тогда до всего доживешь. Когда мне исполнилось 70 лет, никто и не заметил, а к семидесяти пяти – видите, какой шум подняли?»
Шум по поводу семидесятипятилетия К. И. и впрямь поднялся невероятный, но ни восторженные овации, ни стройные шеренги юных пионерок с букетами не заставили К. И. отказаться от борьбы за устройство моего перевода. Не знаю, какие закулисные интриги он вел, и какие тайные пружины задействовал, но, в конце концов, где-то на Олимпе было принято компромиссное решение послать перевод на отзыв двум самым страшным рецензентам, из рук которых мало кто уходил живым, – Арсению Тарковскому и Сергею Шервинскому.
Я боюсь надоесть читателям повторением того же навязшего в зубах припева, но что остается делать – опять произошло чудо. Оба свирепых карателя собственными руками, обагренными кровью многих молодых дарований, написали единодушно-положительные рецензии на мой перевод. И у администрации издательства не осталось иного выхода, – они были вынуждены включить в двухтомник мой перевод «Баллады». А вот бесподобную вступительную статью К. И. их никто не заставлял включить, и ее не включили, в результате чего мы с К. И. и обменялись приведенным выше диалогом.
Конечно, «их» решение поместить мой перевод в двухтомник было только началом моего тернистого пути к славе. Нельзя же было поверить на слово Корнею Чуковскому, известному злоумышленнику и шалуну, что мой перевод хорош. И мне назначили редактора – маститого переводчика французской и немецкой поэзии Вильгельма, а по-нашему, Вилю, Левика, доброго, милого человека, который, однако, не знал английского языка. Ума не приложу, почему «они» на эту роль выбрали именно его, но он «редактировал» мою «Балладу», руководствуясь ее переводом на немецкий. Когда у нас возникали разногласия по толкованию текста, он ни разу не усомнился в своей правоте: «Немцы – гениальные переводчики, а немецкий язык создан для переводов», – уверял он меня, намекая, что переводы немцев во многих отношениях превосходят оригиналы.
Однако наши главные разногласия сводились не к толкованию текста Уайльда, а к различному пониманию поэтического арсенала русского языка. Мы с Вилей принадлежали к разным школам – он к классической, торжественной и глухой к синтаксическим несуразицам, а я, раз и навсегда пронзенная поэтикой Пастернака, к импрессионистской, больше всего озабоченной музыкой стиха и максимально афористической упаковкой слов во фразы.
Как-то я попыталась объяснить себе самой, чем мои переводы Эдгара По и Уайльда отличались от всех предыдущих, и, кажется, нашла разумный ответ: я не принадлежала ни к одной из общепринятых переводческих школ. Таких школ было две – школа «ужников» и школа «жешников». В то время, как «ужники» во все места, где не хватало слога, вставляли частицу «уж», «жешники» вставляли частицу «же». Я, в отличие и от тех, и от других, никогда этого себе не позволяла, а билась над строчкой до тех пор, пока все части головоломки не стыковались на сто процентов.
После полугодового оскопления моего перевода Вилей Левиком отредактированный им текст был принят «ими» и отправлен в печать. Когда я перечитывала этот ублюдочный вариант, составленный из не стыкующихся между собой компромиссов, у меня пропадала всякая охота считать это мертворожденное дитя своим. Поэтому, получив на вычитку последнюю верстку, я совершила отчаянный поступок, граничащий с преступлением. Дрожащей рукой я взяла ручку и вернула обратно весь свой первоначальный текст.
Никто из «них» меня не проверял – наверно, мысль о подобном своеволии «им» и в голову не пришла, но я изменила не менее четверти высочайше одобренного текста. За это своеволие меня заставили заплатить 78 рублей – что было равно моей студенческой стипендии за три месяца. Для нашего нищенского бюджета это было большим ударом, но я была счастлива, что спасла свой перевод!
В 1961 году сиреневый двухтомник Уайльда, наконец, успешно вышел в свет, и никто моей проделки не заметил. Все соучастники дружно гордились своей ролью в моем успехе. Перечитывали ли они окончательный текст, я не знаю. 600 000 первого тиража были распроданы так стремительно, что мне не удалось отхватить ничего, кроме 10 авторских экземпляров.
Это было лучшее время в истории литературы победившего соцреализма – уже оттаял сталинский лед, и еще не схватило морозом наивно-доверчивую хрущевскую оттепель.
Я впорхнула в этот сверкающий ледяными осколками праздничный мир на крыльях своей невиданной, почти беспрецедентной победы над неподатливым текстом и над еще менее податливым литературным истеблишментом. Тем более что и в моей жизни кое-какие материальные признаки личного успеха добавились к общим оптимистическим тонам писательского существования: например, расклешенное пальто джерси цвета заходящего солнца, в пару к нему сашино вальяжное пальто цвета маренго и половина старенького «Москвича» – вторую половину купил наш друг юности М. Г. Все эти богатства были приобретены на царский гонорар, полученный мною за перевод «Баллады», – могли ли мы, нищие, бездомные скитальцы, за два года до того мечтать о подобном благополучии?
Слава моя быстро распространилась в переводческом мире, и ко мне потекли заказы и приглашения на семинары, где мое творчество обсуждали подробно и всерьез. Как-то, докладывая многолюдному собранию о проведенном им семинаре, Михаил Зенкевич так отозвался обо мне:
«Было очень интересное обсуждение, – вдумчиво сказал он. – Выступали с переводами талантливые молодые переводчики Андрей Сергеев, Павел Грушко, Костя Богатырев и Нина Воронель – тоже женщина!»
А на заседании переводческой секции, где обсуждался вопрос о переиздании классиков стихотворного перевода, вдруг выступил сын К. И., Николай Корнеевич Чуковский. Демонстративно глядя на меня, что было непросто, – поскольку, стесняясь своей неуместной в этом почтенном обществе молодости, я забилась в дальний угол комнаты, – он с непонятным обвинительным пафосом произнес:
«Мы должны заботиться и о покойных переводчиках. Ведь у них нет преимуществ живых – они не могут втереться в доверие к составителю и на женском обаянии войти в литературу!»
После этих слов он с торжествующей улыбкой вернулся на свое место, а все, кто был в комнате, обернулись и уставились на меня. Когда до меня дошел смысл его слов, я нисколько не обиделась – я была польщена высокой оценкой моего женского обаяния. Ведь в достоинствах своего перевода я не сомневалась и без Николая Корнеевича.
И впрямь очень скоро я прославилась на весь Советский Союз при помощи телевидения – именно благодаря своему женскому обаянию. Поскольку на меня посыпались заказы, я перевела стихи молодого поэта из Ганы, сына тамошнего президента или премьера – не помню точно. И поскольку он был Сын, нас пригласили выступить по телевизору – меня и его – он чтоб читал свои поэтические шедевры по-английски, а я, соответственно, их же по-русски. Я надела нарядное платье с большим декольте, и мы отправились в студию.
Сперва читал молодой поэт, облаченный в бурнус из белой парчи, – был он парень видный, и камера показывала его во всех ракурсах, потом пришла моя очередь. Уверенный, что теперь камера займется мной, молодой поэт расслабился и сосредоточил свое внимание на увлекательных картинах, которые открывались его взору за моим декольте. А камера, как оказалось, ни на минуту не выпускала его из виду! Весь Советский Союз с удовольствием следил за гаммой чувств, отражавшихся на его лице, – некоторые утверждали, что он даже облизывался. Сколько писем я получила по этому поводу – это была настоящая слава! Не знаю, правда, оценил ли кто-нибудь его поэзию в моих переводах, но это было не так уж важно.
Не мудрено, что я стала уже не так часто приезжать к К. И. – то ли наши интересы начали расходиться, то ли я слишком завертелась в захватывающем вихре вальса писательской жизни. Я не раз потом об этом пожалела, когда было уже поздно. Мне почему-то казалось, что он вечный и с ним ничего не может случиться. Ведь он знал, как себя сохранить в самые трудные времена, не теряя при этом уважения к себе. «Когда другие меняли взгляды, я менял жанры», – лукаво усмехаясь, объяснял он.
Но как ни долго предполагал жить К. И., в конце концов, наступил тот грустный – а точнее, трагический, потому что смерть К. И. была внезапной и необъяснимой, – день, когда я, стоя в скорбной толпе провожающих, смотрела на его желтую щеку на фоне каких-то неуместных красных полотнищ. Странно, но ничего кроме желтой щеки на фоне красных полотнищ не запомнилось мне из этого похоронного дня.
Вместо него я бережно храню в своей памяти другой день и другую картину, представленную мне незадолго до смерти К. И. Картину, столь полную красочных деталей, будто все это случилось вчера.
В нашем крохотном «Москвиче» мы привезли в Переделкино Бена Сарнова с женой Славой и одного харьковского литератора, которого они хотели познакомить с Виктором Шкловским, жившим тогда в Доме творчества. Кроме нас пятерых мы втиснули в машину нашего девятилетнего сына Володю и восьмилетнего сына Сарновых Феликса.
Мы подъехали к воротам Дома творчества и начали выгружаться из «Москвича». Первыми выскочили мальчики и тут же затеяли щенячью возню прямо на глазах многочисленных советских писателей, прогуливающихся после обеда. Вслед за мальчиками из машины выбрались Сарновы, потом мы с Сашей, и последним – слегка оглушенный харьковский гость, который всю дорогу сидел на заднем сиденье, зажатый между мной и Славой, сдерживая воинственный натиск двух мальчишек, примостившихся у него на коленях. При виде такой длинной процессии, выползающей из недр такой маленькой машины, писатели, благодушные после сытного приема пищи, пришли в восторг. Каждого нового пассажира, выбирающегося наружу, они встречали аплодисментами и криками: «Много вас там еще осталось?»
В самый разгар всеобщего веселья наш Володя умудрился разбить сарновскому Феликсу голову подобранным на обочине дороги камнем, и к общему хору добавился отчаянный рев пострадавшего в сопровождении сердитых воплей его матери, пытавшейся поймать Володю и дать ему затрещину. Володя ловко уворачивался, с громким смехом лавируя в писательской толпе. Писатели восприняли эту мизансцену как продолжение спектакля и стали скандировать, указывая на меня: «Мать Каина! Мать Каина!» С какой стати они решили считать Феликса Авелем – ума не приложу.
На шум из ворот выбежала очень маленькая, очень худенькая, очень старая женщина в малиновых штанишках до колен, и все замолчали и уставились на нее – в те времена даже к строгим женским брюкам еще не привыкли, а уж о малиновых штанишках до колен и говорить не приходилось. В руке она держала нечто, похожее на сушеную голову облысевшей обезьяны.
Она простерла руку с обезьяньей головой в сторону Славы. Даже Феликс перестал рыдать, так что слова ее прозвучали очень громко в наступившей тишине:
– Слава, милая, вы не знаете, как открыть кокосовый орех?
– Господи, Лиля Юрьевна, мне бы ваши заботы, – ответил за Славу Бен, носовым платком утирая кровь с разбитого лба Феликса.
– Неужели это Лиля Брик? – спросил харьковский гость задрожавшим от благоговения голосом.
Но ответа не дождался, потому что начался следующий акт послеобеденного спектакля. Лиля Брик вдруг пронзительно взвизгнула, сунула орех Славе и припустила бегом куда-то вверх по улице. Все присутствующие повернули головы – посмотреть, куда это она помчалась. Навстречу ей, широко раскинув руки, шагал Корней Чуковский, высокий, лихой и моложавый – в распахнутом светлом плаще с развевающимся на ветру шарфом.
Лиля с разбегу вскочила на него и, уцепившись одной рукой за его плечо, начала кулачком другой колотить его по лицу.
– Негодяй! Старый негодяй! Шутник проклятый! – вопила она, дрыгая в такт ударам маленькими ножками в малиновых штанишках.
К. И. взял ее за локотки и бережно опустил на землю. Глаза его сияли знакомым мне игровым огнем. Голос его был сама невинность;
– В чем дело, Лиля Юрьевна? Чем я провинился?
– Этот человек еще спрашивает? Он не знает, чем он провинился!
– Понятия не имею, – развел руками К. И.
– Хватит притворяться! – возмутилась Лиля Юрьевна. – Ведь вы дали мне вчера пачку горчичников?
– Дал, конечно, дал. Вы же жаловались на кашель.
– И не заметили, что это не горчичники, а мухоморы?
Заметить разницу невооруженным глазом было бы трудно. Мало кто помнит, как выглядел мухомор того времени – не дурманный гриб, так упоительно описанный Виктором Пелевиным, а патентованная ловушка для мух, представлявшая собой серовато-коричневый прямоугольник, на оборотной стороне которого невзрачными черными буквами было напечатано слово «МУХОМОР». И только этим трудночитаемым названием мухомор на вид отличался от горчичника, такого же прямоугольного и серовато-коричневого, только на спинке у него красовалось столь же неразборчиво отпечатанное прозвище «ГОРЧИЧНИК». На рабочей стороне горчичника был нанесена пленка из сухой горчицы, тогда как рабочая сторона мухомора была покрыта тонким слоем уморительного яда для мух, внешне не отличимого от горчицы. Оба они благополучно соседствуют среди неотступных видений моего детства – вот я лежу, обклеенная горчичниками и, сладостная теплота прогоняет из моего горла надсадный кашель, а на столе рядом со стаканом теплого молока замочен в блюдечке серый прямоугольник мухомора, густо усыпанный трупами доверчивых мух.
К. И. видимо, тоже представил себе нечто подобное.
– А вы даже не удосужились проверить, что я вам дал? – взликовал он.
– Зачем мне было проверять? Я думала – вы порядочный человек. Я легла в постель и обклеила себе грудь и спину. Лежу и удивляюсь, почему не печет… Так и лежала, пока Витя не посмотрел. И как заорет: «Да это же мухоморы!»
– «Да это же мухоморы!» – повторил за Лилей Юрьевной совершенно счастливый К. И. – его игра удалась!
Только человек, так понимающий и любящий игру, мог сочинить те дивные сказки, на которых выросли мы и наши дети, и, даст Бог, еще многие-многие поколения детей, детей детей и детей детей детей. Потому что это сказки настоящего Сказочника.
И даже пострадавший в бою Феликс Сарнов ощутил на себе магическое влияние сказки – по дороге домой он обвел всех серьезным взглядом своих карих с поволокой глаз, чувственная прелесть которых особо подчеркивалась белизной охватывающей лоб окровавленной повязки, и объявил:
– Это был самый счастливый день в моей жизни!
Дели Эльберт и моя мама
С Дели Павловной Эльберт я познакомилась в бане. В этом не было бы ничего удивительного, если бы она в первый же вечер не пригласила нас с Сашей у нее ночевать. Мы в тот период просто погибали – это был наш первый год в Москве, где у нас не было ни друзей, ни жилья, ни прописки. Если учесть, что денег у нас тоже не было, то, оглядываясь в слезах на невозвратную юность, я сейчас, с высоты своих печальных лет, не могу понять, как же мы тогда выжили? Почему не послали к черту всю эту столичную блажь и не сбежали куда-нибудь в провинцию, под крыло папы-мамы?
Скорей всего, потому, что и в провинции нас тоже ничего хорошего не ожидало – наше еврейство перекрыло нам все пути, и наши попытки устроиться в каком-нибудь захудалом пединституте каждый раз кончались очередным фиаско. А, главное, мы вовсе не чувствовали себя несчастными – напротив, нас наполняло предвкушение ослепительного успеха, надвигающегося на нас неотвратимо, как астероид. Ведь только что Саше совершенно необычайно, неправдоподобно повезло: его приняли младшим научным сотрудником в московский институт мер и стандартов. Приняли буквально в последний момент, когда это было еще возможно, – за день до введения строжайшего закона о московской прописке Саше удалось прописаться на полгода на подмосковной даче какого-то дальнего родственника приятелей его тетки. Еще через два дня эта авантюра оказалась бы неосуществимой. И кто знает, как сложилась бы наша судьба без этой липовой прописки, – ведь Саша той приютившей его на полгода дачи, и в глаза не видел.
Получив известие о Сашиной удаче, я немедленно помчалась в Москву, сбросив на попечение своих безответных родителей нашего двухлетнего сына Володю. Здравого смысла в моей ветреной голове тогда было очень мало, но одно я знала твердо: «С любимыми не расставайтесь». Вот я и явилась в негостеприимную столицу нашей Родины с маленьким чемоданом в одной руке и с только-только завершенным переводом «Ворона» в другой. И мы c Сашей дружно и неразлучно начали мыкаться по чужому городу, в котором никому не было до нас никакого дела.
Никому, кроме органов милиции, свирепо преследующих по Москве нарушителей закона о прописке. Да, органы милиции проявили к нам немалый интерес – ведь полгода промчались быстро, Сашина прописка кончилась к декабрю, а о новой мечтать не приходилось. С работы, правда, не гнали – там, однажды убедившись в наличии прописки, больше ее не проверяли. Но жить нам было негде.
Снять комнату дольше, чем на месяц, нам не удавалось. Каждая квартирохозяйка обязана была немедленно, под угрозой штрафа, относить наши паспорта в милицию на прописку, а дальше все развивалось по стандарту: милиция работала, как часы, и на обнаружение нашей пропнепригодности уходил ровно месяц. После чего к хозяйке являлся милиционер, и нас насильно выдворяли на улицу с нашими более чем скромными пожитками. Постепенно вещей у нас становилось все меньше и меньше, потому что при каждом переезде половина их каким-то таинственным образом пропадала – то ли терялась, то ли ломалась, то ли втаптывалась в грязь. Так что мы с гордостью молодых ученых, у меня ведь тоже был университетский диплом физика, определили свой период полураспада – ровно один месяц.
Поначалу в промежутках между потерянными и вновь найденными квартирами – все-таки каждая давала нам месяц относительного покоя, – мы пытались ночевать у отдаленных родственников или у приятелей наших родителей, так как своих у нас в Москве не было. Но, увы! – мы быстро им надоедали, и через пару дней они, смущенно заикаясь, довольно однообразно предлагали нам убираться прочь.
Я их не виню, все они жили в тесноте и в обиде, и наше нежеланное присутствие вряд ли украшало их и без того убогое существование. Их всех объединяло одно страстное желание – чтобы я убралась к родителям в Харьков. Почему-то Сашина бездомность воспринималась ими менее болезненно, но мысль о том, что они выгоняют на улицу меня, очевидно, подрывала их самоуважение, – не настолько, правда, чтобы позволить мне остаться, но настолько, чтобы с чрезмерным исступлением требовать моего отъезда.
Уезжать из Москвы я не собиралась, тем более, что я уже начала по просьбе Корнея Чуковского выполнять подсобную исследовательскую работу для его книги о художественном переводе и в смелых мечтах иногда видела, как передо мной отворяются двери литературной пещеры Алладина, которые вскоре и впрямь отворились. В результате, чтобы не огорчать родственников упрямым отказом последовать их мудрому совету, мы, в конце концов, перестали обращаться к ним за помощью.
Когда нас выгоняли в очередной раз, мы ставили свои сильно полегчавшие чемоданы – числом два, – под кровать моей школьной подружки Лины, – той самой, которая устроила мне через Люшу роковую для меня встречу с К. И., – и начинали кочевую жизнь. Лина снимала угол в смрадной комнате одной отвратной еврейской старухи, зорко следившей за каждым ее шагом, и ничем, кроме тайного переноса наших чемоданов к себе под кровать, помочь нам не могла. Так что нам, отвергнутым московскими родственниками, не оставалось ничего иного, как ночевать на жесткой лавке в зале Центрального телеграфа, притворяясь, будто мы ожидаем междугороднего телефонного разговора.
Милиция тогда сильно свирепствовала, вылавливая бесправных бродяг, – в стране было голодно, и народ тянулся в Москву, город хлебный. Поэтому на случай проверки у нас была припасена предварительно оплаченная квитанция на трехминутный разговор с каким-то отдаленным городом, разговор с которым давали не сразу. Утром мы завтракали в соседней столовке, заказывая только по стакану чая, поскольку хлеб по милости благодетеля Никиты Хрущева в тот год бесплатно стоял на столах – ешь, не хочу! Но мы хотели и ели каждый за двоих, запасаясь калориями на предстоящий бездомный день. Потом Саша отправлялся на улицу Щусева в свой институт мер, а я – в Ленинскую библиотеку готовиться к очередной сессии у Корнея Ивановича.
После рабочего дня мы шли в какой-нибудь недорогой ресторан, чаще всего в Дом архитектора, удачно расположенный тоже на улице Щусева, – наших денег хватало на то, чтобы, если не платить за комнату, один раз в день прилично поесть и просидеть целый вечер в тепле. Хуже всего было с мытьем – и потому мы регулярно ходили в Сандуновские бани. Билет туда стоил довольно дорого, так что в банный день мы ужинали в стоячей сосисочной ресторана «Прага». Полчаса можно было и постоять, благо остаток вечера мы проводили в теплом помещении бани.
Именно в такой переходный момент я разговорилась со своей соседкой по банной скамейке – немолодой, но все еще красивой женщиной с очень экзотической внешностью, показавшейся мне похожей на постаревшую прекрасную Ребекку, героиню романа Вальтер Скотта «Айвенго». В ней была такая элегантность, что даже в бане она выглядела дамой, и имя у нее было соответственное – Дели. Не знаю, чем я ей показалась, но она решительно взяла меня под крыло и провела по всем аттракционам Сандуновских бань, осмотреть которые в одиночестве я никогда бы не решилась, стесняясь своей наготы.
Дели Павловна наготы не стеснялась нисколько, ни своей, ни моей, и, прогуливая меня мимо роскошных зеркал в узорных рамах, она без особых усилий вытянула из меня все подробности моей московской жизни. Особенно увлекли ее приключения, связанные с нашим последним по счету жилищем, – не знаю, как его назвать, так как на определение квартиры оно не тянет. Это была вырытая в земле и кое-как оштукатуренная дыра, отделенная от внешнего мира дощатым люком, прикрывающим несколько уходящих вниз ступенек. Под ступеньками был темный предбанник, который вел в некое пространство с четырьмя стенами и с крохотным слепым окошком на уровне идущих по двору ног. В этом пространстве не было ни воды, ни отопления, обогревалось оно огнем газовой плиты. Так как вытяжки в нем тоже не было, при обогреве возникал удивительный эффект, наглядно демонстрирующий законы физики: пока вода, стоявшая на полу в ведре покрывалась тонкой ледяной корочкой, головы наши всерьез взмокали от невыносимо горячего воздуха, поднимающегося над горящим газом.
Воду мы набирали из крана во дворе. Зима стояла суровая, а спуститься с полным ведром по нашим обледеневшим ступенькам было непросто, – всегда немного проливалось. Так что к концу нашего законного месячного проживания в этой дыре ступеньки превратились в ледяную скользанку, спуститься с которой можно было только сидя на филейной части, – что мы и делали. И все же нам ужасно не хотелось расставаться с этим жильем, ведь оно впервые за много месяцев было полностью нашим, без постоянного критического надзора квартирной хозяйки. Тем более, что переезжать нам было абсолютно некуда.
И потому, когда точно по расписанию через месяц явился очередной милиционер с очередным ордером на выселение, мы попробовали сыграть с ним в палочки-стукалочки: в ответ на его громкий стук мы погасили свет, затаились и притворились, что нас нет дома. Милиционер потоптался у двери, обсудил с хозяйкой возможность нашего скорого возвращения и ушел. Наутро мы встали рано и, обнаружив, что за ночь выпал обильный снег, озираясь, выбрались из своего логова, а вечером вернулись по тем же следам пятками вперед, создавая впечатление, что уйти-то мы ушли, но обратно не пришли. Пару дней милиционер верил нашим удаляющимся следам, которые мы ежедневно возобновляли, а потом ему надоели наши игры, и нам отключили свет. Так что мы снова оказались на жесткой скамейке в зале Центрального телеграфа.
Дели ужасно хохотала, слушая мой рассказ, а потом, совсем как наши настырные родичи, поинтересовалась, почему я не уезжаю от всех этих ужасов домой к маме. Однако, услыхав мою заветную формулу: «С любимыми не расставайтесь», она в отличие от родичей немедленно приняла мою сторону. А когда я вдобавок ко всему поведала ей историю моего новенького с иголочки сотрудничества с К. И., она сказала совершенно серьезно: «Уезжать нельзя ни в коем случае», и после бани пригласила нас с Сашей к себе на ужин.
«Я вас напою чаем, а вы почитаете мне своего «Ворона», – решительно объявила она и потащила нас к троллейбусной остановке. Как мы вскорости обнаружили, была она дама очень решительная и причастная к литературной жизни.
Жила Дели с восьмидесятичетырехлетним папой в однокомнатной квартире на Солянке. Потолок ее комнаты уходил вверх так высоко, что, положенная набок, она бы образовала вполне приемлемую двухкомнатную квартиру, чем Дели и воспользовалась: она разгородила свою комнату по высоте. На образовавшиеся в результате антресоли вела крутая деревянная лесенка, нисколько не нарушая гармоничной красоты этой угловой комнаты с высоченными стрельчатыми окнами – явно выгороженной из старинной барской квартиры.
Старенький Делин папа, Павел Аронович Эльберт, оказался человеком на редкость интеллигентным, и мы провели у них прекрасный вечер, читая друг другу свои любимые стихи. К концу вечера Дели поведала нам, что ее причастность к литературе не случайна, потому что она вдова Эдуарда Багрицкого.
Впоследствии я узнала, что по Москве бродит еще пара-тройка женщин, претендующих на звание вдовы Багрицкого, но тогда я просто обомлела: так близко и так интимно – через прогулку нагишом под зеркалами Сандуновских бань – я еще никогда не была знакома с женой знаменитого поэта! Да еще не какого-нибудь поэта, а Эдуарда Багрицкого, романтического кумира моей юности, друга Маяковского, умершего молодым от туберкулеза.
Как мы когда-то зачитывались его «Думой про Опанаса», – я и приобщавшие меня к поэзии мальчики из литературного кружка при харьковской библиотеке Короленко! Как мы смаковали строки:
«У Махна по самы плечи волосня густая…»!
А «Февраль»! Я думаю, сегодня мало кто помнит и ценит эту романтическую поэму, герой которой, так и не решившийся осквернить девственность своей первой любви, через несколько лет революционных потрясений обнаруживает ее в публичном доме, где она работает проституткой. Но в те далекие сладкие времена, когда слезы восторга готовно стояли у горла, мы хором и сольно повторяли, как заклинание:
«…все ясней, все чище, в море обычаев и привычек, Над фонарем моего жилища Глаза соловья на лице девичьем».При этом никто из нас не мог бы сказать, чем так замечательны глаза соловья – голос соловья, я понимаю, но глаза? При чем тут глаза? Сейчас при мысли о соловьиных глазах лезут почему-то в голову дураковатые стишки из сборника Ренаты Мухи:
«Сел на ветку соловей без ресниц и без бровей И увидел двух синиц без бровей и без ресниц».Но это сейчас, когда для романтики в душе уже почти не осталось места, а тогда! После признания Дели сердце мое стиснулось, и скромная ее комната превратилась в Соловьиный сад. А она тут же, без передышки, пока я еще пыталась осмыслить услышанное, пошептавшись о чем-то с папой, вдруг объявила:
«Ну куда вы пойдете, на ночь глядя? На телеграф? Оставайтесь-ка ночевать у нас – на антресолях вполне хватит места на двоих».
Как давно мы, бездомные бродяжки, отвергнутые всеми, кто мог бы оставить нас у себя ночевать, не слышали столь сладкозвучных слов! Не тратя силы на возражения, – а вдруг она передумает? – мы поспешно вскарабкались на антресоли и мгновенно заснули, как убитые, – брошенный на доски помоста старый пружинный матрас показался нам царским ложем после нескольких мучительных ночей на лавке телеграфа.
Наутро, убегая на работу, Дели сказала буднично, как будто это само собой разумелось:
«После работы принесите свои вещи – поживете здесь, пока что-нибудь найдете».
Мы радостно перенесли вещи и почти на две недели остались на ее гостеприимных антресолях. Каждый день после окончания Сашиного рабочего дня мы отправлялись на поиски нового жилья, но в те времена это было очень даже непросто – не существовало ни посреднических агентств, ни объявлений в газетах. Честно говоря, я сегодня не могу вспомнить, как нам удалось найти большую часть тех съемных комнат, из которых нас регулярно выгоняли с периодом полураспада в один месяц. Ведь их было немало – не менее чем семь-восемь. Откуда же они брались? Припоминается, правда, какая-то биржа съемных квартир на Мещанской, но у нас там вышло несколько осечек, и мы перестали туда ходить.
Особенно страшный казус случился с сиплым мужиком в сапогах и картузе, который радостно поволок нас прямо с биржи в район каких-то новостроек, обещая отличную комнатку, светлую и недорогую. Комнатка оказалась неплохая, – хоть и расположена была далековато от средоточия наших интересов, но зато цена приемлемая. Было это в тот светлый период, когда мы еще могли с заискивающей улыбкой переночевать пару ночей у мрачнеющих раз от разу родственников, но уже всей кожей чувствовали неумолимое приближение полного отказа. Так что мы поспешно выразили готовность комнатку снять и даже дали хозяину небольшой задаток, – нам было важно сразу же остаться там на ночь и не возвращаться к уставшим от нас родственникам. Мы уже поглядывали на ободранный диван, прикидывая, можно ли будет на нем устроиться без простыни и одеяла, но тут наш мужик потребовал сделку обмыть, как положено, для чего сгонял Сашу в соседний «Гастроном» за чекушкой.
И тут начались неприятности. Выпив почти полностью всю чекушку, – не сообразив, что нам надо спешно уменьшить количество взрывоопасного продукта, я отказалась, а Саша едва пригубил, – хозяин начисто забыл, что он комнату сдал, и решил лечь спать на своем кургузом диванчике, втиснувшись между нами. На все наши уговоры он вполне логично отвечал, что комнатка эта – его, и другой у него нет, так что уходить ему некуда и незачем, а лучше будет, если уйдем мы.
Мы бы, пожалуй, и ушли, но пока мы покупали и распивали чекушку, перевалило сильно за полночь, транспорт ходить перестал. Да и вряд ли мы бы могли явиться среди ночи в дом самого любящего родственника, чтобы он начал раскрывать кресло-кровать или втискивать раскладушку между детской колыбелькой и бабушкиным диваном. Так что мы решительно не желали уходить, тем более, что уже заплатили задаток. Тогда хозяин вконец разбушевался и начал наступать на нас с поднятой над головой бутылкой. В ответ на что Саша, вооружившись сознанием своего законного права квартиросъемщика, схватил хозяина в охапку и вытолкнул – сперва в крохотную прихожую, а потом сильным пинком вон из квартиры.
Некоторое время изгнанный хозяин, истошно матерясь, ломился обратно, многократно звонил в звонок, бил несчастную дверь кулаками и пинал ногами. Мы, затаившись, не отзывались, и, к нашему удивлению, ни один из многочисленных соседей даже не сделал попытки вмешаться. Видно, все хорошо знали, с кем имеют дело. Через какое-то время, показавшееся нам бесконечным, он затих и исчез, скорей всего, «не потому, что осознал, а потому, что иссяк». Как только забрезжил рассвет, мы сбежали оттуда, печально смирившись с мыслью, что Бог с ним, с задатком, но эта комната не для нас.
Отчаявшись найти жилье при помощи биржи, мы попробовали метод индивидуального подхода: мы ходили из подъезда в подъезд по всей округе, соседствующей с Красной Пресней и Никитскими Воротами, стучали в дверь к дворнику и спрашивали, не сдает ли кто-нибудь в доме комнату. Не уверена, что этот метод хоть раз дал результаты, впрочем, могу и ошибаться – вполне возможно, что предшествующую Делиным антресолям обледеневшую подземную нору мы именно так и нашли.
На антресолях у Дели мы проживали не как жильцы-съемщики, а как младшие друзья, – несмотря на свою изрядную бедность, она ни за что не соглашалась брать с нас деньги. Мы старались скомпенсировать это, как могли: каждый вечер после изнурительного блуждания по чужим подъездам мы заходили в Елисеевский магазин и покупали какой-нибудь роскошный, по нашему мнению, продукт из того, что себе мы обычно не позволяли, – то ли триста граммов колбасы, то ли двести граммов сыра. И по приходе устраивали литературный пир – с чтением стихов и с рассказами о поэтических буднях.
В тот вечер, когда я вернулась из своей рутинной поездки к Корнею Чуковскому, вся компания поджидала меня за накрытым столом. Любопытная Дели потребовала от меня подробнейшего отчета обо всем, что я видела и слышала в Переделкино. А видела я кое-что интересное: на чай к К. И. заявился Константин Федин. Меня тоже оставили к чаю, и я сидела тише воды, ниже травы, слушая диалог двух великих людей, однако, не забывая при этом отдать должное отличному, свежеизготовленному Машей хворосту. О чем тогда шла речь, я сейчас уже не в состоянии вспомнить, а вот, что к чаю был хворост, помню отлично. Два образа остались в моей памяти и по сей день: чуть присыпанная сахаром гора хрустящего хвороста на блюде и горбоносый профиль Федина, сосредоточенно помешивающего ложечкой в стакане. И, конечно, мое ни с чем не сравнимое ощущение, что мне дано присутствовать при беседе богов.
Мои восторги по поводу «беседы богов» Дели тут же постаралась охладить, пересказав нам какие-то не слишком доброжелательные сплетни о Федине, которого за литературными кулисами называли «чучелом орла». Представив себе его странно неподвижный горбоносый профиль, увенчанный хохолком седых волос, я уловила сходство и засмеялась. Подбодренная моим смехом Дели принялась рассказывать нам разные истории из своего окололитературного прошлого, но я до сегодняшнего дня донесла в памяти только одну из них.
Главным содержанием этой истории были смелые слова, брошенные Дели в лицо Илье Эренбургу, которого она за что-то сильно недолюбливала. Она будто бы громко сказала ему в присутствии большой толпы слушателей: «Вы думаете о себе, что вы просто дерьмо, а вы – собачье дерьмо!» А он, сознавая свою вину, безропотно принял ее слова, утерся и едва ли не сказал «Спасибо за внимание».
Дели тоже взялась помогать нам в поисках жилья, и в результате мы поселились в совершенно замечательной полуподвальной квартире на 5-й Лесной у милой девушки Нели, примерно нашего возраста, которую внезапная смерть матери вынудила к срочной сдаче одной из двух принадлежавших ей комнат. Неля, единственная из всех встреченных нами квартирных хозяек, не боялась доноса дворника – ее покойная мама как раз и была дворничиха, и Неля унаследовала ее завидную должность вместе со служебной квартирой. Поэтому она не потащила тут же наши паспорта на прописку, а просто велела нам входить и выходить осторожно, по мере сил скрываясь от соседей.
Для такого грубого нарушения закона у Нели были весьма веские причины, обнаруженные нами почти незамедлительно после счастливого вселения. Вряд ли кто-нибудь, имеющий законные права, согласился бы жить в ее квартире, которая представляла собой предвосхищенную мечту Владимира Сорокина – примерно раз в неделю из люка в центре кухонного пола в нее начинало, неудержимо вспухая, вливаться содержимое московской канализации. Уровень бедствия зависел как от степени непроходимости, возникшей в недрах канализационной системы, так и от скорости нашей реакции – необходимо было срочно, при первых же признаках этого неотвратимого явления природы, включать мощный насос, специально установленный рядом с люком.
Но ведь мы не всегда были дома в минуту бедствия, так что порой любимая субстанция Сорокина заполняла всю квартиру в виде разжиженного мочой супа, когда по щиколотку, когда по колено. В предвидении такой возможности все предметы в квартире были расположены на специальных помостах, что спасало их от уничтожения, но – увы! – не от запаха.
И все-таки в этой квартире мы, наконец, были счастливы – никто нас не преследовал, никто не гнал прочь. Жизнь была прекрасна! Толпы наших харьковских друзей начали немедленно приезжать в Москву – кто за продуктами, кто так погулять, – и весело ночевать у нас, не обращая внимания на ароматный Сорокинский пейзаж. А кроме того, мы приобрели новых друзей – нашу милейшую новую хозяйку-дворничиху и неунывающую Дели Павловну, которая всегда была в курсе последних литературных новостей.
Но, как выяснилось вскоре, у Дели были и другие области духовной жизни, чрезвычайно важные для нее, хоть и скрытые от постороннего глаза. Однажды в середине апреля она позвала нас в гости от имени своего отца, Павла Ароновича. Мы любили ходить в их приветливый хлебосольный дом и с радостью согласились, не подозревая, что нас ожидает.
Еще с порога мы увидели парадно накрытый праздничный стол, украшенный двумя свечами в витых серебряных подсвечниках и уставленный блюдами с какими-то невиданными экзотическими кушаньями.
«У вас день рождения?» – с детской мудростью догадались мы, любуясь Павлом Ароновичем, суетящимся вокруг стола в нарядной крахмальной рубашке. Мы были еще в том возрасте, когда кажется, что у человека нет праздника важнее дня рождения.
«А вот и не угадали! Сегодня совсем другой праздник, не мой, а наш общий – первый седер Песаха. Тот, что в России называют еврейской пасхой», – воскликнул старик со счастливым смехом.
Но, увидев наши озадаченные лица, слегка опечалился:
«Да ведь вы ничего не знаете о Песахе, правда? О самом великом празднике еврейского народа? Бедные вы, бедные, от вас это скрыли! Но я вам сейчас расскажу, и вы будете знать!»
Он рассказал нам и о рабстве в Египте, и об Исходе, и о Моисее, и о бегстве через пустыню, и о расступившихся водах Красного моря. Саша, правда, потом хорохорился и утверждал, что он многие из этих рассказов слышал от дедушки, но я почему-то ему не поверила – как это он, такой говорун-любитель, ни разу ничего из этих сказок мне не поведал?
Это был первый в моей жизни седер и самый увлекательный. Павел Аронович написал русскими буквами четыре вопроса на иврите, которые Саша должен был ему задать, и церемония началась.
«Ма ништана алайла азэ ми коль алейлот? (Чем эта ночь отличается от всех других ночей?)», – спрашивал Саша. Старик отвечал, Саша спрашивал опять, и мы по знаку старика то макали крутое яйцо в соленую воду, то клали в рот жгучую щепотку натертого хрена с горчицей. И все это было так необыкновенно, так сладко! Выходило, что мое еврейство не сводилось только к постоянной обиде и большому непостижимому неудобству – у меня вдруг обнаружились свои привилегии и преимущества. Мой народ был не только бельмом на глазу всего прогрессивного человечества, но, как ни странно, объектом зависти и ревности других народов – ведь у нас была своя история и своя традиция, более древняя, чем у них! Я с восторгом перепробовала все блюда праздничного стола – и ушла домой окрыленная.
Через пару недель я поехала в Харьков проведать маму, папу и сына. Я жаждала поделиться с ними своим открытием – я хотела их утешить и облегчить им тяжелую ношу их еврейской судьбы. Не замечая их вытянувшихся лиц, я упоенно рассказывала им все подробности этого пасхального ужина. И вдруг моя мама зарыдала. Я уставилась на нее, ничего не понимая, – у мамы был очень твердый характер, и я никогда не видела ее плачущей. Да еще так громко, так горько, так отчаянно!
«И это моя дочь! – выкрикивала она сквозь слезы, совершенно как библейская пророчица. – До чего мы докатились! Я всю жизнь боролась с этим страшным еврейским мракобесием! Я вырвалась из их хватки на свободу и стала человеком! А моя дочь – моя дочь! – идет в чей-то чужой дом и участвует в их шабаше! А мой зять произносит эти идиотские вопросы – кашес – о горе мне, о стыд, о позор!»
Бедная моя мама – сколько разочарований я ей принесла! Все трудные московские годы, пока я, бездомная и неприкаянная, моталась по чужим домам, я чувствовала свою вину перед ней. За то, что не сумела построить свою жизнь согласно ее светлому идеалу, за то, что не устроилась в хорошем университете в соответствии со своими способностями и ее мечтами. За то, что я не выполнила ни одной из священных маминых заповедей и не стала гордой равноправной гражданкой созданного ею счастливого сообщества гордых равноправных граждан. И отклонилась от избранного ею пути по первому же зову какой-то чужой и чуждой женщины, которую мама проклинала, обвиняя в злостном стремлении обратить меня в свою веру.
А ведь то были только цветочки! Главное было еще впереди. Мама умерла от сердечной недостаточности сравнительно молодой, и это спасло ее от многих новых разочарований. Она умерла в декабре 1965 года, в самый разгар следствия по делу Синявского—Даниэля, так и не узнав ничего о нашей пагубной роли в сплочении московской интеллигенции в защиту подсудимых. Представляю, как бы она страдала, если бы узнала. И до конца не могу решить, от чего больше – от разочарования ли во мне, от страха ли за меня или от обиды, что с незнакомкой, случайно встреченной в бане, мне было легче найти общий язык, чем с ней.
Литературная карусель
Приходилось ли вам когда-нибудь менять имя?
Не фамилию – это тривиально: многие женщины, выходя замуж, меняют фамилии. А именно имя – то самое, неотделимое от вас с младенческих лет имя, которое было дано вам при рождении.
Мне приходилось. И я могу подтвердить, что перемена имени часто знаменует перемену всего жизненного уклада. Однажды на дружеской вечеринке ко мне подошла незнакомая женщина и спросила, правда ли, что меня не всегда звали Нина. Когда я призналась, что, действительно, не всегда, она, почувствовав во мне родную душу, таинственным шепотом поведала мне свою историю.
Звали ее как-то очень обыденно – то ли Таня, то ли Валя, – и долгое время судьба ее складывалась весьма печально. Муж ее бросил, детей у нее не было, в своей профессии она так и не смогла ничего достичь, отношения с сотрудниками не ладились. И вот где-то после тридцати она почувствовала, что больше не может так жить. Словно какая-то неведомая сила велела ей покончить счеты с неудавшейся жизнью женщины с обыденным именем – то ли Тани, то ли Вали. Перебрав в уме все доступные ей средства самоубийства, она не нашла среди них безболезненного и исключительно из страха перед болью решила сначала попробовать покончить с Таней или Валей, сменив это привычное имя, выбранное для нее родителями, на какое-нибудь другое.
Найти новое имя оказалось непросто – ведь ей не было указано, какое имя окажется для нее подходящим. Нельзя же было менять одно затертое имя на другое, столь же затертое, – вроде Оли или Веры. Долгие ночи лежала она без сна, перебирая в уме всевозможные женские имена, – она пробовала их на вкус, на звук и на запах. Но ни одно не отзывалось в ее сердце. Бедная Таня или Валя начала потихоньку возвращаться к мысли о самоубийстве, убеждая себя, что недолгую боль можно и перетерпеть, а потом зато станет хорошо и спокойно. Она уже почти созрела и даже выбрала какой-то не слишком мучительный способ прервать свою постылую жизнь, как вдруг в случайном чужом доме на случайном, не нужном ей семейном концерте, бездарная заунывная певица спела песню про Лилит.
Полное мистического смысла имя Лилит не входило в арсенал памяти не склонной к поэзии Тани или Вали, и она ни разу не прикоснулась к нему во время своих бессонных ночей. Но тут ее словно ударило током – вот оно, ее настоящее имя! Она узнала его мгновенно и безошибочно! Назавтра она уволилась с работы и отправилась в отдел регистрации, где ей безропотно сменили имя Таня или Валя на имя Лилит. Под именем Лилит она поменяла квартиру, нашла новую работу и прервала все свои старые связи.
И вся ее жизнь переменилась – она счастливо вышла замуж, родила двух очаровательных детей и, изучив какую-то другую профессию, совершенно не похожую на предыдущую, сделала очень удачную карьеру. И все благодаря своему новому имени, которое было предназначено ей судьбой и почти потеряно по вине родителей.
Я благоразумно не стала морочить Лилит голову бестактным вопросом, не случилось ли бы все это чудесное превращение, если бы она попросту, не меняя имени, поменяла квартиру и профессию и, найдя новую работу, прервала все свои старые связи? Вместо этого я задумалась над своей судьбой – ведь думать о себе всегда интересней.
Мои родители тоже, похоже, ошиблись, выбирая мне имя. Они, страстно любя великую социалистическую революцию, назвали меня Нинель – что означает «Ленин» при прочтении справа налево. Если отвлечься от мысли о Ленине, имя, собственно, довольно красивое, и я не так уж плохо с ним управлялась до девятнадцати лет, – пока не вышла замуж за Сашу Воронеля. Однако в смысле имени этот брак, во всех других отношениях удачный, оказался ловушкой – каждый, кому ни лень, упражнялся в остроумии, рифмуя мое старое имя с моей новой фамилией. Любимый припев бесчисленных остряков, среди которых встречались даже маститые поэты, был на редкость однообразен – они радостно, почти без вариаций, повторяли: «Ах, Нинель Воронель, не ходи на панель!»
Во мне начало шевелиться смутное недовольство собой в виде Нинель Воронель. «Это сочетание звучит как имя «рыжего у ковра», – сказал мне однажды Семен Израилевич Липкин, мой очередной Мастер по курсу перевода в Литинституте. И порекомендовал сменить не имя, а фамилию – на более благозвучную для русского уха, – стать, например, Нинель Воронова. Хоть он и был мой Мастер, но я не была его Маргаритой и потому, вслушавшись в отвратительное сочетание «Нинель Воронова», я согласилась не с ним, а с Мандельштамом, который утверждал, что Липкину «медведь на ухо наступил». Это никак не повлияло на наши очень дружеские отношения с Семеном Израилевичем, который страшно гордился тем, как оценил его Мандельштам, – советская литература как раз вошла в фазу создания новых культовых фигур, и Мандельштам стремительно становился одной из наиболее почитаемых. Было уже не важно, хорошо или плохо он о ком-то отозвался, важно было, что этот кто-то вообще попал в священную орбиту его внимания.
А пока литературная жизнь вокруг меня текла своим чередом, и я с наслаждением плескалась в ней под слишком благозвучным именем Нинель Воронель. Однажды выхожу я из аудитории после окончания занятий, и вдруг незнакомый голос окликает меня по имени. Я оборачиваюсь – передо мной стоит невысокий, густо-кудрявый и очень темноглазый молодой брюнет, чем-то напоминающий арапа Петра Великого в юности. Он восклицает – заметьте, не просто говорит, а именно восклицает:
«Так вы и есть знаменитая Нинель Воронель?»
Несказанно польщенная, совсем как ворона в басне Крылова, я немедленно соглашаюсь, что это я и есть, нетвердо при этом зная, чем я так знаменита. Но молодой арап мне это быстро поясняет:
«Говорят, вы гениально перевели «Ворона» Эдгара По».
И представившись ленинградским переводчиком поэзии Василием Бетаки, присовокупляет, что он специально приехал из Ленинграда, чтобы познакомиться с моим гениальным переводом. Я сокрушенно развожу руками – мол, к сожалению, перевода у меня при себе нет. Что же он меня не предупредил, прежде чем специально ради этого ехать из Ленинграда?
«Но завтра я могу его привезти», – обещаю я. Мы тогда жили в загородном поселке Института физико-технических измерений, куда и откуда раз в сутки доставлял служебный автобус, так что я даже не могла пригласить столь страстного поклонника моего творчества зайти к нам вечерком на чашку чаю. Но Вася Бетаки на это и не рассчитывал, – он в тот же вечер должен был возвратиться к себе в Ленинград. Он предъявил мне свой билет, чтобы я не сомневалась, и бегло взглянул на часы:
«До отхода моего поезда осталось три часа. Может, посидим здесь, поболтаем, и вы прочтете мне свой перевод? Ведь вы знаете его наизусть?»
Ну, конечно, я знала свой перевод наизусть, как могло быть иначе? Я не стала кокетливо отнекиваться, и мы вернулись обратно в аудиторию, где почему-то сели на стол и приступили к беседе. Сначала мы немного поделились друг с другом секретами переводческого ремесла, а потом Вася вспомнил, с какой целью он специально приехал из Ленинграда: «Ну, Нинель, когда же вы почитаете мне свой перевод?»
Я послушно набрала в легкие воздух и успела даже произнести первые два слова, но тут Вася меня перебил. Он спросил, знаю ли я, что он тоже переводил «Ворона»? Я не знала. Это его огорчило, и он предложил тут же, не отходя от кассы, прочесть мне свой перевод – он, конечно, тоже знал его наизусть. Я, естественно, согласилась, – я тогда еще интересовалась переводами других поэтов, – и он немедленно начал декламировать, сильно заходясь и закатывая глаза.
Несмотря на все Васины ужимки, перевод его мне не понравился, но я приложила изрядные усилия, чтобы это скрыть. Однако он жаждал знать мое мнение в деталях, так что мы около получаса обсуждали разные его находки и словесные достижения. Через полчаса он спохватился и вспомнил, что специально приехал из Ленинграда не за этим.
«Ну, прочтите же, наконец, свой перевод!» – горячо воскликнул он и даже, мячиком спрыгнув со стола, тщательно прикрыл дверь, чтобы суета в коридоре не мешала ему слушать.
Я опять набрала в легкие воздух, но на этот раз даже и первых слов произнести не смогла.
– А как вы решили проблему с «невермор»? – живо поинтересовался Бетаки. – Сделали «никогда» или «невермор»?
И мы пустились в увлеченное обсуждение этого важного вопроса, высказывая все за и против каждого из вариантов. Почти исчерпав тему перевода на русский язык английского слова «никогда», Вася опять вернулся к начальной точке нашей беседы и очень решительно потребовал, чтобы я прочла ему свой перевод.
«Вы так увиливаете, будто боитесь, что я его услышу!»
Отчаявшись, я не стала увиливать – не тратя драгоценного времени на вдохи и выдохи, я немедленно приступила к чтению. Мне удалось добраться до второй половины первой строки, но тут Вася вспомнил что-то необычайно важное:
«А «Улялюм» вы тоже переводили?»
Я призналась, что переводила, но Вася меня уже не слушал. Он во что бы то ни стало хотел прочесть мне свой перевод «Улялюм», чтобы по прочтении обсудить его достоинства и недостатки. Мы подробно остановились на достоинствах, которых на мой вкус было не так уж много, и перешли было к недостаткам, которых было больше, чем можно было допустить. И тут Васин взгляд упал на часы.
«Боже мой! – воскликнул он все так же страстно и соскочил со стола. – Я уже опаздываю на поезд, а вы так и не прочли мне своего «Ворона»!»
И уже по пути к выходу прощально прокричал, путаясь в полах своего щегольского, слишком длинного для его маленького роста, пальто:
«При следующей встрече вы просто обязаны мне его прочитать!»
И исчез за поворотом коридора так же стремительно, как появился. Следующая наша встреча состоялась только через двадцать лет в Париже, куда Вася эмигрировал со своей женой Виолетой Иверни, которую остроязыкая Марья Синявская обычно называла Травиатой Выверни. Не знаю точно, чем Вася там зарабатывал на жизнь, но его интерес к переводам вообще и к моему переводу в частности совершенно угас. И потому он даже не вспомнил, что мой «Ворон» так и остался между нами непрочитанным. Мало того, он так и остался неопубликованным в России, несмотря на то, что крупнейший специалист по творчеству Эдгара По, составитель уникальных сборников переводов его поэзии, проф. Владимир Чередниченко написал мне: «Вы – одна из немногих, кого «Ворон» коснулся своим крылом».
Но, может быть, вся беда была в том, что переводя Эдгара По, я четко и однозначно называла себя Нинель? Хоть я и не послушалась совета мудрого еврея Семена Израилевича Липкина, слова его запали мне в душу и начали потихоньку ее разъедать – я стала постепенно осознавать искусственность своего подлинного имени. И решила выбрать искусственное, которое звучало бы более естественно. Проще всего было сократить рифмующееся окончание «ель» и стать Ниной. Так я превратилась в Нину Воронель – как говорится, «скромненько, но мило».
И уже под этим именем, никого не побуждавшим к игривым рифмам, я двинулась дальше по тропе литературной войны, которая, как кровеносная артерия, привела меня в сердце литературной жизни, сосредоточенное в кафе Центрального Дома литераторов. Там любой из тех, кто был никем, мог запросто встретить любого из тех, кто был кем-то, и даже попытаться занять место рядом с этим счастливцем. Там создавались и рушились репутации, завязывались знакомства, обозначались вкусы, определялись судьбы. Попасть туда было непросто, но я, как и многие мои однокашники по Литинституту, освоила секреты проходных дворов и служебных дверей. И, незаконно проникнув в святая святых, слонялась среди сильных мира сего, пьющих за столиками кофе, а то и что-либо покрепче, в ожидании своего часа.
И вот однажды этот час наступил. Как-то подзывает меня какой-то доброжелатель из славной братии переводчиков и говорит своему соседу по столику:
«Михаил Аркадьевич, я хочу вас познакомить с замечательной молодой поэтессой Ниной Воронель, которая гениально перевела «Балладу Редингской тюрьмы».
Я всматриваюсь в длинный нос Михаила Аркадьевича и, конечно же, немедленно узнаю его – да ведь это Михаил Светлов! Кто бы в литературном мирке мог его не узнать?
Михаил Светлов окидывает меня одобрительным взглядом:
«Гениально, говоришь? Ну, пусть сядет сюда, – он хлопает ладонью по пустующему соседнему стулу, – и почитает мне что-нибудь!»
Я, не ожидая второго приглашения, сажусь на указанный стул:
«Что почитать? Кусок из «Баллады»?
«Из «Баллады» не надо, – морщится Светлов. – Читай что-нибудь свое».
Я быстро выбираю то, что мне кажется лучшим из недавно написанного – «К началу грозы» – и сразу начинаю читать, чтобы никто не ворвался и не помешал.
«Хотела бы знать я, – к чему этот шум, О чем это капли по лужам судачат? Хотела бы знать я, – на кой это шут, Большой разговор не ко времени начат? Ведь ясно, что серые листья ветлы Не станут вникать в этот шепот крамольный, Ведь ясно, что молнии слишком светлы, И слишком черна темнота после молний. Ведь ясно, что ветер вмешается в спор, Что ветер неистов и безрассуден, А эта гроза – не игра и не спорт, И с ветром никто нас потом не рассудит. Ведь ясно, что тучи куда-то спешат, Деревья кивают и нашим, и вашим, Ах, лучше отложим решительный шаг, Детали обсудим и сроки увяжем! Ведь ясно, что небо раскрылось до дна, — Все слишком стремительно, слишком внезапно. Нет, с этой грозой я не справлюсь одна, Давай ее лучше отложим на завтра!»Светлов слушает внимательно, время от времени облизывая пересохшие губы. Его чрезмерно удлиненное, кислое лицо направлено на меня доброжелательно. «Деревья кивают и нашим, и вашим, – это хорошо найдено», произносит он задумчиво, и вдруг начинает звонко стучать вилкой о тарелку:
«Тихо!» – громко говорит он, и, как ни странно, многоголосый гул в кафе стихает.
«Посмотрите! – Светлов указывает вилкой на меня. – Это очень талантливая жопа!»
Все смотрят на меня, и я чувствую себя польщенной.
В те далекие времена я часто чувствовала себя польщенной – например, как ни странно, меня всегда баловали своим вниманием самые высокопоставленные антисемиты. Я уж не говорю об эротических домогательствах антисемитов зоологических, – на этом поле мне довелось собрать весьма высокий урожай. Помню, как поэт Алексей Марков, знаменитый в то время на всю Россию особо зверскими антисемитскими стихами, бежал за мной через всю Москву, умоляя о минутной благосклонности. Когда я ему ехидно указала, как мало его пыл вяжется с его взглядами, он стал страстно декларировать, что обожает еврейских женщин. Хоть я его и прогнала, но декларациям его поверила – есть что-то фрейдовское в этом почти нерасторжимом сочетании утробной ненависти к евреям с не менее утробным вожделением к еврейкам. В моем списке поклонников можно найти немало печально известных имен, жестоко страдавших этим комплексом.
Но и антисемиты идейные не оставили меня незамеченной. Так Игорь Шафаревич в своей нашумевшей «Русофобии» посвятил мне несколько абзацев. Он процитировал диалог из моей пьесы «Утомленное солнце», где густопсовый русский интеллигент доктор Астров упрекает кроткого еврейского юношу Веню за то, что евреи устроили в России революцию. На что Веня, озверев, забывает о своей кротости и взрывается:
«Да чего вы стоите, если вам можно революции устраивать?»
Г-на Шафаревича эта реплика оскорбила смертельно, – небось, он услышал в ней отзвук правды, ну, и всыпал мне по первое число.
Подобно Шафаревичу главный идеолог антисемитизма в русской литературе, Вадим Кожинов, тоже был уязвлен моими дерзкими строчками, хоть я лично ничего для него обидного в них не вижу:
– У предков моих слишком яростный глаз,
– И нос слишком длинный и в профиль, и в фас,
– И нет мне березки в березовых рощах,
– И нет мне спасенья в Успенье и в Спас,
– И предков моих на Сенатскую площадь
– Никто б не пустил под штандарт голубой.
Именно Сенатская площадь возмутила Кожинова. В предисловии к книге поэзии «Свет двуединый» он с пеной на губах доказывает, как я не права в этом своем утверждении. Так он и умер неубежденный – скончался скоропостижно, читая мой роман «Ведьма и парашютист». Не знаю уж, что его там до такой степени задело – может, слишком страстная любовь арийской женщины Инге к израильскому парашютисту. Ведь как подлинный антисемит он согласен был только на обратный вариант.
С переводческими боссами еврейского происхождения мои отношения складывались порой хуже, чем с антисемитами. Так к последнему году моего обучения в Литинституте я столкнулась с новым для меня обстоятельством – мой новый мастер Лев Озеров, в отличие от мастеров предыдущих лет, В. Левика и С. Липкина, терпеть меня не мог. Все мои наивные усилия ему понравиться приводили только к обострению его неприязни. Каждый раз, когда я умело и быстро справлялась с заданным им переводом, он с отвращением морщился и говорил:
«Если вы так хорошо все умеете, Нина Воронель, что вы здесь делаете? Ведь вы воображаете, что вам тут нечему учиться, раз вы перевели Оскара Уайльда? Так освободите драгоценное студенческое место в Литературном институте кому-нибудь другому, который в этом нуждается».
Но мне как раз было чему учиться. Это было в самый теплый момент хрущевской оттепели, когда миллионам людей начала открываться бездна, в которую эпоха мудрого отца народов повергла сокровища российской культуры. Каждый день на горизонте появлялись новые, до вчерашнего дня запрещенные имена, и наш институт буквально наводнили рукописи стихов и романов забытых и забитых поэтов и прозаиков. Все это жадно читалось и обсуждалось не только в аудиториях, но и в общежитии на Бутырском хуторе, где многие из нас жили, и куда остальные приезжали дообсудить начатое во время занятий.
Шел поразительный по скорости и глубине процесс восстановления культурного самосознания, которому, я думаю, не было равных в российской истории, – от почти круглого нуля к существенному пониманию и высокой оценке украденного у нас наследия. И Литературный институт находился в самом центре этого процесса, несмотря на неумелые попытки потерявшей чувство реальности администрации и потому пытавшейся остановить этот процесс привычным ей методом «тащить и не пущать!»
Так что я пренебрегла недоброжелательными выпадами Л. Озерова и не освободила место для кого-то незримого, остро в нем нуждающегося. Тем более, что никакого влияния на мою переводческую карьеру у Озерова, к счастью, не было.
А дела мои шли неплохо. Ко мне потихоньку начинали стекаться заказы из крупных издательств, я принимала участие в разных престижных семинарах, где была замечена многими маститыми поэтами и переводчиками, так что я даже начала подумывать о поступлении в Союз писателей. Ведь тогда казалось, что нормальная культурная жизнь общества вот-вот вернется на круги своя, нужно только немного поднажать тут и там, чтобы соскочившие винты и гайки прочно стали на место.
И я вместе с другими, тоже полными иллюзий и надежд, искала точку приложения рычага – в смысле, где бы поднажать. Порой, конечно, случались мелкие недоразумения, но я воспринимала их скорей как пережитки умирающего прошлого, а не как реальную угрозу людям с творческими наклонностями.
Так, я по рекомендации Корнея Чуковского получила предложение перевести стихи к томику английских народных сказок, выходившему в издательстве «Детская литература». Прозаический текст сказок перевела Наталья Викторовна Шерешевская, очаровательная интеллигентная женщина, дружеские отношения с которой у меня сохранились и по сей день. Мы с нею отлично сработались, и она, человек требовательный и придирчивый, очень одобрила мои переводы. Оставалось только ждать выхода книги в свет и обещанного за нее гонорара.
И вдруг нас обеих срочно вызывают на худсовет, чтобы сделать нам суровое внушение за то, что мы мало думаем о нравственности будущих малолетних читателей английских сказок. Проницательный взгляд начальства умело выдернул из текста сказок одно четверостишие, способное внушить бедным детям грязные мысли. Речь шла о юной принцессе, которую похитил жестокий великан:
«Он бил ее, терзал ее, Завязывал узлом И каждый день пронзал ее Серебряным жезлом».«Вы представляете себе, что могут подумать в этом месте дети?» – гневно воскликнула председательница худсовета.
«А что они могут подумать?» – наивно спросила я.
«Как что?» – вспыхнула председательница совета, и остальные его члены дружно закивали: «Ужасно! Непристойно! Серебряным жезлом, да еще каждый день!»
Тут до меня дошло, на что они намекают, и я попыталась встать на защиту бедных невинных деток дошкольного возраста: «Да ничего они не подумают – они, небось, еще ничего такого не знают».
«Увы, наши дети знают все!» – мрачно припечатала свой приговор председательница под согласное шуршание морального большинства. Я хотела было возразить, что раз они знают все, то их уже не удастся испортить каким-то иносказательным серебряным жезлом, даже если пронзать их этим жезлом каждый день. Но быстро стало ясно, что спорить с худсоветом не стоит. Я предпочла смириться и изуродовать свою прелестную строфу с помощью серебряного прута, которым мрачный великан каждый день безжалостно порол несчастную принцессу. Таким образом вместо эротических склонностей я поспособствовала развитию в дошкольниках склонностей садо-мазохистских, за что получила огромные деньги, потому что книгу издали миллионным тиражом.
Освоив издательство «Детская литература», я отправилась на завоевание издательства «Малыш» – ведь в те времена только на детские стихи не налагалось тяжкое идеологическое ярмо. Для этого я объединилась со своей школьной подругой Реночкой, ныне прославившейся под звучным именем Рената Муха.
Реночка с юности была гением мгновенных экспромтов. Так однажды, отделяясь от группы соучеников, с наслаждением злословивших обо всех, кто ушел раньше, она потребовала, чтобы они «закрыли за ней рот». Она так и сказала: «Закройте за мной рот!»
С не меньшим блеском она создавала очаровательные разрозненные строчки, типа:
«У лошади было четыре калоши, Две правых – дырявых, две левых хороших».Выкрикнув их под гром аплодисментов, она замирала в недоумении, не зная, что с этими строчками делать дальше, ибо ей почти никогда не удавалось оформить их в завершенное произведение. Недаром в качестве Ренаты Мухи она прославилась как автор незаконченных четверостиший и даже двустиший. А ведь чтобы не дописать двустишие нужно обладать особым мастерством! Я же, даже не претендуя на реночкин дар искрометных экспромтов, умела доводить их до афористичного конца. Например, стихотворение о калошах я завершила так:
«И левые две неустанно гордились, Что правые две никуда не годились, И правым твердили со всей прямотой: Не вам бы хвалиться своей правотой!»Как-то на взлете вдохновения Реночка сочинила:
«Однажды на пляже случилась пропажа У краба украли жабры, А краб заподозрил желтую жабу И подал на жабу жалобу. Все знали, что жаба что-то жевала, Все знали, что жаба – жадина…»Получалось нечто восхитительное, но тут, как назло, вдохновение Реночку покинуло. А в ту эпоху смелость редакторов еще не достигла такого накала, чтобы печатать незавершенные вирши, даже прелестные, и сладостный стишок, жужжа, повис над пропастью забвения. На помощь пришла я – подхватила этот осколок на лету и дописала:
«…Но жаба однако же утверждала, Что жабры вообще не украдены. Когда же был суд, привела эта жаба Целую дюжину жаб, И доказали они, что у краба И отроду не было жабр».Реночкиного блеска я, конечно, достигнуть не смогла, но довела совместный продукт до кондиции, допускающей его публикацию. И в результате умудрилась протиснуть в издательство «Малыш» тоненькую книжечку таких стишков под названием «Переполох».
Набор персонажей на первой странице был впечатляющий: авторы – Муха и Воронель, художник – Чижиков, редактор – Пчелкина. Был еще кто-то пернатый среди технического персонала, но я позабыла – то ли Жукова, то ли Ласточкина.
Эта победа была удивительной на фоне той продукции, которой гордилось издательство «Малыш». Особенно хороша была книжка-ширмочка, кровожадно оснащенная красными боеголовками ракет над трогательной эмблемой издательства. На крупных страницах в ясной синеве неба недвусмысленно летели по диагонали остро очерченные реактивные бомбардировщики, простертые над идущими по синеве моря грозными авианосцами. Над перископами подводных лодок развевались знамена с серпом и молотом, из-под сени знамен выплескивалось имя автора – Сергей Михалков.
Книжка была разрисована и сконструирована художником-конструктором А. Бесликом – получился картонный складень, из разворотов которого, выруливая на взлетную дорожку, выпрыгивают троекратно меченые красными звездами МИГи. На фюзеляже первого красуется порядковый номер – 50, чуть-чуть поодаль уже взлетает сорок девятый, а пятьдесят первый и пятьдесят второй ждут своей очереди. На заднем плане толпятся другие, где-то мелькает номер 101. Ясно, что нет им числа. Цели их очевидны, они даже не пытаются прикрыть свои волчьи морды подобием овечьей шкуры. Под эскадрильей красуются стихи:
Мы летаем высоко Мы летаем низко. Мы летаем далеко, Мы летаем близко.На обложке, не оставляя никаких сомнений, четко, черным по голубому выведено «Для старшего дошкольного возраста». А что – самый подходящий возраст, чтобы закладывать основы. Весь вопрос – основы чего? Добра или зла? Любви или ненависти? Ответ так же ясен, как рисунок на обложке:
Оборона – наша часть, дело всенародное! Бомбы атомные есть, есть и водородные.Тут, конечно, старший дошкольный возраст приходится весьма кстати: в таком возрасте человек еще может поверить, будто водородную бомбу используют для обороны.
Выходные данные книжечки говорят сами за себя – тираж сто пятьдесят тысяч экземпляров. Сто пятьдесят тысяч отпечатков окрашенных в цвет крови атомных боеголовок, пружинно выпрыгивающих со страниц над краснозвездным гусеничным чудищем. 150 тысяч бронетранспортеров с полным набором вооруженных солдат. Это вам не крабьи жабры, украденные жадиной-жабой!
И все-таки нам с Реночкой повезло, нас тоже издали тиражом сто пятьдесят тысяч экземпляров, – не для дела, а для удовольствия. Издали и поставили на прилавки книжных магазинов радом с книжкой Михалкова. Сейчас я могла бы нагло заявить, что ему была оказана честь стоять рядом с нами, но тогда я об этом не помышляла.
Я в упоении закружилась в литературной карусели и стала бегать в Доме литераторов на многолюдные вечера поэзии. Жизнь в Доме литераторов била в те дни ключом, то и дело проходили переводческие семинары, прозаические чтения и поэтические кампании.
Один вечер поэзии запомнился мне особенно ярко. Читали свои стихи молодые поэтессы, которые учились в нашем институте на курс старше меня, – Белла Ахмадулина и Юнна Мориц. Странным образом я начисто забыла выступление Юнны, хотя она всегда умела завоевать сердца публики своей неповторимо агрессивной манерой. И наверняка не ударила в грязь лицом и на этот раз. Но выступление Беллы Ахмадулиной затмило все остальные впечатления этого вечера.
Зал был полон, так что яблоку негде было бы упасть. Но яблоко соблазна из райского сада, брошенное Беллой со сцены, все же упало, раздробившись на мельчайшие крошки над головами слушателей, и каждому досталось по крошке, даже мне. Белла вышла на сцену, гордо закинув свою поразительно красивую головку и медленно покачивая бедрами, обтянутыми темно-розовым мохеровым свитером. Не знаю, что было надето под свитером, но в центре охваченной свитером розовой сферы отчетливо просматривалась нежная впадинка ее пупка.
Она начала читать – ее отлично поставленный глубокий голос произносил музыкально безупречные строки, но, мне кажется, никто не слышал ни слова, пока волнующий пупок под воздушной вуалью розового мохера вздымался и опадал в такт ее чтению. И все, – равно, и мужчины, и женщины, – потерявши разум и слух, исступленно смотрели только на этот пупок. На секунду в мое затуманенное колдовством сознание проникли обрывки слов:
«На белом муле, о, на белом муле, В Ушгули ты уходишь навсегда!»Тут обезумевший зал взорвался аплодисментами – такими, что чуть добавить, и не только яблоко, но и потолок мог бы упасть. Я не думаю, что всех так очаровал белый мул, а голосую за розовый пупок.
Через пару месяцев и мне довелось читать свой перевод с той же сцены. Я выбрала потрясающее стихотворение африканской поэтессы Эфуа Марии Сазерленд, начинавшееся словами:
«Меднокожая плоть в зеленом, Уступи, уступить ты должна! Я змей, я сосу по капле Нерожденную жизнь из яиц, Уступи, ты уступишь, как все! Как люблю я страстную песню Твоей упругой походки, Но ей придется умолкнуть — Я выжгу тебя дотла Огнем, зажженным тобой. Как люблю я литую колонну Твоей обнаженной шеи, — Но я разобью твой кувшин. Как люблю я блеск твоей кожи, Но я погашу его Своей ядовитой слюной!»И так до конца, до спасения прекрасной жертвы, против воли которой страшный яд оказался бессилен:
«Это значит, что время мое ушло, Это значит, что яд мой теряет силу, Это значит, что нежная плоть в зеленом Никогда не уступит мне».Зачарованная экзотической музыкой стихотворения чернокожей поэтессы, я читала щедро, от всей души, и была вознаграждена мощным обвалом аплодисментов. Назавтра два моих сокурсника по переводческому отделению, которых я считала своими лучшими приятелями, демонстративно перестали со мной здороваться.
Я очень огорчилась и не знала, что мне с этим делать. А нужно было процитировать им мудрую заповедь писателя Анатолия Алексина: «Не воспринимайте чужой успех, как личную трагедию». Но я тогда сама еще не знала этой заповеди – наверное, Алексин сообщал ее только своим собратьям по этажу в здании писательской иерархии, куда мне вход был закрыт. Зато теперь, когда это здание рухнуло, и мы с ним оказались на одной жердочке в одноэтажной времянке израильской литературной тусовки, он охотно делится со мной своими заповедями.
Но кое-какая мудрость у меня уже появилась и тогда – я понимала, что свой успех, пусть даже не одобренный всеми моими друзьями, я должна закреплять. Путь для этого был ясен – нужно было подавать заявление о приеме в Союз писателей. У меня уже накопились необходимые для этого шага реалии – кроме многочисленных публикаций в разных вполне престижных сборниках, у меня были две авторские книги, одна сборник переводов, другая – сборник собственных стихов для детей. Обе вышли в свет в издательстве «Детский мир» (впоследствии «Малыш»), меньше других отягощенном идеологическими веригами.
Вооруженная стопкой своих трудов, я отправилась добывать рекомендации в союз. Это нужно было делать с умом – чтобы мне с ходу не отказали, рекомендатель должен был быть достаточно авторитетным в глазах приемной комиссии. Мой выбор пал на поэта Александра Межирова, с одной стороны известного афористичными строками «Артиллерия бьет по своим», с другой – не зарекомендовавшим себя никакой подозрительной крамолой. Пользуясь определением моего очередного мастера, сценариста Ольшанского, – на этот раз на Высших сценарных курсах, – можно было сказать, что Межиров обладал истинным талантом. Ольшанский определял истинный талант как «умение пролезть в узкую щель между недозволенным и непорядочным», и сам был человеком несомненно талантливым.
Обратиться к истинно талантливому поэту Межирову меня побудил тот, на мой взгляд, истинный восторг, с каким он обратил внимание на мои переводы, прочитанные мною на одном из литературных вечеров в ЦДЛ. Я позвонила ему и, слегка заикаясь от смущения, с трудом выговорила, что очень хотела бы получить его рекомендацию в союз. В ответ на мою просьбу он очень любезно предложил мне принести к нему домой мои книги и рукописи и продиктовал адрес.
Нагруженная всем своим творческим багажом, я вошла в высокий прямоугольник серого каменного колодца, – возможно, это был знаменитый Дом на Набережной. В свой недавний приезд в Москву я искала во дворе этого дома музей Юрия Трифонова – он был очень похож на тот двор, среди многочисленных изгибов которого я нашла когда-то подъезд, названный мне Межировым. Я позвонила в звонок с обозначенным в адресе номером на шестом этаже. Межиров собственноручно открыл мне и через маленькую прихожую ввел в уютно обставленную комнату однозначно однокомнатной квартиры. Я выложила свои произведения на стоявший перед покрытой ковром тахтой круглый стол и охотно приняла предложение хозяина выпить с ним по чашечке кофе. Мы оживленно поболтали о последних событиях литературной жизни, и минут через сорок я с ним попрощалась, заручившись его обещанием вручить мне рекомендацию через три недели здесь же в семь часов вечера.
Ровно через три недели я без пяти семь вошла в уже знакомый мне серый каменный колодец. Сделав несколько шагов по асфальту двора, я с ужасом осознала, что не помню ни номера подъезда, ни номера квартиры. Холодные мурашки побежали по моей спине – время подходило к семи, а я понятия не имела, куда идти. Дело было то ли зимой, то ли глубокой осенью, и во дворе было совершенно темно, если не считать светящихся с четырех сторон одинаковых окон, только затрудняющих мои поиски. В душе у меня все выше поднималась затемняющая разум волна паники.
Я начала метаться из подъезда в подъезд, но все они оказались абсолютно на одно лицо. Тогда я принялась читать таблички на почтовых ящиках – к счастью, дом был очень благоустроенный, там были и почтовые ящики, и таблички. С огромным облегчением я обнаружила фамилию «Межиров» во втором или третьем из обследованных мною подъездов. Квартира, правда, почему-то оказалась на четвертом этаже, тогда как мне смутно припоминался шестой, но мне было не до докучных подробностей.
Я вбежала в лифт и лихорадочно нажала кнопку четвертого этажа. Дверь предложенной моему вниманию квартиры тоже показалась мне не похожей на ту, у которой я звонила три недели назад. Но душившая меня волна паники не давала мне вдуматься в эти странные несоответствия, да и время уже приближалось к четверти восьмого. Не раздумывая, я все жала и жала на кнопку звонка. Послышались легкие шаги, дверь распахнулась – на пороге, вопросительно глядя на мое смущенное лицо, стояла миловидная женщина, лет на пять старше меня. Прихожая была очевидно другая – большая, просторная, с резным зеркальным шкафом и стойкой для обуви, которые решительно не могли бы поместиться в крошечной прихожей той квартиры, где я была в прошлый раз.
Смутное подозрение шевельнулось где-то на дне моего затуманенного сознания, но пути назад уже не было, и я неуверенно спросила:
«Это квартира Александра Петровича Межирова?»
«Да, – сдержанно ответила женщина, – но его нет дома».
Сердце мое оборвалось: «Но он скоро вернется?» – пролепетала я, начиная всерьез пугаться еще не вполне осознанного подозрения.
«Вряд ли, – голос женщины звучал все суше. – Он недавно ушел на заседание правления поэтической секции».
Тут бы мне извиниться и поскорей уйти, но я еще не оправилась от пережитого шока. Поэтому я, как последняя дура, брякнула:
«Но этого не может быть! Он мне назначил на сегодня в семь. И я ехала издалека на попутных грузовиках…» – как будто ей было дело до моих стесненных обстоятельств.
Глаза женщины недобро сузились: «Ах, назначил? На семь, говорите? Интересно!» И снявши трубку стоящего на тумбочке телефона, она решительно набрала номер. Ответили ей немедленно:
«Саша? – сказала она, разыгрывая удивление. – Ты разве не на секции? Ага, понятно. Тут к тебе девушка пришла. Говорит, ты ей назначил. Ясно. Сейчас я ее к тебе пришлю». – И, резко грохнув трубкой о рычаг, крикнула куда-то в глубь квартиры: «Зоя, иди сюда!»
Вышла Зоя, лет двенадцати, явно недовольная тем, что ее оторвали от какого-то важного для нее занятия.
«Отведи эту девушку к папе в кабинет», – тоном, не допускающим возражений, скомандовала женщина.
«Мне уроки надо закончить», – попыталась отбиться Зоя. Но женщина и не подумала принять во внимание Зоины соображения. Она сказала:
«Возьми с собой учебники и делай уроки у папы!» – И распахнула входную дверь, давая понять, что мне пора убираться.
Мы с Зоей двинулись в путь и через пять минут оказались перед знакомой дверью на шестом этаже. Межиров уже стоял на пороге. При виде сопровождавшей меня Зои лицо его испуганно задергалось. Он попытался оттеснить дочь обратно в лифт, но она твердым шагом вошла в отцовский кабинет и окинула его острым недетским взглядом.
Картина нам открылась вполне праздничная. Свет был погашен, и на круглом столе, на котором я в прошлый раз оставила свои стихи, потрескивая, горели две свечи в витых подсвечниках. Вокруг свечей был элегантно сервирован интимный пир на двоих – мандарины (большая редкость в те времена), печенье, ломтики сыра и, главное, бутылка вина и два бокала на высоких ножках. Зоя молча оглядела все это великолепие, так же молча прошла в дальний угол к письменному столу, зажгла настольную лампу и начала раскладывать свои учебники.
«Что ты делаешь, Зоенька?» – заискивающе проблеял Межиров.
«Собираюсь готовить уроки», – спокойно ответила дочь.
«Но почему здесь? Почему не дома?» – ужаснулся отец.
«Мама сказала, чтобы я готовила уроки у тебя», – четко отрезала девочка и погрузилась в свои книжки. Читала она их или нет, я не проверяла, но она стойко высидела за моей спиной весь час, что я провела при свете свечей за круглым столом.
Ее присутствие, как и свет зажженной ею настольной лампы, совершенно разрушило так искусно созданную поэтом романтическую обстановку. Он усадил меня в кресло у стола, хотя по расположению приготовленной для меня тарелки и бокала мне предназначалось место на тахте – для большего удобства. Наша беседа не клеилась – он, несомненно, на меня сердился, а я постепенно осознавала всю неловкость сложившейся ситуации. Мы выпили по полбокала вина, поговорили об особенностях моих стихов, и я получила в руки желанную рекомендацию, освобожденная присутствием Зоеньки от необходимости расплачиваться за нее натурой.
Когда, едва переводя дыхание, я выскочила, наконец, из подъезда в холодную слякоть осеннего вечера, я с трудом удерживалась от душившего меня истерического хохота. Как это все могло случиться? Возможно ли, что я, подсознательно предвидя приготовленную мне ловушку, сама того не осознавая, выбрала хитрый ход, чтобы ее избежать? Или добрая фея моего детства все еще не оставила меня своей заботой? Какой был бы ужас, если бы я не спутала номера квартир и прямым попаданием влетела бы в свитую для меня паутину с хитрым пауком в центре? Что бы я сделала? Отбивалась бы? Кусалась? Разбила бы бокал о его мохнатую голову, освещенную огромными, неправдоподобно светлыми и прозрачными выпуклыми глазами? Одно было ясно – если бы не Зоенька, не видать бы мне его рекомендации, как своих ушей.
Мы встретились снова через много лет – в Доме творчества в Переделкино, куда меня стали охотно впускать с тех пор, как Саша стал одним из лидеров сионистской борьбы за выезд. Скорей всего, потому что в Доме творчества мы были, как на ладошке, и следить за нами было куда удобнее, чем в домашних условиях. Поскольку мы были к тому времени весьма знамениты, многие интеллигенты искали путей познакомиться с нами, чтобы обсудить прогнозы и перспективы. Я думаю, что в советских условиях того времени это делало им честь – значит, они перестали бояться гнева властей.
Тогда-то перед нами и возник Межиров, который жил тогда в Переделкино, снимая комнату на чердаке чьей-то дачи. Как ни смешно, его прислала к нам Зоенька, успевшая за эти годы вырасти и выйти замуж. Муж Зоеньки, Сережа, – мы его так и не встретили, – прочел ходившую тогда в самиздате Сашину рукопись «Трепет иудейских забот» и объявил Сашу самым умным человеком в России. Так как Межиров почему-то ужасно уважал Сережино мнение, он явился к нам с просьбой дать ему почитать эту рукопись. При виде меня он и глазом не моргнул, ни одним мускулом не дрогнул и вообще никак не показал, что мы с ним были когда-то знакомы и он даже давал мне рекомендацию в Союз писателей. Не говоря уже об освещенном свечами круглом столе с бутылкой вина и двумя бокалами на тонких ножках.
От рекомендации Межирова мне, в конечном счете, не было никакой пользы – меня в Союз писателей так и не приняли. Все мои покровители были настолько уверены в беспроигрышности этой затеи, что даже не позаботились нажать на кого следует. Потом мне рассказали, что на заседании правления секции переводчиков против моей кандидатуры с пеной на губах выступил переводчик Яков Козловский, с которым я даже шапочно знакома не была – так что поначалу было неясно, чем была вызвана столь горячая его нелюбовь ко мне. Правда, со временем один из редакторов «Малыша» открыл мне, что дагестанский поэт Рашид Рашидов из всех предложенных ему переводов выбрал для своей книги стихов именно мои, а не Козловского. Такое не прощают, хотя я даже не знала, что мои переводы не были единственными.
В результате я так и осталась всего лишь членом Литфонда, совсем как Борис Пастернак.
Петли судьбы
В семейном альбоме моей свекрови много лет хранилась пожелтевшая фотография трех молодых женщин, прикрывающих свою очаровательную наготу только раскрытыми зонтиками, причем не слишком большими. Босые ножки трех прелестниц попирали песок приморского пляжа, а само море, украшенное белыми барашками волн, плескалось у них за спиной. Даже не вглядываясь в белую надпись «Евпатория, 1928», пересекающую угол фотографии по диагонали, можно было безошибочно сказать, что сделана она где-то в двадцатых годах двадцатого века. Даже удивительно, как это бросалось в глаза, – при том, что на женщинах не было ни единого лоскутка одежды, по которой можно было бы судить о возрасте фотографии. Что-то в наклоне их хорошеньких головок и в беспечном колыхании локонов на морском ветерке говорило, что не было еще ни коллективизации, ни индустриализации, ни второй мировой войны.
Меня эта фотография привлекла тем, что навела на идею о петлях судьбы – то есть о таких ее изгибах, которые приводят к неожиданным встречам с одними и теми же людьми на разных временных витках. Перед тремя грациями, прикрывающими наготу зонтиками, у меня есть преимущество – я уже знаю, что случится с ними в будущем, которое для меня уже прошлое, а они еще не знают. Впрочем, может, это вовсе и не преимущество? Жизнь каждой из них, как и всякая жизнь, оказалась полной драматизма, – зачем им было знать об этом в двадцать лет, выпавших на двадцатые годы двадцатого века?
Одна из них – Сашина тетка Марина интересна уже тем, что ради нее моя свекровь хранила эту фотографию в своем альбоме. Зато обе ее подружки заслужили отдельного описания своей судьбой.
Первая, белокурая красотка Эстерка, вскоре после прогулок нагишом по евпаторийскому пляжу вышла замуж за известного писателя Валентина Катаева. Я не знаю, сопровождал ли ее Катаев в Евпаторию, но тетя Марина любила, округляя глаза, рассказывать, как он загонял Эстер за себя замуж – почти насильно, угрожая в случае отказа припомнить кое-какие грешки ее отца нэпмана. Плача и рыдая, красавица Эстерка согласилась на этот брак и родила Катаеву сына и дочь, которых любящий папочка то ли в «Траве забвения», то ли в «Сухом колодце» обозвал Шакалом и Гиеной.
На новом витке истории Гиена вышла замуж за идишисткого поэта Арона Вергелиса, главного редактора печально известного журнала «Советише Геймланд». Не знаю, вышла ли она за него добровольно или он тоже ее чем-нибудь припугнул, но на следующем отрезке этого витка у Вергелиса произошло столкновение с Сашей, хранящим в глубинах памяти душераздирающие рассказы тети Марины.
Встреча их произошла в 1976 году в Брюсселе, куда Саша, к тому времени уже гражданин Израиля, приехал как делегат Международного еврейского конгресса, посвященного борьбе за выезд советских евреев, а Вергелис – как представитель Советской власти, пытавшейся с его помощью доказать, что ничьи права в СССР не нарушаются. Итальянская журналистка из газеты «Корьерре делла сера» зачем-то организовала узкое лобовое столкновение двух несогласных сторон – с советской стороны выступали Арон Вергелис, молчаливый летчик-еврей, Герой Советского Союза, и широкоплечий мужчина в штатском с откровенно славянскими чертами лица. С израильской – Саша Воронель и сыновья профессора Вениамина Левича, которому было категорически отказано в выезде из СССР.
В процессе не слишком дружелюбной беседы Вергелис, желая продемонстрировать отсутствие антисемитизма в стране Советов на собственном примере, спросил с вызовом:
«Как, по-вашему, когда началась моя поэтическая карьера?»
Вопрос был риторический, ответа Вергелис не ожидал. Он набрал в легкие воздух, чтобы достойно на собственный вопрос ответить, но Саша его опередил:
«Я думаю, в сорок восьмом, когда с вашей помощью посадили всех ваших еврейских коллег, и никого, кроме вас, не осталось».
Вергелис на миг задохнулся от такой неожиданной наглости, а его напарник в штатском засиял столь же неожиданной улыбкой – похоже было, что он давно не слышал такой хорошей шутки. Однако Вергелис, как видно, неплохо тренированный в словесных боях, быстро оправился и продолжил, как ни в чем не бывало:
«Вы не правы. Просто в сорок восьмом году было опубликовано мое первое стихотворение».
Разговор, естественно, закончился ничем. А чем он, собственно, мог закончиться, – ведь никакой власти в руках у Вергелиса не было. Но, провожая нелюбезных гостей до двери, еврейский поэт на миг задержал Сашу – он выбрал именно его, обидчика! – и доверительно прошептал ему на ухо: «Не беспокойтесь, всех ваших выпустят». Что оказалось, как обычно, ложью – некоторых выпустили, а некоторых продержали еще десять лет, жесткой рукой проведя через тюрьму и ссылку.
Покончив таким образом с маленькой, но искристой петелькой, образованной вокруг судьбы белокурой Эстерки, я перехожу к третьей подружке – темноволосой востроглазой Тусе. Она тоже вышла замуж – по любви, за очень красивого еврейского парня Гришу, который не боялся ни Бога, ни черта, ни Советскую власть, создав таким образом из Тусиной жизни настоящую мелодраму. Если бы я была настроена писать семейные саги, я бы выбрала в качестве прототипа семью Туси.
Отец ее, господин Л. – товарищем Л. он так никогда и не стал, – до революции владел каким-то приличным бизнесом и был человеком состоятельным, как впрочем, и отцы остальных двух прелестниц с фотографии. Но он отличался от других необычайной твердостью характера. Поэтому он умудрился не расколоться в ЧеКа в посленэповские времена, когда быть состоятельным человеком оказалось крайне невыгодно. Но хоть его арестовали, как и всех ему подобных, чекистам не удалось выколотить из него признания, и он вернулся домой, побитый, но столь же состоятельный, как до ареста.
Еще до начала неприятностей он сумел мудро перевести всю наличность в золото и бриллианты, которые то ли спрятал в каком-то тайнике, то ли закопал где-то во дворе своего дома на окраине провинциального города М. Годы шли, власть не только не сменялась, но, все более укрепляясь, становилась все более грозной. И было невозможно получить удовольствие от тщательно спрятанных сокровищ. Тайника, где эти сокровища спрятаны, он не открыл никому – ни жене, ни детям.
Потом грянула Великая Отечественная война, и немецкая армия стала стремительно приближаться к городу М. Хотя война только началась, но уже поползли страшные слухи о том, как немцы поступают с евреями. Молодые дочери и сыновья Л. не желали умирать в гетто, они начали лихорадочно готовиться к отъезду в эвакуацию. Когда все было готово, вещи упакованы и добыты посадочные талоны на один из последних уходящих из М. эшелонов, оказалось, что старый Л. вовсе не собирается уезжать:
«Я что, с ума сошел – оставить этим бандитам все, что я нажил за свою долгую жизнь? Нет уж, вы как хотите, а я останусь и буду охранять свое имущество».
Никакие уговоры не помогли:
«Неужели такой культурный народ, как немцы, окажется хуже этих босяков?» – повторял упрямый старик в ответ на все разумные доводы. Делать было нечего – немцы уже были в двух шагах, последний эшелон неотвратимо уходил на рассвете, и дети оставили отца сторожить дом, а сами, прихватив с собой своих малолетних детей и горько рыдающую мать, отправились в пугающую неизвестность эвакуации. В ту же ночь немецкие части вошли в город, а еще через пару дней собрали всех оставшихся евреев в гетто, где постарались поскорее их прикончить.
Семье Туси повезло – их эшелон не разбомбили по дороге, как многие другие, сестры и их дети не умерли с голоду в чужих недоброжелательных городах в Сибири и на Урале, братья и мужья вернулись с войны, хоть подстреленными, но живыми. Так что после освобождения М. им всем удалось слететься в родное гнездо, которое осталось на удивление целым. Только отца там не было, и никто из соседей не знал, когда и куда он сгинул.
Поплакав немного, дети решили поискать спрятанные сокровища. Таясь от соседей, они целый месяц неустанно снимали и клали обратно паркет и перекапывали садовый участок, но так ничего и не нашли. Погоревав о пропаже, они разлетелись по разным городам Союза и зажили своей жизнью. Только старший брат Изя остался в М. Он пошел в отца: преодолевая вялое сопротивление советской системы, он завел какой-то прибыльный левый бизнес и начал сколачивать собственное тайное состояние.
Но его затеи были детскими играми по сравнению с размахом деятельности лихого Тусиного мужа Гриши, одного из компаньонов многомиллионного трикотажного дела, разоблачению которого в середине шестидесятых годов была посвящена не одна газетная статья в советской и зарубежной прессе. Во главе всего предприятия стоял, правда, не он, а гениальный предприниматель по имени Петя Рокотов – я называю его так фамильярно, потому что именно так называли его в доме Туси, конечно, уже после разоблачения и суда. До того при нас никто никогда не упоминал ни имени Рокотова, ни трикотажный бизнес. Этот бизнес был придуман поразительно просто, организован ясно и четко, так что западному человеку с правовым сознанием трудно понять, в чем же состоял криминал.
Многочисленные агенты огромной, хорошо продуманной организации разъезжали по деревням и скупали у крестьян настриженную с их собственных овец шерсть. Тюки такой шерсти свозили в несколько специально подряженных для этой цели психбольниц, в которых больные в виде трудотерапии занимались пряжей. И сами психбольницы, и вовлеченные в бизнес врачи снимали с этого дела небольшой навар, а спряженная шерсть перевозилась на государственные трикотажные фабрики. Там машины не выключали после окончания официальной смены, а предоставляли их неофициальной смене трикотажников и трикотажниц, готовых заработать еще несколько грошей вдобавок к своему нищенскому жалованию.
Изготовленные на таком неофициальном производстве кофточки и свитера были красивее и добротнее государственных, так как их делали по специальному дизайну, заказанному у хороших художников по одежде. Готовый товар поступал в те же ларьки и магазины, что и государственный, и мгновенно раскупался замученными вечной недостачей покупательницами. Все были довольны – покупатели новыми кофточками, промежуточные сотрудники – постоянной добавкой к зарплате, партийно-хозяйственные чиновники – регулярными щедрыми взятками, предприниматели – большими деньгами, бесперебойно текущими в их карманы. Хорошо продуманный, разветвленный механизм был так хорошо «смазан» в каждом сочленении, что много лет работал без сбоев.
Погубила все дело, как обычно, нелепая человеческая слабость: один из главных компаньонов предприятия завел любовницу. Его даже трудно осудить – для чего человеку столько денег, если он не может позволить себе такое мелкое удовольствие? Жена его смирилась с наличием любовницы, – кто знает, может, он давно был ей интересен не как мужчина, а лишь как источник благополучия? Но мелкий просчет мужа привел ее в ярость: на Новый год он в подарок любовнице купил норковую шубу, а в подарок ей – всего только синтетическую, объясняя это нежеланием привлекать внимание ОБХСС таким дорогим приобретением.
Женщина в ярости теряет разум – она отправилась, куда надо (понятия не имею, куда – она-то знала, куда надо, а я не знаю), и написала на мужа донос.
И все. Криминальное дело закрутилось быстро. Рокотова арестовали. Грандиозная коммерческая машина, несущая золотые яйца, захлебнувшись недопряденной шерстью и недотканной пряжей, остановилась навсегда. Представляю себе, сколько бессонных ночей провела бедная Туся, мучаясь страхом за мужа, но ничего не помогло – через короткое время Гришу тоже арестовали и приговорили к пятнадцати годам тюремного заключения. Судьба гениального Рокотова была гораздо трагичней – сначала его, приговоренного к большому сроку, отправили было в тюрьму. Возможно он, имея кое-какие сбережения, сумел бы и там организовать себе сносную жизнь, но через год после его водворения в тюрьму в СССР был принят новый закон – о смертной казни за экономические преступления. Рокотов был первый, к кому этот закон применили, причем задним числом – его дело пересмотрели, и он был расстрелян в нарушение всех международных юридических норм. Гриша же просидел девять лет из пятнадцати, после чего был актирован по состоянию здоровья и выпущен на свободу. Из тюрьмы он вышел действительно совершенно больным инвалидом и очень скоро умер от инфаркта, оставив Тусю вдовой.
Так в кратким изложении выглядит драма о судьбах людей. Но осталась ведь еще и судьба золота, которая тоже содержит в себе элементы если не драмы, то, по крайней мере, трагикомедии.
После ареста Гриши в дом Туси ворвались какие-то люди и стали простукивать стены и вынимать планки паркета из гнезд. К Тусе на пригородную дачу, хоть и записанную предусмотрительно не на имя Гриши и Туси, а на имя ее старшей сестры-художницы, приехала специальная команда с миноискателем, которая методично перерыла весь просторный лесной участок в поисках спрятанного золота. Но не такой дурак был лихач Гриша, чтобы держать золото у себя дома или на даче. Все искатели и миноискатели как прибыли, так и отбыли – ни с чем.
Конечно, золото у Гриши было – куда еще бы он мог помещать свой изрядный многолетний доход? Ведь не на сберкнижку же, правда? Он, без сомнения, покупал и золото, и драгоценные камни, а хранил он их в никому неизвестном тайнике в доме Тусиного брата Изи. Да-да, именно в том самом доме, приютившемся на окраине провинциального города М., где когда-то бесследно исчезли сокровища отца семейства, непреклонного г-на Л. До своего ареста Гриша хранил тайну клада из предусмотрительности – если никто, кроме него, не будет ее знать, никто и не проболтается. А в себе он был уверен. После освобождения характер его, до тюрьмы открытый и веселый, сильно испортился от тюремных лишений, – он часто сердился без причины, и тайну клада не открыл никому, даже Тусе.
Через пару лет после Гришиной смерти Тусиного брата Изю ненадолго положили в больницу, чтобы сделать ему какую-то несложную операцию. Операция прошла хорошо, и Изю вот-вот должны были выписать. Но накануне выписки с ним случился то ли инфаркт, то ли закупорка сердечной артерии, и он скоропостижно скончался, не открыв никому местонахождение тайника.
И опять повторилась знакомая по прошлому история с хорошо спрятанным сокровищем. Вся семья – оставшиеся в живых братья и сестры с чадами и супругами – слетелась в родное гнездо в провинциальном городе М. Поплакав немного на похоронах Изи, родственники принялись за поиски спрятанного сокровища. Таясь от соседей, они целый месяц неустанно снимали и клали обратно паркет и перекапывали садовый участок, но так ничего и не нашли. И золото опять осталось где-то – то ли закопанное в матери-земле, то ли замурованное в камне в глубине подвала. А, может, его вовсе и не было, золота этого?
Но я выбрала Тусю в главные героини своего рассказа о фотографии вовсе не из-за золота, а из-за ее московского дома, который следовало бы назвать «Домом, в котором завязываются петли судьбы». Это был удивительно теплый дом – вернее, сначала небольшой домик недалеко от метро «Динамо», а потом довольно большая комфортабельная квартира в двух шагах от разрушенного новостройкой домика. И в квартире, и в домике стояла красивая мебель, и за всегда накрытый стол гостеприимно сажали всех, кто забредал на огонек. Остальное было совсем, как у безалаберных Даниэлей, у которых тоже за стол сажали всех, но на столе стояло только то, что приносили с собой гости. На огонек к Тусе забредали многие – она, щедрая душа, обожала, чтобы вокруг нее кружилось и завихрялось постоянное гостевание.
И нас, бездомных родственников, подружки Тусиной юности, приняли, как своих, сытно накормили и уложили спать на диване в столовой. Наутро нас усадили за стол вместе с другими и накормили снова – опять сытно и вкусно. Накормили два раза подряд – такое случалось с нами нечасто! И мы туда повадились ходить. Не то, чтобы каждый день, – на это у нас не хватало смелости, но раз в две недели наверняка. И подружились с хозяйкой – надолго, на много лет, практически до ее печальной кончины в неуютном пригороде Сан-Франциско, куда она уехала вслед за сыном.
Именно из-за сына Туси, Вики, и живущего у них ее племянника Миши в доме всегда было полно молодежи. Друзья и соученики обоих мальчиков любили ходить к Тусе – они делились с ней своими обидами и разочарованиями и поверяли ей свои сердечные тайны, которые, я почти уверена, тщательно скрывали от собственных любящих мам и пап. И завязывали петельки судьбы, чтобы добраться с их помощью до следующих витков, совсем в другом времени и пространстве.
Я часто встречала там друга Вики, невысокого рыжего мальчика Юру, которому прочили блестящее будущее выдающегося физика. Он, возможно, таковым бы и стал, но неожиданно заболел какой-то страшной болезнью, при которой мышцы постепенно немеют, и умер молодым. Так бы я о нем и забыла, если бы через много лет не встретила его на страницах повести Людмилы Улицкой, правда, перенесенным в Нью-Йорк и превращенным в художника, но, тем не менее, совершенно однозначно узнаваемым. И тогда я вдруг осознала, что иногда забегавшая к Тусе поболтать и выпить чаю незаметная девушка Люся Улицкая, которая сперва вышла замуж за рыжего физика Юру, а потом ушла от него, чем всех потрясла, – такая скромная от такого блестящего! – недавно стала лауреатом Букеровской литературной премии, в частности, за создание образа рыжего художника, медленно умирающего от ужасной болезни. Значит, она от него ушла не насовсем, во всяком случае, не навсегда, а вернулась к нему на другом витке жизненной спирали. Вернулась в другом качестве, чтобы продлить его недолговечную жизнь.
Именно в доме у Туси я впервые увидела дочку Маргариты Алигер, Таню Макарову, с которой уже встречалась на страницах знаменитой поэмы ее матери «Зоя». В одной из глав своей поэмы Маргарита Алигер удивляется мистическому совпадению имен. Почему, спрашивает поэтесса, зверски замученная немцами партизанка сомнительных достоинств – впрочем, в год написания поэмы несомненных, – назвала себя «именем ребенка моего»? И продолжает «Стала ты под пыткою Татьяной…»
Таня Макарова стала Татьяной не под пыткой, она законно получила свое имя от родителей. Но все же и я усматриваю некую мистическую связь в совпадении имен любимой дочери и любимой героини Маргариты Алигер – ведь имя для дочери поэтесса выбрала до того, как Зоя под пыткой назвала себя Таней. А Таню в героини она выбрала по собственной воле, – уж не зачарованная ли тем, что несчастная девчонка перед смертью из множества возможных женских имен выбрала себе имя ее дочери?
Мне иногда кажется, что этим выбором мать-поэтесса определила судьбу своей дочери, а судьба той обернулась очень печальной. Когда я впервые увидела Таню Макарову за чайным столом у Туси, я была потрясена ее удивительной, неправдоподобной красотой. Она была такая прекрасная, такая тоненькая и прозрачная, что казалась видением, сошедшим со старинной персидской миниатюры, но так и оставшимся в двухмерном пространстве. А кроме того, она была мертвецки пьяна. Я не думаю, что ей было тогда больше двадцати лет, но бросалось в глаза, что это состояние ей привычно, как вторая кожа. Не знаю, может быть, беда была в том, что первая кожа у нее была слишком тонкой, но глаза ее никак не могли сфокусироваться на какой-нибудь одной точке, а беспомощно метались по комнате в безнадежной попытке зацепиться за что-нибудь прочное.
Когда мы уходили, Вика вызвался отвезти ее домой на такси и попросил Сашу помочь ему дотащить ее до машины. По дороге она крепко обхватила Сашину шею руками и начала, рыдая, умолять его: «Не надо! Ну, пожалуйста, не надо!» Похоже, было, что некоторые ее друзья охотно пользовались ее бессознательным состоянием, когда такая возможность им предоставлялась. И мне стало жалко танину мать, которая была любимой поэтессой моей юности.
Мы с нею практически не были знакомы, мы встретились всего один раз, но встреча эта была отмечена ее острой неприязнью ко мне. Я, собственно, не сделала ничего плохого, чтобы заслужить эту неприязнь. Просто мне было двадцать пять лет, и я была одета в необычайно идущий мне синий бархатный костюмчик, а ей было под пятьдесят, и она стояла у входа в Дом литераторов, кутаясь в неприглядный коричневый кардиган, невыгодно подчеркивающий ее желтоватую бледность. Но и это было бы ничего, если бы старый петух Павел Антокольский, которого мы обе поджидали у подъезда, не предпочел меня ей, откровенно и беспардонно. Выскочив из дверей ЦДЛ, он обхватил меня за плечи настолько крепко, насколько это позволил его маленький рост, и принялся рассказывать ей, как я замечательно перевела Уайльда. Все время, пока он с ней делился своими восторгами по моему поводу, она недружелюбно разглядывала меня из-под встрепанной шапки темных с сильной проседью волос и молчала. А мне так хотелось сказать ей:
«Хотите, я почитаю вам свои любимые стихи? Могу это:
Я в комнате той, на диване промятом, Где пахнет мастикой и кленом сухим, Наполненной музыкой и закатом, Дыханием, голосом, смехом твоим… Или нет, лучше другое: Люди мне ошибок не прощают, Что же, я учусь держать ответ — Легкой жизни мне не обещают Телеграммы утренних газет.Но если не хотите это, я могу любое другое – я все их знаю наизусть…»
И услышав свои стихи, она бы улыбнулась и перестала сверлить меня жестким недоброжелательным взглядом. Но я не успела ничего произнести, потому что она резко оборвала декламацию Антокольского:
«Ладно, Павел, поговорим в другой раз. А сейчас мне пора!»
И не попрощавшись со мной, резко повернулась и пошла по улице Герцена в сторону площади Восстания, все так же зябко кутаясь в свой бесформенный кардиган. Антокольский, похожий на усатого моржа в берете, удивленно пожал плечами: «Какая муха ее укусила?» И потащил меня в буфет ЦДЛ, а я пошла за ним покорно и безропотно, чего до сих пор не могу себе простить.
Я должна была столкнуть с плеча его жадные стариковские пальцы и побежать вслед за Маргаритой. Ведь я многие годы носила в душе ее строки: «С пулей в сердце я живу на свете, как же я могла не умереть?» Но несмотря на это, я спокойно дала ей уйти по улице Герцена с пулей в сердце, вместо того, чтобы догнать ее и утешить. И сказать: «Плюньте вы на этого старого петуха – ведь это ваши стихи я знаю наизусть, а из его – ни строчки не помню».
Но я, полная всепоглощающего эгоизма молодости, сосредоточилась на себе и позволила Антокольскому уволочь меня в писательское кафе, где он вовсе не стал слушать мои стихи, как я надеялась. Отмахнувшись от стихов, он заказал нам обоим какую-то выпивку и стал хватать меня за коленки, время от времени выкрикивая: «Ах, Нинель Воронель, не ходи на панель!» Я то и дело осторожно сбрасывала с колена его руку, не в силах оторвать внутренний взгляд от убегающей в сторону площади Восстания сгорбленной Маргариты, которую явно не стоило обижать ради такого бессмысленного времяпрепровождения.
С тех пор я ее ни разу не встречала, пока много лет спустя, на другом жизненном витке, не увидела ее у Юлика Даниэля, к которому она пришла, чтобы поговорить о Тане.
Но это уже совсем другая история, которая, по словам Юлика, началась однажды ночью, незадолго до того, как его посадили, но после того, как от него ушла Ларка. Не помню, писала ли я уже, что квартира Даниэлей на Ленинском проспекте находилась на первом этаже большого густонаселенного дома. И вот однажды, когда все забредшие к Юлику в тот вечер гости разошлись, он, разомлев от выпитого, уснул, не раздеваясь, на диване. Разбудил его странный шорох, доносящийся откуда-то снизу, из дальнего угла комнаты. Он спросонья долго не мог нащупать выключатель ночной лампочки, стоящей на тумбочке возле дивана, и все время, пока он его искал, шорох продолжался и продолжался, только к нему присоединился слабый шепот, монотонно повторявший нечто вроде таблицы умножения.
Наконец, Юлик нащупал кнопку выключателя и зажег свет. Ночная лампочка была маленькая, она отбрасывала светящийся круг только на окружающую диван часть комнаты. В темном углу, за пределами этого светлого круга, на полу сидела молодая темноволосая женщина поразительной красоты, лицо которой показалось Юлику знакомым. В руке у нее была зажата пачка денег, и она пыталась их пересчитать, монотонно повторяя беспорядочные цифры. Юлик направил на нее свет лампочки, но она, не обращая на него внимания, продолжала шевелить губами и шелестеть зажатыми в ладони банкнотами.
«Как вы сюда попали?» – спросил Юлик озадаченно, не очень рассчитывая на ответ. Но красавица ответила, не отрывая глаз от своих денег:
«Я влезла в окно».
Окно и впрямь было открыто.
«А зачем?» – полюбопытствовал Юлик.
«За сумочкой. Я тут сумочку забыла. – И действительно предъявила маленькую сумочку. – А мама мне сегодня деньги дала. Но они не хотели возвращаться, тогда я велела таксисту остановиться и пошла обратно одна. Ведь в сумочке деньги, которые мама дала».
«Ага, значит, она здесь сегодня была», – промелькнуло в затуманенной голове Юлика. Смутный образ шевельнулся в его памяти, но приставить к нему имя не удавалось. Надеясь хоть что-нибудь из нее выудить, он спросил:
«А кто ваша мама?»
Она очень удивилась: «А вы не знаете? Моя мама – Маргарита Алигер».
И протянула Юлику деньги. – «Может, вы посчитаете? У меня что-то не получается».
Юлик взял ее руку с деньгами, но она не отпустила свою пачку, а уцепилась за его кисть и поднялась с пола. На этом рассказ Юлика закончился, дальше он только загадочно улыбался и качал головой, – мол, слов нет, и все. А Таня, уже не такая светящаяся, как в юности, но все еще подходящая под определение «гений дивной красоты», зачастила в затоптанное сотнями ног и заклеенное этикетками выпитых бутылок юликино жилище. Внешне ей было там вовсе не место, но внутренне его отчаянная жизнь на износ вполне ей подходила – она ведь тоже с юных лет жила исключительно на износ.
Вполне понятно, что сердце ее бедной матери разрывалось в предчувствии беды. И она не придумала ничего лучше, как явиться к Юлику, – неясно, зачем. Я как раз была у него с группой харьковских поэтов, приехавших в Москву проветриться. В дверь позвонили, что было здесь обычным делом, кто-то из поэтов пошел открывать, и в комнату быстрым шагом вошла одетая во все черное Маргарита Алигер, почти не изменившаяся, разве только поседевшая. Она, конечно, меня не узнала, она в нашу сторону и не посмотрела, а сказала хрипло и резко:
«Юлий Маркович, я к вам».
Юлик испуганно вскочил и поспешно указал ей на смежную комнату, где, к счастью, никто не отсыпался после вчерашней выпивки. Они прошли туда и закрыли за собой дверь. Пробыла она у Юлика недолго, полчаса, не больше, и вышла, нахохлившись, похожая на большую черную птицу, а Юлик с виноватой улыбкой неуверенно засеменил за ней до двери.
Когда дверь за ней закрылась, харьковские поэты вопросительно уставились на Юлика, но он не стал с ними откровенничать, а мне потом сказал, растерянно разводя руками:
«Она требовала, чтобы я отпустил Таню. Странная идея разве я держу ее насильно?»
Беспокоилась Маргарита Иосифовна не напрасно – как только Юлика арестовали, Таню начали таскать в КГБ. От нее добивались исповеди о ее отношениях с Юликом, – похоже, они собирались пришить ему еще и аморалку, но потом почему-то передумали. Но пока не передумали, они клещами вцепились в бедную Таню и ее подруг с одним и тем же сакраментальным вопросом: «Было или не было?» А так как Таня упорно отказывалась на этот вопрос отвечать, ее подолгу держали в запертой комнате и много часов не пускали в уборную. Она плакала и умоляла пустить ее пописать, а они смеялись и не пускали, и все-таки она не раскололась, – тоненькая, хрупкая, почти прозрачная на просвет. И стала под пыткою Татьяной, как героиня поэмы своей матери.
Умерла она совсем молодой от лейкемии, – я прочла в каком-то медицинском журнале, что нет более сильного катализатора раковых заболеваний, чем регулярное неумеренное злоупотребление алкоголем. С ее смертью оборвалась петля судьбы, затянутая в доме Туси вокруг имени Таня.
Другая петля, поскромней и потоньше, стала вывязываться у меня еще в пионерском лагере Лозовеньки под Харьковом. Я подружилась там с худеньким мальчиком Володей Буричем, которому часами читала наизусть стихи. Хоть я тогда еще не имела понятия ни о Цветаевой, ни о Пастернаке, я знала на память бессчетное количество стихотворных строк – ума не приложу, откуда я их набрала. И бледный, зеленоглазый мальчик Володя, на вид совсем еще ребенок, жадно ловил каждое мое слово. Он был потрясен – он не просто слушал стихи, а внимал им, впивал их всем существом. Ни родители, ни друзья, ни окраинная школа, где он учился, не удосужились сообщить ему, что на свете существует поэзия, – скорей всего, они и сами об этом не знали. А если и знали понаслышке, то считали все это никому не нужной блажью. По прошествии месяца наша смена в пионерском лагере закончилась, нас развезли по домам, и мы с Володей потеряли друг друга из виду.
Прошло много лет. Я вышла замуж, родила сына, окончила Харьковский университет, прошла через чистилище Саранска, и, переехав в Москву, поступила в Литературный институт. Как-то в институтском буфете ко мне во время переменки подошел красивый зеленоглазый молодой человек, слегка склонный к полноте, и неуверенно заглянул мне в лицо:
«Неля (я тогда, не осознав до конца пагубности рифмы Нинель-Воронель, еще не сменила имя на Нина), ты меня не узнаешь? Я – Володя Бурич».
Я принялась удивляться и ахать, потрясенная превращением гадкого утенка в белого лебедя, – в придачу к красоте Бурич приобрел невесть откуда взявшиеся аристократические манеры и интонации, о которых он и помышлять не мог в своем пролетарском детстве. Прервав мои восторги, он сказал:
«Вся моя жизнь изменилась. Я закончил филологический факультет университета и работаю редактором в Гослитиздате. И все – благодаря тебе. Если бы тогда, в пионерском лагере, ты не открыла мне глаза, я не знаю, кем бы я сейчас был».
Мы заболтались. Мы читали друг другу стихи, на этот раз свои, и не только я ему, но и он мне. Я до сих пор помню его двустишие:
«Я лежу на полу С ушами, полными слез».В результате я пропустила следующую лекцию. Когда я осознала, что опоздала безнадежно, Володя сказал:
«Раз ты все равно опоздала, пойдем со мной. Мне нужно встретиться с приятелем, который приехал из Харькова. Он остановился у своих друзей, Даниэлей, они тоже бывшие харьковчане. Ты их не знаешь?»
Когда я сказала, что не знаю, он предложил меня с ними познакомить. И мы отправились в знаменитый клоповник в Армянском переулке, – Володя, чтобы посидеть часок и уйти, а я, чтобы остаться там надолго.
Можно сказать, что в нашем с Володей случае, долг оказался платежом красен.
Вся жизнь Володи Бурича, по сути, текла по литературному руслу, – он стал довольно известным поэтом и переводчиком с испанского и женился на Музе Павловой, которая была гораздо старше его и писала удивительные по остроумию и блеску диалога маленькие абсурдные пьесы. Я не знаю, как бы я отнеслась к ним сейчас, но тогда мне казалось, что по мастерству они превосходят драматургию Мрожека и Ионеско. И только к концу жизни он слегка свихнулся на политической почве – вообразил себя сербом и поехал в Югославию наводить там порядок. То, что он там увидел, по всей вероятности, сильно его огорчило – он поспешно вернулся в Москву и умер от инфаркта.
Володя еще в молодые годы любил играть с мыслью, что он серб, и фамилия Бурич должна писаться с перевернутой птичкой над буквой «р», которую он называл «гатчеком», – написанная таким образом она превращалась бы в «рж», и его фамилия звучала бы как Буржич. Всей этой премудрости он научился на филологическом факультете, куда поступил в результате неожиданно открывшейся в его душе любви к поэзии. Кто знает, не встреть он в пионерском лагере меня с моим преувеличенным запасом стихов, может, окончил бы он Харьковский политехнический и стал бы обыкновенным инженером, без всяких сербских закидонов с «гатчеком» над буквой «р». И до сих пор был бы жив, немного бы выпивал по вечерам и лежал бы себе на полу с ушами, полными слез.
Но моя коллекция петель судьбы еще не подошла к концу. Самую пикантную петельку я оставила на закуску. Истоки ее упрятаны в жарком городе Махачкала, прилепившемся у подножия гористой страны Дагестан на берегу Каспийского моря. Судьба занесла меня туда сразу после замужества, – там тогда жили Сашины родители, и он повез меня к ним на запоздалые смотрины.
Мне не понравился ни сам город, ни беспокойное, грязное Каспийское море, ни скалистые неприветливые горы, поросшие жесткой травой и колючим кустарником. Но Саша все это нежно любил – в основном потому, что в свои первые студенческие годы он там регулярно работал на раскопках в составе археологических экспедиций. Или ходил в горы со своим старшим товарищем по экспедициям, художником Володей Марковиным. Марковин был женат на скуластой темнолицей женщине по имени Люся, – отношения у них были сложные и запутанные, и я ее тогда вживе так и не увидела, потому что она в очередной раз рассорилась с Володей и куда-то сбежала. Или сбежала с кем-то – он на эту тему не распространялся. Но, тем не менее, рассмотрела я ее хорошо, потому что стены в доме Марковина были увешаны картинами, изображающими ее во всех видах и позах, причем чаще всего нагишом.
И мне не так уж трудно было ее узнать, когда через несколько лет она неожиданно выскочила из-за столика в кафе Дома литераторов и бросилась Саше на шею. Наскоро попрощавшись со своими собутыльниками, она пересела к нам за столик, и они с Сашей углубились в воспоминания об их общем махачкалинском прошлом. Люся была такая же скуластая и темнолицая, как на своих портретах кисти Марковина, – единственное, чем она от них отличалась – была длинная черная коса, в которую она стала заплетать сильно отросшие с тех давних времен волосы. И еще – лютой ненавистью к самому Марковину, которого без остановки поносила последними словами. Саша, продолжавший любить Марковина нежной любовью, не смог этого вынести, и быстро слинял, сославшись на необходимость вернуться на работу. Что, кроме того, было чистой правдой.
А я осталась с Люсей, которая, узнав, что я учусь в Литературном институте, прониклась ко мне родственными чувствами, и в короткой беседе изложила все перипетии своего нелегкого житья-бытья. Оказалось, что она с детства писала стихи и вот теперь твердо решила переехать в Москву, потому что только в Москве поэт может пробиться по-настоящему. Есть несколько разных способов укорениться в столице, в частности, поступить или в литинститут, или на Высшие литературные курсы. В институт ей уже поздно по возрасту, но на курсы вполне возможно. С этими словами она протянула мне несколько машинописных листков – вот ее стихи, что я о них думаю?
Я наспех пробежала глазами по листкам и ничего хорошего не подумала – это был слабо различимый женский лепет о несчастной любви, не способной разрушить светлую веру в жизнь. Однако я не готова была брать на себя роль судьи чужого творчества, и потому при чтении только несколько раз кивнула и воскликнула «интересно!», что вполне ее удовлетворило. Тогда, уже доверяя мне, Люся драматическим шепотом поведала, что нашла кое-кого, кто готов поспособствовать ее приему на Высшие литературные курсы.
И, действительно, в начале следующего учебного года я столкнулась с ней в вестибюле общежития на Бутырском хуторе, где жили не только студенты Литинститута, но и слушатели Высших литературных курсов. Она радостно сообщила мне, что все устроилось как нельзя лучше, – с монстром Марковиным она, наконец, развелась, а кое-кто, пообещавший поспособствовать, слово свое сдержал, и теперь у нее есть все, что надо для счастья: свобода, отдельная комната в общежитии и московская прописка на два года.
«А через два года?» – спросила я.
«Стоит ли загадывать так далеко? За два года многое может произойти!»
Я предполагаю, что Люся была права – за два года многое и впрямь произошло. Люся нашла себе какую-то небольшую синекуру и получила право на постоянную прописку, а однажды она с торжеством показала мне только что вышедшую книжечку своих стихов. Я полистала негусто заполненные странички – Люся мудро ограничивалась максимально короткими стихами. Увы, в ее поэзии не произошло ничего нового – это были все те же шаблонные вирши о несчастной любви, не способной разрушить светлую веру в жизнь. Впрочем, это было не так уж важно. Главное было достигнуто: работа, прописка, собственная книжка, изданная в «Советском писателе» и якобы автоматически следующее за этим членство в Союзе писателей.
После этого мы с Люсей виделись довольно редко, так как мои права на комнату в общежитии истекли. Несколько лет я почти ничего о ней не слышала, если не считать рассказа Юлика перед самым его арестом о какой-то полной приключений пьянке в общежитии на Бутырском хуторе. Там пили всю ночь, были шикарные девочки и одна из них, Люся Марковина, лихо танцевала на столе, совершенно голая, прикрытая лишь длинными, распущенными волосами. Однако, когда я встречала Люсю в Доме литераторов, ничего предосудительного подумать о ней было нельзя, – она всегда была вполне прилично и даже элегантно одета, ее длинная коса черной змеей спускалась между лопаток, нисколько не намекая на возможность быть распущенной для прикрытия наготы.
Чем Люся занималась, было неясно, – она говорила о своей работе обиняками, подчеркивая только, что по роду работы часто встречается с очень культурными людьми. При нашей последней встрече она радостно сообщила мне, что выходит замуж за английского поэта, по странной прихоти живущего почему-то не в Англии, а в Советском Союзе. И с увлечением стала описывать прекрасную жизнь, ожидающую ее в прелестном привилегированном подмосковном поселке, в котором обнаружилась целая колония иностранцев. Там было все, необходимое человеку для счастья: хороший гастроном, теннисные корты и роскошный клуб, почти ни в чем не уступающий Дому литераторов. Хоть Люся не была уверена, что сможет бывать в настоящем Доме литераторов так же часто, как раньше, я за нее порадовалась. Теперь, когда она наконец-то нашла хорошего человека в придачу к уютному домику в прелестном привилегированном поселке, у нее может исчезнуть потребность писать трогательные стихи о несчастной любви.
Следующая моя встреча с Люсей произошла через много лет после моего отъезда из России в виртуальном пространстве художественной литературы – при чтении романа Джона Ле Карре о Киме Филби, знаменитом советском агенте, угнездившемся в самом сердце британской разведывательной службы. Когда советские хозяева разоблаченного английской разведкой Кима Филби ухитрились перетащить его через все полицейские кордоны и тайно провезти в СССР, он обнаружил там большую общину своих коллег разных национальностей – бывших агентов, нашедших убежище от правосудия в Советском Союзе. Жили они комфортабельно, но стесненно: все в одном, хорошо охраняемом подмосковном поселке, и были сильно ограничены в возможностях передвижения.
Один из них – английский поэт – поделился с Филби своим опытом: «Хоть они нас и выручили, они нам все равно не доверяют», – сказал он. Он рассказал, что к нему, как и ко всем остальным, поначалу приставили надзирательницу от КГБ, – она должна была якобы помогать ему ориентироваться в новой обстановке. Но поэт понимал, что заточение в стране его хозяев – не временное, а пожизненное, так как за рубежом его поджидала настоящая тюрьма. И он выбрал из двух зол меньшее – он взял и женился на своей надзирательнице, вполне симпатичной и нестарой женщине, которая сама была поэтессой. И теперь они живут душа в душу – она, несомненно, продолжает писать отчеты о его поведении, но эти отчеты так же несомненно направлены на сохранение их семейного счастья. Чем не идиллия? И поэт посоветовал Филби последовать его примеру.
И тут меня молнией поразила догадка: господи, ведь это тот самый английский поэт, который женился на Люсе!
«Вот это карьера!» – ахнула я. Из безвестной модели несостоявшегося провинциального художника попасть прямиком в мировую литературу! Ведь этот роман Ле Карре, как и все остальные, был бестселлером, переведенным на десятки языков!
По горам, по долам и по водам
Блаженной памяти Советская страна была велика и разнообразна как пейзажами, так и народонаселением. И мне пришлось неплохо ее истоптать – в основном пешком, с рюкзаком за плечами. Некоторые из увиденных мною картин и услышанных по пути речей достойны, как мне кажется, быть увековечены.
Мужчинам никогда не сидится на месте, и нам, многострадальным их подругам, приходится с этим смиряться. Одна моя приятельница, женщина простая и мудрая, очень точно выразила идею смирения, когда ее муж, забросив уроки японского языка, начал брать уроки ныряния с аквалангом:
«Чем пить или таскаться по бабам, уж лучше пусть ныряет».
И потому, когда мой Саша и его неугомонный друг Миша задумали горный поход на Тянь-Шань, чтобы, выйдя из Алма-Аты и перевалив через два малопроходимых перевала, добраться до озера Иссык-Куль, и я, и Мишина жена Нетта возражали недолго, в основном для порядка. Тем более, что компания для похода подбиралась приятная.
Побродив денек по тенистым зеленым улицам Алма-Аты, мы выбрались еще на денек прогуляться в сторону местного ледника, картинно нависающего над городом. Кроме красот природы нас очень порадовали регулярно повторяющиеся надписи: «В случае селя выходи на склон!», выполненные крупными белыми буквами на окружающих отвесных скалах высотой в несколько десятков метров. Выяснив, что сель – это мощная грязевая лавина, сметающая на своем пути целые деревни, мы стали рассматривать предложенные нашему вниманию скалы с гораздо большим интересом, в надежде понять, как на них можно «выйти», не умея летать.
К счастью, селя в день нашего восхождения на ледник не случилось, и назавтра мы благополучно тронулись в путь. Нагрузив на спины непомерные рюкзаки с палатками и провиантом, рассчитанным на две недели безлюдья, мы заполнили собой маленький автобус, обещавший доставить нас до последней обозначенной на карте обитаемой точки по пути к первому перевалу.
На автобусной станции этой точки мы нашли грузовик, водитель которого согласился за умеренную плату подбросить нас до другой точки на карте, где должна была начинаться пешеходная тропа в горы. Водитель очень спешил, потому что, как он объяснил, приработок от нас был левый, – он вывалил нас с нашими рюкзаками на плоской проплешине между невысокими сопками, выхватил из Мишиной ладони причитающиеся ему деньги и стремительно растворился в облаке поднятой им же самим пыли.
Мы огляделись – вокруг не было ни души. Но наших мужчин это не смутило – они заранее составили «кроки», так они называли точные карты каждого этапа похода, и не сомневались в успехе. Они только забыли, что никакая карта, даже самая точная, не может помочь, если не знать, где ты находишься. А именно этого мы, как вскоре выяснилось, никакими силами не могли узнать.
Наши многомудрые лидеры уверенно вели нас к трем стоящим рядом лесистым высоткам, но беда была в том, что большинство окружающих нас высоток сплотились почему-то именно группами по три и все были покрыты редким леском. Каждая из трояшек не соответствовала описанному в кроках образцу какими-нибудь несущественными мелочами. А, главное, в кроках было указано, что возле искомых высоток нам следует перейти вброд неглубокую речку Ой-Джайляу – и точно, подножия всех окружающих высоток омывала неглубокая речка, узнать имя которой было не у кого.
Пробродивши целый день от одних строенных высоток к другим, мы смертельно устали и решили переночевать на берегу безымянной речки. А наутро разбились на группы по три и начали отлавливать редких проезжих – один раз это была стайка школьниц на джипе, другой раз пожилой казах на осле. У каждого из них мы спрашивали: «Эта речка – Ой-Джайляу?» И каждый раз получали один и тот же вежливый ответ:
«Да, эта речка – Ой-Джайляу».
После чего мы снова принимались за поиски неуловимых трех высоток.
К концу второго дня мы, в процессе поисков, набрели на крошечный кочевой стан, состоящий из юрты, супружеской казахской пары с тремя детьми, двух ослов и веревки с сохнущей стиркой, натянутой между деревьями. Кто-то из нас, немного обалдевший от жары и нелепости ситуации, неожиданно для себя изменил форму рокового вопроса: «Как называется эта речка?» – спросил он. И хозяин юрты ответил, улыбаясь так же вежливо, как и все предыдущие: «Тур-Джайляу».
Миша – ответственный штурман экспедиции – схватился сперва за сердце, а потом за карту: и вправду, в пятидесяти километрах от нашего маршрута протекала извилистая речка Тур-Джайляу. По крайней мере стало понятно, почему наш шофер от нас удрать – он-то знал, что завез нас в совершенно другое место. Выбраться из этой западни на первый взгляд представлялось практически невозможным, разве что переть с тяжеленными рюкзаками пятьдесят километров пешком по пересеченной местности.
«А почему все, кого мы спрашивали, отвечали, что это Ой-Джайляу?» – закричал Миша нервно.
«А что вы спрашивали?» – уточнил хозяин юрты.
«Мы спрашивали – это Ой-Джайляу?»
И тут хозяин все с той же любезной улыбкой открыл нам секрет казахского гостеприимства:
«Так что же вы хотите? Мы, казахи, народ вежливый, и на любой вопрос чужого человека всегда отвечаем утвердительно. Ответ «нет» может оскорбить гостя».
Потрясенный этой странной формой вежливости мы на миг забыли о безвыходности своего положения – на нас напал такой дикий приступ хохота, что мы долго не могли наладить дыхание: выходит, все эти дни они дурили нам голову из одной только любезности, не желая нас обидеть! Но зато мы теперь хорошо поняли, в какой форме нужно задавать вопросы местным жителям.
Не стану рассказывать, как мы добрались до Ой-Джайляу, как перевалили через первый перевал, имя которого заросло в моей памяти травой забвения, и как, переправившись через полноводную реку Чилим, начали восхождение на вторую гряду Ала-Тау, вкупе с третьей составляющую горную страну Тянь-Шань. Напомню только, что в одной из глав про Юлика и Андрея я уже описывала ледниковый перевал Суть-булак – этакий высокогорный аттракцион неземной красоты, состоящий из последовательной цепи присыпанных снегом волчьих ям. Там я по-настоящему поняла выражение «кто не дышал воздухом горних высот…», но не стану объяснять, потому что тот, кто им не дышал, все равно не поймет, чего он лишился.
Когда мы спустились с перевала Суть-булак, местами на ногах, местами по снегу на пятой точке, мы попали в некое подобие земного рая, оскверненного присутствием человека. Спуск был длинный и крутой, так что мы из полярной зоны попали прямо в субтропики, центром которых был город Тамга, некрасивым грязным пятном прилепившийся к берегу сказочного озера Иссык-Куль.
Этот населенный пункт городом можно было назвать только в насмешку – он представлял собой и, небось, до сих пор представляет горсточку убогих домиков с единственным магазином в центре. Магазин был, что называется, «за все услуги» – на его налезающих одна на другую полках были свалены вперемешку кирзовые сапоги, молотки и напильники, мотки веревки, пачки залежалой лапши, окаменевшие пряники и кучка невостребованных с прошлого века консервных банок с тихоокеанскими крабами. Банки были украшены идущей по белому полю красной надписью «снатка», сокращением слова «Камчатка», написанным латинскими буквами. Жители Тамги, не подозревавшие о существовании латинского алфавита, дружно, произнося все буквы по-русски, называли продукт, наполняющий банки, «снаткой» и никогда его не покупали.
В центре магазина на отдельном деревянном пьедестале возвышался большой телевизор, к экрану которого было прикреплено написанное крупным детским почерком объявление: «Непокупателям трогать руками строго запрещается», – несмотря на настойчивые протесты моего грамотного компьютера я сохранила первозданную орфографию. Из этой Тамги нужно было убираться поскорей, и мы принялись за поиски грузовика, который увез бы нас оттуда в столичный город Фрунзе, который сегодня называется Бишкек.
Однако очень скоро стало очевидно, что уехать из города Тамга не так-то просто, иначе, я думаю, все его жители давно бы разъехались. Автобус ходил, когда хотел, а хотел он не чаще двух раз в неделю, зато иногда ломался и не ходил вообще. Поймать какую-нибудь машину на шоссе было почти невероятно – движение на том, что носило там гордое имя «шоссе», было крайне жидким, и все машины проходили мимо полностью укомплектованные.
В конце концов, мы, вспомнив, что устав американской армии советует женщине, которую насилуют, расслабиться и постараться получить удовольствие, решили расслабиться и постараться получить удовольствие. Мы покинули грязные городские кварталы и разбили лагерь под одичавшими абрикосовыми деревьями, которыми зарос берег озера. Три дня мы праздно гуляли, любуясь озером и собирая абрикосы, от которых у всех начался бурный понос.
И тут Миша, зайдя слишком далеко от лагеря, случайно обнаружил затаившийся за скалой голубой грузовик, совершенно пустой и снабженный шофером, дремлющим за рулем. Думая, что шофер просто остановился передохнуть, Миша слегка потряс его за плечо. Шофер открыл глаза и потратил несколько секунд, чтобы сориентироваться на местности, а затем, недолго поторговавшись с Мишей о цене, согласился отвезти нас в будущий Бишкек.
Окрыленный удачной сделкой Миша, который уже почти опоздал на вылетающий на следующий день из Бишкека самолет, ворвался в наш палаточный лагерь с громким криком: «Скорей, а то грузовик уедет!» И мы, наивно ему поверив, наспех запаковались и потащили к грузовику свои порядком полегчавшие после долгого пути рюкзаки. Закинув рюкзаки в кузов, мы взобрались вслед за ними и стали наблюдать за странными действиями шофера.
На наших глазах он много раз подряд производил одну и ту же операцию: медленно пятясь, он отступал от грузовика на пару метров, а потом, резко вытянув вперед обе руки, лихорадочно сжимающие какой-то удлиненный предмет, бросался в атаку на капот. Перед самым капотом его заносило в сторону, и он пробегал мимо машины, неловко соскальзывая в придорожную канаву. После чего возвращался и начинал все сначала. Постепенно до нас дошла суть того, что он делал: у него, по всей очевидности, не работал стартер, и он решил завести мотор при помощи заводной ручки. Однако он был настолько пьян, что ноги каждый раз резко уносили его в сторону от намеченной цели.
Я осторожно сказала Мише, весьма озабоченному своим опозданием на самолет:
«Разумно ли с ним ехать? Он ведь на ногах не стоит!»
На что Миша ответил вполне логично:
«Но ему ведь не придется стоять – он будет вести машину сидя!»
Спорить с Мишей было трудно, но ехать с вдребезги пьяным шофером по горной дороге, опоясывающей голубые красоты Иссык-Куля, тоже не хотелось. Пока мы – то есть остальные десять – шепотом решали, как быть, судьба решила за нас: в двадцати шагах от нашего голубого грузовика неожиданно остановился древний голубой автобус, напоминающий жестяную коробочку с леденцами, и высадил на дорогу с полдюжины пассажиров. Нас словно ветром сдуло с грузовика, и мы помчались к автобусу, не замечая даже тяжести своих рюкзаков. Помедлив с полминуты, Миша, который любил выполнять договоры, не выдержал и тоже помчался вслед за нами.
О радость! – в автобусе было семь свободных мест, и он ехал в Бишкек. Мы наспех сговорились о цене и, не без труда разместившись, кто на сиденье, кто в проходе на рюкзаке, двинулись было в путь. Но тут перед автобусом возник странный взлохмаченный образ – до шофера голубого грузовика дошло, наконец, что он потерял выгодных клиентов. Ему бы лечь поперек дороги и не давать автобусу проехать, но он, как видно, не был знаком с методами мирного противостояния. И потому решил вернуть нас силой.
Высоко подняв руку с заводной ручкой, он обогнул автобус и с отчаянным матом бросился к его еще не закрытой дверце. Водитель автобуса втянул голову в плечи, готовясь принять сокрушительный удар, но наш бывший шофер опять повторил свой хорошо отработанный маневр – перед самой дверцей автобуса его собственные ноги занесли его тело далеко в сторону от намеченной цели, и он, как подкошенный, рухнул в канаву. Больше мы его не видели – стартер автобуса был в порядке, мотор взревел, и мы тронулись с места.
Не проехали мы и пары километров, как услышали громкую музыку духового оркестра. Оркестр в таком диком и пустынном месте? Или у нас начались галлюцинации? Водитель автобуса тоже заинтересовался этим странным явлением и притормозил у одинокого причала, неизвестно кем и для чего построенного в этой глуши.
Музыка доносилась с борта белого катера, красиво и быстро скользящего к причалу по бирюзовой глади озера. Не прошло и пяти минут, как катер пришвартовался и спустил сходни. Музыка грянула еще громче, и на сходнях появился первый космонавт Юрий Гагарин, собственной персоной, хоть изрядно растолстевший, но однозначно узнаваемый. Пока он медленным шагом шел по сходням к берегу, откуда-то из ущелья вынырнула бесшумная черная «Чайка» и притормозила у самого причала.
Гагарин, не бросив даже взгляда на двух матросов, отдающих ему честь у подножия трапа, неспешно прошел к распахнутой дверце «Чайки» и скрылся в ее сумрачной глубине. Черная «Чайка» отъехала так же бесшумно, как подъехала, и через мгновение скрылась в зарослях диких абрикос. Музыка на борту белого катера смолкла, и он тоже, на миг взревев мотором, исчез в сверкающем лазурном просторе.
А мы, все до одного, – и водитель, и пассажиры, – так и застыли с разинутыми ртами: было это видение реальным или нам просто померещилось? Художник Николай Рерих, считающийся главным специалистом по мистическому озеру Иссык-Куль, настаивал, что у людей непривычных, там часто бывают галлюцинации. Замечу только, что наша, если и была, то была коллективная.
От остальных путешествий в горы у меня не осталось таких последовательно ярких воспоминаний, а лишь красочные обрывки. Так из Кавказского цикла я помню только фантастически преувеличенные цветы на альпийских лугах над идеально круглым кратером озера Цахвоа. Таких цветов я не видела больше нигде и никогда – ни ромашек размером с тарелку, ни васильков крупнее чайных блюдец. И застывшее над всем этим великолепием вековое молчание сомкнутого кольца девяти снежных вершин, разделенных заснеженными перевалами, среди которых было совершенно невозможно выделить тот, что нам нужен.
Алтай запечатлелся у меня в памяти всего лишь несколькими штрихами: непрерывным шорохом мелкого, никогда не прекращающегося дождичка и стремительным потоком изумрудно-зеленой реки Катунь, волочащей по своему руслу могучие бревна и многотонные валуны. Но главное – и по сей день сияет в моем сердце трогательный образ встреченной на лесной тропинке маленькой пионерки с ясным личиком монгольского бронзового божка над красным галстуком, которая на вопрос, много ли в их лесу грибов, чистосердечно ответила нежным детским голоском:
«До хуя!»
Зато путешествия по водам доставили мне нескончаемый материал для рассказов и психологических зарисовок.
Поездка в дельту Волги началась с чуда – для этой поездки Марья Синявская неожиданно одолжила Саше охотничье ружье Андрея. Этот поступок всех нас потряс, так как щедрость никогда не была отличительной чертой марьиного характера. А тут – сама предложила, да еще такую ценность! Хоть мы ехали охотиться и ловить рыбу, ни у кого другого в нашей компании ружья не было, ни собственного, ни взятого напрокат. Ружье у Андрея было замечательное, оно и сегодня стоит у меня перед глазами, как живое, – красивая охотничья двустволка с хорошо полированным прикладом золотистого дерева.
Ружье это, как и положено по канонам чеховской драматургии, выстрелило в нужный момент и сыграло свою роль в драматическом происшествии, которое можно было бы запросто назвать «Утиная охота», если бы Александр Вампилов уже не заявил права на это заглавие.
Но начнем с самого начала. Нас было семеро – три супружеские пары и один общий друг, Гена, жена которого не смогла к нему присоединиться. Мы приехали в Астрахань на поезде, волоча на себе огромные рюкзаки со всем необходимым дорожным припасом, включающим палатки, спальные мешки, кастрюли, сковородки, ложки-плошки и какую-то крупу, так как собирались провести две недели на необитаемом островке в самом сердце волжской дельты.
Однако мы принципиально не взяли с собой ни мясных, ни рыбных консервов – предполагалось, что мы сумеем полностью снабжать себя продуктами собственной охоты и рыбной ловли. На предмет рыбной ловли мы были неплохо оснащены удочками и крючками, на предмет же охоты у нас как раз и была шикарная охотничья двустволка Андрея, любезно одолженная Марьей при условии, что Саша никому другому не доверит из нее стрелять.
Наши мужчины, по их утверждению, заранее наметили то райское место среди зарослей дельты, где утки густо висят в воздухе, надеясь быть подстреленными, а рыба сама просится на крючок. Оставалась только несложная на первый взгляд задача до этого райского местечка добраться. Вдохновленные этой целью мы, хорошо, как нам казалось, подготовленные для предстоящих двух недель вдали от человечества, двинулись к пристани, где рассчитывали нанять моторную лодку, достаточно большую, чтобы в нее вместились и мы, и наша громоздкая кладь.
Однако на пристани мы довольно быстро выяснили, что такая лодка не томится у причала в страстном ожидании нашего появления. Каждый раз что-нибудь оказывалось не так – или размеры лодки не соответствовали нашим запросам, или хозяин лодки заламывал несусветную цену за свои услуги, а в большинстве случаев он был попросту недостаточно трезв для такого ответственного путешествия.
Пьяных водителей мы опасались, у нас уже был печальный опыт не с одним из них, правда, в нашем прошлом это были водители грузовиков, но в результате у нас появился предрассудок, что и водители моторных лодок тоже предпочтительны трезвые. В конце концов, мы нашли одного толстого мужика с бабьим голосом, – он называл себя Шкипером и обещал к утру проспаться и отвезти нас на тот райский островок, о котором мечтали наши мужчины.
Во всем этом деле была одна проблема, которую мы не стали обсуждать со Шкипером, пока он не протрезвел, – а именно, как можно было получить гарантию, что он за нами на этот островок через две недели приедет? Дельта Волги – это вам не твердая земля, по которой можно, в случае крайней нужды, дойти обратно пешком. Это огромное, на много сотен квадратных километров, болото, изрытое стремительно текущими вниз, к морю, протоками. Лодка без сильного мотора пройти по этим протокам против течения не может, – если она не сядет на мель посреди какой-нибудь заросшей травой болотистой заводи, ее неизбежно снесет в то самое Каспийское море, в которое, как всем известно, Волга впадает.
А что, если Шкипер спьяну о нас забудет или передумает, подхватив другой, более выгодный заказ? Мы-то знали, что практическое решение этой проблемы состоит в выплате денег только при окончательном расчете по возвращении, но согласится ли Шкипер ждать так долго? Как мы и предполагали, услыхав наутро наше предложение об окончательном расчете в конце пути, Шкипер вышел из себя и наотрез оказался нас везти. Однако и он, и мы понимали, что это не более, чем необходимый для его самоуважения спектакль. И, действительно, после нескольких демонстративных уходов и возвращений Шкипер согласился получить деньги с небольшой добавкой после приезда за нами на остров. Мы погрузили свои рюкзаки на его вместительную моторку «Настя», и отправились вниз по течению Волги.
Широкий речной простор начал быстро заполняться торчащими прямо из воды кустами и осоками и вскоре превратился в стремительный узкий поток, несущийся сквозь густые травянистые джунгли. Если полчаса назад глазу щедро открывались неохватные заволжские дали, то теперь уже ничего не было видно, кроме подступающих к самой лодке зарослей камыша. Весь наш недолгий речной путь был заполнен писклявым голосом Шкипера, увлеченного сексуальными фантазиями о местных татарках. Особенно часто он повторял полюбившуюся ему сентенцию:
«Каждая баба, она баба и есть. Вот татарки – другое дело: у них все поперек. Что у других баб вдоль, то у них поперек!»
Временами он мечтал вслух, как пойдет к татаркам на заработанные у нас деньги, а временами повторял, не видя противоречия с только что высказанным восторгом по поводу денег для татарок:
«Да что деньги? Мне деньги ни к чему – мне любая татарка и так даст. А у татарок у этих все поперек!»
Вдохновленный мыслью о поджидающих его в Астрахани татарках он домчал нас до места назначения экспрессом. Уже через час после входа в дельту «Настя» пришвартовалась к крошечной песчаной бухточке, с трех сторон окруженной кустами и камышом.
«Так через две недели!» – пискнул на прощание Шкипер и умчался к своим татаркам.
Жилого пространства на выбранном нами островке было не больше, чем шесть метров на четыре. После того, как мы поставили три палатки и соорудили очаг, осталась песчаная площадка размером в носовой платок и узенькая тропка вдоль берега. Всю остальную небольшую поверхность острова занимали непроходимые субтропические заросли, в которые даже сходить по нужде можно было, только соблюдая крайнюю осторожность. Единственным нашим плавучим достоянием была деревянная лодка, рассчитанная на двух гребцов и одного рулевого.
Зато на соседнем острове – через проток – жил свирепый вепрь, который временами бушевал в его дебрях, совсем как в песне про Ермака: «Ревела буря, дождь шумел… и вепри в дебрях бушевали». Пока мы куковали на своем необитаемом острове, бури, к счастью, ни разу не было, но вепря нам много раз довелось услышать и несколько раз увидеть. Вернее, не его самого, а его взъерошенную тень, когда он, бушуя и отвратительно хрюкая, мелькал среди таких близких, но, слава Всевышнему, недосягаемых зарослей своего острова. Меня, как и моих подруг, очень волновал вопрос, не может ли вепрь, несмотря на фантастическую силу бурлящей мимо нас воды, переправиться на наш берег. На что наши мужчины авторитетно заявляли, что беспокоиться нам не о чем – раз они, такие герои, могут через наш проток переправиться только на лодке, то вепрь, не имея лодки, не может вообще.
Поселившись основательно, мы начали новую жизнь, которая, с моей точки зрения, была ужасна. Делать было абсолютно нечего, купаться в безумном речном потоке было невозможно, отойти от площадки было некуда, отплыть на лодке оказалось проблематично. На второй день состоялось первое, и наиболее успешное, действие спектакля «Утиная охота», в кульминационный момент которого Саша подстрелил двух уток. Одна утка упала в кусты во владениях вепря, а вторую подхватил и унес безжалостный водный поток. Трое из наших героев загрузились в лодку – больше троих она не принимала, угрожая немедленно затонуть при перегрузке, – с большой сноровкой пересекли проток по диагонали и вытащили из кустов тушку первой утки.
Им бы этим удовлетвориться, но они жаждали утиного мяса и справедливо подозревали, что одной щуплой уточки на семерых будет мало. Поэтому они в мгновение ока скользнули вниз по течению и исчезли за замыкающим остров холмиком. Через час они появились из-за того же холмика, и тут началось второе действие того же спектакля «Утиная охота». Отделявшее их от нас расстояние в двести метров их лодка прошла минимум за два часа, причем отважные гребцы не всегда сохраняли свою позицию в поле нашего зрения, особенно в начале пути. Какой-нибудь неловкий взмах весел, и лодку уносило обратно за пределы острова. Как потом нам было рассказано, сразу за островом поток впадал в большой, заросший кувшинками водный резервуар, где течение почти полностью прекращалось. Это водное поле, тонким слоем размазанное над бесконечным вязким болотом, тянулось куда-то далеко на юг. Ни одной из женщин так и не довелось увидеть эту безбрежную тихую заводь, потому что вернуться обратно возможно было только в случае, если лодкой управляли три сильных гребца.
В тот первый раз мы с трепетом наблюдали, как наши гребцы пядь за пядью приближались к бухточке. Наконец, они, чуть пошатываясь, ступили на твердую почву, и покаялись, что вторую уточку им найти не удалось, она исчезла в зеленых дебрях болота. Нам пришлось довольствоваться тем, что каждый из нас сумел добыть, тщательно обгладывая хрупкие косточки первой. На этом спектакль «Утиная охота» пришлось снять с репертуара, потому что разумные уточки быстро научились облетать наш опасный остров стороной. Саше еще один раз повезло – он подстрелил маленькую зеленую цаплю, которая оказалась еще вкуснее уточки, но зато гораздо меньше.
Рыба и впрямь сама лезла на крючок, но к началу второй недели на рыбу мы даже смотреть не могли. Сдуру мы не запаслись ни хлебом, ни картошкой, предполагая жить исключительно на природе и добывать пищу только охотой и рыбной ловлей. Выбранное нами место было на удивление необитаемым – за две недели мимо нас проплыл вверх по течению один-единственный бородатый рыбак в хлипкой одноместной лодчонке с чихающим мотором, и все! Учитывая, что уплыть обратно без моторной лодки мы не могли, в народе начались волнения и тоска по мясу.
И тут наступил день, – по-моему, десятый, считая с момента нашего прибытия на райский остров, когда судьба милостиво вернула нас к спектаклю «Утиная охота», в самой что ни на есть драматической его форме.
Как всегда, после отвратительного обеда, состоявшего из опостылевшей рыбы на первое, второе и третье, мы расположились на своем песчаном пятачке, занимаясь кто чем. Я, например, уже десятый день героически пыталась читать скучнейший роман Томаса Манна «Иосиф и его братья», который так и не прочла, даже на необитаемом острове. Было очень тихо, только камыши чуть шуршали на ветру да на соседнем островке периодически хрюкал всегда недовольный вепрь. И вдруг кто-то из нас поднял голову и увидел высоко в небе движущуюся точку.
«Саша, стреляй скорей! Гусь!» – крикнул он, подстегиваемый напрасно переполнявшим его желудок ферментом, предназначенным для переваривания мяса. Саша, тоже уставший от бесконечных рыбных обедов, ужинов и завтраков, быстро схватил ружье, прицелился и выстрелил. Выстрелил он всего один раз – точка в небе была так далеко, что вся затея казалась совершенно бессмысленной.
Но, к нашему удивлению, точка прекратила поступательное движение и начала медленно увеличиваться, то есть падать. Через пару минут стало видно, что это и вправду птица – а что еще, собственно, это могло быть? С каждой минутой птица становилась все больше.
«Точно, гусь», – сказал кто-то с вожделением.
«Зажарим на сковородке», – мечтательно подхватил второй.
«Нет, лучше испечем на углях», – не согласился третий.
Однако падающая птица все продолжала и продолжала увеличиваться, так что начали возникать сомнения, гусь ли это. Через пять минут, когда силуэт птицы заслонил половину неба, мы с ужасом поняли, что Саша подстрелил орла. Настоящего огромного орла с орлиным носом и яростными желтыми глазами.
Орел упал в проток прямо перед нашими потрясенными взорами – Сашин прицел был совершенен не только в смысле попадания в яблочко, но и в смысле точности координат – ему так хотелось, чтобы вожделенный гусь упал прямо к нам на сковородку! Однако гусь оказался орлом с размахом крыльев не меньше двух метров, а то и больше. Беда была в том, что одно крыло у него было перебито пулей до самого основания и беспомощно тянулось за ним по воде, которая тут же подхватила его и поволокла к южной оконечности острова. Он громко закричал что-то картавое и забил неповрежденным крылом по поверхности воды, но это не помогло – он не мог ни взлететь, ни противостоять силе течения.
Одна из женщин, жалея орла, выкрикнула истерически: «Его же стервятники заклюют!», на что ее муж ответил рассудительно: «Не успеют! Мы его сейчас поймаем и сами съедим!»
С этими словами все, кто успел, вскочили в лодку, куда помещались только трое, и отправились в погоню за орлом, а четвертый, бесхозный Гена, за безопасностью которого некому было следить, не раздумывая, прыгнул в реку, и течение понесло его вслед за другими. Потом он утверждал, что прекрасно рассчитал, как его вынесет в cтоячую воду огромного болота, а уж там как-нибудь обойдется. Наши мужчины объединенными силами выловили из воды тонущего орла, втащили его в лодку и двинулись в обратный путь. За прошедшие десять дней они намного усовершенствовали технику возврата, сведя его время к получасу. Гена, уцепившись за лодку, героически плыл за ними.
Первые пятнадцать минут орел лежал почти бездыханный, затянув желтые глаза белесой мертвенной пленкой, но потом встрепенулся и бросился в бой, угрожая своим мучителям острым клювом и свирепым клекотом. Положение складывалось ужасное – и без битвы с орлом пробиваться против течения было нелегко, а тут еще приходилось отбиваться от его яростных наскоков. Орел, хоть и раненный, вполне мог перевернуть неустойчивую лодку, да и вообще было неясно, что с ним делать, если не съесть.
В результате наши рафинированные интеллигенты, едва пришвартовавшись, бросились на орла и, не выходя из лодки, начали колотить его по голове тяжелыми веслами. Их охватил настоящий амок, – орел уже был мертв, а они все били и били его веслами. А мы, их преданные, но слишком чувствительные жены, выстроившись на берегу, рыдали, ломали руки и обзывали их убийцами и извергами. Не думаю, что мы устроили бы такую истерику, если бы это был гусь. Ведь мы же спокойно отнеслись к охоте на уточек и на прелестную зеленую цаплю, – да и вообще, никто не держал от нас в секрете затею прокормиться охотой. Почему же мы рыдали и ломали руки? Неужели потому, что это был орел?
Надо признать, что, прикончив орла, наши мужчины пришли в себя не сразу – они были слишком возбуждены этой короткой, но кровавой битвой с гордым хищником, наверняка за свою долгую жизнь сожравшим живьем не одну тысячу кротких курочек и цапель. И все-таки в его смерти от нашей руки было какое-то нарушение неписанной табели о рангах. Когда буря эмоций улеглась, было решено орла сварить и съесть – Саша с самого первого дня объявил, что мы обязаны съедать всех, кого мы подстрелили. И в подтверждение своих слов сварил и съел случайно подстреленную им ворону – никто, кроме него, не согласился прикоснуться к ее отвратительному лиловому мясу.
Мясо орла готовы были есть все, но из этого ничего не вышло – после трех суток упорного кипячения его в котле над костром даже мелко-мелко наструганные его ломтики было невозможно разжевать. Они остались, как и вначале, тверже дерева. Бульон, правда, был вкусный. На этом, казалось бы, историю с орлом можно было считать законченной. Но два из трех встреченных мною через двадцать пять лет участника этой поездки с восторгом вспоминали, как они одним выстрелом попали в орла, летевшего высоко в небе. И это при том, что выстрел был произведен один-единственный, из ружья Андрея, из которого Саша, верный данной Марье клятве, никому не доверял стрелять.
К моменту, когда мы выпили весь котел бульона, у нас уже начал пропадать аппетит, потому что наш Шкипер, который должен был приехать за нами утром, к пяти часам еще не появился. Женщины, как более беспокойные, начали уже высказываться в том смысле, что, мол, не пора ли готовиться к зимовке на случай, если он забыл, куда за нами ехать. Мужчины хмуро отмалчивались, но было заметно, что и у них на душе тоже неспокойно. В начале шестого невдалеке застрекотал мотор, и из дальних зарослей появилась «Настя», на радостях показавшаяся нам Василисой Прекрасной.
Обратная дорога, естественно, была гораздо дольше, – ведь приходилось плыть против течения. Чтобы не скучать по пути, наш любвеобильный Шкипер прихватил с собой друга, хриплого мужика с обветренным лицом, который представился как инспектор по надзору за рыбной ловлей и которого Шкипер называл Рыбнадзором. Не задействованный управлением моторки, он успел накачаться еще по дороге к нам, а, может, и гораздо раньше, так что к моменту прибытия в нашу бухточку был уже изрядно бухой. Знакомство с нами он начал с профессиональных вопросов:
«Ё-мое, ты кефаль знаешь?» – спрашивал он каждого, взобравшегося не без труда на слишком подвижный борт моторки. Получив положительный ответ, Рыбнадзор переходил к следующему:
«А, какие у ей кишки, знаешь, е-мое?»
И уже не дожидаясь ответа, громко ликовал: «А вот и не знаешь! Нет у нее кишок, е-мое! Нет, – и все!»
На этой ликующей ноте он переходил к следующей жертве.
Как только моторка двинулась в сторону Астрахани, выяснилось, что у Рыбнадзора, как и у Шкипера, тоже были фантазии, связанные с татарами, только скорее гражданские, чем эротические. Вопрос про кефаль он бросал нам так, для затравки, чтобы показать свое превосходство, а, самоутвердившись, переходил к главной теме – к теме социальной справедливости. Для этой темы у него был припасен другой вопрос, более личный:
«Ты в тюрьме сидел?» – спрашивал он каждого из нас, но, как оказалось, и этот вопрос тоже был риторический. Целью его был рассказ о себе: «А я сидел, – отзывался Рыбнадзор, независимо от полученного ответа. – Восемнадцать месяцев мне дали, у меня семейная драма была. Ты семейную драму знаешь?»
Никто из нас семейной драмы не знал, но Рыбнадзор этой мелочи не замечал, а шел дальше – семейная драма была у него только запевом:
«Сидел там со мной один, Ренат-татарин… е-мое. Четверо их было, Ренат-татарин, Змей едучий и еще два кореша, забыл как звали… Женщину-красавицу, инкассатора, е-мое, они убили, два миллиона триста тысяч взяли и получили десятку и пять по рогам… Так они из меня кровь стаканами пили, потому что мне всего восемнадцать месяцев дали, е-мое. За семейную драму. А им – по десятке и пять по рогам. Вот они из меня кровь стаканами и пили, е-мое… Шофера они убили сразу, а женщину-красавицу, инкассатора, повалили сперва и навалились на нее все вчетвером… А у меня семейная драма была е-мое. Ты семейную драму знаешь?»
И Рыбнадзор начинал свой рассказ сначала. Так он и ходил кругами всю дорогу, прерываемый время от времени бабьим голосом Шкипера, – при упоминании имени Рената-татарина, того охватывали сладостные мечты о татарках, у которых все поперек.
До Астрахани мы так и не доехали, а остановились в нескольких километрах от города ночевать на дебаркадере – так называлась плавучая пристань с маленьким домиком в центре, где Шкипер служил ночным смотрителем. Он охотно согласился за небольшую доплату предоставить нам ночлег в домике, и мы начали раскладывать свои спальные мешки в небольшой комнатке, торжественно названной им «зал ожидания». Все мы очень устали и мечтали поскорей уснуть, чтобы не проспать свой ранний рейс в Москву.
Но эта мечта так и не сбылась. Сначала загрохотал мотором «Насти» Шкипер, отправляясь вместе с Рыбнадзором покупать водку на заработанные у нас деньги. Не успели они отбыть, как по трапу дебаркадера затопали громкие шаги и громкий женский голос, очень похожий на голос Шкипера, выкрикнул:
«Митрий, где картошка? Картошку привезли?»
Не получив ответа, хозяйка голоса протопала мимо нашего зала ожидания на другой борт дебаркадера, где обнаружила, что «Насти» у причала нет. Задохнувшись от возмущения, она с воплем: «Неужто к татаркам поехал, проклятый?» стала распахивать все двери подряд и, в конце концов, обнаружила нас. Несмотря на грубую одежду и оплывшую фигуру лицо ее еще хранило следы былой привлекательности – уж не в ее ли честь моторка Шкипера была названа «Настей»?
«Вы кто такие будете? – грозно спросила Настя и приготовилась было гнать нас в шею, но одумалась. – Это вас, что ль, Митрий с дельты сегодня припер?»
На миг призадумавшись, она сложила в уме два и два и получила искомый ответ:
«Ну да, раз вы ему заплатили, так он водкой отовариваться поехал».
Как ни странно, этот вывод ее успокоил и примирил с нашим присутствием:
«Ладно, спите себе, я вам мешать не буду».
И протопала на верхнюю палубу – ждать Митрия, – протопала и затихла. Но спать нам так и не пришлось. Только замолкли «астины шаги по трапу, как на сцену явилось новое действующее лицо. Сначала невидимое, оно неуверенно запело за сценой, нащупывая то ли мелодию, то ли слова, то ли и то, и другое:
«Белое море, белый пароход!»
Потом уже уверенней и громче:
«Синее море, синий пароход!»
Рокот мотора приближающейся «Насти» поглотил пение, и оно утонуло в шуме, поднятом ее тезкой при виде Шкипера и Рыбнадзора, сгружающих на палубу ящик водки. Мы все еще тщетно пытались заснуть под звуки нарастающего между Настей и Шкипером скандала из-за какого-то пропавшего мешка картошки и не сразу заметили, что вокалист потихоньку проскользнул в зал ожидания и норовит втиснуться между нашими телами в спальных мешках.
«Холодно мне, – бормотал он, распространяя вокруг сильный запах водочного перегара, и старался потесней прислониться к одной из наших женщин. – Холодно мне, вот я и замерз».
Женщины завизжали, мужчины начали выбрасывать Пьяного вон из комнаты, – стало совсем не до сна. В проходе появился Рыбнадзор. Увидев Пьяного, который рвался обратно в зал ожидания, повторяя, что ему холодно, вот он и замерз, Рыбнадзор, минуя фазу кефали, сразу приступил к деловому разговору:
«Ты в тюрьме сидел, е-мое?» – спросил он строго.
«Обязательно! – охотно отозвался Пьяный. – Получил десятку и пять по рогам».
Ответ Пьяного поразил Рыбнадзора в самое сердце. Он схватил Пьяного за плечи, притянул к себе и начал вглядываться в его лицо. Пьяный заморгал и затих.
«Да ведь это точно он, Змей едучий!» – заорал Рыбнадзор в восторге. – Получил десятку и пять по рогам, е-мое! Точно он, Змей едучий! Если б это был Ренат-татарин, я б его сразу узнал! Значит, выходит, точно он, е-мое!»
На шум по трапу спустились с палубы Шкипер с Настей, все еще продолжая выяснять, куда девался мешок картошки.
«Небось, ты его не покупал, а деньги пропил?» – настаивала Настя.
«Да купил я его, купил! И тут, у мостков, поставил», – не соглашался Шкипер.
«Так куда же он делся, если ты его тут поставил? Сам взял и ушел, что ли?»
«Может, его украл кто?» – предположил готовый на все Шкипер.
«Да кто мог его украсть? Его один человек унести не может», – шла в наступление Настя.
И тут в разговор вмешался Рыбнадзор:
«Да он его и украл, Змей едучий! Он это, он, Змей едучий, точно он, е-мое! Получил десятку и пять по рогам! Если бы Ренат это был, татарин, я б его сразу узнал! Он из меня в тюрьме кровь стаканами пил. Выходит, это он картошку украл, е-мое!»
Настя поверила Рыбнадзору не сразу, а сперва занялась расследованием дела о пропавшей картошке. Она спросила у Пьяного:
«Ты куда мою картошку девал?»
«Съел», – громко икнул Пьяный.
«А мешок куда девал?»
«И мешок съел!»
«Да кто ж тебе позволил – чужую картошку есть? Да еще с мешком! Она ж денег стоит!»
«Отдавай картошку!» – взвизгнул Шкипер, осчастливленный этим новым поворотом дела, отводящим от него все Настины обвинения. Пьяный еще раз икнул и сел на пол, намереваясь лечь. Но Рыбнадзор не позволил ему прохлаждаться, – он понял, что наступил его звездный час, когда он сможет, наконец, с лихвой получить сдачу за всю причиненную ему несправедливость. Он схватил Пьяного подмышки и поволок его к сходням, приговаривая:
«Пошел вон, Змей едучий! Ты из меня в тюрьме кровь стаканами пил, так я из тебя теперь хоть ложкой зачерпну! Он два миллиона триста тысяч взял, женщину-красавицу, инкассатора, убил, е-мое, и глаза ей выколупал».
«Если у него два миллиона триста тысяч есть, пусть он мне деньги за картошку вернет», – рассудительно решила Настя, глядя, как Рыбнадзор тащит Пьяного по проходу. Пьяный упирался ногами в пол, не соглашаясь, чтобы его выбросили в темноту. Рыбнадзор приналег:
«…женщину-красавицу, инкассатора, убил, е-мое, и глаза ей выколупал. Это чтобы по глазам не узнали, кто ее убивал. Потому что у мертвецов в глазах все отпечатывается, как в зеркале, е-мое…»
Пьяный стал отбрыкиваться так сильно, что Рыбнадзор устал и сел рядом с ним, – передохнуть. Тогда на смену ему пришел Шкипер.
«Так ты отдашь картошку или не отдашь?» – повторял он, ногой подталкивая Пьяного к сходням, но Пьяный довольно ловко уворачивался и катился обратно.
«Холодно мне, – причитал он при этом. – Пустите меня погреться. Холодно мне, вот я и замерз».
«А мне в тюрьме холодно не было, когда ты из меня кровь стаканами пил? – поддержал разговор Рыбнадзор, но уже без прежнего пыла. – Так я из тебя сейчас хоть ложкой зачерпну, е-мое…»
«Мне тоже что-то холодно стало, – присоединился Шкипер, тоже уставший от безрезультатной борьбы с Пьяным. – Пойти, что ли, еще водочки принять?»
И тут же позабыв про Пьяного, загрохотал сапогами по ступенькам трапа. Настя задумчиво поглядела ему вслед, раздумывая, не пойти ли и ей принять немного водочки. Решив, по-видимому, пойти и принять, она тоже махнула рукой на Пьяного, так и не получив компенсации за исчезнувший мешок картошки. Рыбнадзор хотел было тоже пойти за ними, он даже сделал попытку приподняться с места, но силы оставили его. Он свернулся калачиком рядом с Пьяным, который, снова пожаловавшись, что ему холодно, придвинулся к Рыбнадзору поближе. И оба мирно захрапели спина к спине.
К этому времени уже начало светать, небо на востоке прочертили розовые полосы, и вдали застрекотал мотор «Ракеты», на которой мы намеревались добраться до Астрахани. Мы собрали свои вещички и уехали, так и не досмотрев окончание спектакля «На дебаркадере».
Другая наша поездка по другой водной магистрали была ничем не похожа на эту. Путь наш лежал через всю Сибирь, но не вдоль, а поперек – вниз по Енисею через Полярный круг от Красноярска до Норильска. К счастью, такой грандиозный замысел нельзя было бы осуществить ни на моторке, ни на деревянной лодке с уключинами, так что нашим мужчинам пришлось поступить, как большинству нормальных людей, и снизойти до путешествия на вульгарном теплоходе. Это решение далось им нелегко, но они понимали, что иначе Полярный круг не пересечь.
Чтобы хоть как-то скомпенсировать свое моральное падение, они постарались подобрать для этого путешествия группу побольше, состоящую, в основном, из настоящих бесстрашных туристов, – мол, не один я в этом поле кувыркался. В результате, нас набралось 14 человек, и, как ни странно, это, казалось бы, небольшое число помогло нам построить на теплоходе модель победы партии большевиков в Российской революции. Всего пассажиров на теплоходе было сто восемьдесят, а нас, как я уже сказала, всего четырнадцать, но мы образовали ударный кулак, объединенный общей целью – подчинить своим интересам все мероприятия, происходящие в пути. И подчинили!
Наша победа основывалась на том, что остальным было практически все равно, где и на сколько часов делать остановки и по каким тропам совершать сухопутные вылазки. А нам – не все равно. На теплоходе была заведена псевдодемократическая традиция участия пассажиров в решениях капитана, и мы умудрились избрать своих представителей во все комиссии – по бытовым претензиям, по составлению меню, по маршрутам прогулок. Капитан в прямом смысле вздрагивал, когда наша главная защитница групповых интересов, активистка Галя, занимавшая должность председателя Совета комиссий, направлялась в его сторону. И заранее соглашался со всеми ее требованиями, которые мы каждый вечер вырабатывали сообща.
Мы захватили власть на пароходе! Так что, если бы нам довелось участвовать в следующей настоящей революции, мы бы уже знали, как это делается.
Судоходство на Енисее продолжается всего два месяца, июль и август, пока река не «стала», но эти два месяца там царит жаркое лето. Теплоход медленно полз меж двух высоченных зеленых стен непролазной тайги. Впрочем, медлительность его могла быть просто кажущейся из-за того, что продвижение его невозможно было зарегистрировать благодаря абсолютной несменяемости пейзажа – мы с таким же успехом могли бы просто стоять на месте. Единственное, что менялось, – это продолжительность солнечного дня, который становился все длинней и длинней. К моменту достижения Полярного круга ночь практически самоустранилась, и наступил вечный день.
Было какое-то извращенное наслаждение в том, чтобы загорать на палубе в два часа ночи – температура стояла, как в Сочи, что-то около тридцати градусов жары. Мы подняли рюмки в честь торжественного момента пересечения Полярного круга.
«А раньше, – сказал капитан, задумчиво разглядывая наши загорелые животы, просвечивающие между двумя полосками бикини, – Полярный круг проходил на четыре километра северней».
«А потом он что, взял и сместился?» – хихикнула активистка Галя.
«Не то, чтобы сам, – опасливо покосился на нее капитан. – Нашлись такие, которые его сместили».
«А кому он там мешал, на четыре километра северней?»
«Товарищу Сталину он мешал. Товарищ Сталин ссылку при царе отбывал в Туруханске, а Туруханск на четыре километра до Полярного круга не дотянул. Так вот, когда объявили, что товарищ Сталин отбывал ссылку за Полярным кругом, Полярный круг пришлось передвинуть».
Сраженные наповал неумолимой логикой этого объяснения, мы решили сделать двухчасовую остановку в Туруханске. Пассажиры высыпали на берег и разбрелись по узким улочкам, тянущимся вдоль убогих домишек местного населения – какой-то разновидности индейцев по имени селькупы. В журнале этнографического общества написано, что вдоль Енисея жили когда-то вымирающие ныне охотничьи племена кетов и селькупов. О кетах я расскажу позже, а селькупы, осчастливленные нашим непривычным интересом к их скромной жизни, вынесли из домов все, чем они могли похвастаться, – грубо обработанные лосиные шкуры и свежую рыбу.
Рыбу у них купил капитан – нам на ужин, а шкуры, как оказалось, они обрабатывали не для продажи, а для собственных нужд. Одна из туристок начала умолять какого-то селькупа продать ей особо понравившуюся ей шкуру. Тот сначала упорно отнекивался, а потом сдался и объявил, что он ей эту шкуру дарит. Туристка обрадовалась, но объявила в ответ, что не может принять такой ценный подарок, и начала настаивать, чтобы он назвал цену шкуры. Селькуп еще немного поотнекивался, а потом согласился взять за шкуру десять рублей.
«Но это ведь ужасно дорого!» – возмутилась туристка и принялась отчаянно с ним торговаться. Я не стала дожидаться конца их торговли, но потом видела, как эта туристка несла к себе в каюту свернутую в трубку шкуру и громко хвасталась своей необычайно выгодной сделкой.
Покинув селькупов, мы двинулись дальше – солнце в ночи сияло все дольше, река становилась все шире, а воздух холодней. Постепенно начала исчезать тайга, – сначала она сменилась негустыми низкорослыми рощами, а потом деревья вовсе исчезли, и вдоль весьма отдалившихся берегов потянулись бесконечные равнины, поросшие светло-зеленым пухом. Начиналась зона вечной мерзлоты.
На следующий после Туруханска день мы пришвартовались у довольно большого, совершенно плоского острова. Нам навстречу вышла небольшая группа очень бедно одетых индейцев – это были вымирающие кеты. Согласно журналу этнографического общества ко времени нашего Енисейского путешествия их оставалось не больше тысячи человек.
Похоже было, что они нас ждали, и ждали с нетерпением – как только матросы теплохода сошли на берег, там началась какая-то возбужденная суета. Откуда-то из глубины острова потащили огромные садки с плещущейся в воде рыбой, а с борта теплохода стали сгружать ящики, полные водочных бутылок. Капитан радостно сообщил нам, что сегодня на ужин нас ожидает необыкновенное лакомство – вкуснейшая в мире рыба чавыча, абсолютно не поддающаяся транспортировке. Эту партию чавычи специально для нас выудили из реки всего за час до нашего прибытия, так что нам предстоит редкое удовольствие ощутить ее неповторимый вкус со всеми оттенками.
Чтобы это удовольствие не проморгать, нужно было спешить к ужину. Так что капитан отпустил нас на берег всего на один час, просто, чтобы размять ноги. В предвкушении ни с чем не сравнимого пира мы отправились на короткую прогулку по безымянному острову кетов. Недалеко от берега стояли три чума из звериных шкур, в центре каждого теплился огонь в каменном очаге, в шкурах над очагом зияла круглая дыра, предназначенная для вытяжки дыма. Мы вошли в один чум. Вытяжка там была неполноценной, и дым немедленно начал есть нам глаза. На стене чума бросались в глаза две яркие деревянные картинки, наводящие на мысль об иконах.
«Вы что – религиозные?» – спросил Саша у женщины, качающей колыбельку.
«Нет, нет, это иконы для детей», – ответила она.
«Что значит – для детей?» – озадачилась я.
«Ну, когда дети болеют, так им помогает».
Согнувшись в три погибели, мы вышли из чума наружу, и нас окружила веселая толпа кетов. Каждый держал в руке бутылку водки и со счастливым видом отхлебывал ее содержимое большими глотками. Впереди всех стояла сморщенная старуха с младенцем, не достигшим и года, который был привязан к ее спине наподобие рюкзака. В одной руке она держала бутылку, в другой – скрученную в виде воронки тряпицу. Отхлебнув глоток из бутылки, старуха втыкала в ее горлышко тряпицу и протягивала через плечо младенцу. Младенец радостно сосал тряпицу, заметно веселея на глазах.
И мне стало ясно, что даже иконы для детей вряд ли помогут охотничьему племени кетов – если их сейчас тысяча, то скоро их вообще не станет.
Вскоре после острова кетов мы прибыли в центральный пункт Енисейского судоходства – в океанский порт Игарка. Хоть Енисей еще не завершает в Игарке свой путь к Северному Ледовитому океану, ширина и глубина его там так велики, что в его порт свободно входят океанские пароходы. Мы увидели с полдюжины этих грязно-белых и оранжевых громадин, пришвартованных на необъятном рейде Игарского порта, все берега и молы которого заставлены многоэтажными поленницами корабельной сосны. А, может, не сосны, а ели – ведь без ветвей и коры эти мощные стволы, похожие на огромные бруски сливочного масла, полностью теряют свою индивидуальность.
Больше ничего мы не успели рассмотреть – нас поспешно погрузили в маленькие вагончики игрушечной железной дороги, связывающей Игарку с Норильском. Вагончики покрупней земля между Игаркой с Норильском не могла бы снести – они вместе с рельсами были бы потихоньку засосаны коварным покрытием вечной мерзлоты, которое летом выглядит как заросший вялой травой луг. Но это обманчивое впечатление – тридцать-сорок сантиметров земляного покрытия, прикрывающего вечные льды, оттаивают только на два коротких летних месяца, а в сентябре снова возвращаются в свое первозданное ледяное состояние.
В Норильске один из местных энтузиастов повел нас на экскурсию по этому странному призрачному городу, где люди упорно продолжают жить, как на Луне, – в совершенно искусственных условиях, противоречащих всем нормам человеческой природы. Он привел нас на пустынную каменную площадку, украшенную асимметрично разбросанными садовыми скамейками, и торжественно провозгласил:
«Это наш новый городской парк! Мы разбили его только год назад!»
Мы оглядели предложенный нашему вниманию голый пятачок и, не найдя в нем ничего интересного, вежливо поддержали его энтузиазм:
«Да, здорово! А когда деревья вырастут, станет совсем красиво».
Энтузиаст был задет нашими необдуманными словами:
«Но тут полно деревьев! Разве вы не видите?»
Мы повертели головами направо и налево и беспомощно развели руками – на наш взгляд в парке не было и намека на деревья.
«Да вы лучше поглядите, за тумбы и за скамейки – там всюду растут деревья, – настаивал обиженный нашей недальновидностью энтузиаст. – Вы даже не представляете, какого труда нам стоило их тут привить!»
Мы честно заглянули – действительно за тумбами и за скамейками прятались от глаз крошечные деревца разных пород, каждое высотой тридцать-сорок сантиметров.
«Но они еще вырастут?» – выразила общую робкую надежду одна из туристок.
«В нашем климате деревья не могут быть выше. Их корни быстро достигают уровня вечной мерзлоты, и дальше им расти некуда».
Нельзя сказать, что кого-нибудь из нас огорчила разлука – мы надеялись, вечная, – с печальной столицей вечной мерзлоты. С облегченным сердцем мы снова загрузились в игрушечные вагончики и пустились в обратный путь. Игарка тоже не слишком радовала глаз ни унылыми домишками, ни дощатыми тротуарами, настеленными над вязкой жижей оттаявшей на короткий срок вечной мерзлоты.
А, главное, проклятой памятью о тысячах тысяч замученных и погребенных в ее недрах – сколько их было? Кто они были? Они канули в безвестность – над их могилами нет ни плит, ни крестов, да и могил самих тоже нет. Их останки поглотила земля и засосала вечная мерзлота.
Как странно – путешествие в Игарку было для меня встречей с прошлым, а путешествие в Таджикистан оказалось встречей с будущим. Потому я и припасла его на десерт, к концу рассказа.
В Таджикистан меня отправили после третьего курса Литературного института для практического овладения тамошним языком, который представляет собой усеченный вариант великого языка фарси. Персы считают язык фарси персидским, а таджики – таджикским. Я же, чудом попавши на переводческое отделение Литинститута, жадно изучала фарси, не отдавая предпочтения ни персам, ни таджикам.
Я мечтала постигнуть с помощью их общего языка загадку великой средневековой поэзии, включающей имена Рудаки, Фирдоуси, Руми, Саади, Хафиза и, главное, Омара Хайама. Мне, действительно, удалось многих из них прочесть в подлиннике и кое-что из их творчества перевести на русский, но со временем очарование их поэзии поблекло в моих глазах и сошло на нет.
Я даже не заметила, как это случилось. Но, когда по прошествии многих лет я задумала издавать сборник своих избранных переводов «Ворон-Воронель», я не сумела выбрать для него ни одного стихотворения перечисленных мною корифеев персидской поэзии, кроме Омара Хайама.
Только он один выдержал для меня испытание временем. Все остальные показались мне напыщенными, помпезными и малосодержательными. Их витиеватые словесные узоры, несомненно, предоставляют переводчику прекрасную возможность тренировать свои версификаторские способности, не предлагая, однако, никакой пищи для души, во всяком случае, для моей.
Но во времена моего ученичества подобные крамольные мысли еще не посещали мою юную голову. Я жила в постоянном предвкушении ожидающих меня поэтических откровений, в значительной степени приумноженных своей недоступностью для других, – простых смертных, не знающих языка фарси. И я погрузилась в изучение этого красивого, богатого языка, построенного разумно, логично и экономно. После третьего курса меня отправили в Таджикистан для языковой практики.
Самолет мой вылетел вечером из аэропорта Внуково с тем, чтобы на рассвете прибыть в Сталинабад. Пассажиров было не слишком много, так что мне удалось пристроиться на двух креслах и задремать – в молодости так хорошо спится в любых условиях! Меня разбудил громкий голос пилота, который сообщил в мегафон, что, к сожалению, ему придется прервать рейс и совершить незапланированную посадку в Ташкенте. Но ждать придется недолго, заверил он нас, уже в семь утра нас отправят дальше, в Сталинабад. Хмурой полусонной толпой мы вывалились в переполненный зал ожидания, где нам сообщили, что рейс Ташкент-Сталинабад перенесен на одиннадцать часов утра.
Делать было нечего – промаявшись до половины одиннадцатого, я отправилась на летное поле искать свой самолет. Это было в те благословенные времена, когда еще никто не догадался взрывать и похищать самолеты, так что каждый желающий мог запросто гулять по летному полю. Самолет, вылетающий из Ташкента в Сталинабад, я опознала по огромной толпе, тревожно колышущейся перед его трапом. Было очевидно, что число желающих попасть этим рейсом в Сталинабад намного превышает количество мест. Начинался жаркий рукопашный бой. Неизвестно, чем бы он окончился для меня, – скорей всего, меня бы запросто оттолкнули, – но некто молодой и симпатичный из команды осторожно взял меня под локоть и, как нож сквозь масло, прошел со мной сквозь бурлящее человеческое месиво и провел вверх по трапу в салон самолета.
Как ни странно, там было безлюдно и тихо – очень немногие из беснующейся снаружи толпы смогли проникнуть внутрь. Когда салон заполнился до половины, двери задраили, и самолет взлетел в небо. Не пролетели мы и часа, как в микрофонах зазвучал голос пилота – к сожалению, сообщил он, рейс придется прервать и совершить незапланированную посадку в Самарканде. Немногие из летевших со мной вечерним рейсом из Москвы стали тревожно перешептываться – как, опять? Что бы это могло означать?
Но нашего разрешения никто не спрашивал – через четверть часа самолет приземлился на совершенно пустынном летном поле Самаркандского аэропорта. Стюардессы начали поспешно выгонять нас из самолета наружу. Стоя на верхней площадке трапа, я огляделась – ни вдали, ни вблизи от нас не было видно ни одного самолета, кроме нашего. К счастью, это было в те благословенные времена, когда еще никто не взрывал и не похищал самолеты, а не то бы я здорово испугалась.
Мое внимание отвлек разгорающийся в салоне скандал. Кто-то, обладавший высоким пронзительным тенором, ни за что не соглашался выходить из самолета.
«Я, Вася Кнопкин, – кричал тенор, – лечу в Сталинабад, вот посмотри, в билете написано! И никакого Самарканда там нет! Хватит, я уже в Ташкенте насиделся!»
В ответ невнятно защебетали встревоженные голоса стюардесс. Из неразборчивого словесного потока несколько раз выпорхнуло узнаваемое выражение «делать уборку», которое окончательно вывело Васю Кнопкина из себя:
«На хрена мне сдалась ваша уборка? И так уже на полдня опоздали – я за уборку денег не платил!» – выкрикнул он почти колоратурным сопрано.
На этой высокой ноте в женский хор вплелись мужские голоса – резкие, командные, и хор разом смолк. Через несколько секунд Васю вынесли из салона на руках, оттеснив меня к перилам, снесли вниз по трапу и поставили на асфальт. Он рванулся было обратно, но быстро смирился, осознав превосходящие силы противника. А, может, не потому что осознал, а потому что иссяк, кто его знает.
Ведь он, бедняга, не предполагал, что его приключения только начинаются.
Два часа ожидания на летном поле в Самарканде оказались тяжелее, чем ночь, проведенная на полу в зале ожидания Ташкентского аэропорта. Дело в том, что в Самарканде стояла настоящая жара среднеазиатского лета, многократно усугубленная соседством пышущего жаром самолета, полным отсутствием тени над головой и раскаленным асфальтом летного поля под ногами. Наконец, нас, коллективно сомлевших от жары, впустили в до блеска вымытый, и, как нам с пылу, с жару показалось, прохладный самолет. Пол в проходе выглядел так, будто по нему никогда не ступала нога человека. Иллюминаторы сверкали неземной чистотой, за иллюминаторами плавилось от зноя белесое небо, потерявшее цвет в слишком ярком солнечном свете. Мы плюхнулись на свои места, распрямили затекшие от двухчасового стояния ноги и коллективно расслабились.
«Летим, наконец?» – спросил кто-то.
Как бы отвечая на его вопрос, в дальнем конце пустынного летного поля появилось нечто, напоминающее свадебный кортеж. Впереди летела стайка мотоциклов с милиционерами в седлах, за мотоциклами скользили три сверкающие черным лаком «Чайки», за «Чайками» следовало с полдюжины добротных «Волг» и «Побед» благородных пепельных и бежевых тонов.
Затаив дыхание, мы прильнули к иллюминаторам. Сделав эффектный лихой вираж под хвостом самолета, кортеж резко остановился перед самым трапом. Из «Побед» выскочили торопливые люди в тюбетейках и бросились отворять двери «Чаек». Зато пассажиры «Чаек» в добротных, мало соответствующих погоде пиджаках никуда не спешили – они медленно выходили из машин, в первую очередь соблюдая достоинство, насмерть запечатленное в их осанке и в выражении их коричневых широкоскулых лиц.
Вдруг задняя дверь одной «Чайки» распахнулась изнутри, и оттуда, расталкивая тех, кто уже вышел и норовил открыть перед ним дверь, выскочил поджарый, жилистый старик с жабьим лицом, в белой пионерской панамке, в цветастых шортах и в сандалиях на босу ногу. Спружинив пятками на асфальте, он круто развернулся, сунул руку вглубь автомобиля и быстро отступил назад, выдернув оттуда как две капли воды похожую на него жилистую блондинку в цветастых шортах и в сандалиях на босу ногу, только без панамки. Когда они оказались рядом, выяснилось, что блондинка выше своего спутника на две головы, причем волосы на одной из них крашены пергидролем.
Старик в панамке громко крикнул что-то по-русски, и мотоциклисты, спешившись, бросились открывать багажники всех трех «Чаек», выбрасывая оттуда на землю груду невиданных пестрых чемоданов и огромных сумок подстать цветастым шортам их хозяев. Крашеная блондинка начала, заламывая пальцы, пересчитывать свой багаж.
Первый раз она, по-видимому, чего-то не досчиталась и стремительно застрекотала по-английски, на что старик с жабьим лицом ответил ей очень похожей по интонации тирадой, а потом опять крикнул что-то по-русски, вынудив мотоциклистов наново обыскать все три багажника. В результате в одном из них был обнаружен небольшой саквояжик с металлической ручкой, после чего началась погрузка иноземного багажа в брюхо самолета.
Несмотря на жару, широкоскулые деятели в тюбетейках затеяли торжественную церемонию прощания, но команда самолета не дала нам насладиться этим зрелищем. Она поднялись в салон и потребовала, чтобы мы все, занимавшие по пути из Ташкента передние места, пересели назад. Обалдевшие от жары и бессонной ночи, мы покорно двинулись к указанным местам, – все, кроме Васи Кнопкина. Вася же опять вытащил из кармана свой билет:
«Вот тут написано: Кнопкин Василий, место номер шесть, – пронзительным тенором прочел он. – Можете прочитать. Зачем я буду уходить со своего законного места?»
«Это очень важный иностранец, – пролепетала одна из стюардесс. – Его нужно посадить впереди».
«А я – советский гражданин Василий Кнопкин. Чем этот иностранец важней меня? – поинтересовался Вася. – Я тоже хочу сидеть впереди, тем более в билете написано «место номер шесть». А ваш иностранец, если хочет, может сесть рядом со мной, я не заразный».
После этого заявления Вася начал демонстративно пристегиваться. К этому моменту церемония за окном завершилась, и группа людей, включающая знатных иностранцев, двинулась к трапу, прощально помахивая остающимся. Тогда, не теряя времени на лишние разговоры, два дюжих мужика в летной форме быстро скрутили Васю, так и не дав ему пристегнуться, и пронесли по проходу к одному из свободных мест в хвосте самолета. Вася попробовал было брыкаться, но его крепко прижали и принудительно пристегнули – как раз к моменту появления в салоне двух иноземных фигур в цветастых шортах и в сандалиях на босу ногу.
Стюардессы бросились рассаживать дорогих гостей, но тут снова произошла запинка. Старик с жабьим лицом шепнул что-то на ухо стоявшей с ним рядом миловидной брюнетке, и она вежливо обратилась к стюардессам:
«Господин Гарриман не любит сидеть в передней части самолета. Нельзя ли предоставить ему место в хвостовой?»
Стюардессы захлопотали, проворно пересаживая пассажиров на их прежние места. Все шло гладко, пока не подошла очередь Васи Кнопкина.
«С какой стати я буду бегать взад-вперед? – возмущенно завопил он, не поднимаясь с кресла. – Я вас не просил сажать меня сюда! Вы меня впихнули сюда насильно, и я добровольно отсюда не уйду!»
На этот раз никто не стал тратить время на выяснение отношений с Васей – его опять привычно скрутили и перенесли на руках на его законное место номер шесть, где его опять крепко прижали и пристегнули. После чего остальные быстро расселись, и самолет, наконец, взлетел. Все были рады завершить поскорей этот чрезмерно затянувшийся полет.
Мы летели вдоль какого-то необычайно живописного ущелья – ведь это происходило до эры реактивных самолетов, стремительно мчащихся сквозь пространство на большой высоте. Так что наш воздушный извозчик не слишком быстро скользил в узком извилистом коридоре, образованном отвесными стенами ущелья, временами почти касаясь этих стен гораздо ниже их зубчатых снежных вершин. Все пассажиры, как знатные, так и незнатные, прильнули к иллюминаторам, следя за открывающейся их взорам захватывающей картиной, на которой были ясно видны все фазы смены пейзажа, происходящие при переходе от одной высоты к другой.
И тут прямо над головой господина Гарримана возник Вася Кнопкин. Чуть покачиваясь в такт неровному скольжению самолета над воздушными ямами, он, не говоря ни слова, протянул руку и начал шарить по креслу за спиной американца. Все пассажиры, как по команде, оторвались от зрелища за окном и, парализованные удивлением, уставились на Васю, не понимая, чего он хочет. Через секунду, вырвавшись из оцепенения, на него пружинисто налетела стюардесса:
«В чем дело? Чего вы там шарите, Кнопкин?»
Волновалась она напрасно: похоже, Вася Кнопкин уже потерял весь свой боевой запал. Смущенно улыбаясь, он пробормотал:
«Я фуражечку свою ищу. Она, наверно, между кресел провалилась».
И с торжеством вытащил из-за спины Гарримана слегка помятую кепку, которая и впрямь застряла между кресел.
Еще через час наш самолет, чистый, как слеза ребенка, приземлился в Сталинабаде. У трапа была воздвигнута переносная трибуна, на которой с цветами в руках возносилось к небу все правительство Таджикской Советской Социалистической Республики. Когда мы начали спускаться по трапу, грянула громкая музыка – это выстроившийся рядом с трибуной духовой оркестр вносил свою лепту в торжественную встречу.
Назавтра в местных газетах появилось сообщение, что в Таджикистан с дружеским визитом прибыл бывший посол США в СССР Авэрел Гарриман.
О нас с Васей Кнопкиным ни в одной газете не было ни слова.
Но это не отменило факта нашего прибытия в Таджикистан, во всяком случае, моего. Я, к сожалению, не знаю, что случилось с Васей после всех его выходок в самолете, доставившем правительству Таджикской ССР господина Гарримана в цветастых шортах и в пионерской панамке. Но я знаю, что случилось со мной.
Я стала очарованной пленницей ослепительно белого Сталинабада, ныне переименованного в Душанбе, затопленного прозрачным воздухом, который врывался из многочисленных ущелий сомкнувшегося высоко над городом горного кольца. Однако, побродив недельку по его тенистым, журчащим арыками улицам, я почувствовала, что с языковой практикой дело обстоит плохо. По сути, по-таджикски мне разговаривать было не с кем, так как круг моих новых знакомых свелся к нескольким русским интеллигентам, зачастую еврейского происхождения, которые денно и нощно крутили бюрократические колесики республики, разгоняя таким образом ее склонную к восточному застою кровь. Я начала подумывать о бегстве куда-нибудь подальше, где никто не говорит по-русски.
Многочисленные русскоязычные советчики с удовольствием помогли мне выбрать маршрут – по их словам, стоило съездить в районный центр Гиссар, где еще сохранилась древняя персидско-таджикская традиция, и в экзотические джунгли вокруг Тигровой Балки. Тигровая Балка находилась на самом юге Таджикистана, – там, где Пяндж, сливаясь с Вахшем, образует Аму-Дарью. От одного звучания этих слов у меня начиналось романтическое головокружение, и хотелось немедленно тронуться в путь.
Единственным препятствием были деньги, вернее, полное их отсутствие. На свои скромные «командировочные» я едва-едва могла прожить впроголодь, в основном, ходя по вечерам в гости, где меня кормили ужином. В гости я ходила, а не ездила, как бы далеко это ни было, потому что не разрешала себе потратиться на автобусный билет. Выходило, что заманчивые поездки по таджикской глубинке были мне не по карману.
Сперва я попыталась что-нибудь заработать, написав несколько статеек в местную газету. Но из этого ничего не вышло – надо мной поиздевались и ничего не заплатили. Я до сих пор уверена, что меня намеренно проучили, чтобы я не зазнавалась, – дескать, пускай эта столичная штучка не воображает, будто она с ходу способна вскочить в то кресло, к которому мы столько лет ползли, сбивая в кровь коленки.
И тут мои мудрые русско-еврейские советчики придумали остроумный ход конем: а почему бы мне, как будущему переводчику, не попросить денег у местного Союза писателей на благородное дело освоения таджикского языка? Я быстро написала нужное заявление, и мне устроили встречу с самим председателем Союза, легендарным Мирзо Турсун-Заде. Чем он, собственно, был легендарен, я толком так и не узнала, – разве что той ходящей по литсалонам легендой, будто все его поэмы при полном отсутствии оригиналов сочинил мой уважаемый мэтр, Семен Израилевич Липкин, не получивший потом ни гроша из присужденной за эти поэмы Государственной премии?
Мне повезло: легендарный ли, или мифический, Мирзо Турсун-Заде согласился меня принять – не без протекции, конечно, – и меня с трепетом ввели в его сильно затененный шторами кабинет. В правом дальнем углу кабинета стоял роскошный письменный стол полированного дерева, над которым едва-едва возвышался низкорослый, зато очень объемистый, всемогущий председатель. Про него без преувеличения можно было сказать, что он поперек себя шире: щеки у него по ширине были вровень с плечами, плечи вровень со столом, все остальное было скрыто от посторонних глаз мощными тумбами стола.
Великий человек молча выслушал мой сбивчивый лепет на его родном языке – я заранее заготовила свою речь, с помощью словаря разукрасив ее идиоматическими восторгами по поводу таджикского языка и таджикской поэзии. Он по-прежнему продолжал молчать, когда я произнесла последнее слово своей речи и застыла, с трудом переводя дыхание. Сердце мое учащенно билось – почему он молчит? Может, он не понял, чего я от него хочу? А хотела я тридцать рублей на дорожные расходы – для меня это была большая сумма, так как моя ежемесячная стипендия не доходила и до двадцати пяти.
Я краем глаза зыркнула на сопровождавшего меня доброжелателя, специалиста по капризам великого человека – может быть, надо чего-нибудь еще добавить? Но он, не дрогнув ни одним мускулом в ответ на мой умоляющий взгляд, тоже молчал, чуть склонив голову. Время текло мучительно медленно. Наконец через бесконечно долгий час – или это целый день прошел в молчании? – председатель, не шевельнув губами, произнес:
«Ман все равно».
После чего мой сопровождающий цепко ухватил меня за локоть и ловко вытолкнул из председательского кабинета, а потом, предостерегающе приложив палец к губам, так же молча поволок меня по коридору прочь от немедленно закрывшейся за нами двери. Когда мы вышли из зашторенного Союза писателей на залитую солнцем улицу, он, наконец, произнес первые слова:
«Поздравляю, он дал вам деньги».
«Откуда вы знаете? – не поверила я. – Что он сказал? На каком языке?»
«На таджикском. Так по-таджикски говорят, если не возражают».
Это было выше моего понимания, но деньги я получила, – целых тридцать рублей! – и даже довольно быстро, без лишней бюрократической волокиты. Первым делом я помчалась в Курган-Тюбе, откуда шел прямой, как мне по наивности казалось, путь в Тигровую Балку. Географически путь, быть может, был и прямой, но бюрократически он оказался непроходимым. Как выяснилось на месте, Тигровая Балка была на самой границе с Афганистаном, и туда не впускали без специального пропуска.
За пропуском мне пришлось отправиться в пограничную милицию, которая приютилась в какой-то отдаленной улочке. Пока я ее нашла, я чуть не потеряла сознание от жары – ходить по выжженным солнцем улицам Курган-Тюбе было вовсе не так приятно, как по продутым сквозняками улицам Сталинабада. Но главная обида состояла в том, что муки мои были напрасны – пропуска в Тигровую Балку мне не дали. Крепкоскулый начальник отдела пропусков внимательно выслушал меня и еще более внимательно осмотрел.
«С кем поедешь? – спросил он. – Попутчики есть?»
Я замялась, так как никаких попутчиков у меня не было: «Одна поеду».
«Одна поедешь, да? В Тигровую Балку? Интересно получается. Хорошая молодая девушка одна поедет в Тигровую Балку – но назад не вернется».
«Почему не вернется?» – не поняла я.
«Потому что, когда хорошая молодая девушка одна едет в Тигровую Балку, она никогда назад не возвращается. Пропуска не дам», – отрубил начальник и указал рукой на дверь, давая понять, что разговор окончен.
Я начала лепетать что-то по-таджикски, объясняя, как мне важна языковая практика, но он уже отключился от меня и стал кричать что-то в телефонную трубку. Я повернулась и пошла прочь, глотая по дороге слезы разочарования. Делать в знойном Курган-Тюбе мне было нечего. Я с трудом доплелась до автобусной станции и купила билет в Гиссар.
Зато поездка в Гиссар полностью скомпенсировала мою курган-тюбинскую неудачу. Не говоря уже о самом городке, который оказался именно таким, какие мы изучали на лекциях по этнографии Таджикистана, я попала там прямо в яблочко – на следующий день после моего приезда начинался мусульманский праздник Курбан. О том, что Курбан начнется именно завтра, рассказала мне местная учительница, Джамиля, у которой я, загодя заручившись рекомендательным письмом от одной сталинабадской поэтессы, остановилась на ночлег.
Это письмо обеспечило мне не только гостеприимный приют, но также послужило пропуском в настоящий таджикский деревенский дом, – иначе мне вовек бы его не увидеть! Проходя от автобуса по извилистым, окаймленным арыками улочкам Гиссара, я тщетно пыталась себе представить, как выглядит таинственная, полностью огражденная от внешнего мира жизнь внутри этих глухих стен. Каждая улица выглядела, как глубокое ущелье, с двух сторон стиснутое слепыми глинобитными стенами, – ни в одном из ее домов не было выходящих на улицу окон. Что они там делали, в этих домах? Никто никогда не выглядывал оттуда наружу, никто не смел заглянуть внутрь.
Я постучалась в ворота, мне открыла сама Джамиля. Я протянула ей письмо, она мельком глянула на подпись и, улыбнувшись, отступила от порога, давая мне дорогу. Я вошла и обомлела – после пыльного ада раскаленной послеполуденным солнцем улицы я оказалась в раю. По стенам вились виноградные лозы, образуя в углах тенистые беседки, вдоль струящегося поперек двора большого арыка пестрели узорчатые ковры цветов. Из одной беседки сквозь кружево виноградных листьев на меня с любопытством уставились три юные гурии в возрасте от семи до двенадцати лет – дочери Джамили.
Я вынула из сумки привезенную еще из Москвы коробку конфет и приступила к долгожданной языковой практике. Девочки больше стеснялись, чем говорили, зато Джамиля, усадив меня на коврик в тени большого дерева, поставила на низенький столик две пиалы и чайник, и мы окунулись в увлекательную беседу обо всем на свете. Из всех обсужденных нами в тот вечер тем в моей памяти остались две. Одна – о том, чем целые дни занимаются таджикские женщины в тенистой полутьме своих наглухо закупоренных домов. Оказывается, завершив свои домашние хозяйственные дела, они собираются небольшими группками в доме одной из них и, попивая душистый чай из пиал, вышивают халаты и тюбетейки своих мужей, а то и на продажу. И при этом сосредоточенно разговаривают. Спрашивается, о чем? А о том самом – старшие подробно делятся с младшими разными хитрыми способами, какими можно ублажить мужчину в постели. А младшие внимают и заучивают детали. Им и книг по эротическому воспитанию не надо.
Другая тема – о завтрашнем празднике, на который в Гиссар съезжаются верующие мусульмане со всей Гиссарской долины, потому что раньше здесь практически была столица. От столицы остались развалины древней крепости и огромная базарная площадь, куда когда-то свозили товары из всей восточной Бухары, – так назывались земли, завоеванные у восточных соседей штыками русской армии.
Назавтра я встала с утра пораньше и отправилась на базарную площадь. Шум стоял невообразимый, потому что народу, действительно, съехалось видимо-невидимо – на автобусах, на машинах, на телегах, на ослах и на верблюдах. Не говоря уже о тех, что пришли пешком. Все мужчины были одеты в некое подобие униформы – в густо-синие чапаны, слегка напоминающие старо-русские кафтаны. На головах у всех были вышитые тюбетейки. Сначала они челночно сновали по площади или стояли мелкими группами непрерывно сменяющегося состава, а я наблюдала за ними, затаившись у входа в старинное медрессе.
Потом раздался какой-то музыкальный звук, и неорганизованное броуновское движение сразу обрело форму – синие чапаны начали сноровисто выстраиваться в ровные шеренги, каждая длиной в пару сотен голов в тюбетейках. А, может, и больше, – сосчитать их было непросто, но ряды их уходили так далеко, что отдаленные головы казались меньше размером, чем ближние. Они быстро выстроились и затихли. Над огромной площадью повисла почти бездыханная тишина, только журчала вода в арыках, да где-то в отдалении пронзительно взревывали ишаки. Молчание прервала почти столь же пронзительная мелодекламация муллы, временами переходящая в полупение.
Многотысячные синие ряды стояли недвижно, словно вытесанные из камня. И вдруг голос муллы взлетел еще выше, напоминая всхлип музыкальной пилы, – и толпа на одном дыхании ахнула «Алла!» И тут же одним слаженным движением сотни рядов в тюбетейках упали на колени и, высоко задрав задницы в синем, ударились головами о хорошо утоптанную землю базарной площади. И застыли.
Я тоже застыла. Далеко-далеко уходили направо и налево одинаковые коленопреклоненные ряды воинов ислама, высоко над площадью поднимался острый запах их сильно разогретых на беспощадном среднеазиатском солнце тел, упакованных в плотные чапаны.
Такого зрелища я не видела больше никогда, хоть уже тридцать лет живу в Израиле, где арабы регулярно справляют и Курбан, и Рамадан. Наверное, у нас это выглядит не менее впечатляюще, но меня никто не пустит на это поглядеть.
И потому праздник Курбан, подсмотренный мною из-за полуприкрытой двери медрессе, остался в моей памяти воплощением сокрушительной силы ислама, не знающей ни сомнений, ни индивидуалистических метаний. Один короткий вскрик «Алла!» – и тысячи воинов ислама грохаются лбами о затоптанную многими поколениями землю, высоко вздымая к небу обтянутые синими чапанами зады.
Раздел второй. Процесс
Версия фактическая
Я спрашиваю себя – зачем я это пишу?
Андрея уже нет в живых. И Юлика тоже.
Они все дальше удаляются от нас, и человеческие их черты стираются, затуманиваются, бледнеют, превращаясь в некое обобщенное псевдогероическое лицо. Тем более что круг тех, кто их помнит, с каждым годом становится все уже. И скоро исчезнет вместе с памятью о них.
Нужно ли сохранять истинную правду о тех, кого уже нет с нами, – не о мифических фигурах, а о живых людях со всеми их достоинствами и пороками?
Не знаю.
Но какая-то сила заставляет меня ворошить прошлое, выкапывая оттуда несущественные мелочи, осколки событий, обрывки разговоров.
Сложить цельное полотно из этих мозаичных осколков оказалось довольно сложно. Ведь моя дружба с Даниэлями и Синявскими – не просто с Юликом и Андреем, но и с их женами, Ларкой и Майкой, как мы их привыкли называть в молодости, – охватывает несколько десятилетий. Наши отношения за эти годы прошли множество стадий – от равнодушия к дружбе, от дружбы к вражде и обратно, – так что и мое видение событий попутно менялось.
Поворачивая то так, то этак многогранную картину своих запутанных переживаний, я обнаружила, что она не плоская, а объемная и не поддается прмитивно-линейному изложению. Поэтому я построила это изложение так объемно, как это возможно на бумаге. Будь это в интернете, я бы скомпоновала из этой картины нечто вроде «сада разбегающихся тропок», но здесь мне пришлось ограничиться разбивкой своего рассказа на четыре различные версии, иногда дополняющие одна другую, а иногда одна другую исключающие:
1. ВЕРСИЯ фАКТИЧЕСКАЯ.
2. ВЕРСИЯ МИСТИЧЕСКАЯ.
3. ВЕРСИЯ СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ.
4. ВЕРСИЯ ЖЕНСКАЯ.
Всю ночь я летела из Нью-Йорка в Париж. Погода была штормовая, и самолет без передышки швыряло из одной воздушной ямы в другую. В какой-то макабрический момент, когда стюардесса не удержалась на ногах и покатилась по проходу между кресел, мой сосед, совсем юный, спросил – почему-то шепотом: «Как вы думаете, мы сейчас разобьемся?»
Но мы не разбились и к утру благополучно приземлились в аэропорту Орли. Было это в те почти неправдоподобные времена, когда мы, приезжая в Париж, останавливались только у Синявских. Поначалу мы пытались было селиться в недорогих отелях, но Марья, которая к тому времени уже перессорилась со всем русским Парижем, быстро это своеволие пресекла, потому что не могла контролировать, с кем мы общаемся, когда ее нет рядом.
Через час после прилета я уже звонила у ворот дома в Фонтанэ-о-Роз. К моему изумлению, отворить мне вышел Андрей, которому обычно подобные операции никогда не доверяли. Он нетвердым шагом спустился с крыльца и направился от дома к калитке, странно покачиваясь, словно его сдувало с дорожки сильным ветром.
«Марья улетела на три дня в Лондон, – сказал он, отпирая калитку, – и велела мне тебя впустить».
Хоть Марья велела меня впустить, войти он мне не давал, так как застрял в приоткрытой калитке, явно затрудняясь в выборе дороги обратно в дом. Поскольку у меня в голове тоже все качалось и плыло после бессонной ночи в борющемся со стихиями самолете, я со своим увесистым чемоданом никак не могла протиснуться в узкую щель между Андреем и калиткой. Мы покачались вместе несколько мгновений, а потом он, ухватившись рукой за столбик забора, умудрился круто развернуться и отступить в сад, открывая дорогу мне и моему чемодану.
Я покатила чемодан к дому, спотыкаясь о неровные булыжники дорожки, а Андрей поплелся за мной, приговаривая с каким-то отчаянным самобичевательным восторгом:
«Марья уехала, и я пью! Когда Марья здесь, она мне пить не дает, – вот я и пью, когда ее нет!»
Тут мы подошли к крыльцу, и я стала тащить чемодан по ступенькам вверх. Это было непросто, тем более что Андрей, думая, что он мне помогает, навалился на чемодан всей своей тяжестью. Раскачиваясь на моей руке, он выкрикивал жалобно: «Что же мне делать? Что делать? Ведь она взбесится, когда узнает, что я тут без нее пил».
Наконец, мы ввалились в прихожую. Избавившись от чемодана, я переключила свое внимание на Андрея – я представила себе Марью в гневе, и мне стало его жалко.
«А откуда она узнает? – утешила я его. – Я ей не расскажу, и ты не рассказывай».
«Ничего не поможет, она все равно узнает, – безнадежно махнул рукой Андрей. – Она ведь страницы считает, сколько я написал, пока ее нет. А я нисколько не написал, потому что когда ее нет, я пью. Она ведь, когда здесь, пить не дает, вот я и пью, когда ее нет!»
Возразить на это было трудно, да и голова у меня раскалывалась с такой силой, что мне было не до возражений. Я чуть откачнула Андрея в сторону и прошла на кухню – там царил издавна знакомый мне беспорядок. В раковине громоздилась гора грязной посуды, стол был заставлен не поместившимися в раковине чашками с засохшими чайными мешочками. Я направилась к газовой плите, намереваясь поставить чайник, но Андрей перегородил мне дорогу: «Так ты не возражаешь, что я пью?»
Я пожала плечами – как я могла возражать против того, что он делал в собственном доме? – и протянула руку к чайнику:
«Делай что хочешь, а я попью чайку и лягу спать. У меня от этого перелета голова кружится».
Но он перехватил мою руку на полпути: «Может, ты боишься, что я буду к тебе приставать?»
У меня и мысли такой не было, – он выглядел в этот миг старым взъерошенным гномиком, о каком приставании могла идти речь? Но я не хотела его обидеть и потому, разыгрывая повышенный интерес к зажиганию газовой конфорки, сказала осторожно: «Но ты же не будешь, правда?»
В ответ на что он ударился в воспоминания о какой-то поросшей мхом забвения истории пятнадцатилетней давности, когда он и впрямь ко мне очень активно приставал на глазах моего мужа и своей жены. Как ни странно, историю эту, несмотря на давность, он воспроизвел весьма реалистично, и все это для того, чтобы выяснить, не обиделась ли я на него тогда. Потому что, если обиделась, то должна его немедленно простить и поверить, что сейчас он такого безобразия не повторит. Для вящей убедительности он доверительно поведал мне, что он давно уже импотент, так что бояться мне нечего.
Однако, когда, выпив чаю, – то есть я пила чай, а Андрей прямо из бутылки какую-то жидкость цвета чая, но точно не чай, – мы отправились наверх искать для меня подходящую постель, он по-дружески посоветовал мне устроиться в Марьиной спальне: «Понимаешь, там единственная дверь с замком. Марья теперь на ночь от меня запирается, говорит, что я похабник».
Мы вошли в Марьины покои на втором этаже – там царил тот же образцовый беспорядок, но дверь и вправду запиралась. Я попыталась выпроводить Андрея на лестницу: «Ты иди вниз и пей, а я помоюсь, переоденусь и пару часов посплю».
Он с легкостью согласился и повел меня в ванную, напомнив мне на прощанье, чтобы я не забыла запереться. Я наскоро помылась, набросила халат и вернулась в Марьину спальню, старательно закрывши замок на два поворота. Но лечь в кровать мне не удалось – там уже, сладко похрапывая, спал хозяин дома.
Я на секунду опешила, но будить его не стала, а отперла дверь и отправилась на поиски другой подходящей постели. Для начала я поднялась на третий этаж в кабинет Андрея и не поверила своим глазам. Кабинет, как видно, только что отремонтировали, и там было безукоризненно чисто, стены были оклеены новыми обоями, диван не продавлен, нигде ни пыли, ни разрозненного бумажного мусора. В центре блестящего полированного поля письменного стола одиноко белела стопка бумаги – верхний лист был наполовину исписан размашистым крупным почерком. Не в силах преодолеть любопытство я, зная, что нехорошо читать чужие бумаги, все-таки прочла:
«Подумать только – голос такой чистый, речи такие возвышенные, такие культурные, а у самой – пизда!» (Цитирую по памяти, но главное охальное слово привожу точно, ибо до того, кажется, знала его только на слух.)
Опасаясь что-нибудь нарушить, я не решилась улечься спать в таком угнетающе аккуратном помещении и спустилась по лестнице в комнатку попроще, без дорогих обоев и полированного стола, но тоже чисто убранную. Она находилась в точности под кабинетом Андрея и представляла собой упрощенную его копию – на том же месте окно, диван, книжные полки, только все более скромное. В центре письменного стола вместо стопки писчей бумаги лежала открытая разлинованная тетрадь, исписанная аккуратным мелким почерком. Я наклонилась к ней и прочла:
«Она говорит так умно и понимает то же, что и я. Как странно думать, что она – женщина!» (Опять цитирую по памяти, не дословно.)
«Во дает Синявский! – восхитилась я. – Я всегда знала, что он человек с двойным дном, но могла ли я представить себе, как он, перевоплощаясь, бегает вниз и вверх по лестнице, чтобы разным почерком и разными словами писать хоть не то же самое, но похожее?»
В этом кабинете поскромней я и легла спать. И только к вечеру, проснувшись, обнаружила, что это детская двенадцатилетнего сына Синявских, Егора.
И что тетрадь тоже его.
И что Андрей пишет новую книгу, роман-исповедь «Спокойной ночи», пишет трудно, без радости. Но только когда книга эта вышла из печати, я поняла, почему Марье приходилось считать страницы – может, если бы она их не считала, он бы никогда ее и не дописал, так натужно и не по-синявски напряженно тянется текст и цепляются друг за дружку главы, задавая порой неразрешимую загадку – зачем они тут?
Зато потом, на кухне, пока я мыла чашки, Андрей увлеченно расписывал мне проект другой своей книги, за которую он возьмется, как только покончит с этой, будь она проклята! Та, другая, предполагалась быть о зловредном мальчишке, погубившем поочередно всех членов своей семьи, и имя ей было уже придумано – «Крошка Цорес». Образ крошки Цореса был Андрею душевно дорог и распалял в нем целую гамму чувств – с бутылкой в руке он метался из угла в угол, увлеченно выуживая из памяти зловещие детали гибели высоких и статных старших братьев маленького судьбоносного уродца. И мне было ясно, что я присутствую на редкостном спектакле – передо мною выступал истинный Андрей Синявский – Абрам Терц двойным дном наружу!
А вот другое воспоминание – намного позже, на целую жизнь: через несколько лет после нашего отъезда.
Мы сидим с Андреем и Марьей в очередном хлебосольном иерусалимском доме вокруг стола, уставленного всякой аппетитной снедью в честь заезжих знаменитостей. Они как раз завершили работу над первым номером журнала «Синтаксис», и речь за столом идет исключительно о журнальном деле. Правда, и хозяева, и остальные гости к этому делу никакого отношения не имеют, но все вникают в речи парижских гостей с глубоким почтением. Марья, гордясь собой и желая подчеркнуть свое превосходство, критикует нас с Сашей за неправильную позицию, политику, выбор авторов и все остальное журнала «22», а Андрей пытается ее урезонить: «Ну, что ты стараешься, Марья? Они же нам не компаньоны, а конкуренты».
«А это мы сейчас выясним, – восклицает Марья с очевидным подвохом. – Вот пусть скажут, зачем они журнал издают!»
И обращается ко мне – глаза ее искрятся разоблачительным восторгом. Я не сразу нахожусь, что ответить. Мы к тому времени только-только успели выпустить три номера журнала «22» и еще не доросли в этой деятельности до экзистенциальных вопросов типа «зачем» и «почему».
«Чтобы печатать те произведения, которые никто другой не напечатает», – наконец говорю я нетвердым голосом, как школьница, сдающая трудный экзамен и не уверенная в правильности ответа:
«Вот и дураки! – радостно объявляет Марья. – А я издаю журнал для того, чтобы меня боялись!»
И обводит присутствующих победительным взглядом.
А нам, лопухам, даже в голову не приходило, что кто-то должен нас бояться!
И ведь ни ей, ни нам не дано было предвидеть, что именно в нашем журнале, в номере 48, через много лет появятся разоблачающие Андрея показания С. Хмельницкого под титлом «Из чрева китова», которые никто кроме нас не решился бы тогда опубликовать. Показания эти, как и их предыстория, заслуживают, возможно, отдельной книги – романа-триллера, не меньше, – а пока я попытаюсь рассказать о них в нескольких абзацах. Тем более, что 48 номер журнала «22» стал библиографической редкостью и даже в нашем архиве остался один-единственный, рассыпающийся на отдельные листочки, экземпляр.
Вот его зачин:
«Последнюю часть своего выдающегося произведения «Спокойной ночи» Андрей Синявский почти всю – больше ста страниц – посвятил мне… Я мог бы сознаться, что нахожу эту книгу плохой – безвкусной, вычурной, претенциозной… Но Бог с ней, с книгой. Поговорим о моем портрете, нарисованном в ней. Этот портрет ужасен. Я представлен… «скорлупой», из которой вырезана душа. Все гнусное, что может сказать человек о другом человеке, тем более – о долголетнем друге и соучастнике, сказал Андрей обо мне. Сказал, справедливо полагая, что в контраст с моей черной личностью его собственная безупречная личность чудесно высветится. Кроме того, тут веет и совсем высокими материями: философский дуализм, извечная борьба тьмы со светом. Потому что если я есть воплощенное зло, то сам Андрей получается воплощенным добром… Я защищаю себя еще и потому, что, публично очернив мою скромную личность, Андрей нарушил неписанный закон, соблюдавшийся нами долгие годы – закон молчания о вещах, которые нас обоих совсем не красили.
…Андрей хорошо описал появление в его, а потом и в моей жизни Элен Пельтье Замойской. Она была…символом иного, нам недоступного существования… А потом меня пригласили в особую комнату и я стал секретным сотрудником, «сексотом» или, если хотите, стукачом. С подпиской о неразглашении… И тут меня осенило. А. Д. встречался с Элен куда чаще меня. Не могли они обойти его своим вниманием. И задумал я узнать у друга правду. И гуляя с ним по Гоголевскому бульвару, сказал ему: «Слушай-ка, ты часто докладываешь о своих встречах с Элен?» И друг честно ответил: «Обычно раз в неделю». Потом дико взглянул на меня и спросил: «Откуда знаешь?» Так мы вступили в неположенный, по правилам Органов, контакт. Было установлено, что «курирует» нас один и тот же деятель и… мы договорились о координации наших докладов».
Не стану пересказывать всю драматическую историю Сергея и Андрея, изложенную в этих показаниях весьма искусно, – я думаю, и так все ясно. Не могу однако, не отметить, что при чтении этого потрясающего документа, чем-то напоминающего «Человека из подполья» Ф. Достоевского, по спине бегут мурашки. Вот что написал Саша Воронель в статье, предваряющей эту публикацию:
«Пятьдесят лет назад начали эти люди свой жизненный путь вместе. С коротких штанов началась их дружба-соперничество… сопровождаемая смертельным страхом и ледяным недоверием. И ложью. Возможны ли такие отношения? Может быть, только такие и возможны? Они делились мельчайшими движениями души. Они упивались взаимопониманием… При этом Синявский пишет, что в любой момент ждал ножа в спину. Я думаю, что подобное свидетельство эпохи еще не было опубликовано».
И все же на публикацию рукописи Хмельницкого мы решились не только из морально-эстетических побуждений, но и потому, что поведение Синявского после его отъезда в Европу стало нам к тому времени казаться сомнительным. У нас накопилась некая цепочка не укладывающихся ни в какую благожелательную концепцию фактов. Особенно терзала нас его доведенная до бессмыслицы, непостижимая вражда к «Континенту» В. Максимова, в которую он во что бы то ни стало хотел вовлечь и нас, и наш журнал. Можно было подумать, что уничтожение «Континента» стало главной жизненной задачей парижского периода жизни Андрея. Последней каплей, убедившей нас, что имеет смысл обнародовать свидетельство Хмельницкого, был неприемлемый для нормально-либерального разума отказ Андрея выступить в защиту А. Д. Сахарова, похищенного тогда советской властью и упрятанного невесть куда.
Как раз в разгар борьбы всех «демократических сил» мира за освобождение Сахарова, в Иерусалиме проходила международная конференция памяти Б. Пастернака, на которую Синявский был приглашен почетным докладчиком. В. Б. – оператор израильского телевидения российского происхождения, большой поклонник Абрама Терца, склонил свое начальство отправить его съемочную группу в Иерусалимский университет, чтобы взять у Синявского интервью в защиту Сахарова. Только тот, кто знает пристрастия израильского телевидения того времени, поймет, как трудно было уговорить его руководство потратить несколько минут драгоценного телевизионного времени на какую-то малоинтересную русскую тусовку.
Телегруппа втащила свое оборудование в вестибюль, ведущий в зал заседаний. За стеклянной дверью зала хорошо просматривалась гордо восседающая в центре почтенного академического сообщества чета Синявских. Установив камеры и свет, оператор начал жестами вызывать Андрея. Тот неуверенно поднялся и вышел в вестибюль, чего Марья, увлеченная каким-то спором, поначалу не заметила.
«Я от израильского телевидения, – представился В. Б. – Я хотел бы взять у вас интервью».
«Вы говорите по-русски! – просиял Андрей, обожавший рекламу. – Валяйте, берите свое интервью!»
«Как вы относитесь к тому, что академик Андрей Сахаров исчез, и вот уже больше месяца советские власти отказываются сообщить, где он и что с ним?»
Улыбка Синявского угасла:
«При чем тут академик Сахаров? Я думал, мы будем говорить о литературе, а не о политике».
«Но ведь… академик Андрей Сахаров… его жизнь в опасности… и мы все должны…» – пролепетал обескураженный В. Б.
К этому времени из зала выскочила встревоженная Марья – не в ее привычках было надолго выпускать Синявского из-под надзора. Она с ходу обрезала зарвавшегося журналиста:
«Писатель Синявский никому ничего не должен. Он литератор и никаких политических заявлений делать не собирается!»
Оператор В. Б. представил себе, какое выражение лица будет у начальника отдела новостей, когда тот услышит, что с идеей интервью ничего не получилось, и рассердился:
«Тогда я сниму, что вы отказываетесь выступить в защиту Сахарова!» – объявил он и направил камеру на писателя, совсем недавно заслужившего мировую славу жертвы советского режима. Но он не знал, с кем имеет дело, – крыльями раскинув руки и выпятив грудь, разъяренная Марья закрыла собой тело мужа, совсем как Александр Матросов.
«Ничего вы не снимете! Я не позволю!»
«Свет!» – крикнул оператор и, стараясь проигнорировать Марью, включил камеру – он все еще не понял, с кем имеет дело.
Марья подпрыгнула и ловко стукнула сумочкой по лампе прожектора.
«Убери камеру, сука, а не то я вам тут все лампы разобью!» – завопила она и снова замахнулась сумочкой.
«Слушай, Вик, пойдем отсюда, ну ее ко всем чертям!» – сказал осветитель, боясь за свои драгоценные лампы, и решительно выключил свет.
На том эта история и закончилась, оставив в недоумении многочисленных свидетелей, высыпавших из зала на крики и грохот.
Все задавали себе и друг другу один и тот же вопрос: почему Синявские так страстно отказывались сказать хоть слово в защиту Сахарова? Они ведь были хорошо знакомы с Андреем Дмитриевичем и бывали у него в гостях – мы сами их туда привели. И бояться им было нечего – они уже давно и благополучно жили в Париже, пользуясь даже известной благосклонностью советского посольства. И только информация, представленная сообщением С. Хмельницкого, могла пролить хоть и смутный, но все же свет на причины их странного поведения.
Публикация показаний Хмельницкого в нашем журнале положила конец нашей многолетней дружбе с Синявскими. И мы почти перестали ездить в Париж – без постоянного, порой невыносимого, присутствия Марьи, до этой ссоры зорко не выпускавшей нас из поля зрения, прекрасный город как-то опустел и потерял для нас половину своего магического очарования. Разве порой, проходя по усыпанным осенними листьями бульварам, мы замечали поспешно промелькнувшую мимо тень Марьи, пролетающей на метле, но охотилась она уже не на нас, а на кого-то другого.
И мы чувствовали себя осиротевшими.
О чем мы грустили – о навеки потерянной неволе любви и ненависти? Или нас просто терзала ностальгия по собственной прошедшей молодости?
Ностальгия по тому времени, когда еще были надежды, по тому дружескому кругу, который еще не знал партийных разногласий, по той светлой уверенности в своей правоте, которая может возникнуть действительно только в трагических обстоятельствах.
Люди всегда остаются людьми – с недостатками, пороками, мелкими чувствами, с болезнями, склоками, ошибками. Однако масштаб личности определяется не ее слабостями и просчетами, а тем завихрением пространства, которое она вокруг себя создает. Синявский и Даниэль были не идеальные схемы, а люди из плоти и крови, очень разные – Андрей – лукавый сосуд с двойным дном, Юлик – прозрачный и открытый, весь как на ладони. Однако судьба у них оказалась общая – они стали культовыми фигурами, потому что создали вокруг себя потрясающее завихрение пространства. Из-за этого завихрения течение истории России, а, может, и всего мира, – изменило свой курс. И изменило судьбы многих, втянутых в эту воронку.
С Даниэлями мы подружились в самом начале нашей московской жизни, когда мы с Сашей, веселые и бездомные, порхали над зазывными огнями большого города, не зная, где нам приведется приземлиться. Мне, как всегда, повезло – старый харьковский друг привел меня в дом Даниэлей, чтобы повидаться с кем-то, кого я давно забыла. Я вошла в этот дом – и там осталась. Саша забежал туда за мной – и тоже остался, как прикипел.
Надолго. Тогда нам казалось – на всю жизнь. Но жизнь оказалась длинней и коварней.
Жили тогда Даниэли в старом доме в Армянском переулке. Им принадлежала узкая асимметричная комната, сконструированная из округленных стен различного радиуса, причудливо пересекающихся под разными углами. Сами стены эти, по утверждению хозяев, состояли из прессованных клопов, что подтверждалось неутомимой передислокацией несчетных полчищ клопов живых. «Они время от времени воскресают, а потом опять превращаются в прессованных», – всерьез поясняли хозяева свое нежелание предпринимать какие бы то ни было шаги к избавлению от насекомых: все равно, мол, не поможет.
Хозяева были веселые и молодые, – Господи, как давно это было! – их звали Лариса и Юлик Даниэль. Они ничем еще не были знамениты: никому не дано было тогда провидеть Николая Аржака, героя всемирно известного процесса Синявского-Даниэля, в сутуловатом черноглазом красавце с длинной верхней губой, который, когда я вошла, проворно бросал пригоршни клопов в открытый чемодан, заполненный блузками и нейлоновыми чулками. И уж конечно никому не дано было провидеть «мать русской революции» Ларису Богораз в темнолицей растрепанной вакханке, ловко сшибавшей зазевавшихся клопов с потолка и со стен в тот же чемодан. Так они сводили счеты с чрезмерно зажившейся у них провинциальной гостьей, которой чемодан принадлежал.
Такими я увидела Даниэлей, когда впервые переступила порог их беспутного дома. Я вошла туда непрошеная, незваная и ни с кем не знакомая, но никто не удивился: в этот дом все так входили, не ожидая приглашения. Хозяева и гости продолжали гоняться за клопами, не обращая внимания на мальчика Саню лет четырех, который сидел на горшке в углу и самозабвенно читал «Госпожу Бовари» Флобера. В особо трогательных местах он плакал беззвучно, не рассчитывая на утешение, – совсем как взрослый.
Дом Даниэлей был для меня открытием мира. Мы были тогда совсем зеленые, только что из провинции, тыкались, как слепые котята в джунглях чужого, равнодушного к нам огромного города. И вдруг таинственный «сезам» отворил перед нами дверь в глухой стене, и мы попали в самый центр, на какой-то ослепительный бал, где все сверкало, пенилось и кружилось. И этот бал не прекращался много лет. Со временем нам открылся вход во многие другие дома, но все это было потом. А тогда – это было первое приобщение к той жизни, о которой мы мечтали. К сладкой жизни…
Бывало, мы заявлялись к Даниэлям во вторник и уходили только в субботу. Четыре дня подряд! Не ходили на лекции, не ходили на работу… И не спали. Или спали, не раздеваясь, – дремали и просыпались. Какие-то люди входили, сбрасывали пальто в угол возле дверей и садились куда придется – кто на пол, кто на подоконник. Приносили рукописи, читали стихи, делились литературными сплетнями, обсуждали последние культурные новости. Иногда народу было так много, что не все друг друга знали. Однажды какой-то завсегдатай литературных салонов натолкнулся в толпе на Юлика и радостно воскликнул: «Привет, старик! А ты как сюда попал?»
Помню, мы как-то привели к Даниэлям одного юного поэта. Мы пришли с ним в семь вечера, а к семи утра, когда он не явился домой, его мама уже обежала все московские морги и больницы – мальчишка забыл ей позвонить, так он был потрясен тем, что ему в этом доме открылось. Поистине – открылась бездна, звезд полна!
Даниэли были центром литературного завихрения, превращающего в подлинную жизнь виртуальные трепыхания прядильщиков слов. В эпицентре всегда был Юлик. Толпы поэтов ходили к нему читать стихи – у него был абсолютный слух на поэзию. Он на лету схватывал оригинальный образ и с ходу различал несамостоятельность, фальшь, притворство. Он интуитивно понимал, когда люди говорят искренно, когда становятся в позу.
Помню, пришли мы с ним однажды в Дом литераторов – давным-давно, еще до процесса, до того, как он стал московской достопримечательностью. И столкнулись в вестибюле с маленьким человеком-птичкой – острый клювик, блестящие глазки-бусинки за толстыми стеклами очков, поэт-философ Гриша Померанц. Вступили в беседу. Беседа была очень возвышенная – о тонких материях и ускользающих истинах. Гриша говорил, горячо, красноречиво, мы с Юликом внимали, почтительно кивая в знак согласия.
Наконец, Гриша покинул нас – то ли иссяк, то ли нашел других слушателей. Только он отошел, как Юлик выразительно вскинул руки и произнес, сильно грассируя, фразу из известного анекдота об интеллигенте, приценивавшемся к античной вазе: «Усха-а-аться можно!»
Юлик был истинный литературный критик, чутьем отличавший подлинное от подделки. Чего я не могу сказать о литературных критиках-профессионалах – похоже, превращение литератора в официального судью своих собратьев по перу отшибает у многих из них истинное понимание. В печальный список глухих к чужому слову ценителей этого слова я с горечью включаю и Синявского, – мне пришлось убедиться в этом не раз на протяжении многих лет нашей садо-мазохистской дружбы.
Подружились мы с Синявскими отнюдь не сразу, а только через несколько лет после первой встречи. Первый раз я увидела их под аккомпанемент странной фразы, прозвучавшей мне навстречу еще до того, как я вынырнула из-за старого платяного шкафа, отгораживающего комнату Даниэлей от любопытных взглядов многочисленных соседей.
«Что хуже – убить или украсть?» – спрашивал незнакомый голос, произносивший русские слова с едва заметным искажением, будто спотыкаясь на каждом звуке.
Я тихо проскользнула в комнату – гостей было немного. Одеты они были непривычно красиво и вели себя не по-русски вежливо – не кричали, не размахивали руками, не перебивали друг друга, хоть поднятый ими вопрос взволновал всех чрезвычайно.
Юлик бросился в бой первым – он яростно отстаивал преимущества воровства перед убийством, его собеседники вежливо, но настойчиво возражали, так что по мере нарастания спора оба эти деяния обрели некий романтический ореол, и уже казалось не зазорным ни убить, ни украсть. Гости, которые вытащили этот диковинный вопрос на обсуждение, были сами столь же диковинны – они были иностранцы, настоящие французы из Парижа. Я опознала их сразу, хоть не видела до тех пор вживе ни одного иностранца: год шел пятьдесят шестой, и створки железного занавеса только-только начали давать трещину, чуть приржавленную по краям. В эту-то трещину и пролезли два иноземных слависта, отличавшихся от нас не столько дубленками и ароматом неведомых нам деодорантов, сколько полным неприятием идеи воровства.
Главным их оппонентом был невзрачный бородач, обладатель косого глаза и неотразимого красноречия. Он возражал кровожадным французам, готовым оправдать убийство, продиктованное высокой страстью, с позиций, поразивших меня тогда не менее, чем сама тема диспута: «Убить – значит загубить душу. А душа священна, она дана человеку Господом, и человек не смеет ее отнимать. А вот вещи не существенны, они – дело рук человеческих, их и стибрить не грех».
Французы слова бородача отмели с налету, ибо, заявили они, не душа священна, а собственность. Но поскольку у нас с Сашей никакой собственности не было, для меня, наивной девочки из провинциального города Харькова, слова косого бородача прозвучали музыкой сфер.
«Кто он?» – спросила я свою соседку, высокомерную блондинку монашеского вида.
«Мой муж, Андрей Синявский», – гордо ответила блондинка, неприязненно сверкнув на меня выпуклыми линзами очков.
Имя это ничего мне не сказало, ведь мне не дано было тогда провидеть будущего злокозненного нарушителя спокойствия Абрама Терца в этом велеречивом представителе русского народа, утверждавшем его духовную исключительность на основании его артистической склонности к воровству.
И вообще никому ничего не дано было тогда провидеть, время еще не пришло. Была тогда оттепель, время больших надежд и больших ожиданий, – казалось, что все еще может наладиться и пойти по-хорошему. Еще не написаны были «Суд идет» и «Гололедица», еще не задуманы «Искупление» и «Говорит Москва». Еще не полностью определилось коренное расхождение между советской властью и советской интеллигенцией, и советские танки не ворвались в притихшую Прагу. Все это было еще впереди.
А пока квартира в Армянском переулке жила своей особой, трудной и восхитительной жизнью, кажущейся мне теперь почти безумной. Помню, как однажды Ларка весь вечер простояла, склонясь над обеденным столом, на который она водрузила полученную от кого-то в подарок старую тахту. Дело было в том, что тахта не помещалась в полукруглой выгородке, служившей Даниэлям спальней, и Ларка решила отпилить от нее один угол. Пила у Ларки была тупая, а дерево, из которого была сделана тахта, оказалось невероятно твердым, так что работа, представлявшаяся поначалу простой, затянулась до полночи. Наконец под торжествующий Ларкин вопль проклятый угол с грохотом рухнул на пол, и Юлик с Сашей потащили тахту в выгородку. С трудом протиснув громоздкое сооружение в узкую щель, соединявшую выгородку с комнатой, они обнаружили, что Ларка отпилила не тот угол. Не помню, чем эта история закончилась, – по-моему, Ларка потратила вторую половину ночи на отсечение другого угла, в результате чего дважды обрезанная тахта вписалась в выгородку и стала воистину соответствовать головокружительной архитектуре даниэлевского жилья.
Вообще, как ни странно, весь образ жизни этой семьи соответствовал фантастической архитектуре их комнаты, вырезанной из огромного бального зала в форме ломтя круглого торта, так что у основания она выглядела как острый угол, а у вершины огибалась двумя сходящимися дугами, украшенными по краю остатками лепного карниза, завершающими сходство с тортом.
В те времена кроме Синявских постоянным гостем дома Даниэлей был их ближайший друг, Сережа Хмельницкий, о котором я здесь писать не буду, – человек он особый, достойный отдельной главы в моих воспоминаниях, но можно прочесть о нем у Синявского в романе «Спокойной ночи». Эти трое – Юлик, Андрей и Сережа – были дружны задолго до того, как мы высадили в их мирок свой десант.
Каких только типажей не заносила в этот дом судьба. В появлении некоторых из них была повинна и я – и об одном мне хочется рассказать, очень уж экзотичен!
Я тогда переводила «Балладу Редингской тюрьмы» О. Уайльда и регулярно возила переведенные куски Корнею Чуковскому, внимательно следившему за моим продвижением по этому неподатливому для русского слова тексту. Приезжаю я однажды в Переделкино, а Корнея Ивановича нет дома. Экономка Маша проводит меня в гостиную со словами «велел ждать» и оставляет там в обществе красивого моложавого человека, листающего книжку, заполненную иероглифами. Естественно, между нами завязывается беседа, и незнакомец сообщает мне, что он приехал, чтобы возвратить К. И. его книжку, переведенную на японский язык, которую он брал почитать. Дальше между нами происходит быстрый диалог, больше подходящий для театральной сцены, чем для реальной жизни – не следует забывать, что год тогда стоял то ли 1956-й, то ли 1957-й, и заграница казалась мне досужей выдумкой изобретательного ума.
Я: А где вы выучили японский язык?
Он: В университете, в Токио.
Я: А как вы попали в Токио?
Он: Сел в самолет в Лондоне и прилетел в Токио.
Я: А как вы попали в Лондон?
Он: Сел в самолет в Женеве и прилетел в Лондон.
Я: А как вы попали в Женеву?
Он: Сел в самолет в Александрии и прилетел в Женеву.
Я: А как вы попали в Александрию?
Он: В Александрии я родился.
Токио, Лондон, Женева, Александрия – ну и набор! Значит, все эти города существуют, и в некоторых из них можно даже родиться! Но тогда возникает главный вопрос: «А как вы попали сюда?»
Он: Из Владимирской тюрьмы.
Я: А как вы попали во Владимирскую тюрьму?
Он: Меня привезли туда из Мукдена.
Я: А как вы попали в Мукден?
Он: У меня там до войны был бизнес – двадцать четыре текстильные фабрики и банк.
Я: Да кто вы такой, черт побери?
Он: Вы хотите узнать мое имя? Меня зовут Харун ибн Кахар, шейх Уль-Мюлюк, эмир Эль-Каири.
Я: (задохнувшись) Еще раз, простите?
Он: (с невозмутимой улыбкой) Харун ибн Кахар, шейх Уль-Мюлюк, эмир Эль-Каири.
Мы потом назвали этим именем нашего щенка, но пришлось сократить его до простого Харуна – слишком уж получалось непроизносимо. Конечно, он кокетничал необычностью своей биографии, но это не помешало мне – а, может, даже и помогло – с ходу принять решение: человека с такой биографией не упускать. Тем более что шейх Уль-Мюлюк, эмир Эль-Каири, закончив свои дела с К. И., вовсе не торопился уходить, а дождался, пока я закончила свои, и мы вместе отправились в Москву. По дороге он объяснил мне, откуда у него такой отличный русский – много лет он провел в одной камере со знаменитым ныне, а тогда старательно вычеркнутым из народной памяти поэтом Даниилом Андреевым, сыном Леонида Андреева, и тот все эти годы обучал его языку, воспитывая себе читателя и собеседника.
Я, затаив дыхание, слушала его рассказ, сопровождавшийся чтением стихов Даниила Андреева, а он, истолковавши мое внимание по-своему, пригласил меня назавтра в «Националь».
Стыдно признаться, но я была настолько наивна – а, по другой версии, настолько хитра, – что пришла на это свидание в сопровождении мужа и еще одного приятеля, которым все уши прожужжала удивительным новым знакомым. Увидев меня в такой компании, Харун на миг задохнулся от возмущения, но тут же взял себя в руки, и мы провели отличный вечер, хоть заплатил за всю ораву Саша, а Харун демонстративно дал огромные чаевые оторопевшему гардеробщику.
В результате мы с ним подружились и, конечно, незамедлительно повели его к Даниэлям. Там с любопытством его выслушали и тут же забыли, переключившись на какой-то новый объект интереса. Однако он не отстал, а прилепился к Сереже Хмельницкому, с которым открыл небольшой бизнес по переводам японской прозы на русский язык – он делал подстрочники, а Сережа, поэт, человек литературно очень одаренный, полировал их и превращал в хорошую русскую прозу. Выяснилось, что Харун – почти бездомный и живет со своей недавно обретенной женой – работницей подмосковной текстильной фабрики, за ширмой в огромной комнате женского заводского общежития. Поэтому часто, после работы над очередным японским рассказом, он оставался ночевать у Сережи, который сам с большой семьей жил в одной, – правда, большой и разгороженной шкафами, – комнате в коммунальной квартире.
Однако мысль о слишком романтической биографии Харуна не давала Сереже покоя. И вот как-то ночью он вылез из-под одеяла, на цыпочках прокрался к висящему на спинке стула пиджаку спящего гостя и, дрожа от страха, вытащил у того из кармана паспорт. Зажав его в потной ладони, Сережа, «как был, неодет, в исподнем» (цитата из стихов С. Хмельницкого) выскользнул из комнаты в туалет и там прочел, что владелец паспорта – Рахим Зея, татарин, место рождения – город Мукден, Маньчжурия. А ведь мы до того выяснили, что в картотеке Института ВИНИТИ, где наш Харун подрабатывал рефератами статей из японских журналов, он числится под своим труднопроизносимым именем из «Тысячи и одной ночи»!
Вся наша компания пришла в возбуждение – что бы это могло означать? И вот однажды, набравшись смелости, я спросила Харуна, почему в каких-то кругах его называют Рахим Зея. Он поднял брови – в каких это кругах? Я неопределенно махнула рукой – среди переводчиков с арабского и фарси. Это прозвучало почти правдоподобно, так как я тогда и впрямь переводила с фарси и водилась с себе подобными. Не знаю, поверил он мне или нет, но отрицать не стал – он-то знал, что написано в его паспорте. И рассказал очередную драматическую историю, как после выхода из тюрьмы ему выдали паспорт на имя Рахима Зея, татарина, место рождения – город Мукден, и выслали в грузинский город Зугдиди, откуда ему удалось вырваться только благодаря удачной женитьбе на работнице подмосковной текстильной фабрики.
А в ответ на требование новоявленного татарина вернуть ему его фамильное имя, ему довольно грубо заявили, что Харун ибн Кахар, шейх Уль-Мюлюк, эмир Эль-Каири, место рождения – город Александрия, Египет, скончался после тяжелой болезни в 1945 году; юридически заверенная справка об этом давно отправлена его скорбящим родственникам. А двадцать четыре текстильных фабрики и банк перешли в собственность Китайской Народной Республики, не допускающей на свою территорию иноземных эксплуататоров. И посоветовали поскорее забыть свое прошлое, если он не хочет, чтобы подтвержденные справкой факты подтвердились самой жизнью.
До сих пор не знаю, что в этой истории было правдой, что выдумкой, хоть потом на протяжении долгих лет сталкивалась с Харуном на разных переводческих тусовках. Из дома Даниэлей его, однако, потихонечку вытеснили – скорей всего, по требованию Марьи Синявской, которой было чего опасаться.
Нас Марья вначале тоже сильно невзлюбила, потому что не хотела терпеть десантников, высадившихся на ее территории. Кроме того, ревнивая женская интуиция немедленно подсказала ей, что нас у Даниэлей признали родными, а она хотела, чтобы родными были только они с Андреем, да разве еще Сережа, хоть к нему она всегда относилась настороженно. И не без оснований. Но все же терпела его – ведь это он познакомил ее с Андреем, с которым дружил с детских лет. Боясь слишком уж отвлечься от основной линии, все же не удержусь упомянуть, что в этой детской дружбе периода «до Юлика» был еще и третий мальчик – Коня Вульф, сын немецкого писателя-коммуниста, ставший впоследствии Президентом Академии художеств ГДР, а главное – родной брат грозного начальника Штази Маркуса – а по-нашему Миши – Вульфа.
Несмотря на Марьино недовольство, мы скоро стали почти неразлучны с Даниэлями и Сережей. Они приезжали к нам, в нашу подмосковную глушь – бегать на лыжах, собирать грибы, купаться в реке. Смотря по сезону. Мы приезжали к ним, ночевали то тут, то там – это был настоящий запой!
Андрей же к нам не ездил, да и у Даниэлей появлялся нечасто – он тогда делал карьеру в литературе и берег себя. Нас он сторонился, был он человек сложный, с двойным, а то и тройным дном – это чувствовалось сразу. Когда через много лет он прочел нам свою повесть «Пхенц», о пришельце из другого мира, мы сразу решили, что он написал о себе. Даниэли бегали к Синявским в гости тайком от нас, а мы, догадываясь об этом, ревновали и ужасно обижались. Мы ведь и не подозревали об их тайной деятельности, а они, небось, были уже ею всецело поглощены.
Из-за этих таинственных встреч наших друзей с Синявскими мы даже как-то провели ночь в милиции. Поздним зимним вечером мы засиделись у Даниэлей и решили остаться у них ночевать. Жили мы тогда в отрезанном от мира подмосковном поселке, куда после восьми вечера не ходил никакой транспорт. О такси не могло быть и речи – у нас и на троллейбусный билет не всегда хватало. И вдруг, сильно за полночь, раздался пронзительный телефонный звонок – телефон был коммунальный и висел в дальнем конце коридора. Юлик сразу понял, что звонят им, и стремглав ринулся в коридор, надеясь добежать до телефона прежде, чем разбуженные звонком соседи устроят скандал. Вернулся он озабоченный и, не глядя нам в глаза, пробормотал:
«Братцы, простите, но вам придется уйти. К нам сейчас приедут одни люди… – он замялся, – я не могу сказать, кто. Они не хотят, чтобы их тут видели».
«Куда же мы пойдем среди ночи?» – ахнула я, не веря своим ушам, и посмотрела на Ларку, которая всегда декларировала свой возвышенный гуманизм. Но она молчала, – вероятно, догадывалась, о ком идет речь.
Саша спорить не стал, он схватил в охапку наши жидкие пальтишки, и мы выкатились на ночную заснеженную улицу. Идти было абсолютно некуда, все наши немногие дальние и ближние знакомые давно уже спали. Болтаться по улице до утра тоже было невозможно, – наша неполноценная одежда с угрожающей скоростью приняла температуру окружающего воздуха, а она была изрядно ниже нуля. И мы пришли к дерзкому, но, как нам казалось, разумному решению попробовать снять номер в гостинице «Москва», благо до нее было не так уж долго добираться пешком. Похоже, мороз окончательно отшиб нам мозги, иначе мы бы все же задали себе вопрос, чем мы собираемся за эту гостиницу расплатиться.
Но, как оказалось, вопрос этот был бы праздный, потому что никто и не думал давать нам ночлег в гостинице «Москва» – «она для иногородних и для иностранцев» нелюбезно пояснила нам хмурая администраторша. Поскольку мы не подходили ни под одну из этих привилегированных категорий, мы легко смирились с отказом – отогретые в теплом вестибюле мозги уже успели нашептать нам, что денег на гостиничный номер все равно нет. Зато, наивно решили мы, можно отлично выспаться в глубоких уютных креслах, привольно расставленных по просторному вестибюлю.
Но не тут-то было! Не успели мы устроиться поудобнее в кожаных объятиях кресел, как явился рослый милиционер и предложил нам немедленно пройти. Мы объяснили, что идти нам некуда, и предъявили паспорта с подлинной подмосковной пропиской, требуя убедиться. Он убедился, но не смягчился.
– Не положено, – однозначно бубнил он. – Придется пройти.
– А если мы не уйдем? – спросил Саша.
– Тогда я заберу вас в милицию, – ответил он без всякой враждебности. Может быть, ему даже было нас жалко – ведь мы не были нарушители, у нас все было в порядке, в паспортах стояла прописка и запись о регистрации брака.
Мы переглянулись и единогласно решили, что лучше ночевать в милиции, чем на снегу. Жаль только, что ночь в милиции оказалась не такой романтичной, какой она могла бы представляться молодым любителям острых ситуаций. Нас никто не бил и не унижал – просто сонный дежурный лениво составил протокол о незаконном пребывании в гостиничном вестибюле, который даже для него, похоже, звучал неубедительно. А потом нас хотели отпустить на все четыре стороны, но мы уперлись и наотрез отказались покидать не слишком теплое, но все же не ледяное помещение районного отделения. В конце концов, дежурный над нами сжалился и позволил до шести утра сидеть на жесткой деревянной скамье, тянувшейся вдоль одной из стен, густо крашенных бурой масляной краской.
Заснуть нам не удалось – не только потому, что в комнате все же было недостаточно тепло, но и потому, что всю ночь перед нами маячила пьяная проститутка, удивительно подходящая под типичное описание наихудших представительниц ее профессии. Немолодая, грязная, грубо размалеванная каким-то несусветным гримом, она без устали металась из угла в угол, хрипло распевая один и тот же куплет:
Когда мать меня рожала, Вся милиция дрожала, Прокурор ворчал сердито: Родила опять бандита!Главным чувством, занимавшим меня в ту бессонную ночь, было горькое недоумение – как Даниэли могли выгнать нас на улицу, понимая, что нам некуда деться? Я ведь не знала, что, выставивши нас, они вкупе с Синявскими плели нити одного из самых взрывчатых заговоров, потрясших основы советского режима.
Наша близкая дружба с Синявскими началась гораздо позже, году в 61-м, после того как Юлик прочел нам рукопись своей повести «Говорит Москва» – о дне открытых убийств. Он тогда был в творческом восторге, и ему хотелось поделиться – не только повестью, но и тем, что ее собираются опубликовать за границей. А месяца через два-три он уже показывал нам вышедшую за границей книгу.
Вскорости после этого он прочел нам повесть Абрама Терца «Суд идет». Когда он читал, Воронель вдруг сказал: «Я знаю, кто это написал. Это написал Синявский…»
Юлик был страшно удивлен. Он рассказал об этом Андрею, и тот пригласил нас к себе. Так у нас началась отдельная дружба с Синявским, который стал читать нам другие свои повести и давать серьезную литературу, издаваемую в Париже: Л. Шестова, Г. Федотова, С. Булгакова, «Вехи»…
Кроме того, произошло еще одно событие – мы переехали в Хлебный переулок. А Синявские тоже жили в Хлебном, через пару домов от нас. Поэтому мы стали к ним забегать по соседству.
В ту пору по рукам еще не ходила подпольная литература. Не было еще «самиздата» – советская интеллигенция только-только начала пробуждаться от кошмара сталинского режима, и все ей было страшно. Кто-то очень дерзкий пустил по рукам неопубликованные стихи Пастернака, Мандельштама и Цветаевой, – это была первая проба. Но то явление, что потом получило имя «самиздат», еще не родилось. И на этом фоне появление произведений, написанных нашими современниками о нашем времени, как бы переворачивало всю нашу жизнь. Ведь это время никем никогда еще не было описано так правдиво и страшно.
Тогда это все было для нас откровением, чудом – то, о чем все думают втайне, написано открытым текстом! Впервые свободное слово! Это был первый литературный документ о том, что произошло в России и с Россией. Воронеля поразило, что в повести «Суд идет» каким-то образом была угадана его личная история: там ведь описан юношеский кружок марксистов-заговорщиков, посаженных в тюрьму за свои романтические идеи. Ему казалось, что это его личная тайна, которую никто не мог знать. Он хранил эту тайну двадцать лет, а оказалось, что были и другие, меченные той же меткой.
А теперь у нас появилась новая тайна – хоть и не наша лично, но наша личная тайна: мы знали, кто такой неуловимый Абрам Терц. Глухие упоминания о нем уже стали появляться в теряющей девственность советской печати. Но власти еще не знали, кто это, а мы – МЫ! – знали! Ужас и восторг, восторг и ужас!
И все же мы были еще достаточно молоды, чтобы порой быть беспечными даже в присутствии столь грозной опасности. Помню, как однажды Лариса, работавшая в Институте лингвистики, принесла домой научное заключение, что в русском языке существует всего девять корневых матерных слов. В доме Даниэлей шли какие-то очередные посиделки, на которых присутствовал почти весь цвет российской диссидентской филологии. Сообщение Ларисы всех поразило, хоть реакция была неоднозначная – одни говорили: «Как, всего девять?», а другие: «Неужто целых девять? Быть не может!» В результате был объявлен конкурс – кто найдет максимальное количество этих матерных корней. Все с восторгом ринулись на поиски – и будущие жертвы нашумевшего процесса, и их сообщники, тоже впоследствии довольно жестоко покаранные властями. До девяти не дошел никто, зато я могу гордо похвастаться, что заняла на этом конкурсе первое место, набравши в своем списке восемь к великой зависти грядущих знаменитостей.
Однако советская власть не дремала – как видно, она-то знала все девять матерных корней и потому успешно шла по следу нарушителей многолетнего приказа «сор из избы не выносить».
Шаги преследователей звучали все ближе и ближе. В первом номере журнала «Иностранная литература» за 1962 год появилась статья Б. Рюрикова, в которой бросался в глаза такой абзац:
«Как-то в зимний день холодные волны Сены выбросили на берег нечто непривлекательное и дурно пахнущее. Нашлись, однако, добрые люди, которые подобрали это «нечто» и даже набрались решимости выставить его на всеобщее обозрение. Так в журнале «Эспри» появилась статья «О социалистическом реализме»… Редакция сообщила, что статья написана молодым советским писателем, «естественно», сохраняющим в тайне свое имя… Кстати, еще об одном инкогнито. Не только журнал «Эспри» оказался падок на отбросы. В прошлом году в Англии и Франции вышел роман «Из советской жизни» под названием «Суд идет». Автор укрылся под псевдонимом Абрама Терца. Даже из сочувственного изложения ясно, что перед нами неумная антисоветская фальшивка, рассчитанная на не очень взыскательного читателя… Ратующие против социалистического реализма эстетствующие рыцари «холодной войны» – к какой достоверности, к какой правде тянут они?..»
Это было в каком-то смысле утешительно – значит, искать-то ищут, но еще не нашли. Настоящие тревожные звоночки прозвучали, я думаю, где-то в конце 63-го года, в декабре, когда Сережа проговорился на вечере у Елены Михайловны Закс. Там были обыкновенные светские посиделки, и кто-то из гостей стал пересказывать повесть Николая Аржака «Говорит Москва», которую передавала радиостанция «Свобода». Присутствующие, затаив дыхание, слушали страшную сказку про день открытых убийств, как вдруг Сережа вскочил и закричал отчаянно громко: «Да это же сюжет, который я когда-то подбросил Юльке!»
Конечно, Юлику об этом сообщили без промедления, и он был смертельно обижен на Сережу – как тот мог при чужих позволить себе такую откровенность? Теперь, когда я хорошо познакомилась с писательскими амбициями, я уже не знаю точно, что больше поразило Юлика – опасность разоблачения или притязания Сережи на сюжет повести, и впрямь весьма остроумный. И что толкнуло Сережу на этот выкрик – уж не собственническое ли чувство по поводу присвоенного другом сюжета? Тем более что от него скрыли не только факт публикации повести за рубежом, но и сам факт ее написания. Но как бы то ни было, именно тогда между Юликом и Сережей пролегла первая трещина.
А потом, примерно за год до ареста, от Юлика ушла Лариса. И как-то все сразу изменилось. Хоть богемный водоворот как бы продолжал свое круженье, но веселье стало выглядеть фальшиво и даже стихи стали звучать приглушенней. Я привела как-то в дом Юлика живущую сейчас в Израиле поэтессу Ренату Муху, по-нашему – Рэночку. Юлик уже жил не в клоповнике в Армянском переулке, а в двухкомнатной сплотке, впадающей в затоптанный коридор другой коммунальной квартиры – на Ленинском проспекте. Мы с Рэночкой отворили незапертую входную дверь и вошли почти на цыпочках, удивляясь стоящей вокруг тишине. Начинались долгие летние сумерки, и в комнатах было пусто и полутемно. Наконец, обнаружили Юлика – натянув на голову одеяло, он лежал на тахте в дальней комнатушке. Долго-долго никто из предполагаемых гостей не приходил, и бедная Рэночка слонялась по неприбранной квартире, громко вопрошая у оклеенных бутылочными этикетками стен, когда же начнется знаменитое гостевание, о котором она была столько наслышана.
Но гостевание уже было не то, и сам Юлик не тот. С ним приключилась странная перемена. Забыв всякую осторожность, он начал читать свои повести направо и налево, кому угодно, любой случайной женщине. И стало ясно, что уже недалеко до беды. А вскоре грянул арест…
Из «Белой книги»:
«18 октября газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что советский литературный критик и ученый Андрей Синявский арестован за то, что опубликовал за границей труды под псевдонимом Абрам Терц… Если Синявский действительно Терц, Советам нелегко будет «стереть» его имя, так как Синявский – признанный и широко публиковавшийся литературный критик. Главная работа Синявского – это книга объемом в 441 страницу, «Поэзия первых лет революции», написанная вместе с А. Меньшутиным… С 1959 года Синявский часто появляется в качестве обозревателя и эссеиста в ведущем советском либеральном ежемесячнике «Новый мир», где он написал несколько довольно желчных обзоров о казенных работах социалистического реализма… Синявский является также автором (совместно с искусствоведом И. Голомштоком) первого за долгие годы в Советском Союзе серьезного исследования о Пикассо».
Теперь я хочу дать слово Саше, он об этом расскажет лучше:
«День, когда Юлика и Андрея арестовали, я помню очень хорошо, потому что меня в тот день арестовали тоже. Я перебирался тогда в Дубну, и, поскольку я перебирался с целой лабораторией, я вел постоянную торговлю с начальством. В тот день, 9 сентября, меня как раз вызвал директор дубненского института в связи с какими-то очередными затруднениями. По выходе из его кабинета меня пригласили зайти в спецотдел. В спецотделе ожидал человек, который сказал, что он из КГБ и что мне придется отправиться с ним в Москву. Для дачи показаний. Каких показаний – не сказал.
– Это мы вам скажем в Москве.
– Может быть, все-таки здесь?
– Нет, только в Москве…
У меня не было в этот момент никаких конкретных предположений, но поскольку я уже с четырнадцати лет был человеком неполной лояльности, то всегда был готов к чему-то подобному. Я только спросил: может быть, я могу поехать на своей машине? Он сказал – нет, нельзя, поедете со мной. Не знаю, намекал ли он, что обратно я не поеду, но я, во всяком случае, подумал: может, я уже обратно и не поеду! Поэтому я заявил: «Я должен обязательно зайти домой». Они сказали: «Прекрасно, мы сейчас отвезем вас домой, только давайте договоримся – вы ничего не говорите своим родным…» Они подвезли меня к дому и деликатно остались в стороне, а я целовался с мамой так долго, что успел ей прошептать на ухо: «Мамочка, меня вызывают в КГБ».
Допрос, в сущности, начался уже в машине – они спросили, кого мы называли «бородой» и кто в нашем кругу любит петь песню «Абрашка Терц, он жулик всем известный…» А Андрей действительно обожал эту песню. И я понял, что речь идет о Юлике и Андрее. Но мои спутники мне этого не сказали прямо, они лишь игриво так подступали: «Вы, конечно, догадываетесь, почему мы вас вызвали?» Такой стандартный зачин. Они надеются, что в этом случае человек скажет больше, чем если спросить прямо. Формальный допрос начался только на Лубянке. Мы вошли через внутренний подъезд, поднялись по небольшой лестнице, мой сопровождающий бросил дежурному: «Этот – со мной», – и мы пошли по длинным канцелярским коридорам, голым, давно не крашенным, как в обычном бюрократическом учреждении.
Меня привели в кабинет, довольно бедный, и все началось с того, что сопровождающий сказал: «Минуточку», – и вышел, оставив меня одного. В расчете, что я буду волноваться, а они будут подглядывать за мной через специальное окошечко и ждать, когда я буду «готов». А я решил «Фига вам!», достал из кармана какую-то книжку и начал делать вид, что увлеченно перелистываю страницы. Я, видимо, так удачно симулировал, что мой офицер тут же вбежал обратно, делая вид, что запыхался. И стал задавать вопросы. Странно – ведь страшно было очень, но у меня не было никакого искушения «расколоться». Мне это просто не приходило в голову. Раз мы договорились с друзьями, что «нет» – значит, «нет». Поэтому, что бы мой следователь ни спрашивал, я отвечал: не читал, не видел, не знаю. При этом я внимательно смотрел на стол – а на столе лежали копии знакомых рукописей и экземпляры изданных за границей книг Андрея и Юлика. Он тем временем спрашивал: «Что представляют собой ваши друзья Синявский и Даниэль?» Я отвечал: «Мои друзья замечательные люди…»
Впрочем, я старался не завираться, я не говорил, что они так уж особенно любят советскую власть. Просто утверждал, что они абсолютно лояльны и не интересуются политикой. Что вообще-то было верно – политикой, в настоящем смысле, они не интересовались. А он все нажимал: «Не имеет смысла запираться, они уже сами признались, на них уже дали показания…»
Я должен признаться, что для меня это было сильное переживание. Ведь прошло уже почти двадцать лет с тех пор, как я побывал в тюрьме, и за это время я привык к воле. В сущности, я до самого конца допроса не был уверен, что выйду из Лубянки. И поэтому, когда меня, в конце концов, отпустили (это было через несколько часов), у меня было сначала ощущение, будто я лечу. А потом, почти сразу, появилась мысль, что нужно предупредить Юлика. Я, конечно, понимал, что у них на квартире, вероятно, устроили засаду и что я лезу в верную петлю, но не попытаться предупредить его я не мог – я бы себе потом этого не простил. Телефона у них тогда не было, мне пришлось туда поехать. Квартира была закрыта. И когда ключ, который у меня был, почему-то не вошел в замок, – вот тогда меня охватил настоящий ужас.
Гэбэшники, конечно, уже побывали на квартире Даниэлей. Поэтому замок и не открывался. Но потом, когда Ларису привезли с аэродрома, его уже, видимо, «починили», потому что у нее ключ повернулся совершенно свободно. Это было через два дня. Ларису привезли в Москву вместе с Юликом, но Юлика прямо с самолета повезли на допрос, а ей сказали, что он скоро вернется. Она ждали его до двух, а в два побежала звонить. Ей сказали, что Юлик задерживается, но в пять обязательно будет. Потом она позвонила в пять, и ответили: «Сейчас, сейчас…» После этого, где-то в начале шестого, явился милиционер. А Юлик уже не вернулся…
Тогда я ничего этого, конечно, не знал. Не застав Юлика, я бросился на переговорную – звонить Неле, которая в то время была в Харькове у больной матери. Позже московские соседи рассказывали, что к нам на Хлебный приходил «какой-то майор» и спрашивал Нелю. Но до Харькова они добраться не успели».
Саша позвонил мне среди ночи и сказал: «Ты должна завтра же выехать в Москву!» Я возразила, что только накануне забрала маму из больницы, а он ответил: «Придумай что угодно и завтра же возвращайся в Москву». И объяснил: «Юлик тяжело заболел и лежит в больнице, и Андрей – тоже». Он боялся, что меня вызовут в харьковский КГБ, а Харьков – это не Москва, там руки-ноги поломать могут.
Мы вдруг ощутили тогда, что арест Синявского и Даниэля – это начало чего-то страшного и что мы – все! – можем последовать за ними. Что здесь решается наша судьба. Поэтому мы сопротивлялись.
Но кроме того было ощущение, что еще можно остановить этот процесс. Не только не пойти по этапу вслед за ними, но даже их самих вытащить. Мы вообразили, что если сумеем настоять, сумеем сплотить свою группу – ученых, интеллигентов – то, может быть, наше противостояние остановит необратимое сползание к сталинизму. Мы были уверены, что начинается возврат к сталинизму.
Нормальная реакция шестидесятников, этакое двойное восприятие реальности – с одной стороны, подспудный страх, глубинное недоверие к властям, с другой – неоправданно большие надежды.
В кругах литературной интеллигенции, среди которой мы тогда крутились, мнения после ареста Синявского и Даниэля резко разделились. Самые молодые, как мы, бросились на защиту. Но это были, в основном, просто близкие друзья, друзья друзей, и их было очень немного. А главная масса той интеллигенции, которая называла себя «прогрессивной», пришла в состояние чудовищной паники. Был 65-й год. От 52-го нас отделяло очень короткое расстояние: все еще помнили, как было тогда, и страх воцарился невообразимый.
Ведь только-только было время оттепели, брожения мысли, почти свободы. И вдруг – арест. Поначалу все были в оцепенении. Но очень скоро поднялся общий, довольно стройный крик: «Подлецы! Негодяи! Прославиться захотели! А нам все испортили! Ведь мы уже почти всего добились, завтра была бы уже настоящая оттепель, а теперь из-за них все зарубят! Мы подвели под советскую власть такой глубокий подкоп! Мы Кафку пробили – что может быть для нее страшней?» Одна переводчица, почти рыдая, тыкала нам под нос какую-то фразу из своего перевода: «Видите, какую фразу я написала? А из-за этого дерьма нам все закроют! Мы были так близко от цели, завтра бы все хлынуло, у нас бы стала настоящая свобода. А эти гады написали свое дерьмо, выставиться хотели – кому это нужно? Все погубили, все достижения советской интеллигенции пошли прахом!»
Многих обижало, что Синявский и Даниэль, будучи, на их вкус, недостаточно антисоветскими писателями, как бы выхватили у них, более антисоветских, пальму первенства. Один поэт, он сейчас в эмиграции, кричал: «Чего вдруг я буду за них заступаться? Уж пишут за границу, так сказали бы все начистоту. Я вот поэму против Сталина написал, но не напечатал, других подводить не хотел. Потому что мы шли единым фронтом, мы «их» уже почти свалили, а Синявский с Даниэлем, суки, все испортили!»
Ведь тогда советской либеральной интеллигенции казалось, что она, дружно взявшись за ручки, шла мелким демократическим зигзагом на штурм тоталитарной системы. И ей верилось, что победа близка, и в России вот-вот настанет свобода слова. А эти «выродки», Синявский и Даниэль, в свободу слова не верили, в общем штурме не участвовали, а туннельным эффектом вылезли за рубеж и напечатались. И теперь советская власть под этим предлогом может закрыть всю лавочку. К сожалению, при критических обстоятельствах, либералы, как это часто бывает, ополчились не против жесткого цензурного режима, а против тех «мерзавцев», которые вызвали на себя огонь властей.
До процесса мы не знали, чего можно от этих властей ожидать. С одной стороны, мы допускали даже, что наших друзей могут расстрелять. Мы ведь помнили недавние сталинские времена. А с другой стороны, нам казалось не исключенным, что их как-нибудь символически осудят и выпустят, потому что уже несколько лет не было серьезных политических преследований. Особенно в случае международной огласки. Поэтому мы сначала старались сделать все возможное, чтобы приостановить суд или смягчить возможный приговор. Мы писали заявления в судебные инстанции и ходили на прием к Верховному судье Смирнову с требованием выпустить Андрея и Юлика на поруки.
Но когда стало ясно, что суда не миновать, мы решили, по крайней мере, зафиксировать протоколы процесса, – мы уже начинали предвосхищать его историческое значение. Ведь в СССР процессы такого рода шли за закрытой дверью, публику на них не допускали. Мы несколько раз ходили в Верховный суд, требовали, чтобы нам позволили присутствовать на процессе, в чем нам было, конечно, отказано – в зал суда впускали только жен.
Воронель с покойным Толей Якобсоном набивались в свидетели защиты – они подали заявления, заполнили анкеты, а в назначенный день Саша даже сходил в парикмахерскую и надел белую заграничную рубашечку с плеча Синявского – собственной столь шикарной у него не было, хоть был он уже профессором физики. Но даже и рубашечка не помогла: в последнюю минуту ему отказали, ибо суд в свидетелях защиты не нуждался, он довольствовался свидетелями обвинения.
Когда мы поняли, что никакого легального пути к гласности у нас нет, мы решили запротоколировать процесс. Мы купили десятки записных книжек и снабжали ими Ларису Даниэль. На каждое очередное заседание она входила в зал суда с одной книжкой, записывала все, что успевала. Она работала, как машина, и записывала все мельчайшие подробности. В перерыве она заходила в женский туалет, где ее уже поджидал кто-нибудь из троих – Саша Воронель, Марк Азбель или Эмиль Любошиц. Проникнуть в здание суда было непросто, но кто-нибудь из них каждый раз ухитрялся это сделать.
Они нагло заходили в женский туалет и обменивались с Ларисой книжечками – она отдавала исписанную и получала чистую. Длинноногий Любошиц жаловался, что самое трудное в этой операции было, забравшись на стульчик, спрятать ноги, чтобы другие посетительницы туалета не могли сквозь нижнюю прорезь двери распознать, что там сидит мужчина. Но иного пути для избавления Ларисы от исписанных книжек не было – выйти из здания суда она не могла: ее бы не пустили обратно, а носить их с собой ей было опасно, могли бы отобрать.
Вечером Лариса приходила к нам домой и начинала рассказывать, что слышала. У нее было такое эмоциональное состояние, что она все время хотела рассказывать о процессе, а десятки людей жаждали ее слушать, но наш узкий кружок знал, что ее рассказ одновременно выполняет другую функцию. Хотя она как раз и не подозревала, что рассказывает для отвода глаз. Мы к тому времени уже не сомневались, что наша комната прослушивается КГБ: техники, которые устанавливали магнитофоны в потолке, не очень-то таились. Поэтому Саша постарался сосредоточить все внимание КГБ на нашей квартире, а я в это время уходила с Ларкиными записными книжками из дому и всю ночь расшифровывала их вместе с Леней Невлером в его квартире.
Лариса не знала стенографии и поэтому писала сокращенно: «ск». вместо «сказал», «св. вл». вместо «советская власть» и т. д., чтобы успеть записать, пока говорят. Она записывала каждое слово, но все – сокращенно. Охрана видела, что она пишет, но ее почему-то никто не останавливал.
В первый день записывал еще один человек – наш ленинградский друг, писатель Борис Вахтин, который получил доступ на процесс от Союза писателей. Но уже на второй день он уехал обратно в Ленинград. Он тоже был замечательный писатель, но считал, что печататься за границей – неправильно, нужно добиваться этого внутри, в СССР. Он умер, к сожалению, так и не став известным читателю в СССР – тому, ради которого он совершил это литературное самоубийство.
Его этот процесс потряс. Он говорил нам потом, что с трудом удерживался в зале от замечаний, за которые его бы вывели. Интересно, что почти накануне ареста мы приносили Синявскому повесть Вахтина в рукописи, и Андрей страшно им восхищался. А теперь Борис сидел среди публики, состоявшей в основном из сотрудников КГБ и встречавшей взрывами веселого хохота всякое унижение писателей, попавших на скамью подсудимых только за свою профессиональную работу. Ту самую, за которую он сам был бы готов сесть на скамью подсудимых.
В течение всего процесса мы с Леней работали над расшифровкой Ларисиных записей каждую ночь напролет, с вечера до утра. Перепечатывать не было никакой возможности, писать приходилось рукой, у меня потом долго болело плечо и пальцы не гнулись. Делать это было страшно – никто ведь не знал, как за это могут наказать, прецедента еще не было, все было в первый раз. В результате этой работы была создана черновая рукопись протокола заседаний процесса, составившая главную часть знаменитой «Белой книги», за публикацию которой за границей, в сущности, Александр Гинзбург потом отсидел пять лет.
Формально Гинзбург вместе с Галансковым получил свои пять лет за создание самиздатского литературного журнала «Феникс», но жестокий приговор, конечно, был связан с составлением им «Белой книги» – обстановка за границей, а отчасти и внутри СССР, была такова, что власти не решались прямо поставить ему в вину публикацию достоверных фактов.
Мне хочется сказать несколько слов о нашей комнате в Хлебном переулке, 19, которая была во время процесса главным штабом сопротивления. Дело в том, что это была не простая комната, а историческая.
Внешне она была не примечательна ничем, кроме уродства и географического положения: через пять домов направо в номере 9 жили Синявские, за одним углом находился ЦДЛ – Дом литераторов, за другим ЦДК – Дом кино, в двух кварталах налево по улице Воровского – Верховный суд РСФСР, где заседал судья Л. Смирнов, в двух кварталах направо – зал суда, где проходил процесс.
И потому неудивительно, что эта комната превратилась в дни процесса в штаб организованного сопротивления советской интеллигенции, невзирая на яростное возмущение трех законопослушных соседских семей, которые настолько единодушно сплотились против нас, что даже временно прекратили военные действия друг против друга.
Всю неделю процесса каждое утро в восемь пятнадцать утра Лариса и Марья приходили к нам позавтракать и обсудить программу предстоящего дня сражений. Без четверти девять мы убегали – кто сидеть в зале суда, кто пробираться в его коридоры, кто – стоять на морозе под дверью, демонстрируя властям свое с ними несогласие. В комнате мы оставляли связного, готового долгие часы сидеть в одиночестве и отвечать на бесчисленные телефонные звонки, тем более что соседи, раздраженные непрерывным трезвоном, демонстративно перестали подходить к телефону. Чаще всего это делал один из наших многочисленных друзей-ученых, ныне профессор математики Тель-Авивского университета, который был в те времена довольно увесист, и ему было невыносимо многочасовое стояние под дверью суда. Услышав звонок телефона, висящего в дальнем конце длинного коридора, он, сломя голову, по-слоновьи топал к нему, сбивая по пути соседей, всегда, как нарочно, идущих навстречу – кто, с кипящим чайником, кто с раскаленной сковородой.
Наших отношений с соседями это не улучшало, но мы давно уже махнули на это рукой. И потому без зазрения совести по вечерам впускали к себе всех желающих послушать отчет Ларисы о прошедшем заседании суда. Мы впускали всех: это было важно и для гласности, и для отвода глаз, так как главную нашу задачу – протокольную запись процесса – мы выполняли в другом месте. Желающих было много: приходили друзья, сочувствующие и, разумеется, стукачи. Так что комната наша каждый вечер заполнялась до отказа: наиболее удачливые сидели на стульях, на полу и на подоконнике, остальные стояли, прислонясь к стенам и к дверному косяку.
Я не стала бы так подробно описывать эту уродливую комнату в Хлебном переулке, 19, узкую и длинную, как пенал, если бы не прочла недавно детальное описание ее в книге Берберовой «Железная женщина», посвященной знаменитой Муре Будберг, неофициальной жене М. Горького и возлюбленной английского посла-заговорщика Д. Локкарта. Конечно, я, как и все, проходила в школе историю «заговора Локкарта», пытавшегося вместе с асом шпионского искусства Сиднеем Рейли совершить антисоветский переворот в голодной Москве 1918 года. Но мне и в самом фантастическом сне не могло присниться, что Локкарт снимал для своей миссии квартиру на последнем этаже угрюмого дома 19 в Хлебном переулке!
Я смутно могла представить себе резиденцию английского посла: этакий уютный особняк в одном из Арбатских переулков, с псевдогреческим портиком, через застекленную дверь которого с бронзовым молоточком вместо звонка проскальзывал к Локкарту неуловимый Сидней Рейли, чтобы обсудить последние детали исторического заговора. Но чтобы в моей квартире!
Берберова приводит цитату из книги коменданта Кремля, руководившего арестом Локкарта, где тот пространно рассказывает, как Мура долго препиралась с ним через закрытую дверь, – Господи, сколько раз я отпирала эту дверь почти полвека спустя! Ворвавшись, наконец, в квартиру, чекисты протопали по длинному коридору, по которому полвека спустя наш толстый друг бегал к телефону, и открыли дверь моей комнаты, служившей в те давние времена спальней Локкарту, а точнее, ему и Муре. Локкарт спал на тахте у окна, мы тоже там спали, так как это было единственное место, пригодное для тахты, – впрочем, у нас тахта была другая, мы не получили ее по наследству вместе с комнатой.
Дверь напротив тахты вела в посольский кабинет, большую квадратную комнату с двумя окнами. В наше время бывший посольский кабинет занимала рабочая семья из шести человек, сокровенные подробности из жизни которой не могла утаить от нас тонкая прослойка оклеенной обоями двери, так же как не могла она утаить от них наших крамольных разговоров.
Как бы порадовался любитель российской истории Абрам Терц-Синявский, знай он, что история эта по его милости второй раз проходила через нашу комнату!
Эта комната была свидетельницей и комических эпизодов, а не только драматических. Однажды, вскоре после ареста Юлика и Андрея, мы ожидали прихода Марьи и Ларисы, чтобы заняться вместе с ними какими-то общественно важными делами. Дело было в декабре. Наши дамы, как обычно, опаздывали, и я, пользуясь передышкой, стала с восторгом рассказывать Саше, что в магазинах появились замечательные шерстяные колготки – настоящее спасение в московском климате. Стоили они 12 рублей штука, и Саша строго объявил мне, что мы не имеем права тратить деньги на всякую дамскую ерунду, когда наши боевые подруги нуждаются в каждой копейке. Я, глотая слезы, вынуждена была согласиться с его суровой мужской логикой. Раздался звонок, и в комнату ввалились боевые подруги, раскрасневшиеся и слишком веселые для безутешных соломенных вдов.
«А что мы сейчас купили!» – хором воскликнули они и дружным слаженным движением задрали юбки. На них переливались изящным узором недоступные мне шерстяные колготки. Я молча посмотрела на Сашу – ни слова не говоря, он сунул руку в заветный карман, где лежала его зарплата, предназначенная для борьбы, и выдал мне запретные 12 рублей.
Наконец наступил день вынесения приговора. Я помню – его вынесли очень поздно вечером, мы стояли толпой у подъезда суда; вернее, было две толпы: одна – друзей, другая – гэбэшников, обряженных в одинаковые зимние шапки, выданные им в их ведомстве по случаю мороза. А мороз был воистину трескучий! Какие-то женщины, услыхав приговор, стали плакать в голос: «Ужас! – рыдали они. – Пять и семь лет лагерей!» А я не могла поверить: Боже, какое счастье, их не расстреляли!
Ко времени процесса в широких интеллигентских кругах успела произойти переоценка взглядов. Теперь Синявского и Даниэля никто уже не ругал, ими восхищались. И мы уже ощутили наше «мы», то есть что мы – группа: к суду приходили десятки людей, часто не знакомых ни с кем. Сразу после процесса начал стремительно меняться состав друзей. Из узкой кучки родилось движение, которое потом получило имя демократического. Оно состояло уже не только из друзей, даже не столько из друзей, сколько из товарищей по борьбе, – соратников, так сказать. У старых друзей это вызывало иногда горькое чувство заброшенности.
Новых соратников появилось так много, что когда через два с половиной года мы собрались в опустевшей квартире Даниэлей, чтобы отметить день рождения Юлика, мы вдруг почувствовали себя потерянными в огромной толпе малознакомых людей, для которых Юлик был не живым человеком, а условным символом, даже идолом. Я помню, как Тошка Якобсон позвал: «Братцы, старые друзья, пошли на кухню, попросту выпьем за Юльку! А то, я вижу, здесь уже собрался съезд демократического движения».
Ларисы в тот вечер в квартире не было, она уже была выслана в Сибирь за то, что в августе 1968-го организовала на Красной площади демонстрацию протеста против вторжения в Чехословакию.
Процесс перевернул всю ее жизнь. Ей была навязана процессом не вполне подходящая ей роль «верной подруги» Даниэля, и она отдала этой роли много сил. Она сделала больше, чем могла бы сделать любая другая женщина для своего бывшего мужа. Однако эта неестественная роль тяготила ее, а рамки, в которые старые друзья хотели бы ее втиснуть, были ей слишком узки. После процесса она стремилась вырваться и вырвалась – на простор демократической деятельности, куда не все друзья готовы были за ней следовать. Она сама превратилась в лидера и завела новых друзей, которые соответствовали этой ее новой жизни. Но это не обошлось без ссор, драматических скандалов, взаимных обид.
Так как Марья Синявская тогда, напротив, исполняла скромную – тоже очень ей несвойственную – роль преданной, на все готовой для своего мужа женщины, раскол пролег именно между ними. Два человека с разных сторон – И. Голомшток и Саша – долгое время пытались сгладить фундаментальное противоречие между двумя группами. Друзья Ларисы, увлекшись своей общественной ролью, несправедливо и жестоко поступали с Марьей. Я и сейчас не могу понять, как они могли тогда, в ее положении, подвергнуть ее такому незаслуженному остракизму. Этот случай был для нас с Сашей последней каплей, заставившей принять сторону Марьи, – а это непросто, принять сторону Марьи, ни одна черта ее характера к этому не располагает, – и отойти от диссидентской группы.
Пока речь шла о защите друзей, у всех у нас без исключения, даже у тех, кто чрезмерно упивался собственной ролью, не было сомнения, что дело это чистое. Но со временем Сашу все острее мучило ощущение, что мы переходим какую-то запретную черту и слишком близко подходим к бесовщине. Это чувство особенно укрепилось, когда ему на традиционных именинах Юлика за год до описанного выше случая довелось встретиться с П. Якиром и В. Красиным. Мрачный, хмуро-озабоченный Красин с карикатурно громадным портфелем и полупьяный (всегда полупьяный, когда не пьяный) Якир вызвали у него не только желание самому избежать любых контактов с ними, но и отвадить сына Даниэля Саню от общения с этими персонажами Достоевского.
Мы знали Саню с самого нежного детства – он бегал на лыжах с нашим сыном Володей, обсуждал с нами философские проблемы и однажды, глядя на Сашу огромными прозрачными серыми глазами, попросил: «Дядя Саша, составьте мне, пожалуйста, список вопросов, которые наука еще не решила, чтобы я знал, о чем мне думать…» Но его втянула возникшая вокруг его родителей общественная воронка, не давшая ему ни доучиться, ни осознать себя самостоятельным, отдельным человеком, выбирающим свой собственный путь.
Воронель потратил уйму времени, убеждая Саню, что ничего серьезного не содержится в разглагольствованиях Якира и что мальчику в семнадцать лет лучше заняться чем-нибудь другим. Но кто из семнадцатилетних когда-нибудь внимал разумным речам? Его жизнь сложилась не так, как планировалась, но кто может сегодня сказать, что он ее проиграл? Жаль, конечно, что он не решил всех нерешенных вопросов науки, но ведь не из-за пьянки или по лени, а ради благородного дела!
Не так просто отделить историю от тех, кто ее творит, как бы незначителен ни был каждый из них. Как-то, уже после суда над Андреем и Юликом, у памятника Пушкину проходила демонстрация в защиту Советской Конституции – первая в Союзе политическая демонстрация. Как только она началась, появились оперативники КГБ и стали швырять ее участников в подъехавшие воронки. Одна наша знакомая, следившая за этой сценой из подворотни, где ей велели прятаться, чтобы не скомпрометировать демонстрантов своим одиозным участием, воскликнула: «Боже! Как бы я уважала этих людей, если бы не знала их так хорошо!»
Но ведь они это уважение заслужили! А ее «знание» – это деталь ее биографии. И как прекрасно, что нашлись люди, – какие бы интимные детали из жизни этих людях мы ни знали, – которые вышли защищать обещанные Конституцией права человека, а через несколько лет – протестовать против оккупации Чехословакии, в защиту свободы. Они сделали честь своей стране! Ужасной, несчастной стране, где все молчали и никто не протестовал! По крайней мере, стало не так за нее стыдно! В этом был жест необыкновенный! И он всколыхнул весь мир – тогда мир еще можно было всколыхнуть благородным жестом.
Я думаю, что Сашино отталкивание от нарастающего демократического движения уже тогда имело более глубокий смысл, чем простое неприятие некоторых его участников. Похоже, Саша подсознательно уже начал ощущать, что это не его чашка чая. Несмотря на все его фокстерьерство и готовность участвовать в самых отчаянных предприятиях, Ларкины авантюры стали его все больше и больше отталкивать.
От этого расхождения между его общественным темпераментом, с одной стороны, и нежеланием участвовать в русском демократическом движении, с другой, он впал в тяжелую депрессию. Может, он почувствовал, что борьба за переделку России – дело безнадежное, а может, – начал прозревать, что это не его борьба. Он сформулировал это только к моменту написания книги «Трепет забот иудейских». А сначала он просто потерял покой и буквально стал сходить с ума, покрылся какой-то отвратной сыпью и лег на диван лицом к стене, отказываясь вставать, есть, разговаривать. Пока, наконец, где-то к концу 69-го не сел писать книгу, пытаясь разобраться в себе самом. И все яснее понимая, что ему не по пути с группой Ларисы, и что Россия – не то место, где мы, евреи, должны прилагать свои силы. Лариса впоследствии решила это противоречие, принявши крещение, но мне такой вариант судьбы никогда не казался ни благородным, ни привлекательным.
Кто из нас прав – рассудит история, но одно можно сказать наверняка: то, что случилось с нами после процесса Синявского-Даниэля, в значительной степени было этим процессом стимулировано, – и наше возвращение к еврейству, и наше отчуждение от России. Вот что говорит об этом Саша:
«Своим сионизмом я тоже в какой-то степени обязан Синявскому. Его русская культура была гораздо выше нашей. Что ни говори, наша культура была нахватанной культурой разночинцев, способных все принять и все отвергнуть на основе чисто рациональных критериев, без всякой оглядки на традицию. Да и традицию мы могли выбирать по произволу, не помня родства. Именно Андрей показал мне, что культура может быть подлинной, только если она глубоко укоренена. А происхождение свое и веру не выбирают. Андрей был филосемит, я не ощущал в нем никаких признаков недоброжелательства, и, тем не менее, он ясно давал почувствовать, что еврей может существовать в культуре только в том случае, если он твердо ощущает себя евреем. Быть русским я с ним не мог. Это не значит, что на евреев он смотрел свысока – наоборот, за нами он полагал наследие еще более древнее и этим еще тогда провоцировал нас – во всяком случае, меня – на сионизм. Потому что в его лице я, будучи еще очень молодым, впервые встретил человека глубокой и укорененной культуры. И понял, что у меня есть культурная перспектива только в том случае, если и я четко осознаю свои корни. То есть свое еврейство.
Синявский, в отличие от многих из нас, – был как раз человеком с корнями. Он иногда упоминал свое дворянское происхождение и всегда подчеркивал, что у него есть наследие. Он принадлежал к тому слою русских интеллигентов, которые серьезно думают о судьбах своей страны, хоть всегда стоял в стороне от всяких общественных дел. Он ощущал свое призвание и самоценность. Даже ведущим советским критикам и литераторам льстило знакомство с ним. И ему нравилось быть двуликим – в нем жил и ведущий советский литературовед Андрей Синявский, и потаенный, издевающийся осквернитель святынь Абрашка Терц.
Потому что он был скрытый игрок, – ему нравилось, что он водит за нос советскую власть, которая никак не может его поймать. Не может, хоть из кожи лезет – ловит.
Благодаря этой ловле он острее чувствовал свою значительность. Я помню, как циничная Марья сказала Игорю Голомштоку, намылившемуся уехать из СССР:
«Ну, кому вы там будете нужны, Голомшток? Здесь вами хоть КГБ интересуется, а там – кто будет?»
Смешно, но она была права: советская власть создала совершенно уникальный тип отношений с людьми искусства. Все крупнейшие русские писатели того времени – Синявский, Зиновьев, Солженицын – были какой-то частью своего существа сращены с советской властью: они обманывали ее, высмеивали ее или «бодались» с нею. В этом смысле замечательная статья Синявского «Что такое социалистический реализм» все еще остается недооцененной. Ведь в ней – не только насмешка, но и хвалебный гимн власти, которая ценит искусство, слово, выше жизни и реальности».
Так привычно стало говорить – Синявский и Даниэль, Юлик и Андрей, яблоко и груша. А ведь они были очень разные люди, друг на друга совершенно непохожие. Мне трудно разложить их по полочкам – у меня с ними связана добрая половина жизни. Но кое-что сказать можно. Синявский был значительней, загадочней, а Даниэль по-человечески проще и ближе, он был един – и как наш друг Юлик Даниэль, и как писатель, скрывшийся за псевдонимом Николай Аржак. Его никто никогда не обвинял в двоедушии. Он как слыл диссидентом, так диссидентом и выявился. Не то, что Синявский, который многим представителям официальной литературы в жизни казался своим, а в писаниях оказался чужим.
Андрей был куда трезвее Юлика, он, конечно, понимал значение того, что они делали, а Юлик, натура артистическая, был просто увлечен процессом. Он всегда был парень лихой и беспечный, жил от руки ко рту, не заботясь о завтрашнем дне. А Синявского, помимо могучего творческого импульса, снедала мысль о своей слишком успешной карьере ведущего советского критика, что в других было ему отвратительно. Вот он и утешал свою совесть, показывая при этом властям кукиш в кармане. Это очень в его характере, в этом он весь – бес лукавый. Ну, а кроме того, у него в руках был ключ к проблеме – его особые отношения с Элен Замойской, дочерью французского дипломата, то есть прямой и надежный выход в мир иной, на Запад. Никому тогда еще в голову такое не приходило, все писали в стол, кроме тех, кто служил Советской власти. А он парил и над теми, и над этими, у него был верный канал, и он знал, для чего пишет, – он писал, чтобы напечататься за границей.
В Синявском было нечто от героя «Бесов» Достоевского – Ставрогина. Он выдвинул множество идей, которые потом расхватали другие люди. Например, многое из того, что потом приписывалось П. Палиевскому, идеологу современного русского национализма, мы слышали от Синявского еще в начале 60-х. И с этими идеями в нем прекрасно уживалась ставрогинская способность играть людьми, их чувствами и убеждениями. Мне порой кажется, что и Юликом он играл, заманивал, завлекал в сети приманкой славы. Не для чего-то конкретного, а так, для удовольствия поиграть.
Его ничуть не смущало, если он сам себе противоречил. Помню, я как-то прочитала ему свою короткую пьесу «Змей едучий», – реалистическую до абсурда картинку русской жизни. Выслушав меня, он возмутился и продекламировал, насколько мог, зычно:
«А любовь к русскому человеку где? Нет у тебя любви! А русского человека надо любить. Нельзя о нем без любви писать!»
Что не помешало ему на следующий день объявить, будто главная затаенная мечта каждого русского человека – это насрать на потолок в церкви. Я не уверена, что в этом утверждении прозвучала особая любовь к русскому человеку, а впрочем, я могу ошибаться – может, именно такая охальная мечта и побуждала Андрея к любви? Может, именно сама эта мечта была ему по-особому дорога?
Что до последних лет – для меня образ Синявского сильно изменился с тех пор, как он выехал на Запад. Он как бы преобразился, – именно потому, что остался верен себе. В России Синявский был, во-первых, русским националистом, во-вторых, человеком религиозным. Он вращался в среде, в которой большинство еще недалеко ушло от марксизма, и лучшие люди были либералы. А Андрей, в пику всем, регулярно ходил в церковь, и нам казалось странным, что он ходит туда и бьет земные поклоны заодно с ветхими старухами. Ведь он не только сам крестился, но и сына крестил, а это вовсе еще не было принято тогда в нашем окружении.
Помню, однажды, еще до ареста, везли мы всю святую семейку к нашему другу – детскому врачу. И всю дорогу в машине оба они, и Андрей, и Марья, – Егор по малолетству еще молчал, – всячески поносили нашу цивилизацию, и так меня этим разозлили, что я сказала: «Что вы так воюете против цивилизации, если сами ею пользуетесь вовсю? И холодильник у вас есть…» Холодильник в нашей среде тогда еще был роскошью.
«Холодильник можно выбросить…» – задумчиво сказал Андрей, и Марья замолкла, как в рот воды набрала.
Но я не унималась:
«И зачем вам врач? Если ты так веруешь в Бога – помолись Богу, зачем тебе врач?»
В ответ Андрей медленно произнес, взвешивая «за» и «против»:
«А что, это мысль. Действительно, зачем нам врач, Марья?»
Тут Марья взвилась – испугалась, что он и впрямь сейчас откажется от врача. Она закричала:
«Хватит, Нелка, его дразнить! Заткнись!»
А я никак не отстаю:
«Я понимаю, как ты, Синявский, накоротке с Господом Богом разговариваешь. Но непонятно мне, зачем тебе для этого в церковь ходить, земные поклоны при всех бить? Ведь с Богом и наедине поговорить можно?»
А он мне с такой юродивостью в голосе:
«Это что же – весь русский православный народ с Богом в церкви общается, а я, Андрей Донатович Синявский, такой аристократ, я дома с ним общаться буду? Нет уж – я, как весь русский народ, я в церковь пойду!»
Я ему поверила, а он и тут меня обхитрил. По переезде в Париж, где большинство русских эмигрантов – националисты и церковные прихожане, Синявского как подменили. Из русского националиста он превратился в либерала и в церковь ходить перестал. Потому что, когда все вокруг были либералы, интернационалисты – он играл в националиста, славянофила и верующего. А когда вокруг все оказались славянофилы, националисты и православные – он тут же вышел из общих рядов и опять оказался вовне. Потому что он мог быть только один! Это – его главная черта. Быть одним-единственным. Потому он и стал Абрамом Терцем – все шли в одну сторону, а он взял и пошел в другую! Все стремились быть Иванами, а он взял и стал Абрамом – накося выкуси!
Впрочем, христианские добродетели Андрея всегда казались мне весьма сомнительными. Помню, как он в пылу какого-то спора воскликнул: «Жить в соответствии с христианскими заповедями невозможно, в соответствии с ними можно только умереть!» Похоже, это ему и нравилось – почитать заповеди, но не выполнять, и тогда в зазоре между верой и грехом может вспыхнуть творческая искра. Он всю жизнь был авантюристом и любил играть с огнем – хоть реальным, хоть виртуальным. В молодости он затеял роман с дочерью Сталина, а за это ведь в те времена и голову запросто снять могли. Марья любила его поддразнивать: «Ох, Андрей, не доведет тебя до добра твоя любовь к русской истории!»
В нем всегда было литературно-фантастическое стремление превратить жизнь в литературу, а литературные тропы – в жизненные события. Его роман с Элен Замойской – тоже ведь не случайность. Замойская – человек, необыкновенный во многих отношениях: польская княжна и француженка одновременно, католичка и специалистка по русской литературе. Она не могла его не привлечь. Мы, пожалуй, так никогда и не узнаем, чем она привлекла его больше – умом, красотой, происхождением или своим особым положением – она ведь была дочерью французского военного атташе, и неизвестно, какие разведки держали руку на ее пульсе.
Андрей однажды обронил примечательную фразу: «Жизнь – это овеществленная метафора». Его собственная жизнь и есть овеществленная метафора. Художественный образ был для него всегда важнее жизни. Вот он и сочинил для себя образ перевертыша Абрама Терца, сам срежиссировал его и сыграл, выделив в этом спектакле для Юлика вторую роль. Была ли это просто игра или серьезный сюжет с заранее обдуманным намерением – никто не знает.
А кто знает – не расскажет.
Версия мистическая
Все началось с кошки. Я понимаю, что люди, рационально мыслящие, мне не поверят и, скорей всего, будут правы. И все же я настаиваю – для меня все началось с кошки. В кошке этой не было ничего из ряда вон выходящего, – обыкновенная кошка, серо-черная, беспородная, немолодая и не очень красивая. И даже имя у нее было самое обычное – Мурка. Совсем как в известной одесской песне: «жила в том доме кошка, звали ее Мурка».
Вот только дом был не совсем обычный для Советской России тех лет – это был даже не дом, а нарядная двухэтажная вилла под красной черепичной крышей, щедро украшенная всевозможными архитектурными излишествами – лоджиями, портиками, террасами, балконами и балюстрадами. Стояла эта вилла на берегу Волги на опушке прелестной сосновой рощи на окраине не менее прелестного, абсолютно не российского, городка Дубна, несущего в себе, как раковина драгоценную жемчужину, Международный институт ОИЯИ – Объединенный институт ядерных исследований. По вычурному фасаду виллы, в которой жила кошка Мурка, хорошо гармонирующему с фасадами соседних фешенебельных вилл, можно было с легкостью догадаться, с кем был объединен институт ядерных исследований. С кем-то достаточно иноземным, чтобы законно претендовать на хорошо налаженный буржуазный быт и нероссийский комфорт.
На уютных, окаймленных тополями и кленами, улицах институтского городка свободно и часто звучала разнообразная иностранная речь, не совсем, правда, буржуазная, а больше народно-демократическая, но все же иностранная – немецкая, венгерская, чешская, польская, а в добрые старые времена даже и китайская. Мы этих добрых старых времен уже не застали – к моменту нашего переезда в Дубну от них осталась только легенда о том, как в одно прекрасное утро все китайские ученые, числом до пятисот, одновременно вышли из своих нарядных домов, споро построились в колонну по четыре и с громкой песней двинулись на вокзал. Там они, не переставая петь, организованно погрузились в специально поданный для них поезд, и с тех пор никто их больше не видел.
Поскольку ни кошка Мурка, ни ее хозяева, С-Ф-Ш, к великому переселению китайцев никакого отношения не имели, то в момент нашего появления в соседней с ними вилле они продолжали спокойно наслаждаться своим комфортабельным бытом. Хозяева Мурки были милейшие люди: он – крупный ученый, директор одной из четырех лабораторий, составляющих основу ОИЯИ, она – редактор какого-то престижного физического издательства, – которых их благополучная жизнь сделала еще милее и добрее. И наш быт, продлись он какое-то время, мог бы сделать нас не менее благополучными и добрыми, – хоть досталась нам всего лишь четверть такой виллы, как у С-Ф-Ш, но нам и эта четверть казалась немыслимой роскошью. Мы сгрузили свои пожитки и начали осторожно врастать в новую, почти фантастическую не только для нас, но и для всего нашего босяцко-интеллигентского круга обстановку: просторно расставили мебель, кое-что даже прикупив, посадили вдоль террасы нарциссы и тюльпаны и записали сына в теннисный клуб.
Работа у Саши была прекрасная, я только-только получила премию Всероссийского конкурса на лучшую пьесу для кукольного театра, – и казалось, что мы уже преодолели взлетную полосу и вот-вот взмоем в небо. Вполне возможно, что все так бы и случилось, если бы кошке Мурке не вздумалось завести котят. Котят было штук пять – похожих на мать, серо-черных и ничем не примечательных. Я не знаю, куда девались четверо из них, но пятого, менее серого и более черного, по имени Котофей, пылко полюбила тринадцатилетняя дочь С-Ф-Ш, Ася, и из-за этой любви все и произошло.
Ася, девочка взбалмошная и балованная, считалась в семье трудным ребенком, – в отличие от своего старшего брата Бори, студента физтеха или физмата, точно не помню. Своими капризами она держала родителей в постоянном напряжении – иногда не ела, иногда отказывалась ходить в школу, а время от времени демонстративно складывала какие-то вещички в школьный ранец и объявляла, что уходит из этого дома, где ее никто не понимает.
С появлением Котофея ее словно подменили – к восторгу папы и мамы она вдруг превратилась в пай-девочку: начала охотно есть, регулярно делать уроки и совершенно перестала угрожать уходом из дому. Все свободное время она проводила с котенком, сосредоточенно играя с ним в «дочки-матери» – она его пеленала, кормила молоком из бутылочки и, напевая колыбельные песни, часами возила под деревьями в кукольной коляске. Единственным отрицательным явлением, сопровождавшим Асину новую горячую любовь, стала ее неукротимая ненависть к несчастной Мурке, не желающей отказываться от своих родительских прав.
Окрыленные неожиданным преображением дочери С-Ф-Ш готовы были на все, лишь бы эта благодать продлилась. И потому они без раздумий согласились устранить недавно еще любимую кошку, хоть при доме был сарай и огромный участок, так что места было достаточно и для матери, и для сына. Они взялись за дело с большим рвением – им и в голову не приходило поостеречься, поскольку оба были воспитанниками рационального материализма и не верили ни в какую нечистую силу.
Несчастную Мурку пытались выжить из дому всеми доступными способами – домработница увозила ее в автобусе за Волгу, сам Ф-Ш увозил ее в служебной машине на другой конец Дубны и выпускал из корзинки на территории института. Однако ничего не помогало – пусть через день, пусть через два, умная кошка всегда возвращалась домой. Отчаявшиеся С-Ф-Ш умоляли Асю смириться с присутствием кошки, но та и слышать об этом не хотела. «Выбирайте, или я, или кошка!» – объявила она. Наши милые соседи, конечно, выбрали дочь и обратились за помощью к нам. Так как у нас была машина, на которой мы регулярно ездили в Москву, они попросили нас завезти кошку подальше от Дубны, например, в Димитров, и высадить ее там.
Сейчас я не могу понять, как я согласилась выполнить их просьбу. Конечно, С-Ф-Ш были наши друзья и благодетели, и мы были им многим обязаны, но все-таки какая мерзость – увезти из чьего-то дома кошку, которая там выросла и не хочет уходить! Сегодня я ни за что бы этого не сделала, – за прошедшие с тех пор годы я поняла, что не все так просто, как видится, и не стоить рвать тайные нити, натянутые над нами и вокруг нас.
Но тогда мы доверчиво подъехали к усадьбе С-Ф-Ш и распахнули дверцу машины в ожидании кошки. Вся семья собралась у ворот, Ася – с Котофеем в коляске, С-Ш – с Муркой на руках. Однако Мурка, наученная печальным опытом прошедших недель, вовсе не торопилась к нам присоединиться. Напротив, при виде распахнутой дверцы автомобиля она вывернулась из рук своей любимой хозяйки и бросилась наутек. Правда, убежала она недалеко, а спряталась за лестницей, ведущей на террасу, – странно, почему бы ей было не удрать в лес, где никто не смог бы ее догнать? Наверно, она еще не окончательно разуверилась в своих хозяевах, которые вырастили ее из крохотного котеночка и кормили всю жизнь.
После чего начался получасовый спектакль, состоящий из нежных уговоров и неудачных погонь. Ничего не помогало – Мурка меняла место, пряталась так, чтобы не терять нас из виду, но упорно отказывалась подойти к машине. И тогда на сцену выступил до сих пор молчавший студент Боря. Борю Мурка любила больше, чем других членов семьи, – он возился с нею в ее, кошкином, детстве с той же преданностью, с какой Ася возилась с Котофеем, а главное, его не было в Дубне в те ужасные недели, когда все близкие и родные стремились изгнать ее и лишить крова.
Боря сделал несколько шагов к кустам, окаймляющим террасу, и ласково-ласково позвал: «Кис-кис-кис!». Мурка попятилась, но не убежала. Тогда Боря подошел ближе и протянул руку:
«Иди ко мне, глупышка. Это же я, Боря».
Кошка, не мигая, смотрела Боре в глаза огромными зелеными глазами, как бы проверяя, обманывает он ее или нет. И он ответил ей честным прямым взглядом, не подозревая, что подписывает себе смертный приговор. Он, воспитанный рационалистичными реалистами, твердо знал, что материя первична, и не верил ни в чох, ни в сглаз.
«Иди ко мне, Мурочка, не бойся. Это же я, Боря».
И Мурочка к нему пошла. Она нерешительно вышла из-за куста, за которым пряталась, и остановилась, как бы выжидая, что будет. Тогда Боря наклонился, взял ее на руки и понес к машине.
Как она взвыла, осознав, что он ее предал! Как рванулась из его рук, извиваясь всем телом и пытаясь его укусить! Но это ей, конечно, не помогло – Боря держал ее крепко, бедный-бедный Боря! Такой славный, такой интеллигентный, с таким прелестным чувством юмора, ему бы жить и жить! Он просунул голову в заднюю дверцу нашей машины и бросил Мурку под сиденье, она черной молнией метнулась в проем, но Боря оказался быстрей и стремительно захлопнул дверь. «Езжайте быстрей!» – крикнул он, и мы тронулись с места. Пока машина набирала скорость, Мурка с остервенением всем телом билась о стекло и кричала Боре почти внятным человеческим голосом:
«Сдохнешь! Сдохнешь! Сдохнешь!»
Через месяц Боря поехал с экспедицией в сибирскую тайгу, там его укусил энцефалитный клещ, и он умер страшной медленной смертью, постепенно теряя речь, зрение, слух, способность двигаться и дышать. Но Мурка не удовлетворилась проклятиями Боре – она прыгнула на заднее окно, распласталась по стеклу и выкрикнула свою ненависть кучке остальных предателей, растерянно глядящих нам вслед.
Вскоре у Ф-Ш обнаружили опухоль мозга, и он тоже умер. С-Ш она почему-то пощадила, – возможно, считала, что мучительная смерть мужа и сына должна служить той достаточным наказанием, а Асю оставила жить – наверно, в награду за ее любовь к Котофею.
Покончив с семьей С-Ф-Ш, кошка принялась за нас. Она стала метаться через наши головы между сиденьями машины и окнами, то и дело ударяясь о двери и стекла и ни на миг не прекращая свой выразительный ненавистный монолог, на этот раз адресованный нам. Меня начала бить дрожь – мне редко приходилось видеть зрелище страшнее полыхающих глаз этой разъяренной тигрицы. Наконец я сказала Саше:
«Я больше не могу. Останови машину, и пусть она убирается ко всем чертям».
Саша тоже устал от нескончаемых волн кошачьей ярости. Он остановил машину среди леса и открыл дверцу, но кошка и не подумала выходить. Правда, она замолчала и улеглась на заднем сиденье, всем своим видом показывая, что покидать нас не собирается. Когда Саша попытался к ней прикоснуться, она так страшно зарычала и засверкала глазищами, что он тут же отдернул руку, и мы решили ехать дальше. Мы как бы заключили с нею негласный договор – мы оставляем ее в покое, при условии, что она тоже оставит нас в покое.
В полном молчании доехали мы до Димитрова – между собой мы тоже не разговаривали, подавленные ее тягостным присутствием. Ощущение было такое, словно через весь салон автомобиля натянуто напряженное силовое поле, враждебно направленное на нас. В Димитрове мы остановились возле булочной – из-за всех этих передряг с кошкой мы сильно задержались и опасались не успеть в Москву до закрытия гастрономов. Саша выскочил из машины, чтобы купить хлеба, оставив дверь приоткрытой, а я как бы задремала, опустошенная пережитым эмоциональным взрывом.
Когда Саша вернулся с батоном и бутылкой кефира, кошки в машине уже не было, – я даже не заметила, как она оттуда выскользнула. Мы было вздохнули с облегчением и напрасно: буквально со следующего дня у нас началась бесконечная полоса бед и несчастий, продолжавшаяся несколько лет подряд.
Сначала внезапно тяжело заболела моя мама, и мне срочно пришлось умчаться в Харьков, чтобы сидеть у ее постели после операции, от которой мама так и не оправилась и к концу года умерла. А через пару дней после того, как я уехала в Харьков, арестовали Андрея и Юлика, и начался мучительный период следствия по их делу. В день их ареста за Сашей в Дубну приехала машина со следователями КГБ и увезла его в Москву на допрос, после чего стало совершенно ясно, что пришел конец нашему едва начавшему расцветать дубненскому благополучию.
Сашу даже не уволили, а просто не возобновили заключенный с ним незадолго до этого временный контракт, что означало немедленное выселение из только что любовно обставленной четвертушки виллы нашей мечты. На Сашу никто не донес, он сам счел себя обязанным рассказать о случившемся Ф.-Ш., директору лаборатории и бывшему хозяину мстительной Мурки. Однако можно не сомневаться, что того уже ввели в курс дела другие, более авторитетные, инстанции – ведь приехавший за Сашей следователь пригласил его для предварительной беседы в кабинет начальника отдела кадров ОИЯИ, с которым, как видно, перед тем тоже провел надлежащую беседу.
С сентября 1965 года наша жизнь превратилась в кошмар – вдобавок к маминой болезни и нервотрепке все ширящегося следствия тяжело заболел наш сын Володя. У него неожиданно началось обострение сахарного диабета, и после неудачной попытки лечения в московской больнице мы вынуждены были положить его в больницу в Донецке, где детским отделением заведовал наш друг, выдающийся педиатр Эмиль Любошиц. Тиски времени и обстоятельств смыкались у нас на горле – ведь мы не могли надолго оставить без своего присутствия ни умирающую маму в Харькове, ни больного ребенка в Донецке, ни неустойчивую оппозицию властям, которую в значительной степени возглавлял в Москве Саша.
В течение полугода мы непрестанно совершали челночные поездки – я из Донецка в Харьков, Саша – из Москвы в Донецк, – и соответственно обратно. И ни разу не вспомнили о проклятиях разъяренной кошки Мурки, пока, наконец, черные тучи, клубившиеся в нашем небе, не выпали черным градом – правда, Володю Эмиль все же умудрился вырвать из лап смерти, но маму мы похоронили, а Юлика и Андрея оплакали возле здания суда на площади Восстания.
Люди рациональные, твердо знающие, что материя первична, могут спросить: при чем тут обиды кошки Мурки? И привести полдюжины разумных объяснений для бедствий, обрушившихся на головы всех участников предательского вывоза несчастной кошки в далекий чужой город, где ей, скорей всего, суждено было погибнуть. Я не могу с ними спорить – им трудно возразить разумно, а неразумных возражений они все равно не примут.
Я и сама, поставив себя на их место, могла бы насчитать несколько хоть и противоречащих одна другой, но зато вполне реалистических, версий, приведших к нашумевшему процессу Синявского-Даниэля без всякого участия кошки Мурки. Попробую перечислить некоторые из них.
1. ОЧЕВИДНАЯ – и потому сомнительная.
Советские власти, и впрямь обеспокоенные появлением в зарубежной печати хулиганских произведений Абрама Терца и Николая Аржака, пригласили лучших экспертов-литературоведов для выяснения личностей этих злостных «клеветников». Характер работы подобных экспертов, не жалеющих сил ради выявления истины, отлично описан в романе А. Солженицына «В круге первом». И потому неудивительно, что кто-то из них, возможно, даже по фамилии Рубин, нашел-таки ключик к хитроумному ларчику и отправился в секретный фонд Ленинской библиотеки. Там, тщательно просмотрев список всех, кто брал цитируемые злокозненным Абрамом книги, – благо, их было не так уж много, – он методом исключения отмел благонадежных и выявил истинное лицо двуличного сотрудника Института мировой литературы Андрея Синявского. А дальше все уже было проще простого – в квартирах всех подозреваемых поставили подслушивающие устройства, ниточка потянулась к Юлику, и двери тюрьмы захлопнулись с громким лязгом.
2. БЫТОВАЯ – и потому весьма вероятная.
Никто никого не искал, а если и искал, то неумело. Но Юлик, брошенный Ларкой, с горя отчаянно загулял, чтобы доказать самому себе, что есть еще порох в пороховницах. О том, как Юлика бросила Ларка, я еще расскажу в обещанной истории про вторую кошку, а о том, что вытворял сам Юлик, могу рассказать уже сейчас. Одному из наших общих друзей, неплохому харьковскому поэту К., вздумалось зачем-то – я надеюсь, не по заданию, а по собственной инициативе, – стать эротической тенью Юлика, то есть заводить романы со всеми его женщинами, которым не было числа.
К чести этих бессчетных дам выяснилось, что не только Юлику, но и харьковскому поэту К. удавалось соблазнить их без особого труда. И все они, как одна, нежась в постели с любознательным К., признавались, что неверный, но обожаемый Даниэль каждой из них – каждой, без исключения! – читал свои опубликованные «за бугром» повести. Нетрудно предположить, что кто-то из участников этого спектакля, – возможно, даже не один или не одна, – сообщали обо всем куда надо, а дальше все уже было проще простого: в квартирах всех подозреваемых поставили подслушивающие устройства, ниточка потянулась к Андрею, и двери тюрьмы захлопнулись с громким лязгом.
3. ДРАМАТИЧЕСКАЯ – вполне вероятная.
Ни для кого из современников процесса не секрет, что первая волна пошла по московским салонам после того, как где-то в конце 1963 года Сергей Хмельницкий потерял власть над собой за чайным столом Елены Михайловны Закс. Саша Воронель так хорошо описал этот небольшой эксцесс в 48 номере журнала «22», предваряя напечатанную там исповедь С. Х. «В чреве китовом», что мне не остается ничего другого, как его процитировать:
«Гости съезжались на дачу. Поздоровавшись с Еленой Михайловной и скинув шубы, проходили к столу, где янтарного цвета чай, заваренный в лучшей манере, разлитый в тонкие стаканы с подстаканниками, напоминал о старинном московском гостеприимстве, дореволюционной интеллигентности и сегодняшнем неустройстве. Впрочем, к чаю были коржики, скромные, но изысканные.
Гость, ворвавшийся позже других, с мороза раскрасневшись, не мог сдержать возбуждения. Торопливо выкрикнув: «Что я сейчас слышал! Что слышал…» – и обеспечив себе таким образом всеобщее внимание, он жадно уткнулся в горячий чай. Переведя дыхание, сообщил: «Только что… По автомобильному приемнику… Радио «Свобода»… Потрясающая повесть… «День открытых убийств»… Какой-то Николай Аржак… Невероятно… Невообразимо талантливо… Вся наша жизнь…»
Увлечены были все. Но с одним гостем определенно творилось что-то неладное. Сергей Хмельницкий краснел, бледнел, задыхался и, наконец, вскочил и заорал: «Да это ведь Юлька! Я – я сам – подарил ему этот сюжет. Больше никто не знал. Больше никто и не мог. Конечно, это Юлька…»
Я не знаю, …сколько стукачей присутствовало среди гостей, спустя сколько времени они доложили об этом случае и как подробно…»
Было много пересудов насчет мотивов Сережиного эмоционального взрыва. Находились и такие, которые утверждали, что он закричал нарочно, чтобы, когда Юлика посадят, отвести подозрение в доносе от себя и распределить его между всеми присутствующими. Сам же Сережа, даже спустя много лет, настаивает на том, что закричал просто сдуру, потрясенный услышанным, – ведь он и вправду подарил Юлику этот сюжет. Хорошо зная его несдержанную манеру, мы склонны в это верить, особенно потому, что потрясен он был не случайно – ведь он абсолютно ничего не знал о кознях своих закадычных друзей.
Как бы то ни было – один ли из гостей Елены Михайловны сообщил кому надо имя предполагаемого автора крамольной повести или сам Сережа, испуганный происшедшим, поспешил об этом сообщить, неважно. Важно, сообщил ли кто-нибудь? В случае положительного ответа все уже было просто. В квартирах всех подозреваемых поставили подслушивающие устройства, ниточка потянулась к Андрею, и двери тюрьмы захлопнулись с громким лязгом.
4. ОФИЦИАЛЬНАЯ (опубликованная через много лет в «Литературке») – и потому совершенно неправдоподобная.
Е. Евтушенко поведал миру, как один американский писатель, будучи у него в гостях, украдкой вывел его в ванную комнату, открыл краны на полную мощность, – чтобы перехитрить встроенные в стены микрофоны, – и поделился с ним добытыми откуда-то сведениями о том, что ЦРУ раскрыло КГБ настоящие имена Абрама Терца и Николая Аржака. Дальше все уже было проще простого, и даже подслушивающих устройств не потребовалось, чтобы двери тюрьмы захлопнулись с громким лязгом.
Но хоть сама Марья Синявская, по утверждению «Литературки», с готовностью подтвердила рассказ Евтушенко (а может быть, именно поэтому), версия эта слишком пестрит несовместимостями, чтобы можно было в нее поверить. Зачем, к примеру, было запираться в ванной комнате, чтобы рассказать историю, известную и ЦРУ, и КГБ, да еще немедленно после рассказа опубликованную в советской газете? А если ЦРУ и впрямь зачем-то выдало КГБ провинившихся писателей, как об этом стало известно таинственному гостю Евтушенко? Они что, сами ему об этом сообщили? И откуда Марья узнала, что все случилось именно по вине ЦРУ, – неужто они перед нею покаялись? И вообще…
5. ПОЧТИ НЕПРАВДОПОДОБНАЯ – и потому соблазнительная.
А что, если на миг предположить, будто весь этот непостижимо громогласный судебный процесс был задуман и затеян советскими властями специально для того, чтобы помочь Андрею стать в будущем крупномасштабным агентом влияния? Не простым скромным журналистом, в нужную минуту попискивающим из угловой колонки своей либеральной лондонской или парижской газеты в пользу тех или иных действий Советской власти, а настоящей международно-признанной фигурой, к мнению которой прислушивается даже американский президент? Потому что именно такой фигурой Андрей Синявский стал после процесса 1966 года.
Естественно, что такие идеи приходят не в каждую голову, а именно в мою – сюжетослагающую, но материала для их подкормки можно набрать больше, чем достаточно. Материал этот я кропотливо собирала по крохам в течение двадцати лет жизни за пределами России и просуммировала его, руководствуясь пушкинским «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». И хочу на этих страницах подвести черту.
Начнем с самой идеи агента влияния. Разговоры о том, что такие агенты существуют, всегда бродили по интеллигентским салонам, особенно по зарубежным, но мне пришлось вживе встретиться и даже подружиться с сыном одного из них, архитектором Осей Чураковым. Само это знакомство началось при сомнительных обстоятельствах, в период отчуждения, когда после подачи заявления на выезд Саша затеял одновременно самиздатский журнал и неофициальный научный семинар, в результате чего мы оказались в неком специфическом вакууме. Кажущуюся цельность этого вакуума то и дело нарушали разные непредвиденные, жаждущие общения нонконформисты, среди которых непросто было отделить зерна от плевел, то есть понять, кто из них рвется к нам по заданию, а кто по собственной инициативе.
Проникнув к нам летом 1973 года при помощи одной весьма подозрительной богемной дамы неопределенной профессии, которая тут же исчезла с горизонта, Ося Чураков продержался в нашем кругу несколько месяцев, чтобы в один январский день 74-го покинуть нас внезапно и навсегда. Можно было подумать, что его «бросили» на новый объект, заменив кем– то другим. В Зазеркалье он еще пару раз «выходил на нас», словно призрак из прошлого, но об этих встречах я расскажу потом.
В любом случае, чтобы, раз к нам ворвавшись, надолго при нас задержаться, необходимо было вызвать у нас интерес к продолжению знакомства. Нужно признать, что Ося Чураков справился с этой задачей блестяще. Он заинтриговал нас не только своим живым умом и богатой эрудицией, но и подробностями своей биографии. Выявив перед нами свое совершенное знание английского языка, он, не скрываясь, признался, что получил образование в частной школе в Кройдоне, поскольку его папа много лет подвизался в Англии в должности политического комментатора одной из ведущих английских газет. Ося даже называл папино английское имя, что-то вроде Эрнста Генри, но не в точности, – которое папа после выхода на пенсию и поспешного отъезда в Советский Союз гордо сменил на вполне заурядное имя генерала-лейтенанта КГБ Чуракова. Осино отчество и соответственно папино подлинное – а впрочем, кто его знает? – имя, к сожалению, испарилось из моей перегруженной памяти.
Но идея агента влияния застряла там прочно, помогая мне время от времени находить ответы на затруднительные вопросы, которые ставила передо мной жизнь. Например – зачем Советским властям понадобилось поднимать такой шум вокруг, вообще-то говоря, незначительных прегрешений Аржака и Терца? Кому было выгодно привлечь к ним внимание всей мировой общественности? Кто бы заметил крохотные лодчонки их произведений, вышедших в необъятное море западной культурной жизни, переполненное литературными крейсерами и линкорами, не будь они взметены на гребень волны своим непропорционально шумным судебным процессом?
Можно, конечно, объяснить случившееся поразительной неуклюжестью и некомпетентностью советской системы. Но, насмотревшись за эти годы на действия других систем, я стала все больше и больше сомневаться в некомпетентности бывшей нашей. Я убедилась, что в некоторых областях международной жизни, особенно в пропагандистской войне, Советские власти проявили себя очень ловкими манипуляторами. Хитро используя иллюзию единства интересов мирового пролетариата, а позже лозунги антифашистского движения, они сумели создать многочисленные «боевые отряды» либеральной интеллигенции, которая не без их помощи прибрала к рукам многие контрольные вершины западного культурного мира.
Эти отряды, укомплектованные немногочисленной группой козлов-провокаторов и широкой массой не склонных к раздумьям идеалистов из студентов, профессоров и художников свободных профессий, хорошо сохранились и до наших дней. Они оказались на редкость жизнеспособными благодаря простой и мудрой системе недопущения инакомыслящих к контролируемому козлами-провокаторами интеллектуальному пирогу.
Хоть козлы-провокаторы обычно хорошо знают, с какой стороны хлеб намазан маслом, основная масса обычных членов их групп простодушно доверяет их умелой демагогии, много лет назад сформулированной в отделах дезинформации КГБ. Так, например, в начале восьмидесятых охарактеризовал покинутую нами «великую твердыню равенства и братства» один израильский актер, недовольный предложенной ему ролью диссидента в моем фильме: «Я не хочу разоблачать страну, где каждый гражданин может лечить зубы бесплатно». Играть роль диссидента он, правда, в конце концов, согласился – соблазн оказался выше убеждений.
Агенты влияния, несомненно, играли, а, возможно, и сейчас продолжают играть немалую роль в сохранении стройности боевых когорт прекраснодушных либералов. Я не знаю, кто их финансирует сегодня, но кто-то финансирует – тот, кому надо. Задача агентов – разрешать сомнения наивных и разоблачать «происки клеветников», а для этого им необходимы авторитет и доверие окружающих. Неправда ли недурно было придумано – создать грандиозную героическую фигуру преследуемого властями писателя, а потом выслать его на Запад для вящей убедительности того, что он скажет и напишет?
Внимательно вчитываясь в труды писателя А. Синявского, я невольно задалась вопросом: насколько его литературное наследие соответствует тому культовому образу, в который его превратил процесс Синявского-Даниэля?
И начала опрашивать встречных интеллигентов, как русскоязычных, так и западных, – читали ли они Синявского? Ответ я получила довольно однозначный: практически никто не читал, но все относились с почтением, – не как к личности, а как к мифу. Миф был создан умело и непререкаемо, культовая фигура была изваяна рукой скульптора-профессионала.
Мне могут возразить: не слишком ли высокая цена – целый судебный процесс ради такой малости? Но хороший агент влияния вовсе не малость, а крупная удача. Особенно если учесть, что к середине шестидесятых годов советским властям стало все трудней и трудней удерживать при себе капризных западных либералов. Так что имело смысл потратиться на судебный процесс. Как сказал по другому поводу Давид Самойлов после чудовищного землетрясения в Ашхабаде:
Господь, поскольку было надо, не пожалел и Ашхабада.А тут даже не Ашхабад – а всего лишь один зал суда, оплаченный из государственного кармана по безналичному расчету, и полтора десятка газетных статей, оплаченных тем же способом. При том нельзя отмахнуться от того факта, что это был первый политический процесс, о котором писали в советских газетах – зачем ИМ это понадобилось? И как получилось, что фотография наших друзей на скамье подсудимых, сделанная якобы исподтишка во время процесса и появившаяся сразу во многих западных газетах, оказалась по недосмотру фотографа снятой не из зала, а со стороны судебных заседателей? Неужели ее сделал сам судья? Или, может, даже прокурор?
А если да – то зачем?
Конечно, остаются еще вопросы, на которые нелегко ответить. Самый трудный из них – а как же Юлик? Его-то за что?
Ни при какой погоде не мог он быть посвящен в такой план и ни при какой погоде не согласился бы в нем участвовать. Он не стал бы ничьим агентом, хоть сидел тяжело, в Европу на льготных условиях не уехал и на обед к президенту США приглашения не получал. Однако мировую известность за компанию с Андреем все же приобрел. Согласился ли бы он за мировую известность на пять лет отправиться в лагерь тяжелого режима? Похоже, согласился бы – уж я-то знаю, как он радовался каждой новой вышедшей книге: мы по этому поводу всякий раз устраивали небольшой выпивон в узком кругу. Тем более, что он, как и любой нормальный человек, бессознательно надеялся на удачу – авось, его псевдонимное авторство сойдет ему с рук? Но что бы он сказал, если бы знал наверняка, что пять лет ему обеспечены?
А сам Андрей? Уж он-то, если поверить этой соблазнительной версии, не сомневался, что его ждут тюрьма и лагерь. Неужели его тщеславие было так велико, что он готов был смириться со всеми лишениями лишения свободы?
Во-первых, зная своих собратьев по перу, я склонна и на этот вопрос ответить положительно. Но писательское тщеславие – всего лишь верхушка айсберга. Там, в глубине, скрытые мощной толщей воды, хранятся более сложные тайны. Вряд ли нам когда-нибудь удастся узнать, что могло бы заставить Андрея принять предложение властей стать агентом влияния такой дорогой ценой, разве что Марья выдаст под занавес какой-нибудь свой вариант.
Остаются только догадки. Зачем, ради какой непонятной миссии возили Синявского в 1952 году в Вену на свидание с Эллен Замойской, как он сам туманно описывает в автобиографическом романе «Спокойной ночи»? Ведь он этого не объясняет и даже завесу тайны не приподнимает ни на миллиметр. Почему бы не предположить, что миссия состояла именно в соглашении о том, каким образом задуманная Андреем крамольная повесть «Суд идет» по написании будет передана Замойской и издана ею во Франции ко всеобщему удовлетворению? Причем вовсе не обязательно, что Замойскую посвятили во все тонкости хитроумного плана вездесущих органов, ей, небось, предложили какое-нибудь не слишком правдоподобное объяснение, которое она вынуждена была принять. Или притвориться, что принимает. Тем более что скорей всего ни у нее, ни у Андрея не было большого выбора – я ясно представляю себе, как во время этих переговоров они печально склоняют друг к другу головы, зажатые большими ржавыми тисками, чтобы не вздумали своевольничать. Они и не вздумали, а то бы им век свободы не видать! Как Раулю Валленбергу, например, который наверняка не понял, с кем он имеет дело.
А кто из нас бросит камень в того, кто в подобных обстоятельствах сдался бы на милость всесильного? Уж во всяком случае, не я – откуда я знаю, как бы повела себя в подобном случае я сама? Вряд ли бы стала своевольничать, но мне просто повезло, и никто мне голову ржавыми тисками не зажимал.
А что до лагерных мук, то надо еще выяснить, как велики были муки Андрея в лагере. Если верить слухам, Андрей свои шесть лет сидел на весьма сносных условиях, и на работу его гоняли не слишком усердно. Во всяком случае, не на такую тяжелую, как беднягу-Юлика, который шил варежки, до умопомрачения выполняя норму, так что у него обострился оставшийся от фронтового ранения остеомиелит, и кость предплечья начала расслаиваться, вонзаясь в мясо сгнившими осколками.
Впрочем, можно ли верить слухам? Злопыхателей и завистников на свете много, так что лучше всего полагаться на собственные наблюдения. Основываясь на собственных наблюдениях, я могу сказать наверняка – Андрею в лагере никто не мешал и не запрещал писать. Я своими глазами прочла великое множество законно присланных им Марье из лагеря писем – это были готовые главы из «Прогулок с Пушкиным» и из «Голоса из хора». Это означает, что у него была бумага и ручка, было время и силы писать, и возможность отправлять написанное по почте.
И невольно хочется сравнить все эти блага с судьбой другой книги, написанной в тех же мордовских лагерях, – с «Мордовским марафоном» главного героя «Самолетного процесса», Эдуарда Кузнецова, в расшифровке и издании которой мне пришлось принимать непосредственное участие.
Когда уже в Израиле нам предложили заняться тайно переправленной из СССР рукописью этой книги, мы открыли коричневый бумажный пакет, вытряхнули его содержимое на стол и обомлели – на столе высилась небольшая кучка крошечных (2,5 см на 4 см максимум) листочков какой-то странной, тонкой, как кисея, особенной бумаги. Каждый листочек был густо исписан с двух сторон мельчайшим бисерным почерком, так что невооруженным глазом невозможно было прочесть ни слова.
Что можно было с этим сделать? Мы нашли единственный выход – сфотографировать каждый листочек с большим увеличением. Эта работа оказалась очень дорогой, своих денег у нашего скромного культурного фонда на нее не было, и, я помню, мы долго торговались с заинтересованной в рукописи Кузнецова конторой о том, какую часть они оплатят. Полученный после проявления и увеличения результат требовал огромной работы по расшифровке, потому что каждый отпечаток был покрыт плохо проступившими слипшимися строчками. Расшифровкой рукописи занялась Наталья Рубинштейн, бывшая специалистка по расшифровке рукописей из ленинградского музея Пушкина, которая воистину героически довела ее до читабельного вида.
Но не в расшифровке листочков Кузнецова состояла главная трудность создания книги «Мордовский марафон». Главную трудность должен был до того преодолеть сам автор, чтобы ее написать и переправить из лагеря на волю. Э. Кузнецову было запрещено не только писать, но даже просто иметь ручку и бумагу, причем за каждое мельчайшее нарушение запрета его сажали в карцер. И все же книга была написана, переправлена в Израиль и издана нашим фондом «Москва-Иерусалим».
Как же Кузнецов сумел это сделать? Проще всего обстояло дело с ручкой. Ее в виде шарикового стержня умудрялась передать ему при свидании тогдашняя его жена Сильва Залмансон, а он этот стержень – благо, маленький, – прятал на день в каком-то тайнике. Ночью, когда сотоварищи по бараку – и друзья, и стукачи, – засыпали, Эдуард, отвоевавший себе место на верхних нарах, пристраивался у слепого окошка и писал свой роман мельчайшим почерком при свете мигающего неподалеку сторожевого фонаря.
На чем же он его писал? Откуда брал эти крохотные листочки? Это были обрывки промасленных бумажных прокладок для конденсаторов, которые он тайком уносил из своего рабочего цеха. Их нужно было долго варить в кипятке, чтобы превратить в писчую бумагу. Поскольку передавать тайком такие листочки было очень трудно, Кузнецов писал на них самым убористым почерком, на какой был способен, выгадывая каждый квадратный миллиметр. После чего нужно было хорошенько спрятать исписанный листочек, чтобы его, не дай Бог, не нашли при шмоне. А главное – нужно было потом тщательно упаковать пачечку исписанных листочков в расчете на долгое хранение для последующей транспортировки на волю.
На упаковку шла верхняя оболочка разрешенной в лагере стограммовой пачки чая, сделанная из тонкой свинцовой фольги. Кузнецов сворачивал пачку листков рукописи в тугой свиток, заворачивал его в фольгу и обжигал полученный цилиндрик на горящей спичке, чтобы он запаялся. Когда наступало время трехдневного свидания с Сильвой, он перед уходом на свидание проглатывал цилиндрик вместе с большой дозой слабительного. В комнате для свиданий супруги Кузнецовы дожидались благополучного выхода цилиндрика из кишечника Эдуарда, после чего его тщательно мыли, и теперь уже Сильва проглатывала его перед уходом. Не знаю точно, сколько таких сдвоенных «заглатываний» понадобилось на передачу всей рукописи «Мордовского марафона», но я была среди первых, кто видел эти листки своими глазами. Они нисколько не напоминали красивые, белые, свободно заполненные крупным почерком Андрея листы рукописи «Прогулок с Пушкиным».
Кроме несоответствия ситуации с пересылкой текстов из лагеря я могла бы назвать еще несколько смущающих мою душу историй. Ну, как объяснить письмо-донос в ЦРУ на парижскую эмигрантскую газету «Русская мысль», не теряя при этом благорасположения к его авторам? Письмо, обстоятельное, на многих страницах, было написано где-то в начале 80-х. Оно обвиняло газету в самых чудовищных грехах:
1. В недостаточном знании и понимании поэтики А. С. Пушкина.
2. В недостаточном понимании событий, происходящих в СССР, в особенности в диссидентском движении.
3. В излишнем потакательстве православной церкви, тогда как интеллигенция СССР в массе своей состоит из атеистов.
За эти грехи предлагалось «Русскую мысль» поскорей закрыть, а положенное ей скромное финансирование передать авторам письма, гораздо глубже понимающим Пушкина, дабы они смогли издавать другую, лишенную указанных недостатков газету. Письмо подписали три богатыря: А. Синявский, Член Баварской академии искусств, Е. Эткинд, профессор-литературовед, специалист по современной французской литературе, и К. Любарский, главный редактор журнала «Страна и мир».
Не в силах противостоять богатырскому натиску именитых авторов письма, ЦРУ поступило тем проверенным гнусным образом, к какому склонны многие бюрократические образования, – оно переслало письмо в «Русскую мысль», предлагая, чтобы они сами разобрались с доносчиками. «Русская мысль» прореагировала стремительно – она немедленно опубликовала письмо-донос на своей первой полосе.
То-то шуму было! Ведь авторы письма все это время продолжали изображать из себя лучших друзей редакторов самой старой и престижной газеты российского эмигрантского сообщества. Они дружили как с Ириной Иловайской-Альберти, так и с Ариной Гинзбург, регулярно перезванивались и ходили друг к другу в гости, обмениваясь при встрече нежными поцелуями.
Я понимаю, что главная вина падает на коварное ЦРУ – ну зачем им понадобилось пересылать письмо в «Русскую мысль»? Только, чтобы посеять рознь и недоверие в эмигрантской среде. А не то, там бы и по сей день царили взаимная любовь и благолепие, которые Ф. Достоевский когда-то очень верно охарактеризовал словами – «стакан, полный мухоедства».
И все же, понимая пагубную роль адресата письма, хочется заглянуть и в личные дела его авторов. Трудно представить себе, что Андрей стремился издавать газету – он ведь терпеть не мог ни многолюдья, ни спешки, ни житейской суеты. Конечно, захватить в свои руки газету могла возжаждать Марья, обнаружившая, что издание «Синтаксиса» не приводит к так точно сформулированному ею желанному результату – «чтобы ее боялись». Газета этой цели, несомненно, могла бы служить лучше. Но стал ли бы Андрей пачкать руки доносом ради пустого Марьиного каприза?
А что насчет следующего «подписанта» – профессора Ефима Эткинда? Я не могу о нем написать ничего, – ни хорошего, ни плохого, – поскольку видела его всего один раз в жизни. Но не могу не пересказать любопытную историю, рассказанную лично нам с Сашей бывшим атташе французского посольства в СССР, Степаном Татищевым.
Началась она еще в те незапамятные времена, когда чтение и хранение произведений А. Солженицына каралось в Стране Советов тюремным заключением. Среди моих друзей есть, по крайней мере, трое, получивших изрядные сроки за чтение «Доктора Живаго» и «Архипелага ГУЛАГ».
Опасаясь за сохранность своих рукописей, А. Солженицын отозвался на серию дружеских писем одной из своих почитательниц, жены Эткинда – Кати, и тайно передал ей эти рукописи в Ленинград на хранение.
Когда над головой А. Солженицына собрались грозовые тучи и его арестовали, Эткинд с женой, естественно, испугались – ну кто бросил бы в них за это камень? И решили от рукописей избавиться. Но как люди интеллигентные, они не хотели уничтожать такую ценность и выбрали другой путь. Эткинд лично упаковал рукописи в большую хозяйственную сумку и повез их в Москву. Там он положил их в локер при камере хранения и запер ящик секретным кодом. Потом подошел к ближайшему телефону-автомату и набрал номер культурного атташе французского посольства, с которым до того имел дела как специалист по современной французской литературе.
Забыв почему-то, что все посольские телефоны прослушиваются, он четко продиктовал С. Татищеву номер локера и секретный код. Естественно, что когда Татищев приехал на Ленинградский вокзал, открыл локер и вынул оттуда сумку с крамольными рукописями, на плечо ему легла тяжелая рука майора Пронина, и он обнаружил, что окружен группой людей в штатском. В результате рукописи Солженицына были конфискованы, а Татищев и Эткинд почти одновременно отбыли во Францию – Эткинд, снабженный разрешением на постоянное жительство за границей, а Татищев, лишенный дипломатической неприкосновенности за попытку переправить за рубеж литературу, подрывающую существующий строй.
На чей-то вопрос, почему он вызвал Татищева по посольскому телефону без всяких предосторожностей, Эткинд ответил, что мысль о подслушивающих устройствах ему даже в голову не пришла. В этой точке своего рассказа Татищев, рожденный в аристократической семье в Париже, вдруг позабыл весь свой аристократизм и перешел на обыкновенный русский мат, выученный им за годы его дипломатического пребывания в Москве.
«Ему, трам-та-ра-рам, эта мысль в голову не пришла! – завопил он, трясясь от бешенства. – Хотел бы я увидеть, трам-та-ра-рам, такого советского интеллигента, у которого эта мысль хотя бы на миг в его трам-та-ра-рамной башке перестала гвоздить!» Надеюсь, никому не нужно объяснять, на что этот аристократ намекал.
Ничего не скажешь, в хорошем обществе оказался Андрей со своим письмом, предлагающем закрыть старейшую газету российской эмиграции! Правда, о покойном Крониде Любарском я ничего компрометирующего сказать не могу, – и потому думаю, что его взяли в компанию именно, как ничем себя не запятнавшего, – для камуфляжа.
Я понимаю, что все приведенные мной соображения – всего лишь косвенные свидетельства в пользу версии об агенте влияния, и вполне могут оказаться случайным набором разрозненных фактов. Но если в этой версии есть хоть доля правды, мне немного жаль Андрея-авантюриста. Ведь, садясь в тюрьму, – пусть хорошую, пусть милосердную, но все же тюрьму, – он вырвался из рядов и стал первым писателем земли Русской. Это немало, за это можно и пострадать! Но когда он вышел, он обнаружил, что место первого писателя земли Русской занято другим – за эти годы высоко взошла звезда Александра Солженицына.
И Андрею пришлось признать первенство Солженицына. Он, конечно, сделал это по-своему, по-Синявски, двулико и лукаво. Он сказал нам:
«Солженицын – писатель большой, он может позволить себе писать плохо. А я – писатель маленький, я должен писать только хорошо!»
Похвалил он Солженицына или обругал? Понимай, как знаешь.
Вариантов у меня получилось слишком много, и каждый грешит несовершенством. И поэтому ни один не может конкурировать с цельным образом кошки Мурки, изрыгающей проклятия в наглухо закрытой машине. Я не говорю о Юлике и Андрее – у них были свои дела и свои отношения с властями, я всего лишь настаиваю, что для нас все началось с кошки.
Версия сентиментальная
Нас было совсем немного – хоть вокруг нас бурлило и клокотало человеческое море, в наш тесный круг не каждый попадал. Мы жили бедно, сплоченно и взахлеб. Нас объединяло многое – общие литературные вкусы, напряженный интерес ко всему новому, а главное – страшная головокружительная тайна, известная только нам.
Юлик вообще-то был человек ленивый и, выступая неоспоримым авторитетом в оценке приносимых ему на суд произведений многочисленных друзей-приятелей, сам почти ничего не писал. А если писал, то безделушки типа:
Люблю читать я надписи в уборных, стыдливые следы карандаша. В них честно изливается душа экстрактом чувств и мыслей непритворных…Безделушки, которые трудно было бы назвать бессмертной поэзией.
И все же с годами благосостояние их семьи, как и нашей, стало заметно подрастать. В первую очередь потому, что, медленно выходя из глубокого обморока сталинских времен, советское хозяйство начало постепенно оправляться и снабжать своих граждан хоть небольшой частью необходимого для жизни. С другой стороны, материальное положение и наше, и Даниэлей улучшалось по мере нашего личного продвижения по общественной лестнице. Саша защитил кандидатскую диссертацию, я утвердилась в роли многообещающего молодого переводчика, и Юлик, пусть не столь успешно, но довольно регулярно стал пожинать небольшие гонорары на ниве поэзии народов СССР. Об этом замечательно написал С. Хмельницкий:
О, Кабардино-Балкария, – горы, абрек, орел! В поисках гонорария я как-то тебя обрел… Проведал на литбазаре я, что Липкину не видна, Лежит Кабардино-Балкария, питательная страна. Там ходит поэт салакою, там каждый, кому ни лень, В стихах кабардино-балакает по тысяче строчек в день… И будет награда царская тому, кто все это за год С непереводимо-балкарского на русский переведет… Хожу теперь в габардине я, на молнии кофта синяя, Все нажито честным трудом. Ура, Кабалкаро-Бардиния, мой светлый и радостный дом!Подробности о габардине как-то потускнели в моей памяти, но незабываемая синяя кофта на молнии так и стоит у меня перед глазами символом сытой и обеспеченной жизни. Вдобавок к синей кофте Юлика и уже описанному раньше моему пальто джерси цвета заходящего солнца и в нашей, и в их жизни произошла судьбоносная перемена – мы получили двухкомнатную квартиру в отдаленном подмосковном поселке, а Даниэли покинули свой клоповник и поселились в двух комнатах трехкомнатной коммунальной квартиры на Ленинском проспекте.
Если добавить к этому, что нам едва перевалило за тридцать, а в стране, с легкой руки Никиты Хрущева, воцарилась пора смутных надежд на «развинчивание гаек» в общественной жизни, то станут понятны наши радужные настроения и вера в будущее. Правда, то и дело случались события, эту веру подрывающие – вроде скандала с Нобелевской премией Пастернака и последующего ареста Ольги Ивинской и ее дочери Иры Емельяновой, моей соученицы по Литинституту.
Но ведь Пастернака не расстреляли и даже не посадили, – а могли бы! А про Ивинскую власти распространяли слухи, что ее преступления экономические и никакого отношения к политике не имеют, и многим хотелось в это верить, чтобы и дальше весело бежать вприпрыжку навстречу будущим достижениям и успехам.
Я, помнится, даже написала об этом стихи:
Все пройдет, все отстоится, И осядет муть на дно, И опять воздаст сторицей Жизнь за все, что нам дано. И опять мы будем рады Принимать из тех же рук Договоры, гонорары, Званья докторов наук. И опять на прежнем месте Встанет град из пепелищ… Но не будет стоить мессы Тот, оплеванный, Париж!Явно ощутимый в этих стихах привкус горечи нисколько не мешал сладкому настрою на близкое улучшение и расцвет, которые уже не за горами. И вот однажды мы пришли к Юлику, который таинственно запер обычно не запиравшуюся дверь, усадил нас на диван и прочел прямо с пылу-с жару свою только-только написанную повесть «В районном центре» – о секретаре райкома, который по ночам превращался в кота. Повесть нас потрясла. Сейчас я не берусь судить о ее литературных достоинствах, но тогда это было несущественно. Существенно было, что Юлик посмел ТАК написать, – так живо, так смешно, так непринужденно! – в самом начале шестидесятых, когда российская словесность, замордованная неумолимым гнетом соцреализма, закостенела уродливым монстром из папье-маше. Это был подвиг!
А для нас это был праздник, тот самый настоящий праздник, который в циничном ослеплении постперестройки обозвали обидным именем «пир духа». В ту ночь мы не уехали домой в свой загород, а остались ночевать на даниэлевском продавленном диване, чтобы до утра смаковать подробности прочитанной нам повести. И до сих пор в моей перегруженной памяти, сквозь толщи пережитого, прочитанного и увиденного, мощным ростком пробивается образ несчастного секретаря райкома, застигнутого на ветке дерева сворой собак в критический момент перевоплощения.
Мы тогда еще были невинны, как новорожденные младенцы. Мы не подозревали, какие беды несет нам эта вдруг возникшая у Юлика творческая активность. Ведь мы привыкли, что все вокруг суетятся, что-то пишут, читают написанное дрожащими от волнения голосами и терпеливо выслушивают хулу и хвалу, и только Юлик, один-единственный ничего не пишущий и потому неуязвимый, возвышается над нами, как верховный судья. А теперь он тоже оскоромился и стал одним из нас!
Откуда нам было знать – такое ведь и в голову никому прийти не могло! – что источником вдохновения Юлика послужил намек Андрея на возможность кое-что из написанного напечатать за границей. Напечатать и прославиться – шутка ли? И что образцом для незадачливого секретаря райкома, повисшего на суку с одной недоперевоплощенной кошачьей лапой, послужил рассказ Синявского «Пхенц», в котором, как мы обнаружили через пару лет, каноны соцреализма нарушались еще более дерзко и решительно.
Как выяснилось впоследствии, мы тогда еще не знали многого из того, что знали и затевали наши мудрые старшие друзья. Не подозревали о страшном хитросплетении неприязней, интриг и зависимостей, скрытых от постороннего глаза, даже столь близко сфокусированного от эпицентра, как наш. Ведь мы буквально дневали и ночевали то у Даниэлей, то у Хмельницких, которых считали неразлучными. А во время школьных каникул Даниэли приезжали к нам с Санькой, а Хмельницкие с Митькой, чтобы их дети зимой ходили с Володей на лыжах, а летом – по грибы. А мы тем временем упивались взаимным общением, чтением стихов и обсуждением насущных проблем искусства и литературы – нам не в шутку казалось, что именно от нас человечество ждет их решения. Удивительно, сколько времени мы в молодости тратили на разговоры, теперь даже трудно в это поверить!
Иногда случались казусы – так однажды в нашу загородную квартирку общей площадью 34 кв. метра ввалилось одновременно 43 человека, в основном приглашенных Сашей на воскресенье во время какой-то физической конференции. Он всегда был щедр на приглашения, но все же не подозревал, что мы так популярны – ему и в голову не пришло, что в придачу к обычному набору постоянных гостей приедут все, без исключения, им приглашенные.
Я с ужасом смотрела на все прибывающую толпу посетителей. Ситуация возникла авральная: уже не говоря о мигом приконченных бутербродах и об очереди в уборную, некоторым гостям не то, что сидеть, но даже и стоять было негде. Тогда кто-то пустился на хитрость и предложил пойти погулять в лес. Хитрец подмигнул мне и прошептал: «Хоть в лесу останемся своей компанией!» Но не тут-то было – никто не захотел оставаться, все, как один, поднялись и отправились в лес. Я думаю, со стороны наша гуляющая группа выглядела небольшой демонстрацией, разве что плакатов и лозунгов не было.
Вообще сашиного размаха, конечно, следовало остерегаться, но мы были слишком беспечны, чтобы это осознать. И Даниэли, благодаря ему как-то влипли в грандиозную авантюру, стоившую всем участникам немало денег и сил. Виноваты в первую очередь были они сами – в кои-то веки они скопили немного денег на отпуск в Крыму, и Саша приехал за ними на нашем древнем, хоть и только что купленном «Москвичонке», чтобы отвезти их на Курский вокзал. К его приезду они, как и полагается, были совершенно не готовы.
«Машина – не самолет», – предупредил Саша и стал помогать Юлику застегивать переполненный чемодан. С трудом перетянув чемодан ремнем, мужчины – Саша, Юлик и Санька, – погрузили его в машину и под сашино заунывное: «Машина – не самолет», уселись, оставив место для Ларки. Но ее все не было и не было. Тогда Саша и Юлик вернулись в квартиру – но Ларки не было и там. И тут Саша услышал доносящийся из ванной звук льющейся воды. Он рывком распахнул дверь: Ларка с густо намыленной головой стояла, склонясь над раковиной, – она, наконец, нашла свободное время, чтобы помыть голову перед отъездом. С криком «Машина – не самолет!» Саша схватил с гвоздя соседское полотенце, набросил Ларке на голову и поволок ее к двери. Сначала она пыталась отбиваться, но потом смирилась и позволила затолкать себя в машину, – ехать на Курский нужно было с Ленинского проспекта, а до отхода поезда оставалось меньше пятнадцати минут.
Когда участники экспедиции, волоча за собой тяжелый, кое-как увязанный чемодан, вбежали на перрон, поезда и след простыл. Тут бы им пойти в кассу, поплакаться и обменять билет – пусть с доплатой – на какой-нибудь другой подходящий поезд. Но здесь на просцениум вышел Саша и со свойственной ему лихостью предложил на его машине – видел бы кто, как мы по утрам заводили этот драндулет, гоняя его взад вперед по двору перед домом! – помчаться в Серпухов и догнать поезд. Водитель он был молодой, только-только с конвейера, представление о свойствах и выносливости автомобилей имел слабое, но свято верил в их, – а главное, в свои, – возможности.
Градус энтузиазма Даниэлей мог бы сравниться только со степенью безрассудства сашиной идеи. Причем единственного, мало-мальски разумного начала, то есть меня, с ними не было – я накануне уехала в Харьков то ли забирать, то ли отвозить родителям Володю, – и остановить их было некому. С громким гиканьем и победными воплями покатился по Симферопольскому шоссе видавший виды дряхлый «Москвичок», до нас уже много лет прослуживший другому хозяину. Из-под капота то и дело вырывались подозрительные клубы то ли дыма, то ли пара, то ли и того, и другого вместе, но технически безграмотным Даниэлям это было невдомек, а Саше было недосуг обращать внимание на такие мелочи. Шутка ли – ведь он должен был догнать скорый поезд, вышедший в путь на полчаса раньше, чем он на своем хорошо нагруженном драндулете.
На подъеме при въезде в Серпухов мотор «Москвичика» начал нервно чихать, и Саша попытался снизить скорость. Но Даниэли дружным хором объявили, что раз уж он взялся за гуж, то должен до упора лезть в кузов. Пристыженный Саша послушался и нажал на газ. С кузовом, возможно бы, и обошлось, но с мотором шутки оказались плохи – раздался оглушительный взрыв, и над машиной взметнулся к небу столб черного дыма. Обуреваемые идеей догнать поезд Даниэли схватили свой чемодан и умчались в неизвестность, оставив Сашу наедине с издыхающим «Москвичом».
Как выяснилось впоследствии, их судьба оказалась не более завидной, чем Сашина. Он застрял при въезде в Серпухов на вдребезги разрушенном автомобиле, который никто не хотел чинить ни за какие деньги. Наконец, почти через сутки починщик нашелся – он, пьяный вдрызг, брел глубокой ночью по шоссе домой. Но работу пришлось отложить до утра, чтобы мастеровой мог проспаться, а потом еще целый день ушел на починку. К вечеру следующего дня Саша, расплатившись за ремонт, обнаружил, что у него не осталось ни копейки на бензин. Так что пришлось подвозить попутных пассажиров и брать с них деньги, иначе бы он назад не доехал.
А бедные Даниэли, добравшись до вокзала на подхваченном по пути такси, с ужасом узнали, что их скорый поезд, даже не останавливаясь в Серпухове, проследовал в сторону Тулы полчаса назад. Их это не смутило – на том же такси они бросились догонять поезд в Туле, куда, конечно, тоже опоздали. Я уже не помню, сколько стоила им и нам эта авантюра, но, к счастью, никто никого не упрекал, так что история погони за поездом, обрастая все новыми и новыми подробностями, стала в нашем кругу источником постоянных шуток.
Вообще в ту пору мы очень любили смеяться. Помню, как однажды еще на старой квартире Даниэлей в Армянском переулке мы довели себя до истерики, стреляя из духового ружья по штабелю полосатых астраханских арбузов, выложенному на Маросейке в точности под Даниэлевским окном. Ружье кто-то подарил Юлику на день рождения, и он совершенно не знал, что с этим ружьем делать, пока у него под окном не поставили палатку продавца арбузов. Идея стрелять по арбузам пришла в голову Ларке, и все радостно за нее ухватились. Квартира Даниэлей была расположена на последнем этаже, целиться из окна в крупные зеленые шары оказалось очень удобно, и все мы по очереди стали пробовать, на что каждый из нас годен. Юлика и меня отбраковали сразу, утверждая, что при такой меткости мы можем ненароком попасть в голову продавцу. Зато между Ларкой и Сашей началось настоящее состязание, и оба они вошли в такой азарт, что их остановили лишь разъяренные крики прохожих, на головы которых то и дело стали сыпаться красно-зеленые осколки раздробленных арбузов. Мы хохотали, как безумные, глядя из безопасного окна на задранные вверх недоуменные лица продавца и покупателей – сегодня я никак не могу понять, что мы нашли в этом смешного.
Однако шутки шутками, а разработанный Андреем хитрый план покорения мира неуклонно, год за годом, шаг за шагом претворялся в жизнь. И вот однажды Юлик прочел нам свою новую повесть «Говорит Москва» и, зардевшись от гордости, поведал, что она вот-вот будет издана в Париже. Появление в печати новых повестей Юлика и Андрея в конце концов, сблизило нас и с Синявскими, и мы начали проводить долгие часы в знаменитом подвале в Хлебном переулке, зачитываясь не только книгами хозяина, но и произведениями другим замечательных авторов, вроде Н.Бердяева, Г. Федотова и Л. Шестова, о существовании которых мы до того даже не подозревали. Я помню, что долгие месяцы я не могла думать ни о чем другом, кроме открывшегося мне неведомого доселе мира, и при встрече с непосвященными старалась отвести взгляд в сторону – мне казалось, что внимательный наблюдатель может увидеть отсвет этого мира у меня в глазах.
Образ жизни в доме Синявских, на первый взгляд такой же богемный и безалаберный, как в доме Даниэлей, при ближайшем рассмотрении существенно отличался, – безалаберность там была более кажущейся, чем подлинной, а в беспорядке можно было разглядеть хорошо продуманную систему. Там редко ели и угощали, туда не ходили толпы посторонних, там все стены были уставлены книжными полками, а простенки густо увешаны старинными прялками и иконами, собранными хозяевами во время ежегодных «охотничьих» поездок на север.
Сергея Хмельницкого мы там не встречали никогда, хотя знали, что именно он, а не Юлик, был главным связующим звеном этой тройки: он дружил с Андреем еще в школе и познакомил того не только с Юликом, но и с Марьей. Никакой награды он за это, по всей видимости, не получил – она терпеть его не могла и на порог не пускала. Но поскольку у Марьи была склонность отпугивать от своего порога почти всех, кто пытался его переступить, мы не придавали этому большого значения. Мы только втихомолку удивлялись ее внезапной перемене по отношению к нам – ведь она и нас много лет терпеть не могла и на порог не пускала. Я и по сей день втайне подозреваю, что она, пусть не сразу но с годами, пала жертвой Сашиного мужского обаяния, – в его жизни была очень долгая полоса, когда многие знакомые дамы начинали очарованно приписывать ему все умные слова, сказанные другими в его присутствии, за что я даже прозвала его «Крошка Цахес».
Марьино расположение стоило дорого – оно, единственное, было пропуском в дом Синявских. Мы часто обсуждали загадку участия Андрея в решении, кого впускать, кого не впускать, и наши мнения расходились – Саша считал, что всем руководит Марья, а я была сторонницей идеи спектакля по Брехтовскому «Доброму человеку из Сезуана», который они дружно разыгрывали как семейная единица. При этом я, конечно, соглашалась, что в случаях непринципиальных инициатива была исключительно марьина.
Особенно это бросалось в глаза в ее коммерческих начинаниях. Она неплохо организовала свой маленький бизнес по производству и продаже женских украшений из простых металлов и полудрагоценных камней. В России шестидесятых годов такие ювелирные изделия были в диковинку, поскольку ни у кого, кроме редких счастливиц, получивших колечко или брошку по наследству от экспроприированной бабушки из «бывших», ничего не было. Марья очень умело использовала извечную женскую тоску по украшениям, приспособив к их производству своего бывшего ученика, талантливого мастерового-художника Сашу Петрова.
Считалось, что она делает дизайн и продает изделия, которые он выполняет вручную по ее проектам. Поскольку мне ни разу в жизни не довелось увидеть хоть один чертеж или рисунок, сделанный ее рукой, а Саша Петров, хоть и человек простой, был отличный художник-примитивист, я сильно сомневаюсь в ее авторстве, но коммерческий директор из нее был неплохой. Мне однажды довелось наблюдать, как она расплачивалась с Петровым, которого умудрялась держать одновременно на короткой сворке и в черном теле. По ее расчету ему полагалось тридцать рублей, а по его расчету – чуть больше. Когда он попытался отстаивать свое право на дополнительную пятерку, в Марье взыграло ретивое, и она объявила с заметным наслаждением: «Ах, вы со мной спорить вздумали, Петров? (Они почему-то были на вы.) За это вы сейчас у меня попляшете!» И нисколько не смущаясь моим присутствием, а, может быть, именно им подогретая, она проворно вскочила на стул и начала дразнить Петрова крепко зажатыми в щепоти тремя красными десятками. Ловко вздергивая руку вверх в тот момент, когда бедняга художник почти дотягивался до нее, Марья подзадоривала его криками: «А ну, выше! Еще выше! И еще разок! И еще!» Петров – человек маленького роста и кроткого нрава, убежденный Марьей в том, что без нее он умрет с голоду, весь взмок, собачкой прыгая вокруг стула, и получил свои деньги, только когда эта игра ей наскучила.
Конечно, задача держать Петрова на поводке, не допуская бунта, была для нее важной, но не первостепенной. Главное, нужно было добывать полудрагоценные камни для производства, – а их в те времена было не так просто достать, – а потом сбывать готовые изделия, причем покупать подешевле, а продавать подороже. И в том, и в другом Марья была великий мастер – не столько при помощи обаяния, сколько силовым приемом выламывания рук. После смерти Сашиной бабушки она буквально выхватила у меня полученную мною в наследство нитку жемчуга и долго торговалась, утверждая, что мне все равно жемчуг носить не по чину. Сторговавшись о цене, платеж отложила, а потом вообще не заплатила, так как за это время Андрея посадили, и она успешно вошла в роль несчастной жертвы.
При продаже она предпочитала покупателя оскорбить и вынудить его к покупке путем осознания собственной неполноценности и ее, Марьиного, превосходства – для меня это было непостижимо, но я вполне допускаю, что ее психологическое понимание человеческих слабостей было острее и тоньше моего. Однажды я привела к ней Славу Сарнову и ее кузину-певицу, которые хотели обзавестись то ли кольцами, то ли серьгами. Мы вошли в мрачный коммунальный коридор квартиры в Хлебном переулке, и Слава воскликнула, экзальтированно, как всегда: «А это моя кузина, она оперная певица и хорошо понимает в украшениях!», на что Марья незамедлительно отпарировала со свойственной ей любезностью: «Если она понимает, то почему сама носит такое дерьмо?» И быстрыми длинными пальцами выдернула из лацкана певицы заколотую там брошь-булавку.
Не помню, купили ли мои подружки какое-нибудь украшение у Марьи или сбежали от нее поскорей, но на место она их поставила раз и навсегда. А когда Даниэли привели к ней своего заезжего приятеля, профессора медицины из Иркутска, желающего приобрести подарок для жены, она огорошила его еще на лестничной площадке: «Этот в шляпе – профессор? Так давайте его сюда, мы его сейчас обосрем!» У нормального человека может возникнуть вопрос, как подобные приемчики помогали ей сбывать свой товар, но удивительный факт состоит в том, что помогали – очевидно, запуганные Марьиной агрессивностью интеллигенты рады были что угодно заплатить, только бы поскорее от нее отделаться, чтобы потом хвастаться побрякушками, приобретенными у жены знаменитого Синявского.
Я тоже пыталась помогать Марье в продаже ее ювелирных изделий – боюсь, без большого успеха, потому что стоили они дорого, а Марьиных качеств мне недоставало. Но я старалась изо всех сил в благодарность за то, что мы получили доступ в непроницаемый мир Андрея. Нам это льстило и возвышало над будничным течением жизни. Хотя для подлинной дружбы нашим отношениям не хватало равенства.
Мы поначалу на равенство и не претендовали – Андрей представлялся нам существом высшего порядка, именно так на него и полагалось смотреть, снизу вверх. Но с годами флер очарования его героизмом и писательским талантом рассеялся, и мои впечатления отфильтровались во вполне четкую картину. Увы, эта картина не пришлась мне по душе…
Наша любовь с Даниэлями была легкой, необязательной и, главное, взаимной. Мы делились с ними своими бедами и достижениями, мы встречались весело и бескорыстно, наслаждаясь сходством интересов и пониманием с полуслова. С Синявскими все выглядело совсем иначе – они с нами мало чем делились, а нашими делами вообще никогда не интересовались. Они в принципе мало интересовались делами других людей, а если и снисходили до интереса, то только в применении к себе.
Никогда не забуду, как Марья, услыхав о Сашином решении уйти с работы в связи с подачей заявления на выезд в Израиль, спросила с выражением почти подлинной заботы:
«На что же вы собираетесь жить, если вас надолго задержат?»
Тронутая столь неожиданным проявлением внимания, я искренне ответила, что только что получила большую сумму за перевод либретто оперы Диснея «Три поросенка», изданной огромным тиражом в виде пластинки, так что мы надеемся растянуть эту сумму как можно дольше.
«Так я и думала, что у вас припасены деньги! – радостно воскликнула Марья, даже и не пытаясь скрыть корыстный характер своего интереса. – А я как раз ищу, у кого бы одолжить, чтобы купить большую партию бисера, нужного мне позарез!»
Я на миг потеряла дар речи, зато Саша, хорошо знавший, как Марья отдает долги, преодолел свою врожденную деликатность и твердо ответил, что эти деньги могут нам понадобиться в любую минуту, и мы никому их одалживать не можем.
Что не помешало ему тут же, тайно от меня, одолжить эти деньги Ларке, – Ларка, правда, долги отдавала свято.
И так было всегда – с Марьей надо было держать ухо востро. И все же тогда это было увлекательно – шутка ли, дружить с самим Синявским, с самим Абрамом Терцем, бросающим вызов советской системе! Не удивительно, что мы чувствовали себя избранниками судьбы, – ведь нам удалось проникнуть в пещеру Аладдина и оказаться в эпицентре культурной жизни.
И вдруг как-то неожиданно, без всякого предупреждения наш прекрасный мир начал рушиться. На нас хлынул поток событий, в результате которых наш маленький благополучный кружок развалился, как карточный домик.
Мне трудно сейчас изложить происходившие тогда катаклизмы в том порядке, в каком они происходили. С тех пор обнаружилось столько неизвестных мне в то время фактов, что многие события и поступки приобрели совершенно иной, отличный от первоначального смысл. И я не могу отобразить их с той степенью не омраченной знанием душевной чистоты, с какой я воспринимала их в те светлые дни невинности и веры в порядочность моих друзей. Поэтому я постараюсь вкратце рассказать о них в той последовательности, в какой они представляются мне наиболее вероятными.
Где-то во второй половине 1963 года, совсем рядом с убийством Кеннеди, до нас добрались давно уже бродившие по Москве слухи о том, что Сергей Х. заложил в молодости двух своих университетских друзей, Ю. Брегеля и В. Кабо, которые по его доносам получили большие сроки. Оба они, освобожденные хрущевской реабилитацией, много лет назад уже вернулись из лагерей, так что слухи о Сережиной роли в их судьбе были не первой свежести. Они были вырваны из забвения то ли сознательной, то ли бессознательной проговоркой Сергея о подаренном им Юлику сюжете повести «Говорит Москва».
Вообще-то говоря, к середине шестидесятых история посадки Ю. Брегеля и В. Кабо уже не выглядела уникальной – обилие таких историй в сталинские времена сделало ее, хотя и непростительной, но вполне заурядной. Однако для нас, неофитов с еще неизжитыми комплексами провинциалов, это был тяжелый удар – предатель, такой близкий, такой любимый, жил среди нас, был одним из нас. В это не хотелось верить.
Подстрекаемый Марьей Саша, обожавший играть роль «рыцаря без страха и упрека», взялся за выяснение правды. Сегодня я не могу разумно объяснить, зачем Марья его подстрекала, что она рассчитывала выяснить, если ей история посадки Ю. Брегеля и В. Кабо была досконально известна из первых рук. Здесь и дальше я буду без ссылки цитировать показания самого Сергея, опубликованные в 48 номере журнала «22» и никогда не опротестованные Андреем:
«Вот так совершился мой неискупимый грех, которому нет и не может быть оправдания… С самого начала моего падения единственным в мире человеком, который знал о нем все подробно, был мой друг Андрей. От него я ничего не скрывал. У него в подвале, крутясь на продавленном диване, исповедывался в преступлении. Клял себя… Только ему доверил свою страшную тайну… Мой добрый друг все понимал. Утешал. Успокаивал. Так уж получилось. Ничего не поделаешь. Плюнь. Не мучай себя. …Лучше послушай мою новую повестушку под названием «Пхенц».
И впрямь, обе повести – «Пхенц» Синявского и «Кот» Даниэля, прочитанные авторами в присутствии Сергея, до процесса не были опубликованы за рубежом. «Чтобы Сережа нас по ним не опознал», – так нам объяснили впоследствии. И все-таки, ясно представляя себе эту опасность, наши верные друзья, отправили ничего не подозревающего Сашу расследовать отлично известное им прошлое Сергея.
Зачем? – в тысячный раз спрашиваю я себя. И не нахожу ответа. Зато, когда побужденный Сашей Ю. Брегель мужественно явился с «черной меткой» в руке на Сережину кандидатскую защиту, и густо залитый холодным потом страха Сережа обличительно крикнул Марье: «Это твоя затея, Розанова!», она ответила громко и решительно: «Нет, не моя, а Сашки Воронеля!» Мило, не правда ли?
Диссертацию Сергей все же защитил, но после защиты столкнулся с молчаливым бойкотом на всех уровнях. Я задним числом порой удивляюсь жестокости наказания, постигшего Сергея. Мир вокруг нас, как литературный, так и научный, кишмя кишел стукачами, о многих из них подозревали, о многих знали точно. И всем им прошлое предательство сошло с рук – никто не изгнал их с работы, с ними продолжали здороваться, их приглашали в гости в приличные дома. А Сергей остался без работы, его бывшие друзья отвернулись от него, а для людей, лично с ним не знакомых, он превратился в имя нарицательное. Почему именно он? В предисловии к публикации его показаний Саша попытался это объяснить:
«В результате его (Сережиных) неловких оправданий все друзья получили дополнительную уверенность не только в правоте заявления Брегеля, но и в том, что сам Сергей этой правоты не сознает, не раскаивается, и следовательно заслуживает своей участи».
В связи с этим мне бы хотелось подробней описать драматическую историю Сережиных оправданий. Сразу после его чреватой событиями защиты мы, его старые друзья, все как один, потребовали от него объяснений – мы не хотели повернуться к нему спиной, узнавши правду с чужих слов. Мы жаждали услышать ее от него самого. Теперь, умудренная годами и многими разочарованиями, я склонна усмотреть в нашем требовании покаяться не только проявление дружеской честности, но и известную долю садизма – он так нас подвел, так огорчил, так пускай теперь и он помучается, повертится, как угорь на сковородке! Особенно настаивали на этом судилище Андрей и Юлик, которые в последнюю минуту отказались на нем присутствовать, объясняя это грозящей им со стороны Сергея опасностью разоблачения.
Я не стану останавливаться на неубедительной логике этого объяснения, – она бросается в глаза, – а постараюсь описать само судилище. Мы собрались в Сережиной комнате у Покровских ворот, нас было человек двенадцать. В комнате было полутемно, – хоть уже наступали сумерки, свет почему-то не зажигали. Детей куда-то отправили. Вика, жена Сергея, примостившись на низком стульчике у окна, что-то нервно вязала для успокоения. Чаю не подавали – наверно, в первый раз в жизни этой хлебосольной семьи.
Мы сидели молча и ждали, когда Сергей начнет говорить. Было очень тихо – тоже, наверно, в первый раз в жизни этой шумной семьи. Наконец Сергей дрожащим голосом стал излагать жалкую неправдоподобную историю о незнакомце, который поделился с ним мечтой создать подпольную организацию мыслящих тростников, для чего жаждал получить добавочные сведения о Брегеле и Кабо, как о потенциальных ее членах. Все были потрясены – неужто он не мог придумать чего-нибудь поумней вместо того, чтобы вешать нам на уши такую лапшу? Саша написал об этом очень жестко:
«Факт состоял в том, что уже будучи опозорен и заклеймен, он собрал нас всех не для того, чтобы покаяться, а для того, чтобы оправдаться. Нам было мучительно стыдно слушать его (тоже вымученный) лепет, но он ни разу не обратился к нам как друзьям. Он воспринимал нас как преследователей…»
Сегодня я думаю, что Сергей был прав, воспринимая нас как преследователей, – мы ими и были. Он у нас это заслужил. Что же до его ублюдочного рассказа, хорошо бы выслушать его самого:
«…встретившийся мне на другой день после защиты Даниэль демонстративно повернулся ко мне спиной. (Не могу удержаться от авторского комментария – с чего вдруг такой демонстративный жест? Что нового узнал Даниэль во время защиты?) Потом он, правда, позвонил мне и от имени ближайших друзей предложил встретиться. Для выяснения отношений. Я должен честно все рассказать. И тогда они решат, что со мной делать.
Мне спасать было уже нечего и поздно. Рассказать правду – ни лучше, ни хуже не будет. Но посоветоваться надо – с единственным, кто все знает, кто поддерживал и утешал, кто понимает, что я не природный доносчик. Кто знает, как я страдаю от содеянного и как глубоко раскаиваюсь. И пошел я – куда же еще? – в подвальную келью к Андрею.
Конечно, он проявил понимание и сочувствие. Эти чистоплюи! Да мало ли что тогда было. В конечном счете оба живы и даже кандидаты наук… Однако всю правду рассказывать не стоит. Лучше подать дело так, будто тебя Органы использовали вслепую… Как? Ну, просто: вроде бы с тобой познакомился некий парень, интеллигентный, свободомыслящий, и заинтересовался этими двумя. Зачем заинтересовался? Ну, чтобы потом вовлечь в организацию. Какую-нибудь, знаешь ли, такую. Прогрессивную, марксистскую, неортодоксальную. И с этой целью выведывал у тебя про них. Это, знаешь, как-то все-таки лучше. И не придется сознаваться, что струсил, что жизнь спасал. Дураком-то лучше быть, чем трусом-шкурником.
Почему человек в экстремальных ситуациях легче верит другому, чем самому себе?
На судилище он, конечно, не пришел. Это была последняя услуга, которую он мне оказал».
Хотя Сергея это ничуть не оправдывает, комментарии, как мне кажется, излишни.
Однако недоразвившийся литературовед во мне требует более подробного рассмотрения всего этого садо-мазохистского клубка. Не между нами и Сергеем, и даже не между нами и Андреем – это еще впереди, – а между ними двумя.
Я хочу напомнить, что свой рассказ об Андрее я начала с воспоминания, как я прилетела из Нью-Йорка в Париж, где застала Андрея, покинутого Марьей на три дня, и потому пьющего без передышки. Кроме отсутствия Марьи, которая при себе пить ему не давала, у него была еще одна побуждающая к выпивке причина: его работа над книгой «Спокойной ночи». Так он, по крайней мере, признавался мне спьяну – он, мол, эту книгу ненавидит, а Марья понуждает его писать, да еще при этом каждый день страницы считает.
Когда я, наконец, прочла эту книгу, меня не удивило, что он ее ненавидел, меня удивило, зачем он ее написал. Особенно две главы – о Сергее Хмельницком и о полете в Вену на бомбардировщике. О полете в Вену я еще выскажу свои соображения. А вот о Сергее… Зачем ему понадобилось так старательно выписывать полуправдивый фантастический портрет своего давно всеми забытого школьного друга, с которым у него не осталось и паутинки связи? Зачем ему понадобилось ворошить их общее неприглядное прошлое? Не для того же, чтобы вызвать ответный огонь на себя?
Много лет я тщетно пыталась разрешить эту загадку, – хотелось обратиться за помощью то ли к Федору Достоевскому, то ли к Зигмунду Фрейду, но где их было взять?
И только недавно меня навела на возможную разгадку не слишком увлекательная, но чем-то очаровывающая книга японского писателя Харуки Мураками «Дэнс-дэнс-дэнс». Возможно, моя трактовка этой книги рассердит многих почитателей Харуки Мураками, но так я ее прочла и так с ее помощью расшифровала свои, хоть и не японские, но не менее загадочные иероглифы.
Если тщательно разгрести тоскливую невнятицу японской антиимпериалистической мистики, из всех щелей романа начинает выползать одно-единственное могучее, неодолимое чувство – Зависть с большой буквы. Детская иррациональная зависть, начисто лишенная реальной основы и потому непреодолимая…
Два мальчика много лет назад учились в одном классе, и Первый много лет подряд страстно завидовал Второму. За то, что тот всегда привлекал к себе все взгляды, за то, что тот выглядел элегантно в любой одежде, за то, что при виде того у всех девчонок «ехала крыша». Эти достоинства невозможно было ни изменить, ни исправить, они остались в далеком детстве, – их можно было только уничтожить вместе с их носителем. И Первый втирается в дружбу ко Второму, чтобы, изображая неведение даже перед собой, расколоть того, нащупать его «ахиллесову пяту» и довести до самоубийства. А достигнув желаемого, вздохнуть, наконец, полной грудью – хорошо-то как, светло и свободно! Никто не застит ему больше солнце, ничья слишком изящная тень не омрачает его любования собой – теперь он может любить и быть любимым без страха, что вдруг появится тот, Второй, и с обычной легкостью лишит его всего, что ему дорого.
Свет такого прочтения книги японского писателя вдруг озарил мне темные места романа «Спокойной ночи».
Итак, два мальчика много лет назад учились в одном классе, и Первый – Андрюша – много лет подряд страстно завидовал Второму – Сереже. Первый, косой и невзрачный, с восторгом и отвращением любовался красивыми благородными чертами Второго, вслушивался в его полудетские рассказы о музеях и картинных галереях, куда водили того любвеобильные ИТР-овские родители, и страстно завидовал. Завидовал тому, что видел – например, остаткам столового серебра и фарфора, которыми был сервирован небогатый, но уютный стол в доме Сережи, где Андрюше тоже порой перепадал обед или ужин. И тому, что домысливал – например, необыкновенной Сережиной эрудиции, особенно необыкновенной на фоне полного тогдашнего невежества Андрюши. И подогнанному у портного Сережиному «сюртучку», о каком вечно прозябающий в обносках Андрюша и мечтать не мог. И Сережиной «акмеистической» внешности – мощный подбородок, волевое – «копьем» – лицо от Гумилева, бронзовый, немного от коршуна, нос. Проступившие с возрастом недостатки, вроде широкого таза и слишком маленьких, прямо-таки детских ножек 36-го размера, в мальчишестве были незаметны и в комплекс зависти не вошли.
С годами Андрюша обогнал Сережу во всем – и в эрудиции, о чем сам похвастался в той же «Спокойной ночи», и в славе – тут он дал Сереже все тысячу очков вперед, выйдя в мировые знаменитости, и в таланте – во всяком случае, в признании этого таланта другими. Казалось, чего бы еще? Плюнь, как любил говорить он сам, и разотри… Но, похоже, как-то не выходило – ведь пару раз плевал, и довольно метко, а вот не растиралось… И в сердце торчало, как заноза.
О похожем чувстве проговорился как-то поэт Борис Слуцкий, который, оказывается, через всю жизнь пронес неугасимую зависть к своему школьному соученику, будущему руководителю моей дипломной работы на Харьковском Физмате, профессору Борису Иеремиевичу Веркину. В школьные дни Боря Веркин, происходивший по всей вероятности из аристократической семьи Вер-Кюнов, во всем превосходил еврейского рыжего недоросля Борю Слуцкого – и красотой, и умом, и талантами, и успехом у девочек. Он даже на фортепьяно играл почти профессионально, – это я могу подтвердить как свидетель. Ни перенести, ни забыть это превосходство было невозможно, оно саднило, как заноза в сердце. Выходило, что даже писать стихи Боря Слуцкий стал в пику Боре Веркину, – это было единственное, чего тот не умел.
Вот такое это чувство – Зависть с большой буквы, и им дышит каждая посвященная Сереже Х. страница романа «Спокойной ночи» (а их, страниц этих, больше сотни!)…
Я надеюсь, что завершив и опубликовав свой автобиографический роман, Андрей вздохнул с облегчением и успел пару лет пожить жизнью нормального человека, совсем как герой романа Харуки Мураками. Надеюсь я на это потому, что период между выходом в свет романа «Спокойной ночи» и публикацией Сережиной исповеди в журнале «22» был очень коротким, его можно ласково назвать «Недолгим счастьем Андрея Синявского» – почти по Хемингуэю.
Должна признаться, нам непросто было решиться на публикацию показаний Хмельницкого, – ведь это было в середине 80-х годов, и мы понимали, что такой публикацией поднимаем руку на святое. Сегодня слово «святое» звучит смешно, но тогда люди еще жили по другим моральным канонам, – с тех пор уровень цинизма и равнодушия вырос непомерно, и ничего святого, кажется, не осталось. Но, прочитав рукопись Сергея, мы почувствовали, что не имеем права ее скрыть, – недаром ведь мы обещали печатать в нашем журнале все то, чего не напечатал бы никто другой. А уж такое точно никто не решился бы напечатать.
И все-таки мы долго маялись, прежде чем решились. Надо сказать, что наши отношения с Синявскими к тому времени заметно ухудшились. Причин для этого было немало. Во-первых, мы за эти годы изрядно повзрослели, особенно я, поскольку в Саше все еще было живы юношеские иллюзии, постепенно вытесненные из меня поведением Синявских в их новой, европейской, ипостаси. Особенно терзала меня, а потом уже и Сашу, непостижимая и неугасимая вражда Андрея к максимовскому «Континенту», наводящая на мысль, что уничтожение «Континента» стало главной жизненной задачей их семьи. И хотелось спросить – с чего бы это? Совсем не задолго до прибытия письма Хмельницкого кто-то из приспешников Синявских обозвал в печати редколлегию «Континента» Временным правительством в изгнании, – уж не поэтому ли нужно было ее устранить любой ценой? Это, конечно, порождало неприятные подозрения, охотно поддерживаемые самим Максимовым.
Я наезжала в Париж чаще, чем Саша, и у меня сложились вполне приятельские отношения с Максимовым, у которого я бывала в каждый свой приезд. Мне было всегда интересно поболтать с ним часок-другой: он был человек не слишком светский, но очень умный, хорошо осведомленный и трезво судящий о насущных проблемах.
Наше приятельство с Максимовым приводило Синявских в ярость. Но как они на нас ни давили, мы так и не присоединились к их травле «Континента», что отнюдь не улучшило наши отношения. Я с дрожью вспоминаю душераздирающие сцены, сопровождавшиеся надсадными криками Андрея и рыданиями Марьи, требовавшей пойти рука об руку с нею на штурм максимовской крепости до полного ее разрушения.
Наша последняя ссора произошла из-за того, что мы, утомленные очередным скандалом, сдуру предложили пойти к Максимову от имени Андрея для переговоров о перемирии. Максимов был, как всегда, любезен, он посетовал, как ему надоела эта дурацкая распря, и охотно принял наше предложение назавтра встретиться с Андреем на нейтральной территории, поставив единственное условие – чтобы Марья в этой встрече не участвовала.
Выйдя от Максимова, мы не сразу бросились звонить Синявским, а сначала отправились бродить по Парижу. Мы тогда уже вырвались из-под ига постоянного обязательства останавливаться только у них и наслаждались непривычной свободой. Прогулявшись и пообедав, мы купили в ресторане жетон и, наконец, позвонили. К нашему удивлению трубку взял Андрей, который, сообщив, что Марья куда-то ушла, после короткого раздумья согласился на завтрашнюю встречу с Максимовым.
Как потом выяснилось, Марье надоело ждать нашего звонка, и она помчалась искать нас по возможным адресам разных знакомых. Нигде нас не обнаружив, она пришла в единственно надежное место – ко входу в какой-то конференц-зал, где Саша должен был выступать перед представителями еврейских организаций. Она явилась туда заранее и залегла в засаде, а мы, загулявшись, чуть-чуть опоздали. Поэтому, когда Саша появился на пороге, его тут же окружили еврейские дамы-распорядительницы и, не дав ему даже словом перекинуться с Марьей, поволокли на сцену. Она только крикнула ему, что мы с нею будем ждать его в кафе за углом, и приступила к допросу.
Надо отдать ей должное – если на допросе в КГБ я могла устоять и не расколоться, то перед Марьей я спасовала очень быстро. И рассказала ей все – и о предложении Максимова, и о согласии Андрея. Никаких художественных средств не хватило бы мне, если бы я попыталась отобразить бурю, вызванную моим признанием – может, это удалось бы при помощи музыки Вагнера, чем-нибудь вроде увертюры к «Летучему Голландцу», да и то не на сто процентов. Три часа, проведенные мною с Марьей в ожидании Саши за столиком парижского кафе с позабытым за давностью названием, остались у меня в памяти одним из мучительнейших переживаний в моей жизни. Она громко рыдала, обвиняла меня во лжи и во многих других смертных грехах и бессчетное количество раз повторяла одну и ту же фразу: «Я тоже главный редактор!», на которую я не знала, что возразить.
Наконец, появился Саша, и Марья, забыв обо мне, ринулась в атаку на него, вновь повторяя те же обвинения и ту же навязшую в зубах фразу про главного редактора. Саша, нежная душа, растерянно бормотал что-то вроде оправдания Максимову, который имеет право встречаться, с кем хочет. Марья продолжала рыдать и топать на нас ногами, но, к счастью, где-то через час хозяйка кафе намекнула, что ей пора закрываться, и мы поднялись из-за пыточного стола. Марья немедленно объявила, что сейчас она пойдет с нами в отель, чтобы окончательно выяснить подоплеку всей этой грязной истории. Тут уж наступила моя очередь упереться: «Через мой труп!», – заявила я, сославшись на то, что Саша должен был на рассвете уезжать по работе в какой-то немецкий университет.
Против моего трупа Марья, собственно, ничего не имела, но Саша, поприустав от ее скандала, поддержал меня, а не ее, и где-то около часу ночи ей пришлось сесть в такси и отбыть к себе в Фонтанэ-о-Роз.
Не знаю, что произошло у них там за эту ночь, но в шесть часов утра меня разбудил телефонный звонок. Звонил Андрей, чтобы сдавленным голосом сообщить мне, что он никогда – слышишь, НИ-КОГ-ДА! – не соглашался встречаться с Максимовым без Марьи. Я только успела спросить: «Она, что, всю ночь тебя била?», как в разговор по параллельной линии вступила Марья. Она потребовала, чтобы я немедленно позвонила Максимову, объяснила ему, кто он такой, и отменила назначенную встречу. Мне уже эта история изрядно надоела, я умирала, хотелось спать, – полночи ушло на сборы Саши и его отъезд на вокзал, а мне самой предстояло через несколько часов улетать в Израиль, и у меня еще было полно дел. Поэтому я сказала: «Улаживайте свои дела сами!» и положила трубку.
Через секунду телефон зазвонил снова. На этот раз Марья сразу перешла к угрозам: она сказала, что теперь она нас заклеймит и сообщит всему миру о нашей с Воронелем провокационной роли в их отношениях с Максимовым, и заодно поведает тому же умирающему от любопытства миру о причинах нашего столь вопиющего поведения. Я не стала эти причины выяснять, а просто положила трубку и, попросив портье никого больше со мной не соединять, немедленно уснула. Честно говоря, я боялась, что Марья примчится в отель, чтобы продолжить перебранку, но она, слава Всевышнему, этого не сделала.
На этой, я бы осмелилась сказать, трагикомической ноте закончилась наша многолетняя дружба с Синявскими. Впрочем, это был, пожалуй, всего лишь завершающий аккорд, а прощальная песня стала складываться еще раньше, постепенно, исподтишка, за год или два до разрыва. Первым бурным запевом ее была моя ссора с Марьей из-за рукописи «Белой книги», почти стенографически передающей все, что было сказано на процессе. В фактической версии своих воспоминаний я подробно рассказала, как во время процесса я вместе с Леонидом Невлером каждую ночь напряженно расшифровывала Ларкины сбивчивые полустенографические записи и придавала им обтекаемо литературный вид. Даже о знаменитой заключительной речи Синявского я могла бы с затаенной гордостью сказать «редактура моя».
После выезда меня часто интервьюировали журналисты разных стран, возможно, потому, что мой хороший английский позволял им делать это с легкостью. И вот в одном таком интервью я между прочим упомянула о своей роли в создании протоколов процесса Синявского-Даниэля. Именно это интервью почему-то было переведено на русский язык и опубликовано в одной из эмигрантских газет, – кажется, в «Русской мысли», но не ручаюсь. Оно попало на глаза Марье, которая учинила мне грандиозный скандал, утверждая, что это она записала все сказанное на процессе. И потребовала от меня, чтобы я публично отказалась от версии о моей причастности к тексту «Белой книги». Вообще-то мне было все равно, мои амбиции лежали в других областях культурной жизни, но такой явной неправды я вынести не могла, – все-таки я, рискуя своей свободой, за десять бессонных ночей расшифровала, отредактировала и переписала собственной рукой сотни страниц. Почему я должна была уступить эту честь ей, которая и ручку-то в руках не держала? Еще Ларке уступить я бы согласилась, ведь это были ее записки, но Марье – с какой стати?
И я категорически отказалась совершить публичное отречение от своей роли, хотя отлично понимала, что все это уже мхом поросло и никого не интересует. Тогда, смирившись с моим отказом, Марья все еще в форме приказа, но уже тише и ласковей, попросила никогда не рассказывать обо всем этом Андрею, потому что она еще во время его отсидки приписала себе авторство создания текста «Белой книги». Против этого я не возражала, – пусть Андрей принимает все, что Марья ему расскажет, мне-то что? И мы спустили нашу ссору на тормозах. Однако особой теплоты к нашей дружбе это не добавило.
Сегодня, оглядываясь назад, я спрашиваю себя, можно ли было назвать это дружбой? Очищенные временем от шелухи повседневности наши многолетние отношения все больше и больше напоминают мне переход через перевал Суть-булак, который мне удалось однажды совершить в теплой компании таких же, как я, безумцев. Перевал этот, уютно пристроившийся на головокружительной высоте 4100 метров, – не что иное, как узкий пролом в гораздо более высокой гряде Тянь-Шаньских гор, отделяющих Среднюю Азию от Китая. Он представляет собой семикилометровый ледник, со всех сторон окруженный уходящими далеко в небо снежными горами, от одного вида которых захватывает дух и кружится голова. Внизу, за горами скрывается почти недосягаемое, мистическое и прекрасное, озеро Иссык-Куль. Ледник Суть-булак густо засыпан снегом, и идти по нему крайне опасно, потому что весь он рассечен крупными и мелкими трещинами, незаметными под снежным покровом. Таким растрескавшимся ледником смотрится мне сейчас наша дружба с Синявскими – вокруг сверкающие вершины, а под ногами коварная снежная пелена, скрывающая смертельную опасность при каждом шаге.
Но хоть дружба, какая они ни была, кончилась, – а, может быть, именно поэтому, – вопрос о публикации показаний С. Хмельницкого нужно было решать именно нам. Не совсем нам лично, а всей редколлегии журнала, но все же решающее слово было за нами. Отважиться на публикацию было нелегко, но исповедь Хмельницкого давала ответ на некоторые болезненные вопросы – у нас, к сожалению, за прошедшие годы накопилась некая цепочка не укладывающихся ни в какую благожелательную концепцию фактов.
Если вспоминать с самого начала, то первым камнем преткновения стала ссора с Синявскими нашего сына Володи во время его борьбы за наш выезд. Его, несмотря на молодость, выпустили раньше чем нас, и еврейская организация, занимавшаяся проблемой отказников, отправила его в поездку по Европе – собирать для нас поддержку. В Париже он пришел к Синявским и с юношеской прямотой потребовал от них помощи – тем более, что именно тогда Сашу отправили в Серпуховскую тюрьму, а меня посадили под домашний арест. Володя знал, сколько сил и времени потратили мы за прошедшие годы на помощь Синявским, и наивно полагал, что они в нашем случае должны поступить так же.
Они наотрез отказались, ссылаясь на какую-то труднообъяснимую сложность своего положения – французского правительства они боялись, что ли? Володя подумал, что ослышался, и продолжал настаивать. Тогда Марья объявила свой любимый принцип, чтоб дети не смели открывать рот в присутствии взрослых. Тут Володя все понял и ушел, хлопнув дверью. С тех пор он не называл их иначе, как «ваши неверные друзья».
Однако этот случай можно истолковать всего лишь как обиду личную, которую можно бы и забыть. Мы поначалу и забыли было, но со временем он сам о себе напомнил – уж больно хорошо он вписывался в стройную систему других случаев, вроде подобного же отказа наших друзей выступить в поддержку академика А. Сахарова. А за ним, прямо как нарочно, на ум начали приходить и другие случаи – например, история с книгой М. Хейфеца «Место и время», в единичном явлении непостижимая, а как ячейка в системе весьма просто, и даже слишком просто, объяснимая.
Книгу свою М. Хейфец написал в лагере, куда в 1975 г. был отправлен на четыре года за неопубликованное предисловие к сборнику поэзии И. Бродского. В этой книге он, подхваченный эйфорическим порывом чистосердечного самопожертвования, от имени еврейского народа истово кается в еврейских грехах перед всеми другими членами многомиллионной семьи дружных народов СССР. Книга эта, а точнее, тоненькая брошюрка, была издана в Париже и привлекла внимание Андрея.
Мы как раз приехали в очередной раз, мы часто тогда бывали в Париже, и он подсунул ее Саше – почитать.
«Ну, как?» – поинтересовался он, когда Саша прочел.
«Да черт его знает, – пожал плечами Саша, – наивно как-то».
«И ты не дашь этому болвану отповедь? – проснулся в Андрее дремлющий филосемит. – Ты обязан всыпать ему, как следует, и напечатать свою отповедь у вас в журнале».
«А зачем? Человек сидит в лагере, зачем ему всыпать?»
Но Андрей не отставал. Он буквально вцепился в Сашу, разоблачая бедного Хейфеца каждый день за завтраком и за ужином. Когда мы уезжали, он сунул брошюрку в наш чемодан со словами: «Перечитай ее еще раз и напиши».
По возвращении мы, как обычно, окунулись в водоворот нормальных житейских забот и про Хейфеца с его брошюркой забыли начисто. Но Андрей не забыл. Он стал нам названивать с поразительной регулярностью, чего обычно не делал, и спрашивать, написал ли уже Саша отповедь Хейфецу. «Ты должен вступиться за честь сионизма», – настаивал он. Наконец, Саше это надоело, и он объявил, что книжку потерял, так что и говорить не о чем. «Почему не о чем?», – не согласился Андрей. – Я пришлю тебе другой экземпляр». И прислал незамедлительно – авиапочтой. И снова начал звонить.
Кончилось тем, что Саша все-таки статью написал – не то, чтобы обличительную, но достаточно неодобрительную. Она была напечатана в 3 номере журнала «22» и называлась «Трагическая бестактность». Сашина отповедь Хейфецу была настолько мягкой, что сам ее объект с нею согласился, когда, отбыв срок, приехал в Израиль и прочел статью о себе. Зато в ответ рассказал, как сразу по выходе журнала в свет его вызвал лагерный «кум» и стал увещевать, что тот, как говорят, склоняется к сионизму, а, вот, сволочи-сионисты в своем мерзком журнальчике «22» поливают его, Хейфеца, грязью. Оставалось только удивляться оперативности «кума» в далеком карагандинском лагере – неужто он внимательно следил за всеми публикациями в израильских журналах? Ну и, конечно, возникал вопрос, с чего бы это Андрей так озаботился защитой чести сионизма именно от зэка Миши Хейфеца? Неужели у бедного сионизма не было более серьезных врагов?
Сразу вслед за этим щекотливым вопросом возникал следующий – зачем он с такой страстью бросился на защиту левых либералов, хоть грубо, но метко описанных В.Максимовым в «Саге о носорогах»? Ведь скандальная «Сага» Максимова – не что иное, как крик боли человека, раненного той острой неприязнью, с какой встретила его на Западе сплоченная группа левых интеллектуалов.
Он-то по неопытности полагал их своими сторонниками в борьбе против деспотизма, а они о деспотизме Советской власти и слышать не хотели, а наоборот, дружным хором восхваляли ее за какие-то мифические свободы вроде бесплатного лечения зубов. (Поинтересовались бы они качеством этого бесплатного лечения! Сами, небось, в Россию зубы лечить не поехали бы, хоть там и даром.) А грубияна Максимова, вырвавшегося из вражеского кольца, чтобы бороться с деспотизмом за свободу изгнавшей его Родины, они восприняли как предателя дорогих их сердцам идеалов юности. Поскольку Максимов в нежном возрасте слонялся преимущественно по сиротским домам и детским исправительным колониям, общей юности с парижскими интеллектуалами у него не было, и наверное, поэтому его суровому сердцу были дороги другие, противоположные, идеалы. Вот они и не поладили между собой – что было весьма естественно.
И тут выяснилось, что сердцу Андрея Донатовича, напарника Сережи Хмельницкого по службе в Органах, наоборот, идеалы парижских либералов так дороги, что он с ходу зачислил Максимова в свои личные враги. Он прямо так и говорил: «Максимов – не один из нас. Он не интеллигент, он нам враг».
С этого, собственно, вся распря и началась. И дошла, в конце концов, до такого накала, что по весьма правдоподобной легенде в отель к Елене Боннер, которая на сутки остановилась в Париже по пути к дочери в Бостон, ворвались две настырные дамы – Марья Синявская и Раиса Орлова, бывшая сотрудница ВОКСа (Всесоюзного общества культурных связей с заграницей). Они явились, чтобы вынудить Е. Боннер как представительницу А. Сахарова публично охаять и заклеймить «Континент». Но им это не удалось – Елена Георгиевна с присущим ей острым чувством справедливости категорически отказалась участвовать в неоправданной травле Максимова.
По началу всем тем, кто Андрея Синявского знал давно и подробно – настолько, конечно, насколько его, многослойного и непрозрачного, можно было вообще знать, его внезапная смычка с просоветскими западными либералами показалась более, чем странной. Спрашивать его о причинах этой смычки было бесполезно – он всегда очень умело уклонялся от ответов, а при нажиме начинал преувеличенно громко проклинать Максимова. Приходилось думать самим. А если напряженно о чем-то думаешь, то вспоминаются забытые казусы.
Так вспомнился один – весьма несимпатичный. Начался он еще в Москве, в начале 70-х, когда Саша вышел в лидеры борцов за выезд в Израиль и на какой-то весьма неуютный период невольно превратился в главного еврейского гуру. К нему повалил народ с сотнями нелепых вопросов, в основном хозяйственных, типа «брать ли с собой туалетную бумагу?» И он, в собственной жизни всячески избегавший решения своих хозяйственных вопросов, вынужден был заниматься непрестанным решением чужих.
И вот однажды явилась к нему некая милая дама средних лет, жена крупного профессора-педиатра, решившая уехать в Израиль вслед за своей капризной дочкой. Проблема милой профессорши состояла не в недостатке материального благосостояния, а в его избытке – она хотела бы знать, как ей поступить с музейной мебелью 18 века, которой была обставлена ее московская квартира. Она уже знала, что вывезти такую мебель невозможно, но надеялась ее хотя бы продать. Казалось бы, при чем тут Саша? Но он никогда не мог ответить отказом на просьбы милых беспомощных дам. Поэтому, подумав минутку, он свел профессоршу с Марьей, которую почитал главным специалистом по продаже и покупке музейных ценностей.
Марья активно взялась за дело – в присутствии Саши осмотрела мебель, восхитилась ее музейной ценностью, составила подробную ее опись и пообещала все разузнать. Через несколько дней она с печальным лицом сообщила, что мебель и вправду дорогая и в хорошем состоянии, но покупателя на нее пока нет. И, глядя в заплаканные глаза профессорши, благородно предложила забрать мебель на чью-то дачу на хранение, пообещав переправить профессорше вырученные за нее деньги, как только найдется покупатель. Похоже, покупатель так и не нашелся, тем более, что в течение короткого времени обе семьи – сперва профессорша с профессором, а потом и Марья с Андреем, – отбыли из Советского Союза.
При отъезде профессорской четы я не присутствовала, – думаю, что они, как и все ординарные москвичи, улетели из Шереметьево. Синявских же мы с Воронелем в августе 1973-го лично проводили с Белорусского вокзала – они почему-то уезжали поездом. «Почему поездом?» – спрашивали мы, стоя на перроне. «Из-за багажа», – не слишком словоохотливо разъяснял Андрей, пока Марья помалкивала. – У нас груза много, так мы для простоты везем его в багажном вагоне».
Тогда нам было все равно – какое нам дело, много у них багажа или мало? Правда, при первом приезде в Париж нас несколько удивило обилие старинных прялок и икон, украшавших стены дома в Фонтанэ-о-Роз, ну совсем, как в Москве. Мы уже знали, что советская таможня не разрешает вывозить ценности – у меня лично из шести оставшихся от бабушки серебряных ложечек пропустили только четыре и выбросили из багажа две очень скромные картины. Мы удивились и тут же об этом забыли – чужие прялки интересовали нас мало.
Но через несколько лет произошло событие, напомнившее Саше милую профессоршу, оплакивавшую у Марьи на груди свою любимую музейную мебель. Событие было простой случайностью – давний приятель Андрея художник Юра Красный, упомянутый в этом качестве в исповеди С. Хмельницкого, явился к Синявским в гости в сопровождении своей очередной возлюбленной. Поскольку возлюбленные у Ю. К. были постоянно переменные, он заранее не сообщил хозяевам ее имени, а они не поинтересовались. И, напрасно, – ею оказалась Наташа, та самая ветреная профессорская дочка, ради которой ее любвеобильная мама рассталась со своей мебелью.
Что же она увидела, войдя в дом знаменитых московских изгнанников? Как говорится – вы сейчас стоите? Сядьте. Она увидела единственную и неповторимую мебель своего детства, у которой не было дубликатов и которую нельзя было спутать ни с какой другой. Мне неизвестно, как Наташа прореагировала на столь ужасное открытие – промолчала ли она вежливо или зарыдала в голос и кинулась прочь из этого дома. Но, как бы она ни поступила в момент откровения, потом она стала рассказывать эту историю всем встречным, не видя причины хранить ее в тайне. И напрасно – она поплатилась за это довольно жестоко, потому что после этого, почти в каждой из немногих контор, в которых бывший советский гуманитарий тогда мог найти в Европе работу, ей упорно отказывали по настоянию приспешников Синявских, умело внедренных туда Марьей. На это она всегда была большая мастерица.
Я не знаю, как бы я отнеслась к этим «Двенадцати стульям» наших дней, если бы мне из первых рук не было известно, что Наташина мама оставила свою мебель Марье на хранение. Может, я бы усомнилась в правдивости Наташи – хоть я многократно видела старинную мебель в парижском доме, она была мне мало интересна и я к ней не присматривалась. Кроме того, я не знаю, как Марья с профессоршей рассчиталась, может быть – сполна. Для меня суть дела была совсем не в праве собственности на музейную мебель, а в государственной тайне ее переезда через государственную границу СССР. При попытке эту тайну постигнуть в моем внутреннем компьютере вдруг что-то щелкнуло, и отдельные элементы головоломки начали складно становиться на места, образуя, пускай не слишком отрадную, зато довольно логичную картину.
В этой картине отказы поддержать друзей, преследуемых советскими властями, дружно уживались с официально дозволенным, полным музейных ценностей багажным вагоном, а багажный вагон отлично стыковался с непримиримой враждой к зарвавшемуся Максимову, которая, в свою очередь, хорошо оттеняла жестокую атаку на склонного к покаянию Хейфеца. И все это отлично уживалось с открытым переходом Андрея на сторону «носорогов», – так Максимов окрестил либеральных европейских интеллектуалов, вчера неплохо ладивших с советскими властями, а сегодня неплохо ладящих с Ясиром Арафатом, тоже неплохо ладившим с советскими властями.
Тут было над чем задуматься… Мы задумались и созвали редколлегию. Не скрою, на редколлегии были жаркие споры – некоторые из наших друзей отказывались верить в правдивость показаний Хмельницкого, так как умудрились ничего «такого» не вычитать из витиеватых намеков Андрея на страницах «Спокойной ночи». Мы перенесли заседание и отложили решение на два дня, чтобы дать им возможность перечитать и то, и другое.
На следующем заседании не было ни споров, ни возражений. Все вчитались в текст Андрея и были потрясены открывшейся им правдой. Было единогласно решено опубликовать исповедь С. Хмельницкого в следующем номере.
Однако осуществить это решение оказалось не так-то просто. Один из членов нашей редколлегии, Эдуард Кузнецов, личный друг Максимова, не мог сдержать свой восторг – он тайком от всех снял копию с рукописи Хмельницкого и отправил ее в Париж. Прочитав ее, Максимов пришел в еще больший восторг – наконец, он получил реальное подтверждение своим подозрениям, и какое! Посторонний, совершенно незнакомый ему человек не просто обличает Синявского в сотрудничестве с КГБ, а говорит: «Мы служили там вместе».
Да еще добавляет к этому признанию вполне логичные соображения:
«… моя особая слава (разоблаченного стукача) со временем достигла такого уровня, что Органы потеряли ко мне интерес. Разоблаченный, заклейменный и публично пригвожденный, я им был не нужен. Тоже ведь удача и едва ли не чудо, потому что, по общепринятому мнению, Органы редко когда демобилизуют своих сотрудников. Любопытно было бы узнать, как в этом смысле обстоят дела у Андрея…» А ведь и правда – любопытно!
Хмельницкий тщательно анализирует маловразумительную, туманно описанную в «Спокойной ночи» историю о полете Андрея в Вену в 1952 году, о полете с непонятной целью, но почему-то на бомбардировщике и в сопровождении двух высоких чинов КГБ. Якобы, для встречи с Элен, но совершенно непонятно, зачем. И результат встречи тоже увязает в болоте недоговорок.
«Такие затраты. Такая подготовка. Такие силы задействованы. Казенного бензина сколько пожгли. А толку – чуть. Не считая того, что в ресторане Элен и Главный (кэгэбэшник) обменялись мнениями насчет действенности абстрактных идей. И Андрей, хитрец эдакий, успел договориться с Элен о переправке своих сочинений за границу. Так что можно даже так понять, что это Органы виноваты в будущей публикации на Западе прославленных терцин».(С. Х.)
Ничего себе, намек! Как будто специально для Максимова с его теорией агента влияния – для того и возили, чтобы договориться. Неясно только, зачем на бомбардировщике. Может, просто для экономии? Бомбардировщик, все равно, летел порожняком на базу в Германии, ну и забросил по пути в Вену одного героя авантюрного романа и двух сопровождающих его лиц. Чем не сюжет?
Надо отдать Максимову должное, – он этот сюжет сразу оценил и взялся за дело. Снял с копии исповеди еще тридцать ксерокопий и разослал всем сомневающимся, чтобы больше не сомневались. И, конечно, одна из копий попала к Марье, которая подкармливала своих шпионов, как золотых рыбок в аквариуме, везде, где только могла.
Что тут началось! Позабыв о ставшей уже общественным достоянием ссоре, Марья бросилась звонить нам. Но мы, как обычно летом, уехали на несколько месяцев из Израиля по Сашиным научным делам, – профессора физики обычно используют студенческие каникулы для совместных работ с профессорами других университетов. Найти нас она не смогла и попыталась дозвониться Рафаилу Нудельману, который был тогда главным редактором журнала. Но и он уехал в отпуск. Тогда Марья пустилась во все тяжкие – она обзвонила по списку всех членов нашей редколлегии, причем с каждым разговаривала часами, пытаясь угрозами и посулами вынудить их отменить публикацию показаний Хмельницкого. Или хотя бы отложить до нашего возвращения. Она потом жаловалась кому-то, что почти разорилась в то лето на международных телефонных разговорах.
Наши бедные соратники были потрясены и выбиты из колеи этим натиском – ведь каждого из них она запугивала, что всех вместе и его в частности она засудит за клевету. Но странное дело: чем больше Марья на них давила, тем яснее им становилось, что рукопись Хмельницкого нужно напечатать. Она убедила даже сомневавшихся. Наши друзья проявили чудеса гражданского мужества – было созвано экстренное заседание редколлегии, и со всеобщего благословения 48 номер журнала отправился в печать и вышел в положенный срок.
Что тогда поднялось! Ведь это было еще до перестройки, где-то в середине восьмидесятых годов, когда о разоблачении сотрудников КГБ никто и не помышлял. А тут такое громкое имя, и не какой-нибудь украденный в архивах КГБ документ, который запросто можно объявить фальшивкой, а живое свидетельство соучастника. Пойди его разоблачи! Ему-то терять нечего, он в ответ еще и дополнительные подробности может выдать.
На нас посыпались письма. Писали люди трех сортов.
Особенно возбудились те, у кого собственное рыльце было в пушку – те, о ком ползали смутные слухи, что и они кое-кому служат. Эти испугались, что завтра придет их очередь, и с пеной на губах требовали Хмельницкого как-нибудь придушить, практику публикаций подобного рода искоренить, а журнал «22» по возможности запретить. Опознать таких было довольно легко – к концу писем они обычно переходили на нечленораздельную брань, не имеющую практического применения.
Вторую группу составляли личные приверженцы Синявского, по той или иной причине заинтересованные в сохранении его имени незапятнанным. Эти были известны по именам и специального интереса не представляли. Тем более, что главным их доводом было обращение к коллективной совести редколлегии, осмелившейся поднять руку на… И порой прямые, порой косвенные намеки на то, что эта публикация спровоцирована КГБ. «Неужто же кто-нибудь готов поверить словам заведомого, разоблаченного стукача?» – не совсем логично взывали они к общественности, словно не понимая, что сами себе противоречат: если никто не готов поверить, то из-за чего такой шум?
Задевающей душу была третья группа – наивных доверчивых людей, не желающих расставаться со своими иллюзиями. Одна женщина из Киева написала нам, что имя Синявского было главным украшением ее иконостаса, который помогал ей выжить. А мы, не подумав о ней, грубо этот иконостас разрушили – зачем? За что? Она ведь ничего плохого нам не сделала. Ее письмо напомнило мне обиженный вскрик моей свекрови, когда я ей рассказала, что знаменитая княгиня Волконская поехала в Сибирь не за мужем, а за своим давним любовником, Поджио, тоже ссыльным декабристом. Моя романтически настроенная свекровь упрекнула меня почти со слезами: «Зачем ты мне рассказала? Я не хочу это знать!» И напрасно я утешала ее, уговаривая, что Волконская поехала за любимым человеком – какая разница, муж он был или любовник? Моя свекровь была безутешна, потому что я разрушила легенду, которая была для нее важнее реальности.
Теперь 48-й номер журнала «22» стал библиографической редкостью – среди известных мне подборок один экземпляр есть у нас и еще один у наших друзей. И еще один обнаружился неожиданно в Москве – у известного человека, у которого я меньше всего ожидала его встретить. Итого – на счету есть всего три, а сколько болтается по миру неучтенных, и где они болтаются? Может, – и даже наверняка, – изрядная их часть давно выброшена на свалку, кем по равнодушию, кем по злому умыслу.
О печальной судьбе русских книг за рубежом России можно услышать много грустных легенд – и впрямь, зачем внукам, говорящим по-английски или на иврите, хранить пыльные фолианты, бережно собранные когда-то покойными дедушками и бабушками? Поэтому сегодня, учитывая, что показания Хмельницкого практически негде прочесть, я снова рассказываю эту историю во всех подробностях. Но только для тех, кто хочет знать правду. Ведь за годы, прошедшие с тех пор, я убедилась, что иллюзии нельзя разрушить, открыв человеку глаза на реальность, – тот, кто хочет жить иллюзиями, все равно от них не откажется.
Версия женская
Мне пока не удалось толком рассказать о Ларке, вернее, о знаменитой Ларисе Богораз, бывшей жене Юлика Даниэля и вдове Анатолия Марченко, любовно прозванной в узком кругу «матерью русской революции». Конечно, я упоминала ее несколько раз и даже пыталась называть ее Ларисой, но неизменно срывалась на привычную, милую моему сердцу Ларку, потому что Лариса – это какая-то другая женщина, возможно, и вправду «мать русской революции», и о ней я ничего хорошего рассказать не могу.
Совсем недавно моя французская невестка, окончившая университет в Париже и не знающая русского языка, прочла подаренное мне Ларкой описание жизни Ларисы, созданное какой-то французской журналисткой и изданное по-французски. Сама Ларка книгу эту прочесть не смогла, но охотно дарит ее друзьям в надежде, что кто-нибудь преодолеет языковый барьер.
Моей невестке с красивым французским именем Жоэль не понадобилось преодолевать языковый барьер, и она была потрясена открывшимся перед нею образом Ларки, а точнее, – Ларисы. «Это – русская Жанна д’Арк! Какая у нее была жизнь! – с восторгом воскликнула Жоэль. – Я читала полночи, не отрываясь!»
И я на миг представила на месте Ларки свою изящную невестку, у которой белье в шкафу сложено под линеечку такими аккуратными стопками, что у меня захватывает дыхание каждый раз, как я туда заглядываю. И ничего не получилось – в шкуру Жанны д’Ларки моя Жоэль совершенно не вписывалась. Она могла восхищаться Ларкиной жизнью только вчуже, как зритель римского цирка восхищался искусством гладиаторов.
Несколько лет провела Ларка в тюрьмах и в ссылках, а если был у нее перерыв, то под сенью тюрем и ссылок. Но она не была невинной жертвой тоталитарного режима, скорее, режим был ее жертвой, а она – нападающей стороной. Если она и была чьей-нибудь жертвой, то, скорее, жертвой неразрешимых проблем своего подсознания.
О Ларкиной жизни в ипостаси Ларисы, то есть о ее героическом периоде, написано достаточно, и я по мере сил не буду этого периода касаться. Потому что в этот период она не была милой моему сердцу Ларкой, и я старалась с нею не соприкасаться. Это было не так уж трудно, поскольку в конце 1974 года мы с Сашей покинули российский кипящий котел, и общение наше с Ларисой стало сильно затруднено государственной границей «на замке».
Так что мой рассказ в основном сведется к волшебной сказке превращения моей отчаянной, веселой и безответственной подруги в героическую «мать русской революции». Я не хочу, чтобы кто-нибудь заподозрил меня в неприязни к «русской революции», – я очень не любила ту форму власти Советов, под тяжелой рукой которой мне пришлось провести лучшую часть моей жизни. И, естественно, склонна была уважать всех тех, кто ей противостоял. Но все это – издали, вчуже, без учета человеческой природы. Беда моя в том, что я подошла к людям, способным противостоять системе, слишком близко, практически вплотную. И то, что я увидела, не укладывается в привычные литературно-апологетические рамки.
Неожиданно для меня самой оказалось, что я терпеть не могу бесовщину, а без бесовщины никакое революционное движение практически невозможно. Ведь это только в кино легко и весело идти на штурм неприступных крепостей, а в жизни революционный экстаз выглядит совсем иначе. Недаром нордические чудо-воины перед боем наедались мухоморов, пытаясь легким помутнением сознания подавить естественный инстинкт самосохранения. Подобно им, борцы с бесчеловечным режимом тоже должны были взвинтить себя до такого бесчеловечного градуса, который был бы супостату подстать. И поддерживать в себе такой градус долгое время, чтобы, не дай Бог, не дрогнуть и не уйти в кусты.
Но я больше не буду теоретизировать о бесовщине, а начну свою сказку с зачина, как и полагается сказке. В некотором царстве, в некотором государстве, в угловом доме, одной стороной выходящем на Маросейку, а другой – в Армянский переулок жили-были вполне молодые Юлик и Ларка. Жили бедно, весело и бесшабашно, и я их очень любила. За все – за бедность, за веселье, за бесшабашность и за то, что они живут вместе. Но им не удалось прожить вместе долго и умереть в один день, как того требует хорошая сказка.
По прошествии нескольких лет их совместная жизнь внезапно распалась, и вся наша дружеская компания словно бы осиротела. Не стало больше теплого, полного людей и стихов дома, куда можно было прийти в любое время дня и ночи без всякого приглашения. То есть дом, конечно, остался, но там стало как-то холодно и неуютно, и приходить туда уже не хотелось. Потому что Ларка вдруг объявила, что она уходит от Юлика, уходит безвозвратно и окончательно, а без нее дом Даниэлей остался без души. Это могло показаться странным, так как в общественном сознании нашего кружка было прочно закреплено представление, будто душой этого дома был Юлик. Находились даже некоторые наглые приятельницы, которые позволяли себе в присутствии других громко удивляться, как Юлик, такой блестящий и обаятельный, взял себе в подруги ничем не примечательную Ларку. Но мы-то с Сашей всегда знали, насколько даниэлевский мирок обязан Ларке своим очарованием.
И вдруг этот мирок исчез, и след его растворился в житейском море, причем случилось это сразу после драматического разоблачения Сергея Хмельницкого. Так что мы как бы осиротели вдвойне. На этот раз в происшедшем была некоторая, правда небольшая, доля и моей вины – я позволила семье Даниэлей провести месяц нашего с Сашей летнего отпуска в нашей двухкомнатной квартире, в загородном институтском поселке, окруженном роскошным грибным лесом. И надо же – именно на тот же месяц наш приятель, живший в доме по соседству, пустил пожить в своей квартире семью нашего общего друга С., университетского профессора из провинциального города Н.
К моменту нашего возвращения из отпуска эти, сведенные нашим неумеренным гостеприимством семьи слились в каком-то непостижимом для окружающих дружеском порыве. Они так полюбили друг друга, что со стороны было тошно на них смотреть. Я не отрицаю, что в нас говорила ревность, и все же… Отселившись от нас, Даниэли сплотились с супругами С. во второй квартире и часами сидели там, запершись, потягивая бесконечный кофе и дымя сигаретами. Они пристрастились часами – с нами и без нас, – обсуждать какие-то совершенно несвойственные им темы, вроде вопроса, как дать определение настоящему мужчине и настоящей женщине. Или откуда считать длину ног – от кончиков пальцев или от щиколотки. Не знаю, что их вдохновляло, скорей всего, некое невнятное эротическое помешательство, но обе женщины, как с цепи сорвались, то демонстрируя свои ноги, то выставляя напоказ другие свои стати.
Не могу забыть, как после совместной прогулки по лесу мы пригласили обеих новоиспеченных неразлучных подруг – мужья в тот день уехали по делам в Москву, – попить у нас чаю. В ответ они нежно прильнули друг к другу, сплелись руками, и склонили взаимно головы одна другой на плечи: «Нет, нет, мы ни в ком не нуждаемся. Нам так хорошо вдвоем». И удалились по лесной дорожке, в такт покачивая бедрами при ходьбе.
«Добром эта любовь не кончится», – мрачно прокаркал Саша, впервые вступая в весьма удавшуюся ему впоследствии роль Кассандры. С тех пор он многократно предсказывал разные с первого взгляда невероятные неприятности, и его предсказания почему-то обязательно сбывались. Но тогда он еще не завоевал почетного звания ясновидящего, и я, несмотря на охватившую и меня обиду, не поверила его пессимистическому прогнозу – пусть себе любят друг друга, раз им так хочется. Тем более, что владелец квартиры, к счастью, вскоре вернулся из очередного альпинистского похода, так что наши влюбчивые гости уехали и перестали мозолить нам глаза своими телячьими нежностями.
К началу учебного года профессор С. с женой отбыл в свою провинцию, и наша жизнь приобрела внешнюю видимость прежнего благополучия, – правда, уже без Сережи, но рана эта начинала потихоньку затягиваться. И вдруг Даниэли объявили, что на Юлькин день рождения они уезжают в провинцию к С. Это было почти что объявлением войны всем старым друзьям. Ведь Юлькин день рождения много лет считался общественным достоянием, – это был уже не его день, а НАШ. Мы ждали его, считали дни и готовились к нему загодя – поэты сочиняли шуточные стихи и пьески, дамы «строили» наряды. И вдруг – бац! – они уезжают. И к кому? К какому-то малознакомому им зануде из далекого провинциального города Н. С этим трудно было примириться!
Но в ответ на все просьбы и упреки Юлик твердо заявил свое неотъемлемое право на собственный день рождения и они уехали. Помнится, что никто даже не пошел провожать их на вокзал. Ах, вы так? Так и мы так!
Через неделю возвратился Юлик – один, без Ларки. Вид у него был обескураженный. На все вопросы он невнятно отвечал, что жена С. неожиданно серьезно заболела, и Ларка осталась, чтобы за ней ухаживать. Но долго скрывать этого кота в мешке не удалось: очень быстро распространился слух, что хоть жена С. и впрямь заболела, Ларка осталась вовсе не затем, чтобы ухаживать за ней, а затем, чтобы ухаживать за самим С. Потому что так славно задуманный свинг завершился семейным крахом. В то время, как Юлик и жена С. легкомысленно сыграли в него, чтобы тут же забыть, Ларка восприняла происшедшее всерьез. Иными словами, у нее «поехала крыша».
В конце концов, С. пристроил жену в больницу, а Ларка вернулась в Москву, прихватив с собой двухлетнего ребенка семьи С. Это была уже другая Ларка, не та, которую я знала и любила столько лет. Для начала она стала играть роль страстной матери своего вновь приобретенного младенца. Всех, знакомых с нею в роли матери ее родного сына Саньки, чрезмерно удивила ее невиданная доселе неумеренная материнская любовь. Но это было бы ничего, если бы она не объявила попутно, что решила уйти от Юлика. И что решение это принято раз и навсегда и пересмотру не подлежит.
Никто от нее такой решимости не ожидал. Всем было известно, что Юлик – мужик гулевый, но ведь она столько лет с этим смирялась, поверив ему, что «мечта миллионов не может принадлежать одному человеку». Так с чего бы вдруг этот полный поворот? Поначалу никто не заметил, что на наших глазах происходит превращение прежней Ларки в новую, слегка зловещую Ларису. Я не стану рассказывать, какие чудеса вытворяла Лариса в своей новой ипостаси, особенно, когда она поняла, что С. вовсе не воспринимает их внезапный роман как причину для перемены его, С., жизни. Она может поступать, как она считает нужным, – сказал он, пожимая плечами, – но он тут ни при чем.
И тут Лариса выпустила стальные когти, – такие, каких мне даже у свирепой Марьи Розановой-Кругликовой видеть не доводилось. Досталось всем – и несчастной больной жене С., и Юлику, и нам с Сашей, и ее отцу, Иосифу Ароновичу вкупе с его женой Аллочкой. Не знаю, как остальные, а я стала ее бояться. Хоть я ни в чем не была перед нею виновата, в ее присутствии я все время чувствовала исходящую от нее смутную угрозу. Вроде сидит перед тобой человек, на вид как бы родной, знакомый, милый тебе, а ты всей кожей чувствуешь, что это не он, а кто-то другой, невольный пленник каких-то темных сил, бушующих в его душе. И вот однажды я увидела Ларку на просвет и ужаснулась – это была не она, серебристо-голубая и прозрачная, как в прошлом. Это была Лариса. Внутри у нее просвечивало какое-то другое существо, косматое, темно-лиловое, с многочисленными зелеными щупальцами, – я увидела его так же явственно, как герой повести Гоголя «Майская ночь» увидел внутри прекрасной Панночки черную кошку.
И с тех пор долгие годы я неизбежно узнавала в ней это существо, ибо, раз его увидевши, нельзя избежать встретиться с ним глазами. И все поступки, жестокие или самоотверженные, которые Лариса совершала в течение этих лет, были совершены ею не по собственной воле, а по прихоти этого страшного, овладевшего ею существа.
Но пока время этих свершений еще не пришло, и мне было не дано провидеть ее в грядущей героической роли, я в ужасе отшатнулась и стала ее избегать. Это было не так-то просто, потому что в страстном стремлении если не подчинить, то хоть покарать неверного С., она сосредоточила свое внимание на Саше, которого почитала главным другом и наперсником коварно обманувшего ее злодея.
Органически неспособный послать ее подальше Саша крутился, как угорь на сковородке между С.(циллой) и Ларисой, пятясь под ее натиском, а она на каждую пядь его отступления отвечала новой атакой. Положение становилось невыносимым, но тут ей и нам вдруг привалила удача в виде хорошей работы в Новосибирском академгородке, и она уехала туда под всеобщий вздох облегчения.
У Юлика, окончательно ею покинутого, тоже «поехала крыша», и он пошел вразнос. Опустевший дом его заполнили толпы какого-то проходящего мимо народа: собеседников, собутыльников, сексотов, соглядатаев и переменных подружек. Временами начинка его запущенных комнат, обклеенных этикетками выпитых бутылок спиртного, которых становилось все больше, напоминала мне видения из картин Иеронима Босха. Нетрезвые существа обоего пола кучно валялись на полу, свисали со столов и диванов и сплетались в гирлянды на потолке. Стайки харьковских поэтов и поэтесс игриво проплывали из дверей в окна, совокупляясь по пути то друг с другом, то с хозяином, то с кем-нибудь из гостей. И всем им, без разбора, Юлик читал свои крамольные повести, опубликованные за границей.
Возможно, таким образом жизни Юлик, в конце концов, пригасил бы боль разрыва с женой, а она прижилась бы в академгородке, выжгла бы из себя лилового монстра с зелеными щупальцами и постепенно превратилась бы в прежнюю Ларку. Но тут в дело вмешалась история государства Российского, у которой, как видно, были свои расчеты.
8 сентября 1965 года, как раз когда Юлик поехал в Новосибирск в надежде восстановить свои отношения с женой, за ним явились оперативные сотрудники Комитета госбезопасности и поволокли его обратно в Москву. А вместе с ним, не спрашивая ее согласия, захватили с собой упирающуюся Ларису. И она опять очутилась в своей навек, как ей казалось, покинутой постылой московской квартире, за время ее отсутствия затоптанной сотнями чужих ног и затертой касаниями сотен чужеродных тел. Впрочем, этого она даже не заметила, потому что в квартире был произведен обыск, и все ее потроха вывернуты наизнанку и вышвырнуты на пол.
И без того неудачная Ларкина жизнь стала еще хуже. Юлика уже не выпустили, а ее саму и всех друзей и подруг дома начали ежедневно таскать на допросы. Причем выяснилось, что подруг за это время набралось гораздо больше, чем самое смелое ларкино воображение могло себе представить. Уехать она не могла, да и некуда было – свою работу в академгородке она, естественно, потеряла.
А главное, общественное давление опять приковало ее, насильно и неотторжимо, к Юлькиной тачке. Куда ей было деваться? Ведь не могла же она, с ее благородными принципами, поступить так, как когда-то в тридцатых ее мать-большевичка поступила с ее арестованным отцом – отречься от него и расторгнуть брак? В тех военно-полевых условиях, которые возникли вокруг готовящегося процесса Синявского-Даниэля, уже было неважно, что брак ее с Юликом фактически был ею давно расторгнут. Все равно она обязана была оставаться женой подследственного и подсудимого Юлия Даниэля. И выполнять все то, что приходилось на долю жены подследственного, подсудимого, а вскорости и осужденного, хотела она того или нет.
Общественность зорко следила за соблюдением Ларисой неясно кем выработанных правил игры, совершенно не интересуясь ни ее чувствами, ни ее интересами. Как-то так вышло, что после ареста Юлика она оказалось в гораздо большей зависимости от него, чем во время их совместной жизни. Тогда ее угнетал любимый ею обаятельный Юлик, которого она покинула, как только решила, что он уже не так ею любим. А теперь за нею всюду следовали тысячи глаз общественного мнения, от которого нельзя было убежать и которое невозможно было любить.
Вот тут, наконец, пришло время лилового монстра, затаившегося в глубине Ларкиной души. Ему стало привольно в накопившемся там за время процесса уксусе, он расправил свои зеленые щупальца и окончательно лишил Ларку инстинкта самосохранения, полностью превратив ее в Ларису. А, сделав ее храброй и неуязвимой, он начал бросать ее на все возможные амбразуры.
Для начала она взяла на себя трудную и опасную задачу застенографировать весь процесс – чтобы у нас была своя, а не правительственная стенограмма. С этой задачей она справилась блестяще. Я могу засвидетельствовать это с полной ответственностью, потому что расшифровывать Ларисины записи пришлось мне, – их полнота и точность были поразительны. Ведь процесс длился много часов подряд, но ее внимание никогда не ослабевало. Каждый вечер после процесса она приходила к нам на Хлебный, куда набивалась большая толпа любопытных – настолько большая, насколько могла вместить одиннадцатиметровая комната, – и полночи пересказывала то, что слышала и помнила. А помнила она почти все – память в те дни у нее была великолепная.
Частично это нужно было ей – для разрядки, ведь она весь день напряженно работала. Частично это нужно было нам: чтобы сбить КГБ с моего следа, потому что я каждую ночь расшифровывала ее записи в другом месте, а мы знали, что в потолок вмонтированы микрофоны. Но результат этих публичных выступлений оказал исключительное влияние на формирование в душе Ларки образа Ларисы. Она почуяла, как это здорово, когда десятки людей слушают тебя, затаив дыхание. Она ощутила прелесть власти – и власть пришлась ей по вкусу. А мне она в этом образе по вкусу не пришлась…
И пути наши с тех пор сильно разошлись. Это не значит, что мы перестали встречаться, но мы прекратили всякое дружеское общение. Потому что как созревающая «мать русской революции» она узнала себе цену, привыкла к преклонению окружающих и стала нетерпима. Не забуду один случай, когда она должна была ехать на очередное личное свидание к Юлику, чего жуть как не любила. И всегда старалась отвертеться. На этот раз она заявила, что не может поехать, потому что ей не с кем оставить больную старую собаку Кэрьку. Но тут, очень для нее некстати, я вызвалась пожить в ее квартире и понянчить Кэрьку. Она согласилась, только велела нам привезти свои простыни и полотенца – у нее, мол, нет чистых.
Это была правда – чистых простыней в доме не было. Однако все эти четыре дня, что мы с Сашей ночевали в Ларисиной чудовищно запущенной квартире, мы удивлялись, почему она оставила в ванне замоченное там фантастическое количество постельного белья, накопленного, похоже, за целый год. Это создавало некоторые неудобства с мытьем, но мы решили эту проблему, заскакивая принять душ к себе на Хлебный.
Вопрос с бельем разрешился в первый же миг, как только Лариса по возвращении из Мордовии вошла в квартиру. Не заходя в комнаты, она приотворила дверь в ванную и крикнула довольно-таки отвратным голосом недовольного генерала:
«Нелка, ты почему белье не постирала?»
Я опешила – я и свое-то белье никогда не стирала, а отдавала в прачечную, неужто я буду Ларкино стирать?
«Ты что, не видела, что оно в ванной замочено?» – продолжал тем временем сердитый генеральский голос.
Ага, значит, она замочила его специально для меня.
«А при чем тут я?»
От такой наглости опешила уже Лариса:
«Что значит – при чем? Каждый, кто остается у меня с Кэрькой, стирает мне белье!»
И я поняла, что в Ларисином военном округе существуют свои законы, мне совершенно неподходящие. По сути в этом округе мне не подходило ничего – ни их всенощные кампании, ни их раздрызганные спаривания и перетасовки. Было гораздо приятней восхищаться ими издали, вчуже, как зритель римского цирка восхищался искусством гладиаторов.
И я восхищалась – Ларисиной борьбой за права политзаключенных, организацией демонстраций у дверей суда над Гинзбургом и Галансковым, а главное, ее героическим выходом на Красную площадь в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию. Я ходила к ней в гости и принимала ее у себя, но с душевного довольствия сняла. Наверно, это была не очень благородная позиция, но сердцу не прикажешь.
И даже когда через много лет, уже после перестройки, она приехала погостить в Израиль, я с опаской ожидала ее визита к нам. И оказалась права: сперва все было почти идиллически, мы мирно сидели за ужином, вспоминая прошлое, и вдруг взгляд ее заострился, в нем вспыхнули гневные искорки:
«Нелка, это правда, будто ты написала где-то, что я бросала клопов в чужой чемодан?»
Я даже обрадовалась, – значит, она интересуется и мной тоже, а я думала, только собой:
«Да, ты помнишь, когда я к вам в первый раз пришла… с Буричем, кажется, а вы клопов ловили. Ну, я и стала вместе с вами…»
В голосе Ларисы зазвучали незабытые мною генеральские нотки, когда она меня перебила:
«Чушь какая-то! Какие клопы?»
«Как какие? Которые выползали из стен – ты же сама всегда над этим смеялась!»
«Смеялась, но в чужой чемодан бросать не могла! Я не способна на низкие поступки!»
Поскольку они с Сашей полчаса назад с умилением рассказывали друг другу, как они ловко расстреливали чужие арбузы из духового ружья, я поспешила ей об этом напомнить. Отпереться от только что сказанного ей было нелегко, поэтому она придумала себе другую позу, менее благородную, но более элегантную:
«Если я и способна на пакость, то на крупную, а не на мелкую, вроде клопов!»
Не стану скрывать, тут мы сцепились, так как выяснилось, что вопрос стоит принципиально – о Ларисе, оказывается, нельзя писать плохо и даже с юмором. Дело не в ней, а в ее образе – ведь она уже не частный человек, а легенда. При этих словах она даже пустила слезу и сказала: «Вот другие пишут обо мне с любовью». Но что я могла поделать с тем печальным фактом, что в моем сердце не было любви к Ларисе?
Вот о Ларке, с клопами или без клопов, с арбузами или без арбузов, я написала с любовью. И потому, приехавши в Москву после почти тридцатилетнего перерыва, я страшно не хотела идти в гости к Ларисе. Но и не пойти было невозможно.
С трепетом я вошла в ее новую квартиру, абсолютно неотличимую от прошлой – та же бедная мебель, та же немытая посуда, те же окурки во всех углах. Навстречу мне вышла согбенная седая женщина – огромные глаза ее были цвета морской волны, на губах мягкая улыбка. А губы на старом лице были нежные, почти детские, какими я их помнила с тех, дореволюционных времен. Мы сели за неубранный стол на кухне, приняли по рюмочке и закусили чем-то, абсолютно непригодным не только для закуски, но и вообще для еды.
«Ты, говорят, опять про клопов пишешь?» – спросила она беззлобно. Бирюзовые глаза светились улыбкой – Господи, неужели пронесло?
«Но я же от души, – облегченно ответила я. – За этих-то клопов я ведь когда-то тебя и полюбила».
«Бог с тобой, пиши о чем хочешь», – махнула она рукой, уже не настаивая на сохранении благородных линий своего образа. И я снова увидела ее на просвет – она опять была серебристо-голубая и прозрачная, как в прошлом. Тревожная рука, сжимавшая мне сердце, разжалась – моя Ларка перестала быть Ларисой. Косматый, темно-лиловый монстр с зелеными щупальцами куда-то исчез, и наваждение кончилось.
Впервые за много лет мы расстались по-дружески и даже захотели через пару дней встретиться вновь. Все вернулось на свои места – и быстрый четкий интеллект, не замутненный манией величия, и природная доброжелательность, и мудрое понимание слабостей других. Только на душе у меня осталась ноющая царапина – как жаль, что столько лет пропало даром!
Оказалось, что теперь я с легкостью могу простить ей многие непростительные выходки прошлого. Как ни странно, но тогда больше всего задевала меня ее неуместная враждебность к Марье Синявской. Меня трудно заподозрить в особой любви к Марье, но в нашем прошлом был драматический момент, когда я предпочла ее Ларисе.
Как и на каждой свадьбе, в процессе Синявский-Даниель были представлены две группы – так называемые, «гости жениха» и «гости невесты». Мы с Сашей совершенно очевидно и бесспорно принадлежали к числу гостей невесты, то есть Юлика. Поначалу обе группы отлично ладили между собой, но очень быстро между ними возникло непреодолимое препятствие – выяснилось, что какое-то время до ареста у Андрея был роман с одной окололитературной дамой по имени Майя Злобина. Я бы считала себя не в праве разглашать такие личные подробности, если бы она сама не описала эту ситуацию в романе, лет пятнадцать назад опубликованном в нью-йоркском «Новом журнале».
М. Злобина прикрылась там псевдонимом А. Герц – в пику А. Терцу, – но ни для кого из посвященных ее авторство не было секретом, благодаря активному вмешательству Ларисы. Узнавши о том, что у Андрея есть «дама сердца», Лариса с каким-то безумным ожесточением ринулась отстаивать ее права. Она обошла и обзвонила всех общих знакомых, отвергая Марью и настаивая на законных правах М. Злобиной. Она даже водила ее к адвокату Андрея, Э. Когану, пытаясь перевести ведение дела Синявского с Марьи на Злобину, как на законную жену.
И хотя умный адвокат немедленно отказал ей в этом лишенном смысла требовании, а Андрей из тюрьмы решительно подтвердил права Марьи, волны слухов покатились по всей Москве, а может, и дальше. Известность готовящегося процесса набирала силу, и многие, близкие и далекие, дружественные и враждебные, жадно ловили мельчайшие крохи информации. А тут такая клубничка – восторг, да и только!
Но Ларису это не смущало. Она ведь еще не была волшебницей, а только училась – это была ее первая борьба в защиту чьих-то прав. Мы никак не могли понять, почему из двух Маек – Розановой-Кругликовой и Злобиной – Лариса предпочла вторую. Наиболее убедительным казалось псевдофрейдистское объяснение, что она, еще не излечившись от своего недуга по поводу неверного С., от имени корпорации любовниц объявила войну всему сословию законных жен. Этой теории хорошо соответствовала ее, известная нам еще со времен Ларки, склонность к обобщениям. Когда я спросила ее об этом сейчас, через тридцать семь лет, она без колебаний ответила, что сердце ее всегда на стороне обездоленных – у нее просто не было выбора, раз Андрей предпочел Марью. В воздухе повис вопрос, на чью сторону она бы стала, если бы Андрей, поддавшись безумному порыву, предпочел Злобину? Уже не говоря о том, что ей вообще не следовало лезть в чужую интимную жизнь, – разве ее это было дело?
Как бы то ни было, она эту историю восприняла как фазу своей личной борьбы – мне и сейчас неясно, за что и против кого. А в борьбе, – хоть правой, хоть неправой, – Ларисиной энергии можно было только подивиться. Не удовлетворившись оповещением всех, кого можно, и кого нельзя, о ее точке зрения по поводу Злобиной, она организовала дружескую встречу в доме одних друзей, которых можно было числить и «гостями жениха», и «гостями невесты», якобы для обсуждения дальнейшей стратегии защиты арестованных. Ничего не подозревающая Марья была, конечно, тоже приглашена.
И вдруг где-то в ходе обсуждения Лариса выступила с обличительной речью по поводу Марьи, коварно узурпировавшей права кроткой Злобиной, и потребовала, чтобы Марья ради восстановления справедливости сама от Андрея отказалась. И самое ужасное – все, без исключения! – присутствующие, предварительно сильно взвинченные несгибаемой Ларисиной логикой, единогласно это требование поддержали. А самый молодой из них, Тошка Якобсон, заорал на Марью: «Пошла вон, самозванка!»
И та, обливаясь слезами, пошла вон, но от Андрея все же не отказалась.
Мы с Сашей на это сборище предусмотрительно приглашены не были – у нас уже были с Ларисой стычки по поводу ее роли в решении треугольника «Андрей и две Майки». Мы считали грехом ее борьбу против Марьи, которая всего за десять месяцев до ареста Андрея родила Егора, в пользу Злобиной, известной в литературных кругах своими многочисленными похождениями. Узнав о происшедшем, мы пришли в ужас – не от поведения Ларисы, ее точку зрения мы уже хорошо поняли, но от непостижимого поведения остальных, долгие годы числившихся у Марьи в друзьях.
Бог с ним, с Тошкой Якобсоном – хотя нехорошо дурно отзываться о покойных, но ни для кого не было секретом, что он мог зарваться и наговорить лишнего. Ведь и в истории с С. Хмельницким он вел себя как наивное дитя. Сначала свирепо объявил всерьез, что убьет каждого, кто скажет плохое о Сереже. Потом, когда правду уже нельзя было не принять, объявил, что убьет самого Сережу, а потом никого, естественно, не убил. Так что его выкрики можно было объяснить его полным подчинением воле Ларисы, но что заставило остальных оскорбить и отринуть Марью? Разве что они всегда ее терпеть не могли и только и ждали удобного случая? Зная марьин нрав, в это можно было бы поверить, но момент был выбран уж как-то слишком неудачно.
После этого случая мы выбрали из них двоих Марью и решительно перешли в лагерь «гостей жениха». Саша пару раз пытался вразумить Ларису, но это было невозможно, не тот характер, – однажды закусив удила, она уже не могла остановиться. Во время процесса она придумала чисто женский трюк вернуть Андрея своей новой подопечной – на все заседания суда она упорно надевала отличавшийся необыкновенной раскраской свитер Злобиной, в котором, по словам хозяйки, Андрей особенно ею восхищался. Реакции Андрея на этот свитер мы так и не узнали, но, судя по образу героя романа А. Герц, не очень умело, но очевидно неприязненно представленного на его страницах, вернуть внимание своего возлюбленного ей не удалось. Представляю, сколько стружки спустила с него Марья за этот грешок – ведь ее любимая присказка всегда была: «С виноватого мужика больше навара снять можно».
В результате, возмущенные нелояльностью Ларисы по отношению к своей боевой подруге, мы начали все больше и больше сближаться с Марьей. Мы стали встречаться с нею чаще, чем с Ларисой, и все с большей симпатией вникать в ее проблемы. Мы даже терпеливо сносили ее зловредные выходки, относясь к ней в каком-то смысле как к вредному ребенку, – я до сих пор думаю, что таким вредным ребенком она осталась и по сей день. Иначе невозможно объяснить то нескончаемое удовольствие, которое она испытывала, сделавши какую-нибудь мелкую гадость.
Как-то Марья пригласила нас позавтракать с нею – поскольку сама она ничего не готовила, она повела нас в кафе при ресторане «Националь» – у нее всегда была слабость к роскошной жизни. На те деньги, которые Саша и другие доброхоты собирали для нее среди сочувствующей интеллигенции, она вполне могла себе это позволить. Она заехала за нами на такси – мы жили в том же Хлебном переулке, что и Синявские. Когда мы вышли из подъезда, она заметила у Саши за спиной огромный рюкзак, битком набитый молочными бутылками.
«Мы собираемся после завтрака сдать бутылки», – ответил Саша на ее вопрос, что у него в рюкзаке. Может быть, кое-кто еще помнит специальные пункты для сдачи стеклотары – они были рассеяны по Москве довольно редко, и там всегда была большая очередь. Именно такой пункт находился где-то рядом с рестораном «Националь».
«И охота вам тратить время на глупости!» – выдала свое суждение Марья, как всегда безапелляционно. Зная, как ей безразличны чужие дела, я не стала тратить время на объяснение, что для нас московская интеллигенция денег не собирает. Мы погрузились в такси со своими бутылками и отбыли в «Националь» – нас с Сашей не смущала парадоксальность этой ситуации. А Марью только радовала.
Завтрак Марья, не скупясь, закатила нам роскошный, – я уже не помню, что именно мы ели, но ели мы много и вкусно. Однако каждому празднику, особенно празднику желудка, когда-нибудь приходит конец, и к половине первого все яства были съедены, все темы обсосаны до косточек, все косточки разгрызены.
«Пора идти», – сказал Саша, поднимаясь из-за стола и наклоняясь, чтобы поднять рюкзак с бутылками.
«Подожди, Воронель! – закричала Марья, хватая его за рукав. – Я тут хотела обсудить с Нелкой одну статью, которую меня просили написать для журнала».
Не помню, о каком журнале шла речь, какое-то искусство, то ли архитектурное, то ли декоративное, то ли ювелирное, – в любом из этих искусств Марья считала себя великим специалистом. Она вытащила из ридикюля сложенный вчетверо листок, полный бессвязных фраз, и мы с нею начали подгонять их к мало-мальски товарному виду. Желание продолжать эту работу исчезло у нее ровно в тринадцать ноль-ноль. Прервав меня на недоредактированной полуфразе, она выхватила у меня листок, небрежно его скомкала и бросила в урну:
«Ну все! Теперь можете уходить!»
Я уставилась на нее, не понимая, что произошло:
«Но мы же не закончили…»
«Не закончили, и не надо! Я и не собираюсь эту статью писать. Мне просто надо было вас с вашими бутылками задержать. Ведь в приемном пункте перерыв с часу до трех – так что тащите свои бутылки обратно домой!»
При этом глаза ее сияли неподдельным восторгом – как ловко она нас уделала! На такое удовольствие ей было не жаль изрядной суммы, уплаченной ею по счету в ресторане «Националь».
В другой раз мы встретились с Марьей у каких-то общих знакомых, чтобы передать ей очередную порцию собранных для нее Сашей денег – подходил срок очередной выплаты адвокату, защищавшему знаменитого диссидента далеко не бесплатно. Как всегда, когда мы возвращались домой в обществе Марьи, мы взяли такси – бедная жена политзаключенного категорически отказывалась пользоваться общественным транспортом. При подъезде к Хлебному переулку Марья вдруг потребовала от таксиста, чтобы он заехал туда с Мерзляковского, а не с улицы Герцена (теперь эту улицу, кажется, переименовали в Никитскую). Было уже поздно, и таксист стал ворчать, что смена у него давно кончилась и ни к чему делать лишний круг. Но Марья настояла на своем, пообещав накинуть ему полтинник. Таким образом, мы подъехали сначала к ее дому – в противном случае мы бы сперва подъехали к нашему.
Марья выпорхнула из такси – она всегда сидела впереди, рядом с водителем, – но не ушла, а наклонилась к Сашиному окну, сделав ему знак опустить стекло. После чего она сунула голову в окно и выкрикнула ликующим голосом:
«Ну, Воронели! Ничего я вас расколола, а? Теперь за такси платить придется вам!» И со счастливым смехом убежала в свою подворотню, прижимая локтем сумочку с собранными для нее Сашей двумя тысячами рублей. Такси стоило не более двух рублей, а две тысячи составляли пять Сашиных месячных зарплат. За полгода до этого случая они составляли только четыре его зарплаты, но с тех пор его сняли с должности начальника лаборатории за дружбу с врагами народа Синявским и Даниэлем, а также за постоянную поддержку их жен.
Но постепенно ее проказы начали принимать все более агрессивный характер – она жаждала стать «владычицей морскою», а мы «чтобы были у нее на посылках». Конечно, мы были у нее не одни – маленькая армия послушных шестерок обслуживала ее, не покладая рук. Я уже говорила, что на это Марья всегда была великой мастерицей – подкупом и угрозами держать в повиновении небольшой штат покорных исполнителей ее воли.
Как-то между нами произошла драма, граничившая с надрывом из романа Достоевского. Марья позвала нас с собой на какое-то таинственное свидание, назначенное ею в доме у ее крепостного ювелира, художника Саши Петрова. Для того, чтобы пригласить нас, у нее было много причин – во-первых, Саша вез ее на своей машине, во-вторых, ей нужно было показать кому-то таинственному, в ком она была заинтересована, что и у нее при дворе есть интеллектуалы.
Мы поехали по Ленинградскому шоссе куда-то за Химки и долго петляли по темным переулкам. Строение, в котором ютился С. Петров, можно было назвать домом только с известной натяжкой – это была покосившаяся развалюха без проточной воды и туалета. Зато все ее стены были увешаны и уставлены картинами художника, поражающими глаз редкой красотой. Я не профессионал-искусствовед и не берусь судить, насколько оригинально было творчество бывшего Марьиного ученика – не подумайте дурного, она обучала его не ювелирному ремеслу, а искусствоведению, – до смерти ею запуганного. Хочу только сказать, что картины Петрова, особенно собранные вместе, производили впечатление феерическое. Он был, а может, и сейчас есть, – я понятия не имею, куда он девался, – примитивист типа Анри Руссо. Но не надуманный примитивист-интеллектуал, избравший примитивизм по зрелом размышлении, а примитивист от чистого сердца, от души, художественной и примитивной.
Недаром Марья присвоила его рисунки в виде иллюстраций к злополучной книге «Спокойной ночи» – она поместила их туда анонимно со скромной подписью «иллюстрации из писем М. Розановой к А.Синявскому в лагерь». Разумеется, они были из писем М. Розановой в лагерь, а письма эти были украшены рисунками Петрова, я их видела неоднократно собственными глазами. Рисунки эти, раз увидевши, ни с какими другими спутать нельзя, а то, что они принадлежат перу Петрова, Марья в те времена еще не догадалась скрывать.
Полотна Петрова радовали глаз даже больше, чем его рисунки, потому что там полыхал праздник красок, ярких, преувеличенных, по-детски наивных. Богатство красок на картинах резко контрастировало с чудовищной бедностью жилища художника. Мы увидели картины Петрова впервые и, естественно, начали ахать и восхищаться. Саша зашел даже так далеко, что пообещал привезти к Петрову своих друзей-физиков, людей довольно состоятельных, – авось, они чего-нибудь у него купят. Марье наши похвалы и посулы вовсе не пришлись по вкусу, и она уже было открыла рот, чтобы навести порядок, как распахнулась дверь, и вошли те гости, ради встречи с которыми мы и приехали.
Первым вошел элегантный рыжеватый мужчина с крутым подбородком, а за ним еще кто-то, кто его привез. По-моему, это был ныне покойный художник Коля Кишилов, женившийся на француженке по имени Анн и обычно живший в Париже. Во время своих довольно частых московских визитов он ездил на машине – откуда он ее брал, понятия не имею.
«Знакомьтесь, – воскликнула Марья своим самым светским голосом, – отец Глеб Якунин, известный своим письмом к церковным иерархам. За это он отлучен от прихода, но пока еще не лишен сана».
Я, как и вся диссидентская Москва, была наслышана о бесстрашном священнике Глебе Якунине, бросившем вызов отцам православной церкви своим дерзким требованием не поддаваться давлению земной власти. Но ни на миг не могла я представить его таким раскованным, таким светским и привлекательным. Он вполне годился бы в герои голливудского фильма. Он, оказывается, действительно просил Марью свести его с Сашей, чтобы поговорить о том, как совместить квантовую механику с современной теологией. Разговор затянулся далеко за полночь, а после ухода Якунина Марья затеяла какое-то долгое выяснение с Петровым по поводу то ли бисера, то ли жемчуга, необходимого ему для заказной работы.
Когда они, наконец, закончили препираться, мы двинулись к выходу, повторяя на ходу свои обещания прийти еще раз и привезти с собой возможных покупателей. В машине мы расселись как обычно при поездках с Марьей – я на заднем сиденье, а она впереди, рядом с Сашей. «Я всегда сижу рядом с шофером», – обычно безапелляционно объявляла она, и ни одна хозяйка машины ни разу не осмелилась – при мне, по крайней мере, – воспротивиться такой наглой узурпации своего законного места.
Воспользовавшись преимуществом заднего сиденья, я тут же прикорнула в надежде вздремнуть по дороге – ведь было уже начало четвертого. Но не тут-то было! Не успели мы тронуться с места, как Марья закатила грандиозную истерику, общий смысл которой сводился к требованию, чтобы мы оставили Петрова в покое.
«Чтоб ноги вашей у него больше не было! – надрывно выкрикивала она. – Никогда, вы слышали, никогда! И чтоб никаких физиков, желающих купить у него картины! Я вам запрещаю! Вы слышите – за-пре-ща-ю!!!»
От возмущения я сразу проснулась:
«Что значит – запрещаешь? В качестве кого ты можешь нам что-нибудь запретить?»
«Запрещаю и все, – прорычала Марья. – Петров мой, и вам к нему нечего соваться!»
Верная своему принципу много раз повторять одну и ту же фразу («Люди глупы. Нужно много раз повторить одно и то же, чтобы до них дошло» – любила повторять она нам, чтобы до нас дошло.) Марья громко запретила нам посещать Петрова несколько сотен раз и потребовала, чтобы мы поклялись больше к нему не ездить.
«Чего ты так взбесилась? – попытался урезонить ее Саша. – Он ведь не мыло, не смылится».
«Нечего забивать ему голову идеями, что он великий художник. Он такой дурак, что может в это поверить. А мне он нужен для работы такой, как есть – дурак, ничтожество и стукач».
Мне показалось, что я ослышалась: «В каком смысле – стукач?»
«А в самом простом: раз в неделю бегает в КГБ на меня стучать».
«Откуда ты знаешь?»
В объяснения она вдаваться не собиралась: «Раз говорю, значит знаю».
Но и Саша не собирался отступать: «Если ты знаешь, что он стукач, зачем ты привела к нему Якунина? Чтобы его скорее посадили?»
Такая настойчивость Марье не понравилась, – а Якунина и вправду скоро посадили, – и она, чтобы перевести разговор со скользкой темы, решила проявить еще большую настойчивость, для чего снова ударилась в истерику, бесконечно повторяя свои запреты. Я-то знала, что Сашиной кротости надолго не хватит, и точно! Не выпуская из рук руля, он резко обернулся к Марье – ну все, сейчас во что-нибудь врежемся, подумала я обреченно, – и прорычал ей прямо в лицо, не хуже, чем она:
«Мне ты ничего не можешь запретить, ясно?»
Ей, наверно, это действительно стало ясно, и она попробовала применить шантаж – рванула на себя ручку дверцы и выкрикнула: «Или вы поклянетесь, что никогда не поедете к Петрову без меня, или я сейчас выпрыгну!» И начала приоткрывать дверцу – не слишком быстро, с оттяжкой, но приоткрывать. Случилось это на повороте, при въезде в туннель, выводящий с Ленинградского проспекта к Соколу, так что если бы она и вправду выпрыгнула на большой скорости, ее бы просто размазало по стенке. Но Саша уже тоже вошел в штопор:
«И прыгай на здоровье!»
Мигом сообразив, что шантаж не сработал, Марья дверцу дальше открывать не стала, а, наоборот, прикрыла – довольно ловко для женщины в истерическом состоянии, – и без перехода заплакала тоненьким детским плачем. Сквозь слезы она жаловалась, что мы ее не любим, потому что она не еврейка. На том эта ссора и кончилась, но к Петрову мы больше не поехали. Саша до сих пор уверяет, будто у него просто не нашлось на это времени, но я не сомневаюсь, что Марья проняла его своим жалобным плачем.
Иногда Марья могла пронять и живостью ума, и острым языком. Как-то, заскочив к нам на Хлебный, она увидела на столе подаренную нам друзьями на годовщину свадьбы последнюю новинку на немецком языке «Das neue Ehebuch» – нечто, вроде советов молодоженам. Любопытная ко всему незнакомому, она тут же начала ее разглядывать, не зная ни слова по-немецки. Картинки сплетающихся в разных позах тел ее заинтересовали:
«Это что у вас такое?»
«Немецкая инструкция по усовершенствованию супружеской жизни».
Чуть шевеля губами, она с трудом прочла немецкое заглавие книги «Das neue Ehebuch» и радостно воскликнула:
«Воронели завели себе «Новый ёбух!»
И мы засмеялись – а смех объединяет.
Так что не всегда мне было надрывно и мучительно в обществе Синявских, бывали в наших отношениях и светлые минуты. Такими почти непрерывно светлыми минутами запомнился мне их приезд в Израиль в 1979 году, куда их пригласил знаменитый мэр Иерусалима Тедди Колек. Саши в Израиле не было, – его отправили в Австралию выступать в чью-то защиту в тамошнем парламенте, и я охотно приняла приглашение Синявских провести пару недель с ними в Иерусалиме. Хоть их поселили в роскошных хоромах для гостей города, где их апартаменты были, как в стихотворении Маршака «Мистер Твистер» – «с ванной, гостиной, фонтаном и садом», они, не умея говорить ни на одном иноземном наречии, чувствовали себя неуютно в незнакомом городе и жаждали иметь поводыря.
Это были хорошие времена, когда простые и не совсем простые смертные еще ценили героев и героизм. Так что мне удалось организовать визит Синявских по первому разряду, приставив к ним двух друзей, снаряженных собственными машинами и безграничным почтением к герою знаменитого процесса. Один из добровольных водителей был кинорежиссер Слава Чаплин со своей женой Линой, в отличие от него – кинорежиссершей, другой – актер Славиного иерусалимского театра Витя Фишер, всегда ездивший в сопровождении своего друга, университетского аспиранта по русской поэзии, Мирона Гордона, ставшего впоследствии первым культурным атташе израильского посольства в Москве.
На этих двух машинах мы объездили много достопримечательных мест, некоторые из которых стали теперь недосягаемы из-за разросшегося в моей несчастной стране военного конфликта. Витя и Мирон отлично пели дуэтом под гитару переведенные Мироном на иврит песни российских бардов, так что во время ночевки на берегу Мертвого моря мы под их пение долго пили чай у костра, а потом вповалку улеглись спать в спальных мешках, уложивши Синявского метрах в двухстах поодаль, чтобы он не будил нас своим богатырским храпом. Однако это расстояние оказалось недостаточным, и я всю ночь старалась превозмочь громовые раскаты его храпа, поминутно опасаясь, что он разбудит злые силы, уничтожившие когда-то Содом и Гоморру.
В первую нашу поездку Марья, как всегда, не спрашивая разрешения, уселась на переднее сиденье чаплинской машины, заявив свое обычное кредо: «Я всегда сижу рядом с шофером». Лина, которая тоже всегда сидела рядом с шофером, на миг опешила, но сдержалась и постаралась выглядеть гостеприимной хозяйкой. Мы расселись по машинам и тронулись в путь – сначала через мост к неправдоподобной громаде Яффских ворот, а потом вдоль зубчатой стены Старого города вниз по Иерихонской дороге мимо Гефсиманского Сада и Голгофы в сторону Мертвого моря.
Стояла сладостная иерусалимская осень, когда жара уже спала, а холодный пронизывающий ветер еще не собрался с силами, и наша поездка в Иерихон особенно ярко запечатлелась у меня в памяти. Мы всей компанией взобрались по тремстам крутым каменным ступеням в древний монастырь Искушения, встроенный в скалу Каранталь, на которой, по преданию, Христос просидел сорок дней, собираясь с мыслями. Андрею это восхождение далось нелегко – оказалось, что он не переносит высоты, и мы втащили его наверх почти на руках.
Однако открывшаяся нам картина стоила трудностей восхождения и предполагаемого на обратном пути спуска по тем же тремстам ступеням – уже не говоря о захватывающей дух красоте бирюзовой чаши Мертвого моря, сам монастырь несомненно принадлежит к одному из чудес света. Расстояние между кельями и местом для молитв нужно преодолевать чуть не ползком, прижимаясь всем телом к отвесно уходящей вверх стене и стараясь не заглядывать в зияющую по другую сторону бездну. Там, наверху, есть только голый камень, и ничего не растет, так что всю еду доставляют снизу все по тем же тремстам ступеням, а воду не доставляют вовсе – слишком тяжело. Поэтому монахи круглый год пьют только ту воду, которую им удалось собрать в каменных цистернах за короткий период дождей.
Спустившись, наконец, вниз по головокружительно крутым лестницам, мы с облегчением вернулись к нормальной жизни и отправились наслаждаться горячими питами с хумусом и тхиной на террасе арабской кофейни на окраине Иерихона.
Видно, сам воздух над Иорданской долиной был в тот день насыщен положительными зарядами – в Иерусалим мы вернулись усталые, но все – даже Марья – приязненно расположенные друг к другу. Назавтра мы с Андреем и Марьей отправились в ближайший супермаркет закупать продукты на завтрак и обед. Когда мы хорошо нагрузили тележку, я предложила купить «что-нибудь сладенькое» для Андрея, как я всегда покупала для Саши.
Я не учла разницы национальных характеров, и была потрясена, когда в ответ на мое предложение разразился настоящий скандал. Андрей обиженно выкрикивал, что я хотела унизить его мужскую гордость, предложив купить «что-нибудь сладенькое» не нам с Марьей, а лично ему. Я что – за мужчину его не считаю, предполагая, что он унизится до «чего-нибудь сладенького»? Я испуганно бормотала какие-то извинения, ссылаясь на Сашу, но Андрей моих извинений не принял, гордо заявив, что Сашины вкусы – его еврейское дело, а он, как настоящий русский человек, ниже водки опускаться не намерен. Не помню, купили ли мы ему тогда водку или нет, но я решила в будущем проявлять инициативу с большей осторожностью.
Синявские уезжали из Израиля в полном восторге и в надежде быть еще раз приглашенными Тедди Колеком в сказочный приют для избранных. Но они, как всегда, приняли его приглашение просто за подтверждение своего международного статуса, не догадываясь, что мэр Иерусалима ждет от них ответного жеста – все приглашенные им писатели обычно описывали свое пребывание в Святом городе и публиковали эти описания в самых престижных изданиях. Обнаружив, что Синявскому и в голову не пришло написать доброе слово о Иерусалиме, Тедди Колек подивился его неблагодарности и вычеркнул его из списка дорогих гостей.
Я перечитала эту главу и удивилась – я ведь начинала рассказ о Ларке, как же я опять скатилась к Марье? Я просмотрела другие главы – немного о Юлике, немного об Андрее, немного о Сереже, но неизменно, в конце концов, о Марье.
Что это – случайность или наваждение? И сама себе ответила – никакая это не случайность.
В театре есть такой термин «присутствие на сцене» – оно характеризует некое невидимое силовое поле, определяющее личность. У некоторых людей это поле подавляет поля окружающих персонажей и выпячивает своего носителя непропорционально его сценическим заслугам. Так вот, приходится признать, что Марья Синявская, в девичестве Майя Васильевна Розанова-Кругликова, обладает столь значительным свойством «присутствия на сцене», что зачастую заслоняет других, более достойных внимания, участников спектакля.
Поэтому, чтобы Марье не удалось окончательно затмить собой всех остальных действующих лиц спектакля «Процесс Синявского-Даниэля», я завершу эту главу описанием последнего его акта, в котором мне довелось принимать участие – вывозом Юлика из Владимирской тюрьмы по окончании его срока.
8 сентября 1970 года, ровно через пять лет после ареста, Юлик должен был выйти на волю. Последний год он провел не в мордовском лагере, а в «крытке» – иначе говоря, во Владимирской тюрьме, куда отправляли из лагеря за «плохое поведение». Хотя условия в тюрьме были гораздо тяжелее, чем в лагерной зоне, для нас – поехавших встречать его у тюремных ворот, – это было большим облегчением. Ведь езды от Москвы до Владимира было не больше четырех часов, не то, что до Саранска, а там бы еще черт-те сколько по недоброй памяти дорогам Мордовии.
Мы отправились в путь на двух машинах – в одной мы с Сашей и Санька Даниэль со своей тогдашней женой Катей Великановой, в другой – фронтовой друг Юлика, рубаха-парень Мишка Бурас с женой Мариной. Ларки с нами не было – не в порядке саботажа, а потому что она была в ссылке после демонстрации на Красной площади в августе 1968 года. Конечно, среди бывших девушек Юлика нашлись такие, которые утверждали, что она и на демонстрацию-то вышла, только бы избежать встречи с Юликом после тюрьмы, но их мотивы были слишком очевидны, чтобы их слушать.
Перед отъездом старые друзья собрались у Бураса. Выпили по рюмочке на дорогу, и Бурас, раздухарившись, поведал окружающим, что с таким взводом, какой был у них с Юликом в 1945-м, он бы весь этот долбаный лагерь разнес в щепы и вызволил бы Юлика из лап. Славного парня Бураса при этом не смущало, что в 1970-м эта затея смысла уже не имела – Юлика выпускали и так, без Мишкиного взвода, да к тому же из Владимирской «крытки», которую даже его отчаянному взводу вряд ли удалось бы взять. Он с юности славился легкомыслием и не потрудился перед поездкой сделать техосмотр своему старенькому «Запорожцу», так что тот благополучно сломался где-то на полпути.
В результате наш «Москвич» был единственной торжественной каретой, поданной к парадному подъезду тюрьмы для встречи героя. Нам было велено ждать выхода Юлика ровно в шесть утра, но мы приехали раньше, опасаясь каких-нибудь каверз со стороны властей. У нас были все основания опасаться – накануне вечером при въезде во Владимир нас арестовали и долго продержали в милицейском участке, выясняя, для чего мы приехали, и согласовывая что-то по телефону с Москвой. Поэтому мы не были уверены, что нас не арестуют снова. Вопрос «зачем?» был здесь явно неуместен – действительно, зачем?
Площадь перед тюрьмой была пустынна – ни горячих демонстраций с флагами, ни страстных толп влюбленных почитательниц. Никого, кроме одной милицейской машины и двух мотоциклистов в штатском, осоловевших от долгого бессмысленного стояния одной ногой на педали. На этот раз никто нами не заинтересовался – по скучающим лицам мотоциклистов было видно, что они все про нас знают.
Юлик вышел из ворот с небольшим, но вполне терпимым опозданием – на голове у него был черный Сашин беретик, лицо под беретиком было одутловатое, серо-желтое. В первый миг мне показалось, что это вообще не живое лицо, а маска, сделанная из грязного желтого поролона, – так оно было неподвижно. После бурной встречи со слезами (моими – Кате плакать было не из-за чего, она видела Юлика впервые) и поцелуями, мы загрузились в «Москвич» и тронулись в путь. Катя извлекла из сумки термос с кофе и бутерброды, Юлик отхлебнул глоток кофе из пластикового стаканчика и воскликнул: «О, вкус свободы!»
И я вздохнула с облегчением – хоть и с грязно-желтой маской на лице, это был прежний Юлик, больше всего на свете любивший красиво сказанное слово. Пользуясь тем, что с нами нет Марьи, я сидела рядом с водителем, и потому была вынуждена смотреть назад. Милицейская машина и два мотоциклиста в штатском, как видно, направлялись туда же, куда и мы, – во всяком случае, они от нас не отставали, но и не опережали.
Постепенно разгорался день, обнаруживая в придорожных лесах прелестную золотую осень, так мало заметную в Москве, а еще меньше во Владимирской «крытке». Юлик попросил: «Давайте остановимся и выйдем из машины – я хочу немножко подышать настоящим воздухом».
Мы остановились у обочины и вошли в лес – пахло травой и сухими листьями, которые обильно шуршали под ногами. Мотоциклисты наверно тоже интересовались природой: они остановились неподалеку и спешились, но в лес за нами не пошли, а остались в своей обычной стойке – одна нога на педали.
Гуляя, мы говорили обо всем сразу, пытаясь одним духом наверстать провал в пять лет. Однако Юлик быстро устал, лицо у него стало еще более серым, и мы вернулись в машину, вызвав заметный вздох облегчения у преданных нам мотоциклистов. Проехавши еще пару часов, мы увидели небольшую придорожную забегаловку и решили пообедать. Шумной компанией уселись мы вокруг дощатого стола и принялись с удовольствием хлебать вкусные деревенские щи, принесенные нам в глубоких мисках. Помню, Юлик все удивлялся тому, с какой легкой готовностью мы с Сашей произносим запретное в его вольные дни слово «еврей» – а мы уже освободились от комплексов и вострили лыжи туда, «где чаще солнышко смеется».
В самый разгар нашей оживленной беседы в забегаловку вошли оба мотоциклиста, которым вид нашего веселого застолья почему-то не понравился. Они присели к угловому столику и заказали по стакану чая, – на что-либо другое им, как видно, денег не отпустили. Мы же, покончив со щами, принялись за шницеля с жареной картошкой. «Вот это пир, так пир!» – радостно восклицал изголодавшийся на тюремной пайке Юлик.
Бедные мотоциклисты мрачнели на глазах – уж не знаю, то ли им тяжко было наблюдать наш пир под аккомпанемент напрасно выделяющегося желудочного сока, то ли они боялись не успеть вернуться домой до конца смены. Ведь вполне возможно, что в их ведомости сверхурочных не платили, тем более в такой глухой провинции, как Владимир. Во всяком случае, они начали то и дело нервно ходить мимо нас, притворяясь, что направляются в уборную, а по дороге, совсем как актеры в классических пьесах, шептали в сторону злобным шепотом: «Хватит рассиживаться, пора ехать!»
Портить с ними отношения не хотелось – кто знает, что они могли бы придумать на голодный желудок, а Юлику было вовсе ни к чему возвращаться в тюрьму, из которой он только что вышел. Мы наспех проглотили недожеванные шницеля, вернулись в машину и помчались в Калугу. Бедный Бурас там так и не появился, о его злоключениях мы узнали только через пару дней по возвращении в Москву.
Калуга оказалась именно таким унылым городком, как мы и ожидали. Первую ночь мы всей честной компанией провели в гостинице, в которой на удивление оказалось два свободных номера – можно было даже подумать, что кто-то свыше об этом позаботился. А назавтра эта забота свыше обернулась уже выделенной и приготовленной для Юлика комнатой в одном из малогабаритных местных домов барачного типа. Мы еще раз выпили за счастливое избавление и уехали, оставив Саньку с Катей обустраивать Юлику новое жилье на собранные для этой цели общественные деньги.
С этого момента жизнь Юлика превратилась в сплошной карнавал – началось повальное паломничество в Калугу старых друзей, новых друзей и просто знакомых, малознакомых и совсем незнакомых сочувствующих. Но главное – к нему выстроилась очередь его бывших девушек, а потом уже и не бывших, а жаждущих стать. Так что ему, бедняге, пришлось даже составить расписание, кому в какой день приезжать. Ларка, вскорости вернувшаяся из ссылки, в этом карнавале не участвовала, – освобожденная, наконец, от опостылевшей ей роли жены знаменитого Даниэля, она вышла замуж за Толю Марченко, которого очень быстро тоже сделала знаменитым. На это великой мастерицей была она, а не Марья – каждому свое.
Не знаю, как долго бы продлилась жизнь Юлика, истощенного непрекращающимся женским поклонением, если бы в дело не вмешалась признанная московская красавица Ира Уварова. Она прибрала его к рукам, разогнала всех добивавшихся его любви дам, как старых, так и новых, выбросила к чертям его сложное расписание и, выйдя за него замуж, увезла его в Москву. Так счастливым браком завершился драматический период жизни Юлия Даниэля, который, окруженный сплошным «Декоративным искусством» в уютной квартире Уваровой, навсегда перестал быть Николаем Аржаком. И стал переводить строго определенное ему властями количество стихотворных строк (на сто рублей в месяц) под другим, не столь одиозным псевдонимом – Петров. Не путать с Сашей Петровым, подробно описанным выше.
Как и когда вышел из лагеря Андрей, мы с Сашей так никогда и не узнали в точности. Марья тщательно скрыла от нас и дату его освобождения, и место, где она его от всех прятала, пока не скрутила его по рукам и ногам.
Раздел третий. Исход
Выход на тропу войны
Я чуть ли не со дня рождения знала, что у нас, в Cоветской стране, граница на замке. Я даже довольно явственно представляла себе этот большой, покрытый налетом ржавчины амбарный замок, вроде того, какой висел на дверях сарая у нашей дачной хозяйки в Санжарах. Где-то годам к одиннадцати привычный образ сарайного замка начал смешиваться в моем сознании с другим замком, которым, по слухам, один знакомый ревнивый старик запирал специальные кожаные трусы своей молодой жены, в результате чего он вынужден был каждый раз сопровождать ее в уборную – отпирать и запирать снова. В этой легенде самым удивительным казалось веселое лицо молодой женщины, обреченной круглосуточно томиться в наглухо закупоренных кожаных трусах.
Наверно, так же следовало бы удивляться разнообразным и отнюдь не всегда грустным настроениям окружающих меня людей, надежно запертых на замок, но они, как и я сама, вполне притерпелись к своей жизненной ситуации и не слишком о ней задумывались, – как к мысли о неизбежности смерти.
Однако, несмотря на эту всеобщую ясность, время от времени случались проколы, и в поле моего зрения возникали чудаки, воображавшие, будто в их силах туннельным эффектом проникнуть сквозь насмерть сомкнувшиеся вокруг них стены. Почти всех их ловили в пути и отправляли на десять лет в лагерь строгого режима. Но не все желающие вырваться из-за забора были лихими ребятами, – некоторые искали законных путей.
Я их не искала – при всей моей нелюбви к советской системе, я не могла представить себе другого варианта судьбы. Все время что-то мелькало в потоке находок и потерь. Так, одна моя пьеса, по мотивам поэзии А. А. Милна, привлекла внимание Сергея Образцова, и он всерьез обсуждал со мной возможности ее постановки в своем театре – можно ли было мечтать о большем? Он даже пригласил меня к себе на дачу, где мы подробно вчитывались в мои диалоги, и разрабатывали детали предполагаемого спектакля.
Но вскоре слухи о моих намерениях поползли по Москве, и никто уже не хотел иметь со мной дела.
Веревочка начала виться где-то в 1969 году, когда мой Саша объявил, что ему не место в ЭТОЙ стране. Причин для такого его ощущения было хоть отбавляй – и личных, и общественных. Сашина рабочая ситуация с каждым годом становилась все более невыносимой.
Сразу после процесса Синявского-Даниэля ему не продлили контракт с ОИЯИ в Дубне, несмотря на то, что за пару лет до того Саша сделал открытие, внесенное в учебники физики твердого тела. Формула Сашиного открытия была даже выбита на каменном фронтоне факультета физики одного из крупнейших американских университетов рядом с формулами Эйнштейна, Максвелла и других классиков.
Саше пришлось остаться в глубоко провинциальном ВНИИФТРИ, где он с его стремительным научным взлетом был абсолютным чужаком – он с ними не пил, не звал их в гости, и торчал в их институте, как бельмо на глазу. Всем участникам было очевидно, что увольнение крамольного профессора – просто вопрос времени.
Проехав на попутных от Москвы до Астрахани, Саша обнаружил, что он вообще в этой стране чужой. Он написал:
«Быть может, самое ужасное, – это возникающее моментами ощущение, что время остановилось. Одни и те же явления русской жизни воспроизводятся в течение столетий, и я чувствую, что моя жизнь – тоже какая-то копия, подражание чему-то, уже бывшему раньше.
Это для меня – самое невыносимое».
Итак, вопрос был решен и приговор подписан. Тут кстати поползли слухи, будто какие-то лица еврейской национальности обнаглели до того, что начали просить у властей разрешение на выезд.
На счастье нам быстро встретился человек, который ходил по сионистским тусовкам, примериваясь, как бы и ему самому смотать туда, где чаще солнышко смеется. И мы попросили прислать нам вызов из Израиля.
Было очевидно, что Сашу сразу не отпустят – в ту пору ни одному доктору наук еще не позволили уехать.
Смешно, но наша жизнь при этом значительно улучшилась: одновременно с созревшим решением покинуть Россию, была, наконец, достроена наша новая квартира в кооперативном доме на улице Народного Ополчения возле метро «Октябрьское поле», и мы без особого сожаления покинули свою историческую комнату в Хлебном переулке. И стали разрабатывать планы своей новой жизни отщепенцев. Для начала Саша отправился за советом к соратнику академика А. Д. Сахарова, восходящему светилу правозащитного движения, Валерию Чалидзе. Трава забвения растет быстрее лавровых ветвей для венков, и я боюсь, что сегодня мало кто знает и помнит имя Чалидзе. Но в те опасные времена он храбро вынырнул из пучины бесправия и беззакония, держа в слабой руке обреченное знамя защиты человеческого достоинства от произвола тоталитарного режима.
О посещении мы договорились заранее. В дверях коммунальной квартиры, где жил правозащитник с набирающим силу мировым именем, нас встретила, дымя сигаретой, его прелестная молодая жена Вера Слоним, – дочь знаменитого скульптора Слонима, внучка бывшего советского наркома Максима Литвинова, – и провела по захламленному коридору в комнату мужа.
Чалидзе, портретно похожий на Врубелевского Демона, встал нам навстречу, тоже дымя сигаретой, и окинул нас пронзительным взглядом миндалевидных грузинских глаз, обрамленных удивительно длинными черными ресницами. Хотя невозможно было скрыть, что спина его как-то неестественно искривлена, его бледное лицо, осененное густой черной гривой над орлиным носом и крутым подбородком, можно было бы назвать красивым, если бы не постоянная недоброжелательная гримаса, искривлявшая тонкие губы. Он, по-видимому бессознательно, подавлял собеседника своим колючим сарказмом, замешанным на высокомерии небожителя. Возможно, дело было всего лишь в искривленной спине, и он мстил всем, у кого спина была прямая. А может, его оправданно раздражала наивная беспомощность толпящихся вокруг него простых смертных, однако и простым смертным его правота почему-то обычно не приходилась по душе.
Пока мы представлялись друг другу, я оглядела комнату – она была большая, неправильной формы. Искривляясь в полном согласии со спиной хозяина, она слегка напоминала давнюю комнату Даниэлей в Армянском переулке, – наверно тоже была выкроена из расколотого на ломти парадного зала. Несмотря на исключительно высокий потолок в комнате было душно – казалось, в воздухе застыл едкий дымок непонятного происхождения. Я прошла к предложенному мне месту на диване, всей ступней ощущая мягко пружинящую плотную массу какого-то необычного ковра. Усевшись, я поглядела вниз, под ноги – там колыхалось нечто зыбкое, темно-серое.
Перехватив мой взгляд, Саша скорчил легкую гримасу, – похоже, он уже понял, что это. Через минуту я тоже поняла, когда хозяева, докурив свои сигареты, дружно, как по команде швырнули их на пол, и Вера начала втаптывать их в темно-серый ковер. И тут до меня дошло – это был вовсе не ковер, а хорошо утрамбованная масса тысяч накопившихся за годы сигаретных окурков! Я не выдержала и полюбопытствовала:
«А почему бы их не выметать?»
«Бесполезно, – махнула хорошенькой ручкой хорошенькая Вера. – Все равно, тут же наберутся новые. Мы сперва их выметали, а потом нам надоело. И мы решили, что лучше их утрамбовывать».
Я представила себе, как, опрометчиво выйдя замуж за томного Демона, избалованная внучка бывшего наркома переехала в неуютную комнату низкооплачиваемого правозащитника, – он работал младшим научным сотрудником в институте пластмассы, – и впервые столкнулась с трудностями быта. Сначала супруги спорили, кто будет выметать окурки, а потом мудрый борец за права женщин нашел воистину остроумное и оригинальное решение проблемы равенства. Он постановил, что окурки вообще не стоит выметать, и молодые супруги стали втаптывать их в пол до консистенции ковра, в результате чего зажили в любви и согласии.
Не менее остроумные решения Чалидзе находил и для проблем тех, кто приходил к нему за советом. На Сашин вопрос, как себя вести в долгие годы ожидания, Чалидзе открыл ему невидимую для непосвященных прореху в советском законодательстве – никакая научная работа в СССР неподсудна.
Саша ушел от него окрыленный – его изобретательный еврейский мозг тут же начал сплетать хитроумные варианты, позволяющие ему облечь свою активность в пристойно законные формы. В результате он придумал для себя два поля деятельности, способных в какой-то мере удовлетворить духовные интересы небольшой группы страдальцев, выброшенных из нормальной жизни безжалостной системой. Во-первых, он создал научный семинар «вне официальных рамок», в котором участвовали изгнанные с работы ученые разных профессий, во-вторых принялся за издание псевдо-научного этнографического журнала, получившего скучное, зато безобидное имя «Евреи в СССР».
Поначалу власти не выказали к Сашиным начинаниям никакого специального интереса – то ли не придали им большого значения, то ли еще не решили, как реагировать. Благодаря этому нам удалось без помех выпустить четыре номера журнала, каждый из которых многократно перепечатывался под копирку на папиросной бумаге и разбегался по всему Союзу.
Но власти быстро исправили свой промах, спохватившись, что легкомысленно допустили такое своеволие. С середины 1973 года КГБ уже не выпускало нас из виду.
Для меня эти годы не прошли напрасно. Самым значимым для меня стало наше близкое знакомство с Андреем Дмитриевичем Сахаровым и его женой Еленой Боннер, постепенно перешедшее в дружеские отношения. В первый раз Саша поехал к Сахарову с группой ученых-отказников для обсуждения письма, требующего позволить в СССР обещанную конституцией свободу эмиграции. После короткого личного разговора Саша проникся такой симпатией к этому удивительному человеку, что попросил разрешения принести ему свою самиздатскую книгу «Трепет иудейских забот».
Андрей Дмитриевич, и Елена Боннер прочли Сашину рукопись «Трепет иудейских забот» и пригласили нас в гости. Между нами сразу возникла та взаимная симпатия, которую в просторечии называют «химией», и мы, как-то незаметно для себя стали частыми гостями в Сахаровской квартире на улице Чкалова.
На тропе войны
Существование в виртуальном состоянии постепенно начинало сказываться на нас. За первый год отказа мы «ушли, как говорится, в мир иной» и незаметно для себя приобрели полное, я бы даже сказала – восхитительное, ощущение свободы от всего, что совсем недавно представлялось важным. Мне часто казалось, что я стою на подножке уходящего в неизвестность поезда и сквозь слезы наблюдаю, как расплывается вдали мир моего детства и моей юности и как отдаляется, отдаляется, отдаляется до боли знакомая российская жизнь. И я все больше чувствовала себя в ней лишней.
Этому весьма способствовало вялое течение нашей борьбы – нам объявили, что нас никогда не отпустят и как бы оставили в покое. Хотите собирать у себя дома семинар? Собирайте на здоровье. Хотите издавать журнал? Издавайте, ради Бога. Можно было и впрямь поверить, что на нас поставили печать «Хранить вечно», и что так теперь будет всегда.
Это было не так уж плохо – благодаря навязанному обстоятельствами состоянию «невесомости» я совершенно раскрепостилась и начала писать одну пьесу за другой, руководствуясь только своими эстетическими представлениями. Можно было подумать, что под прессом отщепенчества и надзора я вдруг достигла взрослости, до которой многие люди в нормальной обстановке дозревают медленно и постепенно. Спасибо родному Комитету государственной безопасности – под его неусыпным оком я почти успела завершить свою первую книгу пьес «Прах и пепел», изданную уже в Израиле в 1976 году. Некоторые из этих пьес были поставлены по-английски в 1975 году «Интерарт театром» в Нью-Йорке и несколько раз в Израиле, – как на русском, так и на иврите.
Я сказала: «почти успела», потому что довести книгу до конца мне все-таки не дали: в один прекрасный день все разом изменилось, когда Саша осуществил свое заветное намерение собрать у нас дома не простой семинар, а международный. Как только шесть нобелевских лауреатов-физиков заявили о своем желании принять участие в семинаре, наш друг, профессор медицины Эмиль Любошиц, переехавший к тому времени в Израиль, собрал в Иерусалиме пресс-конференцию и официально назначил дату семинара на 3 июля 1974 года. Дата эта была выбрана за полгода до того, исходя из удобства предполагаемых иностранных гостей, но по странной прихоти судьбы она точно совпала с датой приезда в Москву тогдашнего президента США Ричарда Никсона, назначенной гораздо позже.
Заявление профессора Любошица, немедленно опубликованное во всех крупнейших газетах мира и переданное по радио всеми «вражескими голосами», застигло советские власти врасплох и повергло их в состояние глубокого шока. Оказывается, пока они снисходительно смотрели сквозь пальцы на интеллигентские игры безработного профессора Воронеля, он приготовил против них бомбу замедленного действия!
КГБ вынырнул из летаргического сна и повел на нас и на наших друзей решительное наступление на всех фронтах. Для начала Эмиля Любошица, мирно переходившего на зеленый свет совершенно пустую иерусалимскую улицу, сбила машина, немедленно удравшая, оставив его в бессознательном состоянии в придорожных кустах. Кусты смягчили удар, и он остался жив, хотя ему пришлось три недели провести в постели, из-за чего он не смог принять участие в серии встреч с журналистами, жаждущими знать подробности о затеянном Сашей семинаре.
В то же время жизнь вокруг нас забурлила вовсю. К моменту официального заявления Любошица о семинаре мы были в Малеевке – я уже писала, что Литфонд вдруг начал усердно предлагать мне путевки в любые Дома творчества, в которых раньше мне обычно отказывали. Я объясняла это тем, что на замкнутом пятачке Дома творчества им было гораздо легче следить, с кем и о чем мы общаемся, однако от путевок не отказывалась – им же хуже!
За месяц нашего пребывания в Малеевке мы очень сблизились с Юзом Алешковским, поразившим когда-то российского читателя пикантной повестью, написанной сплошным матом. Его склонность к жонглированию матерными словами располагала к нему интеллигентские сердца, всегда открытые к разным формам протеста. И он этим расположением охотно пользовался. Как-то после ужина он приобнял меня за плечи и прошептал в самое ухо:
«Старуха, я только что стишок сочинил – обосрешься от восторга».
И продекламировал чуть погромче:
«Давно пора, ебена мать, Умом Россию понимать!»Я так и ахнула, – пару месяцев назад мне тот же стишок продекламировал Игорь Губерман, точно так же приобнимая меня за плечи и утверждая, что только что его сочинил. Так я до сего дня и не узнала, кто из них у кого этот стишок украл.
Но вспомнила я о Юзике не ради этого пустячка, из-за авторства которого не стоило копья ломать, а в связи с темой соглядатаев и наблюдателей, особенно загадочной в Доме творчества, где они, очевидно, кишмя кишели, но порой были не распознаваемы. Некоторых мы очень даже подозревали, а они оказались ни при чем, а некоторые нас поразили в самое сердце. К Юзику я еще вернусь, – это только присказка, сказка будет впереди.
Наши последние дни в Малеевке были ознаменованы появлением серой «Волги», курсирующей вдоль ограды, совпавшим с появлением ленинградского писателя Володи Марамзина, который утверждал, что он сбежал к нам из-под надзора КГБ. Последние месяцы он действительно жил под надзором, – в Ленинграде шла бурная подготовка процесса по делу группы интеллигентов, самовольно собравших для печати сборник стихов Иосифа Бродского. Худшее место, чтобы укрыться от ищеек КГБ, Володя в те дни вряд ли мог придумать, но у него, вероятно, были веские причины спрятаться за деревьями и послать к нам свою жену Таню, которая громко объявила в полном народу вестибюле:
«Вы – Нина Воронель? Я – жена Володи Марамзина, он там прячется за деревьями и просит вас к нему выйти».
Не менее десятка голов, услышав эти слова, навострили уши, но нам тогда еще казалось, что нам все нипочем, – мы ведь еще не подозревали, что главная линия атаки КГБ на нашу семью пойдет по делу Марамзина. Нас потом много раз арестовывали, обыскивали и допрашивали ленинградские следователи, пытающиеся увязать наш журнал в один антисоветский узел с подрывной деятельностью группы Марамзина.
«Отбыв» свой срок в Малеевке, мы вернулись домой, но привычной жизни пришел конец. Ни о покое, ни о свободе, ни об уходе в «мир иной» вдруг невозможно стало и помыслить. Улица возле нашего дома заполнилась праздностоящими на всех углах «Волгами», из открытых окон которых торчали поникшие локти пассажиров в стандартных костюмах, обалдевших от бессмысленного многочасового сидения на одном и том же месте.
Никогда не забуду свое первое осознание «их» неусыпного пугающего присутствия. Мы провели несколько часов у друзей, – счастливых обладателей телефона, по которому нам в тот вечер звонил из Израиля Любошиц. Закончив разговор, мы – нас было пятеро – вышли из подъезда и направились к ближайшей станции метро. Было довольно поздно, близко к полуночи, неосвещенная улица была темна и безвидна. Вдруг где-то за спиной тихо зафыркал заведенный мотор автомобиля и начал приближаться, не нарушая темноту светом фар и даже подфарников. Я огляделась, – да, наверно, не я одна, – и увидела черную массу автомобиля, который, не зажигая фары, зловещим призраком с тихим урчанием полз по мостовой рядом с нами со скоростью наших шагов. Он полз так близко от нас, что даже во тьме можно было с легкостью разглядеть белые окружности лиц сидящих в автомобиле парней – их, как и нас, было пятеро. Они проводили нас до входа в метро и снова встретили у выхода на нашей станции, откуда так же, ползком, сопроводили до самого подъезда, явно подражая сценам из американских фильмов о мафии. Ни нами, ни ими не было произнесено ни слова.
Но оказалось, что это только прелюдия – к настоящему действу «они» приступили на следующей неделе. Утром поползли слухи, что среди наших соратников начались аресты. В тот же вечер где-то после часа ночи, когда все гости, наконец, разошлись, в нашу дверь вдруг позвонили. Саша уже лег, а я выглянула в глазок, который мне только-только удалось вставить после долгой борьбы с Сашей, вбившим себе в голову романтическую чушь насчет гордого борца, не скрывающегося от врага за пугливыми стеклами глазков. Убедила его не я, а тот исторический факт, что в дверях всех без исключения его сотоварищей внезапно появились такие пугливые глазки.
В результате этой победы здравого смысла над романтической гордыней я смогла посмотреть в глазок и увидеть бывшего Сашиного студента, давно уехавшего жить в провинциальный город Н., где он получил должность младшего научного сотрудника в местном НИИ.
«Это вы, Ивась?» – удивилась я. Мы никогда не были с ним близки, и он не бывал у нас в доме.
«Да, я. Пожалуйста, откройте».
«Но почему среди ночи?» – настаивала я, не открывая.
«Пожалуйста, откройте, – повторил Ивась. – Мне нужно срочно поговорить с Александром Владимировичем. Я прилетел из Н. вечерним самолетом и утром должен улететь обратно».
Голос у него был такой жалкий, что я его впустила, предварительно закрыв дверь в спальню, откуда уставший за долгий день Саша в ответ на мой вопросительный взгляд отрицательно покачал головой – мол, никого не хочу видеть.
«Александр Владимирович спит, – соврала я. – И я не могу его разбудить, он принимает снотворные таблетки. Приходите утром».
«Никуда я не уйду, – решительно объявил Ивась, и где стоял, прямо там и плюхнулся на затоптанный гостями пол. – Я буду всю ночь тут сидеть и ждать, пока он проснется».
Ошеломленная этой неслыханной наглостью, я, плотно прикрыв за собой дверь, вернулась в спальню, только чтобы убедиться, что Саша и впрямь заснул. Будить его мне не хотелось – он за последние недели здорово издергался и раздражался из-за каждого пустяка. Не зная, как быть, я опять вышла в коридор, но там ничего не изменилось – Ивась по-прежнему, как был в куртке и шарфе, сидел на полу с застывшим на лице отчаянным выражением хохлацкого упрямства, всем своим видом давая понять, что он не сдвинется с места до победного конца.
Я над ним сжалилась и позвала на кухню выпить стакан чаю. Там он открыл мне, какие обстоятельства пригнали его с такой срочностью в Москву. Через пару дней должна была состояться защита его кандидатской диссертации, на которую Саша был приглашен оппонентом. Как только началась серьезная заваруха из-за международного семинара, Саша позвонил в НИИ Ивася и сообщил председателю ученого совета, что не сможет приехать по состоянию здоровья, а просит пригласить другого оппонента. Поначалу его самоотвод был спокойно принят дирекцией НИИ, но в новых обстоятельствах им это показалось недостаточным, – теперь они требовали личного письма с собственноручной подписью Воронеля. В случае отсутствия такого письма они грозили вообще отменить защиту.
Я не знала, кого жалеть больше – измученного Сашу или испуганного Ивася, и решила, что утро вечера мудренее. Оставив Ивася в кухне на диванчике, я пошла спать. Но заснуть мне не удалось – меня начали терзать тревожные мысли. Почему Ивась явился в Москву именно сегодня? Почему не дождался утра, а ворвался к нам среди ночи? Почему так категорически отказался уйти из нашей квартиры? Не скрывается ли за этим какой-то другой замысел?
Я вспомнила рассказ Надежды Мандельштам о ее старом приятеле, которого прислали к ним в дом накануне ареста Осипа Эмильевича, чтобы предотвратить непредвиденные эксцессы со стороны предполагаемого арестанта. И ужаснулась – неужто Ивася для этого среди ночи выдернули из Н.? Запугали, пригрозили и заставили. И сама себе ответила: конечно, для этого – ведь они подслушивали наши разговоры и знали, что мы договорились не открывать, когда они придут за Сашей. Я вцепилась в Сашино плечо и начала его трясти: «Просыпайся, иди к нему! Подпиши все, что он хочет, и пусть убирается к черту!»
Но Саша и в обычном состоянии терпеть не мог насильственных пробуждений, утверждая, что это у него со времен детского сада и детской исправительной колонии, где он провел незабываемые полгода за изготовление и распространение антисоветских листовок. Что же говорить о насильственном пробуждении в той нервной блокаде, в которой мы оказались к моменту появления в нашей квартире злосчастного Ивася? В ответ на мои призывы Саша чуть-чуть разлепил глаза и пробормотал, чтобы все шли куда надо и не мешали ему спать. И опять заснул.
Я подошла к окну и выглянула – на асфальтовой полоске за газоном темнел силуэт припаркованного автомобиля, а уж мне ли было не знать, что стоянка там запрещена? «Точно, они! Сейчас явятся за Сашей!» – обреченно подумала я и стала трясти его с удвоенной силой. И трясла, пока он не осознал, что избавиться от меня ему не удастся. После недолгого препирательства со мной он все же вышел на кухню и вступил в переговоры с Ивасем. Выслушав его скорбный рассказ, он молча взял лист бумаги и написал нужное письмо, – я думаю, все это было ему очень неприятно.
Не дожидаясь дальнейшего развития событий, я попросила Ивася уйти поскорей. «Для вашей же пользы!» – пригрозила я ему туманно, предполагая, что, если мои подозрения неосновательны, мои слова его озадачат. Но он, похоже, со мной согласился – возможно, потому, что наш дом уже был зачумленный, так же, как и имя недавно почитаемого им профессора. Он аккуратно уложил Сашино письмо в портфель и, понурив голову, вышел на лестничную площадку, – ему все это тоже было очень неприятно.
Прямая польза из этой драмы проистекла только для меня: через год, уже в Израиле, я написала о ночном визите Ивася пьесу-триллер «Последние минуты», которую экранизовали две телевизионные студии – Иерусалимская и Лондонская. Так что у меня хранятся кассеты двух очень разных по стилю телевизионных фильмов об этом драматическом событии, и я могу при желании увидеть себя и Сашу в исполнении гораздо лучших актеров, чем мы сами. Ивась тоже был представлен оба раза весьма презентабельно, особенно в английской версии, где его роль играл известный красавец Антони Хиггинс, да и сама роль была куда красноречивей и выразительней, чем его подлинная.
Можно было бы сказать, что хорошо все то, что хорошо кончается, если бы они все же не пришли за Сашей в то утро, только не на рассвете, а чуть попозже. Я, как и было задумано, объявила им, не отворяя дверь, что Саши нет дома и что, раз его нет, я открывать не намерена. Они, точно зная, что Саша дома, попытались настаивать, но я не уступила, и они, минут пять потоптавшись под дверью, с шумом покатились вниз по лестнице.
Мы с Сашей занялись каждый своим делом, притворяясь друг перед другом, будто ничего особенного не произошло. Этого кажущегося безразличия хватило часа на два, не больше – Саша вдруг резко поднялся и объявил: «Ну, я пошел!»
«Куда? – вскинулась я. – Они же тебя поджидают на улице!»
«Они, небось, давно уехали. Или ты думаешь, они на меня целый день готовы потратить?»
Уже через неделю я знала, что они, если надо, готовы потратить и день, и ночь, – а что им, собственно, было еще делать, диссертации писать? Но тогда, в первый раз, я тоже усомнилась:
«Ты подожди, а я выйду и осмотрюсь».
Долго осматриваться мне не пришлось – серая «Волга» стояла прямо у подъезда, где парковаться было категорически запрещено. Из каждого ее открытого окна торчало по локтю, и хоть голов не было видно, выражение локтей откровенно сообщало, как их хозяевам осточертело сидеть в этой гребаной машине. При виде меня все четыре локтя так поспешно втянулись внутрь, что мне на миг почудилось, будто отупевшая от ожидания «Волга» хихикнула и сделала мне реверанс.
Не вдумываясь в свои ощущения, я круто развернулась и помчалась назад, а вслед за мной несколько пар быстрых ног затопали по лестнице вверх. В голове у меня стремительно пронеслось видение, как я отпираю свою дверь, а их сильные руки толкают меня в спину и они врываются в квартиру прямо у меня на плечах. Ужаснувшись, я опять круто развернулась, растолкала своих преследователей, не ожидавших такого оборота, и, прыгая через две ступеньки, выбежала на улицу.
«Волга», слава Богу, за мной не поехала, и я поспешила к метро, обдумывая на ходу, как дать знать Саше, что они ждут его под дверью. Первым делом я позвонила из телефона-автомата Игорю Губерману, вкратце описала ему обстановку и попросила поехать к Саше, чтобы задержать его в квартире. Потом я отправилась на Малую Грузинскую к своей верной подруге Дифе, которая, как и ее сестра Фрида, жена драматурга Александра Володина, принимала в нас живейшее участие. Дифа срочно вызвала нашу общую подругу Лину Чаплину, и мы устроили маленький военный совет, хотя должна признаться, что мои дорогие подруги мне не поверили. Главный вопрос, который их занимал, относился к степени моего помешательства: они все пытались решить, какая именно у меня мания – преследования или величия.
Но я проявила твердость и послала их к Саше с заданием переодеть его в женщину и вывести из квартиры в веселой щебечущей толпе, состоящей из даровитого бабника Игоря и трех прекрасных дам, одной из которых должен был стать Саша. Лина и Дифа поехали на такси – им не терпелось меня разоблачить. Увидев у подъезда серую «Волгу» с записанным мною номером, они впервые отнеслись к происходящему всерьез, что не помешало им при этом неплохо повеселиться.
С помощью Игоря они, выполняя мои указания, напялили на Сашу захваченный ими из дому кудрявый парик и одели его в мое расклешенное летнее пальто цвета заходящего солнца. После усердной работы двух гримерш-любительниц Саша предстал перед ними во всей своей девичьей красе – пальто сидело на нем неплохо, накрашенные губы улыбались похабной улыбкой в пандан сильно подведенным глазам. Единственную проблему представляли торчащие из-под пальто большие волосатые ноги, обутые в грубые башмаки сорок третьего размера, так как подходящих для него туфель на каблуках ни у кого не нашлось, равно как и колготок. Игорь повертел его туда-сюда, осмотрел критическим глазом и припечатал:
«Старик, с такой я не пошел бы даже в мои голодные двадцать!»
Поразмыслив, военный совет отменил маскарад, и подружки отправились по домам, оставив Сашу и Игоря веселиться дальше. Оказавшись предоставленными самим себе, эти двое окончательно впали в детство и задумали провести в жизнь план Тома Сойера по спасению Геккельбери Финна. Подкоп они, правда, рыть не стали – на третьем этаже многоэтажного дома это было бы не совсем сподручно. Но зато они почти осуществили романтическую идею бегства из окна на связанных простынях. Простыни они связали так прочно, что развязать их потом обратно мне не удалось – пришлось так и выбросить их связанными.
Но при каждом вывешивании простынной веревки из окна или с балкона дежурные кэгэбэшники начинали выскакивать из машины и суетиться внизу, так что наши герои, в конце концов, решили перенести свои игры на лестничную клетку, освещенную слабым светом, сочащимся из маленьких окошек, пробитых над мусоропроводом в стене противоположной квартиры. Однако они недооценили масштаб операции по аресту злокозненного Воронеля – с другой стороны дома тоже обнаружилась «Волга» с четырьмя седоками, которые при виде веревки точно так же выскакивали из машины и выстраивались вдоль стены. В конце концов, герои отчаялись и заснули, завернувшись в намертво связанные простыни. Это было большой моей удачей – я не сомневаюсь, что, спускаясь ночью на веревке с третьего этажа по отвесной стене, мой дорогой профессор обязательно сломал бы себе или руку, или ногу, или шею.
А так он, целый и невредимый, хотя и не врубившийся со сна в серьезность ситуации, с утра пораньше отправил верного Губермана проверить, убрались ли прочь его преследователи или все еще сторожат у подъезда. Губерман, тоже еще не врубившийся, – ведь все это было в первый раз! – вышел на улицу, огляделся и убедился, что в поле его зрения никаких подозрительных «Волг» не наблюдается. Он помчался наверх с триумфальным криком: «Выходи, Сашка! Опасность воздушного нападения миновала!», – после чего оба героя радостно вырвались из заточения на свободу.
Радость их длилась недолго: не успел Саша сделать и двух шагов по направлению к метро, как его окружила небольшая стайка молодых людей при пиджаках и галстуках. Мигом их опознав, Саша, начиная прозревать, но все еще не врубясь окончательно, вбежал в открытую дверь овощного магазина и стал в очередь. Двое из молодых людей в галстуках последовали за ним и тоже стали в очередь. Все больше и больше врубаясь, Саша понял безнадежность стояния в очереди и вышел из магазина на улицу, молодые люди в галстуках немедленно потеряли интерес к овощам и вышли вслед за ним.
Как только Саша переступил порог магазина, на него, прямо по тротуару, задним ходом помчалась серая «Волга», резко притормозила рядом с ним, и кто-то, сидящий внутри, резко распахнул ближайшую заднюю дверцу. Молодые люди, покинувшие ради Саши очередь за овощами, с двух сторон уперлись ему в спину и стали заталкивать его в машину. Тут бы ему и смириться с неизбежным, но он, к сожалению, начитался в самиздате Солженицына, упрекавшего народ в том, что он сдается, не сопротивляясь, – и решил проверить, что будет, если попробовать сопротивляться. Он уперся руками в раму автомобиля и начал лягать своих похитителей – в этом случае грубые башмаки сорок третьего размера пришлись как нельзя кстати.
Однако похитители не растерялись: они сплотили свои ряды, удвоили усилия и после короткой борьбы втолкнули Сашу в «Волгу». А потом, чуть запыхавшись, сели с ним рядом, прижимая его плечами с двух сторон, так что он оказался в центре. Тем временем бесстрашный Игорь обратился с речью к небольшой толпе, поджидавшей автобуса:
«Граждане, что вы стоите? На ваших глазах неизвестные похищают ни в чем не повинного человека, а вы хоть бы что!»
Как ни странно, кто-то из толпы ужаснулся и побежал за милиционером. Милиционер пришел очень быстро, окинул опытным глазом свалку у машины и кратко сообщил:
«Не похищают, а делают, что положено. Кто недоволен, может обратиться за разъяснениями в Комитет государственной безопасности».
После этих слов толпу как ветром сдуло, и Сашу без помех доставили в приемную КГБ, где его, всячески запугивая, продержали целый день. От него требовали, чтобы он подписал протокол о том, что его предупредили об антисоветском характере его деятельности, а он упорствовал и отказывался. Как только Игорь сообщил мне о случившемся, я немедленно вышла на связь с иностранными корреспондентами, которые в те годы охотно паслись на щедрой ниве еврейского движения. Так что уже через пару часов после Сашиного ареста об этом говорили все «русские голоса» зарубежных радиостанций. К вечеру Сашу отпустили, и он приехал к Дифе, где уже собрались все друзья и сочувствующие. Часов после одиннадцати гости начали расходиться, и мы решили вызвать такси – после нервного дня и бессонной ночи у нас обоих не было сил добираться на метро. К моменту, когда такси подъехало к Дифиному подъезду, там уже стояли две серых «Волги», все восемь седоков которых выстроились в два ряда по четыре человека вдоль асфальтированной дорожки, ведущей от дома к тротуару.
Мы прошли мимо них, как сквозь строй. Подойдя к такси, мы увидели перекошенное от страха бледное лицо таксиста, который, как только мы отъехали, стал дрожащим голосом спрашивать, что мы ИМ сделали. У него и впрямь была причина волноваться – на каждом светофоре обе «Волги» стискивали нас с двух сторон, а их пассажиры со злобными ухмылками разглядывали нас, высунувшись из окон. Поэтому таксист попросил нас расплатиться заранее и умчался прочь, как только за нами захлопнулась дверца машины.
Мы остались с ними наедине. Вокруг было темно и пусто. Я – особа нервная и отнюдь не героического нрава, была просто вне себя от ужаса, а Саша всячески изображал бесстрашие, хоть я уверена, что и ему было не по себе. Мы быстро вошли в парадное, где царила полная тьма, что было крайне непривычно – ведь в советских подъездах обычно всегда горел свет. Они – все восемь – вошли вместе с нами: не через дверь, а через отверстия в застекленном фонаре, в форме которого были построены парадные входы в нашем кооперативном доме, претендующем на некоторую изысканность. Вероятно, они позаботились о том, чтобы стекла из торцовых стенок фонаря были вынуты заблаговременно, так что им ничего не стоило, опередив нас, выстроиться перед нами полукругом, загораживая вход на лестницу. Совсем как в песне Высоцкого:
«Я выхожу, они стоят, они стояли молча в ряд. Они стояли молча в ряд, их было восемь».Они стояли молча в ряд, мы тоже, у одного из них, в кепочке, вероятно, главного, в углу рта дымилась сигаретка. «Ну все, сейчас забьют насмерть», – обреченно подумала я, продолжая молчать.
Не знаю, сколько времени это молчание длилось, но я не выдержала первая. Сама удивляясь своему визгливому голосу, я выкрикнула:
«Чего вам надо?»
Тогда тот, в кепочке, перекатил сигарету из одного угла рта в другой и сказал хрипло:
«Слушай, профессор, если ты еще раз попробуешь играть с нами в такие игры, мы тебе руки-ноги переломаем».
Как только он заговорил, меня словно отпустило: я почувствовала – приказа нас бить «им» пока еще не дали, – и, рассекая их строй плечом, стала подталкивать Сашу к лестнице. Но он с младенчества не любил оставлять за противником последнее слово, тем более, что в него прочно въелся жестокий опыт детской исправительной колонии, которую справедливо приравнивают к самому страшному кругу ада. Он навсегда запомнил, как тогда, в лагере Отлян, один из взрослых блатных наставил ему в глаз рогатку, и Саша понял, что если он сморгнет, тот выбьет ему глаз. Огромным усилием воли он сдержался и не моргнул, неотрывно глядя на своего мучителя. Тот пару секунд покачался над ним со своей рогаткой, а потом, заскучав, отвернулся и пошел прочь. С тех пор блатные оставили Сашу в покое.
Вот и сейчас, ощутив ситуацию сходной с лагерной, он уперся на месте и, не отрывая взгляда от наглой морды в кепочке, сказал, почему-то тоже хрипло:
«Не смейте обращаться ко мне на «Ты»!
Если бы не драматизм этой западни в темном подъезде, я бы расхохоталась, услыхав сашину неуместную претензию, но мне было не до смеха. Я завизжала на самых высоких нотах:
«Хватит! Пошли домой!»
Но Саша не унимался. Он спросил:
«А вас что, не накажут, если вы мне руки-ноги переломаете?»
На что главарь в кепочке ответил весьма доходчиво и по-прежнему не переходя на «вы»:
«Нас, может, и накажут, но у тебя-то руки-ноги все равно уже будут переломаны».
Не в силах возразить на эту костедробительную логику, Саша все же позволил мне увести его вверх по лестнице. «Они» дружно развернулись на сто восемьдесят градусов и все время, пока мы поднимались в их поле зрения, стояли полукругом и молча смотрели нам вслед.
С этого дня пошла новая, вскоре ставшая привычной, рутина с почти ежедневными арестами в самое неудобное время и в самом неудобном месте. Обычно к концу дня Сашу отпускали, так и не добившись от него никаких уступок. Свои игры с ними он прекратил, осознав, что главную свою игру с ним – в кошки-мышки – они ведут всерьез. Иностранные «голоса» надрывались по всем радиостанциям, бесконечно повторяя ставшую уже привычной формулу «Профессор Александр Воронель…»
Где-то в это беспокойное время со мной произошла странная мистическая история. Мы с женой профессора Марка Азбеля, Люсей, сидели на диване в полутемном коридоре чьей-то квартиры, ожидая, пока наши мужья закончат очередной телефонный разговор с Израилем, и распутывали огромный клубок магендавидов на тонких серебряных цепочках. Клубок этот какой-то американский доброхот привез в подарок евреям Москвы, но он так старательно его прятал от таможенников, что серебряные цепочки переплелись безнадежно.
Не зная, чем себя занять и успокоить, мы решили попробовать извлечь из этого чудовищно заверченного клубка хоть несколько магендавидов, для стимула называя каждый спасенный чьим-нибудь именем. Настойчиво, виток за витком, я высвободила цепочки с четырьмя магендавидами, назвавши их Саша, Неля, Марк и Люся. Вслед за этой четверкой я с почти невероятной изощренностью извлекла из клубка Сашу и Люсю Лунц и принялась за освобождение Виктора Браиловского и Толи Щаранского. Примерно на полпути мои усилия были прерваны громким звонком в дверь, и в квартиру ворвались знакомые мальчики в штатском в сопровождении участкового, которые арестовали нас и забрали у меня клубок магендавидов с заключенными в его глубинах Виктором и Толей.
Можно ли считать простым совпадением, что в течение следующих двух лет всем освобожденным мною лицам позволили покинуть СССР, а Браиловский и Щаранский застряли там надолго и угодили в тюрьму?
О нашем очередном аресте почти мгновенно сообщила западная печать, так как наша жизнь все больше и больше становилась достоянием гласности. У нас практически не стало личной жизни – сотрудники КГБ не только нашпиговали нашу квартиру микрофонами, но и входили туда, когда им было угодно. Однажды, возвратясь после многочасового отсутствия, мы обнаружили на зажженной газовой конфорке бурно кипящий чайник, полный до верха. Можно было подумать, что он заколдованный, если с часу дня до десяти вечера из него не выкипело ни капли воды. Я даже не успела толком возмутиться, как в дверь позвонили – нас пришел проведать один из наших ангелов-хранителей, участковый милиционер Коля. Я его упрекнула:
«Если уж вы входите в нашу квартиру, как к себе домой, то хоть газ выключайте перед уходом».
Коля поглядел на кипящий чайник и начал поспешно оправдываться:
«Это не мы, это эсэсовцы!»
Меня эсэсовцы после того случая в подъезде запугали настолько, что я сама начала заботиться, как бы они нас не потеряли. Где-то в разгар подготовки к международному семинару в писательской семье случилось горе – неожиданно скончался Боря Балтер. Боря был славный человек, и его все любили. Заполнив два вагона электрички, московский Союз писателей в полном составе отправился на Борины похороны в Малеевку, где он жил со своей второй женой Галей. Мы тоже поехали, так как в последние годы были дружны с Борей.
Когда мы вошли в вагон, с нами вместе вошли четверо дюжих парней, явно не писательского вида, – двое стали у передней двери, двое у задней. Опытный писательский глаз опознал их сразу, и по вагону прокатился тревожный шумок: «С чего бы это? За кем?»
Но тут же головы закачались, склоняясь и расклоняясь, и прокатилась волна облегченных вздохов: «Все в порядке, это не за нами. Это за Воронелями».
Множество взглядов обратилось на нас с упреком – как будто мы напроказили в публичном месте. Наверное, они были правы – мы ведь и впрямь напроказили.
В Малеевке на станции писатели разместились в специально поданных автобусах, и мы с ними. А за автобусами покатились две серые «Волги» с четырьмя седоками каждая. После похорон к нам подошел Вася Аксенов и, чуть смущаясь, попросил:
«Братцы, сейчас Витя (фамилии не помню) везет Юру Трифонова в Москву. Может, и вы уедете с ними? А то вы со своими провожатыми нам все похороны испортили».
Возразить на это нам было нечего, и мы покинули Малеевку вместе с Трифоновым, так толком и не попрощавшись ни с Борей, ни с Галей. Проехав полдороги, я, к своему ужасу, обнаружила, что нас никто не сопровождает – наши провожатые, похоже, не заметили, как мы уехали. «Ну все, теперь они нам покажут! Они ведь не поверят, что мы не стремились от них сбежать!» – почти зарыдала я и по приезде в Москву стала искать выход из отчаянного положения, в котором мы оказались. Больше всего я боялась опять оказаться с ними с глазу на глаз в нашем темном подъезде. Не зная, что бы такое придумать, – ведь не звонить же на Лубянку с требованием вернуть нам нашу свиту! – я предложила Саше пойти в гости к Сахарову: уж там-то они нас обязательно обнаружат! И точно – когда мы поздно вечером вышли из квартиры Андрея Дмитриевича, наши ангелы-хранители были уже тут как тут. Трудно представить, какое облегчение я испытала, узнав их верные серые «Волги»!
Особенно приятно было увидеть возле парадной двери наших личных, обслуживающих нашу семью эсэсовцев, Володю и Вадю, с которыми мы к тому времени были уже хорошо знакомы – они окружили нас таким вниманием, что порой казалось, будто в их жизни нет никого кроме нас. Вот и сейчас, встревоженные нашим исчезновением, они толклись у подъезда, напоминая двух хлопотливых бабушек, радостно встречающих заблудившихся в лесу внуков.
Тем временем дата начала конференции приближалась, и круг вокруг нас смыкался все туже. И тут в Москву неожиданно и непостижимо приехала из Парижа Марья Синявская. Только тот, кто помнит семидесятые годы, может понять всю невероятность ее появления в России – их с Андреем выслали в августе 1973, а в мае 1974 ее впустили обратно, якобы для того, чтобы повидаться с мамой. До того никого никогда не впускали, а тут внезапная гуманность пронзила стальное сердце органов безопасности – им стало жалко бедную марьину маму! Ни у кого другого мам не было – ни у посаженных, ни у замученных, ни у сосланных, ни у высланных, ни у кого, только у нее, у Майи Васильевны Розановой-Кругликовой!
От нас она, правда, и не пыталась скрыть, для чего ей позволили приехать – она должна была свести Сашу Воронеля с высоким чином КГБ. Чтобы избежать обвинения в мании величия, я добавлю, что, по слухам, Саша не был ее единственным клиентом, но о других я знаю только понаслышке, а о Саше наверняка.
Психологический расчет у КГБ был простой – никаких арестов, приводов и угроз, а подготовленная Марьей дружеская встреча за чашкой чая в номере гостиницы «Советская». От Саши требовалось немногое – отказаться от руководства семинаром и лечь в больницу под предлогом инфаркта. «В противном случае…» – генерал прервал сам себя и значительно замолк.
Но не для того Саша все это затевал, чтобы так вот взять и сдаться, тем более, что с младых ногтей он терпеть не мог сдаваться. Не помогало и любезное приглашение в больницу КГБ с диагнозом «инфаркт» – от него уже было недалеко до заключения «скончался от сердечной недостаточности». Так что отказаться от предложения генерала Саше было нетрудно, хотя генерал, прощаясь, выглядел обиженным – он, можно сказать, обратился к человеку с лучшими намерениями, а тот его благородства не оценил!
После неудачной попытки вынудить Сашу к компромиссу за нас взялись вовсю – то есть, еще более вовсю, чем до того. Аресты и освобождения стали какими-то судорожными и бессистемными, как менструации в начале менопаузы: иногда целый день ничего, иногда по три раза на дню, порой всего на час-полтора. А как только отпустят, тут же посылают ему вслед машину, и не успеет Саша дойти до того места, где я его жду, его опять хватают и волокут обратно на Лубянку.
Так, однажды Саша, выйдя с Лубянки, приехал к Лине Чаплиной, где я его ждала – такой у нас был уговор: как только он исчезает, я отправляюсь к Лине или к Дифе, куда он мог бы позвонить мне сразу после освобождения. От Лины мы вышли втроем – я, Саша, и наш приятель – добровольный сотрудник журнала «Евреи в СССР», приезжавший в Москву из Владимира. По пути к остановке троллейбуса наметанный глаз нашего приятеля углядел ларек, где продавали сосиски – по килограмму в одни руки. «Сосиски!», – радостно завопил он, предвкушая восторг своего владимирского семейства при виде этого редкого лакомства, и потащил меня к ларьку, чтобы я купила для него второй килограмм.
Когда мы, прижимая к груди пакеты с драгоценными сосисками, обернулись к Саше, оставшемуся ждать нас на обочине Садового кольца, его и след простыл: как потом выяснилось, его привычным способом втолкнули в лихо подкатившую к тротуару «Волгу» и опять повезли туда, откуда только что выпустили.
Небось, кэгэбэшники пользовались услугами криминальных психологов, разработавших систему доведения объекта до нервного срыва. Похоже, их советчику-психологу так же, как и мне, посчастливилось разок наблюдать игру подлинной кошки с подлинной мышкой – у меня на глазах кошка не менее получаса забавлялась тем, что отпускала полузадушенную ею мышку, позволяла ей доползти до входа в норку, а затем одним пружинистым прыжком возвращала обратно. И начинала все сначала. Очень может быть, что измученная мышка была даже рада, когда кошка, наконец, ее сожрала.
Правда, не могу сказать этого о себе: когда в один прекрасный день, где-то числа двадцать пятого июня, отчаявшись, видно, добиться Сашиного согласия на больницу с «инфарктом», его в очередной раз арестовали и больше не отпустили, я вовсе не испытала облегчения от того, что игра в кошки-мышки закончилась. На мои настойчивые требования мне отвечали, что Саша под следствием и дальнейшая судьба его пока неизвестна. Я была уже к этому готова, так как всех Сашиных соратников арестовали еще раньше, и их женам отвечали точно так же. Самым ужасным было сознание, что судьба арестованных и впрямь неизвестна, – порой нам казалось, что она неизвестна и самим тюремщикам: они еще не решили, как им следует поступать с таким наглым и решительным неповиновением.
Лишенные привычного удовольствия играть в кошки-мышки с Сашей бедные Володя и Вадя сперва, наверно, сильно затосковали, но через пару дней снова оживились, добившись разрешения продолжить свою любимую игру – на этот раз со мной. Играть со мной, пожалуй, было даже увлекательней – во-первых, я нервничала больше, чем Саша, во-вторых, их мальчикам в стандартных пиджаках было, я думаю, гораздо приятней хватать за голые руки, запихивать в машину и затискивать между собой меня, а не мускулистого волосатого мужика.
Кампанию против меня начал наш придворный милиционер Коля – он, как всегда, явился без предупреждения, вперся в квартиру в сапогах и приступил к дружеской беседе:
«Вот вы, Нинель Абрамовна, – произнес он почти с нежностью, пожирая меня любящими глазами кошки, зажавшей в когтях мышку, – женщина молодая, а возвращаетесь по вечерам поздно и входите в подъезд без провожатых. А вдруг вас поджидает в парадном какой-нибудь хулиган, который что угодно может с вами сделать? И мужа вашего дома как раз нет, чтобы вас защитить. Так до утра никто и не заметит, что вы домой не пришли. Разве вам не страшно?»
«Что же вы мне посоветуете, Коля? – полюбопытствовала я, неясно понимая, куда он клонит. – Может, хотите охранять меня, пока мужа нет?»
«Нет, охранять вас лично у меня нет никакой возможности, – отклонил мое предложение Коля, слегка разжимая когти, – у меня вон какой участок, почти до Серебряного Бора! А вам бы лучше у каких-нибудь друзей пожить, временно, конечно, пока Александра Владимировича дома нет».
Вот значит, чего он хочет – выставить меня из квартиры, адрес которой разрекламирован по всему миру!
«Нет уж, спасибо, я лучше дома поживу, – отклонила его предложение я и приоткрыла входную дверь, давая ему понять, что тема исчерпана. Представляете, что будет, если Александр Владимирович вернется, а меня нет?»
Коля открыл было рот, чтобы внушить мне, что большой надежды на скорое возвращение Александра Владимировича нет, но передумал и согласился выпустить меня из своей лапы. Он попрощался и затопал вниз по лестнице, зная точно, что на меня уже нацелена другая лапа, позамашистей.
Сидеть в полной неизвестности в доме без телефона было невыносимо. Я поспешно собралась и отправилась в путь – без прямой цели, просто куда-нибудь в людное место, где можно было узнать последние новости. Не успела я завернуть за угол, направляясь к метро, как на меня с протяжным воем прямо по тротуару помчалась задним ходом машина, показавшаяся мне огромной. Завывала она, наверно, чтобы распугать не меня, а затопивший улицу поток прохожих, – и сделала это успешно: люди шарахались в стороны, уступая ей дорогу. А я осталась стоять на месте, словно кролик, зачарованный удавом, не в силах оторвать взгляд от стремительно приближавшегося чудовища. Машина притормозила так близко, что крылом чуть оцарапала мне колено, дверца распахнулась, и я в мгновение ока очутилась в сером сумраке салона.
Двое молодых людей в пиджаках и галстуках сели по обе стороны от меня и стиснули меня плечами:
«Вы, кажется, боитесь, что я убегу?» – обретая речь, удивилась я.
Они не сочли нужным мне ответить, и мы молча проследовали в какую-то контору непонятного назначения, где меня поджидал мой личный эсэсовец Володя. Хоть его рыхлое, опушенное мелкими белокурыми кудряшками лицо, ничем не напоминало твердое, хоть и простоватое, обличье участкового Коли, он смотрел на меня точно так же – взглядом кошки, любящей свою мышку. Его речь свелась к тому же требованию, что и Колина, только высказанному однозначно и без обиняков, – чтобы я не смела возвращаться к себе домой, а не то мне будет хуже. Потом он вышел и оставил меня в одиночестве. В комнату время от времени входили какие-то люди, оглядывали меня с ног до головы и снова уходили. Никто и не думал объяснять мне, зачем я там сижу и чего жду.
Через пару часов меня все же отпустили, хотя никто не позаботился даже сказать мне, куда меня завезли. Не желая больше иметь с ними дела, я выяснила у прохожих, как проехать к ближайшему метро, и двинулась в путь, сама не зная, куда. Уже вечерело. Я еще не оправилась от шока, в голове у меня гудело и качалось, а нужно было решать, куда бы податься ночевать.
Положение у меня было странное – домой я вернуться не могла, к друзьям ехать не хотела, опасаясь бросить на них зловещую тень, к «соратникам по оружию» – сердце не лежало, так как всех приличных людей уже неделю, как арестовали. Вначале я оказалась на незнакомой станции метро и из-за своего шокового состояния слегка сбилась с пути. И тут мне показалось, что за мной следят – при каждом моем ошибочном маневре какие-то люди спешили повторить мои ошибки. Тогда, чтобы проверить свои подозрения, я решила выйти из метро на станции «Охотный ряд» и пойти в ЦДЛ пешком по улице Герцена, время от времени садясь в троллейбус и тут же из него выходя. В ЦДЛ я могла встретить знакомых и, не подвергая их особой опасности, перекинуться с ними парой слов. А главное, там в углу под лестницей стояла тумбочка с безликим телефоном, из которого я могла бы позвонить своим приятелям, корреспондентам иностранных агентств новостей.
Не прошла я и двух кварталов, подкрепленных одним пролетом троллейбусного маршрута, как мои подозрения превратились в абсолютную уверенность. За мною шли, причем не вдвоем, не втроем и даже не вчетвером. Мне стало страшно – чего им от меня нужно? Дождаться, пока я войду в какой-нибудь подъезд, и там переломать мне руки-ноги, пользуясь тем, что искать меня некому? Идти дальше пешком уже не было смысла, и, не оглядываясь на своих преследователей, я вскочила в первый же подъехавший троллейбус.
Почти бегом дойдя до ЦДЛ, я лихорадочно предъявила привратнику красную книжечку Литфонда и с облегчением вскочила в прохладный вестибюль, наивно надеясь, что моих провожатых туда не впустят. Как бы не так – у них были свои книжечки, почище моей! Я прошла в ресторан, подсела к двум симпатизирующим мне секретаршам и заказала чашечку кофе. Мои «мальчики» вошли вслед за мной, сели за соседний столик и тоже заказали кофе – я взглядом указала на них своим приятельницам. Пока я дрожащей рукой размешивала сахар в чашке, одна из секретарш успела шепнуть мне, что из подвального коридора, ведущего к уборным, есть выход в кухню, а из кухни можно через черный ход выскользнуть во двор.
Я, изображая спокойствие («Спокойствие – это суп в тарелке, главное – его не расплескать», писал в молодости Генка Айги), допила кофе, стараясь не расплескать его по дрожащей дороге ко рту. А потом – из ресторана в вестибюль, двое из «мальчиков» за мной. Я, не останавливаясь, – вниз по лестнице, «мальчики» за мной», я – в женский туалет, они, секунду потоптавшись в коридоре, – в мужской, тоже ведь люди, хоть и при исполнении служебных обязанностей.
Теперь главное было – удрать до того, как они закончат свои процедуры в мужском туалете. Им спешить было, вроде, некуда: у них в вестибюле ведь остался третий, а, может, и четвертый, да и на улице Герцена еще сколько-то – фирма, если нужно, не останавливается перед расходами. А про секретный проход из коридора в кухню им никто не успел сообщить. Так что я, опередив их, юркнула в кухонную дверь, нагло прошла сперва сквозь строй шипящих сковородок и поваров в белых колпаках, потом сквозь строй мусорных бачков и оказалась во дворе. Слева от меня была редакция журнала «Дружба народов», справа – редакция журнала «Юность», а прямо по курсу – путь к свободе через ворота на улицу Воровского.
Там я быстро схватила такси и поехала к Лине Чаплиной в надежде, что за ее домом не следят, когда меня там нет. Лина вызвала по телефону Саню Даниэля, который отвез к Андрею Дмитриевичу Сахарову мое подробное письмо о происшедшем. Андрей Дмитриевич немедленно передал мое сообщение в иностранную прессу, и оно тут же было подхвачено всеми средствами массовой информации – в то время еврейская борьба за выезд из СССР была любимой темой либерального общества.
А я отправилась ночевать к Юлику Даниэлю, справедливо полагая, что вряд ли меня будут искать в его поднадзорной квартире. Возможно, все бы окончилось моей небывалой победой над всевидящим оком «Империи зла», но меня, как и многих, подвела неуемная жажда узнать последние новости. Наутро, выпив с Юликом чаю, я дошла до метро «Сокол» и позвонила из телефона-автомата нашему «связному», единственному из оставшихся на свободе соратников, у которого был телефон.
Услыхав мой голос, он страшно обрадовался: «А то все волнуются, куда ты пропала!» Не вдумываясь, откуда эти таинственные «все» успели узнать, что я пропала, я спросила, нет ли новостей от арестованных. На что он, почему-то понижая голос, сказал, что новости есть, но не для телефонного разговора. И начал настаивать на встрече – он прямо умирал от желания со мной повидаться, причем немедленно. Я всячески старалась свидания с ним избежать, но он был неумолим, намекая, что от нашей встречи как-то зависит Сашина судьба. Так что я, в конце концов, вынуждена была согласиться и поехала в центральную аптеку на улице Горького.
Дело, ради которого он меня вызвал из моего блаженного «небытия», оказалось абсолютно пустяковым, но главной цели он достиг – выйдя из аптеки, я обнаружила, что мои верные мальчики опять со мной, только число их резко увеличилось. Я опять протащила их по улице Герцена в ЦДЛ, но моя попытка повторить вчерашний трюк не удалась – когда я отправилась в туалет, они заняли прочные позиции во всех возможных точках коридора и лестницы.
Признав свою неудачу, я вышла на улицу, пересекла Садовое кольцо и побрела по Краснопресненскому валу сама не зная, куда. Я страшно устала, ноги у меня подкашивались, и я чувствовала себя затравленным зверем, обложенным со всех сторон. Загонщики окружили меня плотным кольцом, но почему-то не спешили схватить меня и затолкать в машину, которая мирно следовала за нами, пренебрегая правилами уличного движения.
Вообще-то идти мне было некуда, и никто нигде меня не ждал, так что если они собирались меня арестовать, то им было в самый раз уже это сделать. Но они не спешили. А я не то, чтобы не хотела сдаваться, – нет, я уже готова была сдаться, но меня никто не брал: похоже, они пока не завершили игру в кошки-мышки, а как будто чего-то еще от меня ожидали. А, скорей всего, просто мстили мне за вчерашнее бегство – им, небось, здорово за это нагорело! Не зная, куда себя девать, я вошла в троллейбус, отметила, что двое из них зашли за мной, проехала одну остановку, выпрыгнула почти на ходу и заскочила в первый попавшийся магазинчик, который оказался шляпным. Делать было нечего – я стала мерить шляпы и, чуть не сведя продавщицу с ума, провела за этим занятием около двух часов. Странно, но за все это время в магазин не вошла ни одна покупательница – неужели они никого не впускали? Сначала я перемерила все зимние шляпы, потом занялась примеркой летних, – я даже не представляла, что их может быть так много! Когда запас летних шляп – тюлевых, кружевных и соломенных – подходил к концу, дверь распахнулась, и с улицы вбежал один из мальчиков, блондин в зеленом пиджаке, которого я хорошо помнила. При виде моей принарядившейся персоны – в кокетливой соломенной шляпке, украшенной тремя шелковыми розочками, – он расплылся в такой лучезарной улыбке, будто неожиданно встретил потерянную возлюбленную. Я представила себе, как они там переволновались, воображая, что я опять сбежала через какой-нибудь секретный подземный ход, и решила не торопиться.
«Я покупаю эту шляпку», – утешила я встревоженную моим чрезмерным шляпным усердием продавщицу и начала долго-долго рыться в сумочке, якобы в поисках денег. Потом я попросила упаковать шляпку в круглую картонку, чтобы она не помялась. Пока продавщица заворачивала шляпку в папиросную бумагу и завязывала шляпную картонку, блондин в зеленом пиджаке столбом стоял в дверях, всем своим видом показывая, что больше не намерен оставлять меня одну. Получив, наконец, совершенно ненужную мне шляпку, я вышла из магазина и двинулась дальше по улице, увлекая за собой небольшую свиту поклонников.
Когда я добралась до перекрестка, они начали оттеснять меня с многолюдного Краснопресненского вала за угол, в пустынный переулок, где уже поджидала знакомая мне «Волга». Дверца распахнулась, сильные руки толкнули меня в спину, и я оказалась лицом к лицу с Вадей, вторым моим ангелом-хранителем от Эс-Эс. В принятой между нами игре Ваде была отведена роль «доброго следователя», тогда как Володе было поручено исполнять обязанности «злого». Я даже написала о Ваде стихотворение, начинавшееся словами: «Мой ангел-хранитель всегда при параде, – газетка и галстук, безлик и бескрыл…», дальше не помню. Когда он нашел это стихотворение при обыске, он пришел в неописуемый восторг и упросил меня подарить ему копию с автографом. Интересно, что он с ним сделал?
Длинное аристократическое лицо Вади лучилось приветливой улыбкой – можно было подумать, что он безмерно рад встрече со мной. Впрочем, может, так оно и было – ведь вчера я испортила ему удовольствие от предвкушаемой встречи, вот сегодня он и брал реванш. В ходе короткой «дружеской» беседы он поставил все точки над «и»: в тюрьму меня не посадят – благодаря его личному заступничеству, конечно, но он за меня поручился, так что я должна вести себя правильно, чтобы его не подвести. Домой возвращаться мне не стоит, все равно меня туда не пустят, и потому он намерен отвезти меня к моей подруге Дифе, чтобы я пожила у нее недельку.
«А вдруг она меня не примет?» – поинтересовалась я.
«Ну, Нинель Абрамовна, зачем вы так? – почти любовно промурлыкал Вадя. – Вы прекрасно знаете, что она будет вам только рада».
А машина уже ехала к Малой Грузинской, до которой было рукой подать. Меня выпустили у Дифиного подъезда, строго-настрого приказав из дому не выходить, пока они не разрешат. Дифы дома не было, но у меня был ключ от ее квартиры. Я вошла и рухнула на диван – что мне было делать? Как поступать? Посоветоваться было не с кем – Саша сидел в тюрьме, друзья-соратники тоже, друзей-не-соратников осталось не так уж много: Лина Чаплина да Бен и Слава Сарновы, которые жили на даче, и до них было не добраться.
Однако оказалось, что они пытались добраться до меня, – я привожу здесь дневниковую запись Славы Сарновой (Еремко) которую она мне любезно подарила (Шурик – это Саша, а Нэлка – это я):
«Где-то в двадцатых числах июня «Спидола» Бена сообщила по «Голосу Америки», что в Москве арестован профессор Александр Воронель. Профессор Александр Воронель – Шурик – и его жена Нэлка – наши друзья.
Мы не очень удивились сообщению, что Шурик арестован. И все же сообщение внесло в нашу жизнь ноту грусти. Шурик арестован, а как Неля?
И вот мы с Беном в один из наших «продуктовых» приездов в Москву решили навестить Нэлку и хотя бы посочувствовать ей. Мы взяли такси, и подъехав к дому Воронелей, решили, что я выскочу из машины и посмотрю, дома ли Неля. Я, игнорируя лифт, вбежала на 3-й этаж и быстро-быстро начала нажимать кнопку звонка. Не успел отзвенеть мой третий звонок, как я увидела человека средних лет, среднего роста, средней наружности, спускавшегося ко мне с верхнего пролета лестницы.
– Я из органов милиции, пройдемте со мной.
– Пожалуйста, – ответила я и почувствовала, что мое горло изнутри сдавили бельевой прищепкой или зажимом для брюк, которым пользуются велосипедисты.
Внешне абсолютно спокойно я спустилась за этим человеком и пошла через двор к улице. Не успели мы пройти и десяти шагов, как я ощутила себя центром окружности. Со всех сторон, по радиусам прямо на меня шли молодые люди. Один из них, подошел ко мне совсем близко, и заглянув в глаза, ласково сказал:
– Пройдемте…
Ни слова ни говоря, я быстро зашагала рядом с ним, сопровождаемая сзади шестью молодчиками. Мы вышли на зеленую, совсем не знакомую мне улицу и молча стали под дерево. Накрапывал дождь. Я поняла, что мы ждем машину, и минут через 20 увидела «Волгу», которая развернулась не по правилам и подъехала к нам. В моем сознании как-то мимолетно отпечатались силуэты людей на заднем сиденье и выставленная труба – очевидно, киноаппарата. Эта труба напомнила мне брелок, подаренный Володей К. Брелок привезли откуда-то с Востока. Маленький кривоногий человечек выставил вперед свой непропорционально огромный мужской член. У него даже ноги искривились, так ему тяжело держать этот член вытянутым.
Передняя дверца распахнулась и из машины выпрыгнул человек, как две капли воды похожий на того, кто стоял рядом со мной. Я сама пошла к машине и села на место рядом шофером. Кто-то за моей спиной произнес:
– В ближайшее…
Машина въезжает прямо на тротуар. Сзади хлопает дверца, и я вижу: по лестнице в милицию бежит человек в среднем костюме, средних лет, средней наружности. Я выхожу из машины и бегу за этим человеком. В коридорчике я останавливаюсь и вдруг обнаруживаю, что я окружена стеной штатских. Через минуту из штатских выделился молодой человек в туго обтягивающих бедра брюках, в цветной рубашке с огромным цветным галстуком.
– Пройдемте со мной…
Человек в цветной рубахе вежливо предложил мне стул:
– Ваши документы.
Потом сказал в телефонную трубку «Операция Тбилиси-103» и вышел, но ненадолго. Возвратившись, он сказал:
– Так вот, вы свободны. Хозяев квартиры нет и ходить туда не надо.
И тут меня прорвало:
– Я могу задать вам вопрос?! Где Нелка?! Мы слышали по радио, что Шурик арестован. Мы специально приехали с дачи, чтобы узнать, как он. Что с Нелей? Она тоже арестована?
Парень в цветной рубахе немножко попятился и повторил:
– Не ищите их и не ходите больше в их квартиру.
Естественно, что после описанного события мы уже не поехали на дачу, а на следующее утро, как это ни странно, я получила ответ на свой вопрос. Довольно рано нас разбудил телефонный звонок.
– Привет, это Юз Алешковский. Ты не знаешь, где Нэлка?..
– Ты понимаешь, я думаю, что она… В общем, там же, где и Шурик…
– Замели, значит, б. ди. Понимаешь, я никак не могу к ней дозвониться.
– А куда ты ей звонишь? У них же нет телефона?
– Я звонил Дифе.
– А у тебя есть Дифин телефон? Кстати, ты нас застал совершенно случайно. Мы ведь летом в городе не живем.
Минут через сорок в нашей квартире раздался второй неожиданный звонок.
– Алло, Бен? Это Неля. Вам, наверное, интересно знать, что с нами?
– Неля? Вы даже не представляете себе, до какой степени интересно. Мы были вчера у вас дома… Где вы?
– Бен, я у Дифы. Я не могу отсюда никуда выйти, но вы ко мне прийти можете. Только здесь возле дома в кустах стоит рояль…
– Неля, вам целое утро не мог дозвониться Юзик…
– Юзик?! Как вы понимаете, я никуда не выходила и никто мне не звонил».
Я не спросила у Славы, как Юзик догадался, что они не ночевали на даче. Я даже не спросила, откуда он знал Дифу и ее телефон, я только спросила, откуда он узнал, что я у Дифы.
«Я тоже его об этом спросила, – ответила она. – И он объяснил, что пару дней назад ты ему позвонила, рассказала про топтунов, которые не дают тебе прохода, и попросила проводить тебя к Дифе. Что он и сделал, как истинный джентльмен».
Я была так потрясена рассказом Славы о Юзике, который якобы по моей просьбе провожал меня к Дифе, что даже не зарегистрировала в своем сознании романтическое название операции по осаде нашей квартиры превосходящими силами КГБ. А ведь звучит красиво – «Тбилиси-103»! Почему 103, понятно – это номер квартиры, а вот почему Тбилиси, так и осталось загадкой.
Что до Юзика, то, видит Бог, никакого Юзика вокруг меня в тот ужасный день не было. Разве только если предположить, что он прикинулся эсэсовцем Вадей, но тогда ему пришлось нелегко, учитывая его округло-семитский облик супротив подчеркнуто арийских черт Вади, его длинных пальцев и прямых волос цвета созревшей пшеницы.
С тех пор я Юзика не встречала до самого 1981 года, когда Володя Максимов пригласил меня, как представительницу журнала «22», в Милан на шикарную тусовку, проходившую в старинном замке под шикарным титлом «Континент культуры». Не помню точно, как обстояло дело с культурой, но пили там здорово. Это было несмолкающее трехдневное застолье, где встретились старые друзья, разбросанные судьбой по разным странам и по разным континентам, причем не всегда по континентам культуры.
И только Юзик Алешковский выпал из этого общего веселья – при виде меня он круто развернулся, ринулся в свою комнату в мезонине и заперся там на все три дня. Я представляю себе, как жестоко он страдал при воспоминании о той неблаговидной роли, которую сыграл в критический час операции «Тбилиси-103», частично посвященной охоте на меня. Однако вместо того, чтобы покаяться и получить мое прощение, он предпочел три дня пить в одиночестве, терзаясь муками совести и страхом разоблачения. А жаль! Ведь это не он сообщил им, что я у Дифы, это они послали его сообщить об этом Сарновым. Не такой уж это грех – чего было так меня бояться? Разве что этот грех у него был не единственный!
Но все это я думаю сейчас, а тогда мне было не до того – очень уж неуютно было целую неделю безвылазно сидеть в чужой квартире под неусыпным надзором восьми добрых молодцев, обреченных на томительные часы в тесном пространстве двух машин. Сторожили они меня в три смены, так что за сутки я обеспечивала рабочие места большой оперативной группе из 24 человек, не говоря уже об администраторах, телефонистках и всяких других чиновниках. В конце концов, соседи подали в домком жалобу, что возле дома уже несколько дней толкутся неизвестные, которые за это время загадили все кусты. А куда им, беднягам, было податься со своими естественными нуждами? Мне-то было гораздо лучше, меня заточили в благоустроенной квартире, – впрочем, нечего их жалеть: они за свои лишения в отличие от меня получали зарплату.
3 июля, в день официального открытия международной конференции, я услышала по БиБиСи, что в квартире проф. Воронеля произошло ограбление со взломом и потому туда не впускают прибывших на конференцию зарубежных ученых. Я тут же нашла в телефонной книге номер коммутатора КГБ, набрала его и сказала дежурному:
«Моя фамилия – Воронель».
«А-а!» – радостно отозвался дежурный.
«Немедленно дайте мне того, кто нами занимается!»
И мне без промедления дали моего ангела-хранителя Володю, который в ответ на мои возмущенные упреки по поводу ограбления со взломом пропел утешительно и даже ласково: «Ну что же это вы, Нинель Абрамовна, совсем нам не доверяете? Если мы в ваше отсутствие охраняем вашу квартиру, неужели с нею что-нибудь может случиться? И вообще, зачем вам слушать вражеские голоса?»
А затем, что в те дни «вражеские голоса» давали мне самую подробную информацию о происходящем на моей лестничной площадке. Слушая их, мы с Дифой постепенно привыкли к мысли, что о моих и Сашиных бедах знает весь мир. Но через три дня после моего насильственного приземления в Дифиной квартире она полетела в командировку в Душанбе. Взойдя по трапу в самолет, в котором было еще триста пассажиров, она почувствовала себя марсианкой, внезапно осознав, что ни один из них даже не подозревает, в каком мире она прожила последние три дня.
После отъезда Дифы ее сменила Лина Чаплина, она поселилась со мной, чтобы я не оставалась наедине с охраняющими меня молодчиками, – черт их знает, что им может прийти в голову среди ночи? Лина тогда работала на телевидении, и потому ее каждый день сопровождала на работу одна из двух моих личных сторожевых машин. То есть она ехала в троллейбусе, а машина неспешно следовала рядом. У входа на телевидение она предъявляла свой пропуск, а один из «мальчиков» свое удостоверение, и они дружно слаженной парой шагали по коридору к Лининому рабочему месту.
Когда Сашу, наконец, выпустили из Серпуховской тюрьмы, где он провел две недели без суда и приговора, мы нашли свою квартиру в целости и сохранности. Хоть воспринималась она нами, как любимая жена после изнасилования в подъезде, надо признать, что Володя и Вадя сдержали слово – они не впустили туда никого, кто приходил к нам за это время, они арестовывали всех еще на подходе.
А народу за эти дни приходило видимо-невидимо! И русского, и еврейского, и иноземного – на любой вкус. Впрочем, вряд ли на Володин и Вадин. Хотя кто их знает? И у них бывали свои причуды. Как-то во время обыска Вадя нашел у меня на книжной полке журнал «Ньюзвик» со зловредной карикатурой: Андрей Синявский в профиль с широко разинутым ртом, в который глубоко забиты серп и молот. И что бы вы подумали, он с этим журналом сделал, – подшил к делу? Как бы не так! Он заговорщически подмигнул мне и ловким движением всунул его обратно, в просвет между двумя классическими романами, между которыми он стоял до обыска. А, может, это был очередной спектакль для завоевания моего доверия – ведь он, небось, точно знал, где этот злопыхательский журнальчик искать, так как, хозяйничая в моей квартире всю неделю, что меня держали у Дифы, нашел его задолго до обыска.
Саша вернулся домой бледный, но почти спокойный – в тюрьме с ними обращались неплохо. Немного, конечно, помучили, не сообщая, за что задержали и насколько, но в конце концов сознались, что на пятнадцать… Тут было намеренно сделана пауза, так что последующее «суток», а не «лет» были встречены всеобщим вздохом облегчения.
Какой-то озорник из боевой группы демонстрантов попробовал нарушить тюремные правила, отказавшись в шесть утра прикрутить нары к стене и пересесть на стул. На грозный крик тюремщика «Не положено!», он ответил «Евреям можно!» Никогда раньше не встречавший возражений тюремщик отправился к начальству за разъяснениями и больше выполнения правил не требовал – похоже, начальство тоже не получило указаний, можно ли применять силу к евреям. К обеду все уже об этом знали, и в Серпуховской тюрьме на две недели воцарился новый, «еврейский», порядок.
Первые несколько дней после несостоявшегося семинара мы прожили почти спокойно – наново привыкали к распорядку дня, к стенам собственного дома, которые помогают, и к растущему с каждым днем потоку посетителей, который сводил на нет всю помощь стен. Мы настолько пришли в себя, что даже принялись за подготовку следующего номера журнала.
Но длилось это спокойствие недолго – через шесть дней после выхода Саши из тюрьмы к нам явились с обыском. Накануне обыска нас посетил уже упомянутый мною ленинградский писатель Володя Марамзин, который принес нам для передачи за рубеж написанный им манифест в защиту советских писателей от притеснения властей. На его глазах мы спрятали листочки манифеста в ящик с постельным бельем, глубоко зарыв его среди простыней и наволочек.
Каково же было наше удивление, когда наш эсэсовец Вадя прямо от двери без задержки направился к комоду, открыл ящик с постельным бельем и, сунув руку под простыни и наволочки, торжественно вытащил оттуда манифест Марамзина. Бросив мимолетный взгляд на его заголовок, он протянул зловеще: «Так, дожили – вы уже прячете у себя антисоветскую литературу!» и велел включить его первым пунктом в протокол обыска. С тех пор все, не прекращавшиеся до самого нашего отъезда преследования, обыски и погони адресовали нас к делу Марамзина.
Суд над Марамзиным и его подельниками, повинными в подготовке к печати сборника поэзии Иосифа Бродского, состоялся уже после нашего отъезда в январе 1975 года. На этом суде Володя Марамзин впервые назвал журнал «Евреи в СССР» антисоветским, в награду за что был осужден условно и отправлен в ссылку в Париж. Из всей его братии в тюрьму сел только наш бедный друг Миша Хейфец, роль которого в подготовке сборника Бродского была самой скромной.
Должна признаться, что присутствовать при обыске собственной квартиры – крайне противно: нельзя избавиться от ощущения, будто за тобой подглядывают в самые интимные моменты. К тому, что они в самые интимные моменты подслушивают, я уже как бы притерпелась, но развороченная постель и вывернутые наизнанку ящики с бельем вызывают в душе непреодолимое желание сблевать.
Деваться некуда, ведь выйти из дому до конца обыска они не дают, захватывая в свои сети даже случайно зашедших на огонек приятелей. Постепенно у нас на кухне скопился народ, испуганный и жаждущий чаю, кофе и утешения. Длилось это удовольствие почти сутки, но где-то на рассвете, начитавшись наших личных писем – якобы для того, чтобы не упустить крамолу, – незваные гости убрались восвояси, унося с собой два больших холщовых мешка с материалами журнала и черновиками моих пьес. Заодно они прихватили с собой единственный экземпляр статьи Вени Ерофеева «Василий Розанов глазами эксцентрика», которую я долго потом оплакивала, думая, что она исчезла навсегда. Однако через много лет статья возникла из небытия – возможно, не без помощи Вади или кого-то другого из его коллег.
После их ухода нужно было еще смотаться на переговорный пункт, чтобы сообщить корреспондентам об обыске, – таковы были правила игры. Чуть-чуть подремав, мы выползли наутро из своей многократно поруганной квартиры, даже не мечтая об осуществлении принципа «Мой дом – моя крепость», – мы отлично усвоили, что нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики. Мы отправились к синагоге на улице Архипова, где по утрам можно было встретить «своих». На этот раз «свои» встретили нас настороженно.
«Почему это у вас был обыск?» – ревниво спросил лидер демонстрантов Александр Лунц, давая нам понять, что мы самозванно вторглись в его владения. Как ни странно, его ревнивый вопрос был тогда крайне уместен: обостренное чутье истинного лидера подсказало ему, что фокус общественного внимания начал смещаться с его группы на группу Воронеля.
Раньше почти все тумаки и шишки, так же как и соответствующие пироги и пышки, доставались шумной компании лихих демонстрантов – они охотно давали хватать себя на площадях и запихивать в «воронки», чтобы потом услышать описание своих подвигов по всем «вражеским голосам». Это делалось не из простого тщеславия – считалось, что советские власти постараются поскорей избавиться от тех, о ком много говорят «голоса». Опыт показал, что расчет этот, в принципе, был правильный, – оставалось только выбрать, каким способом лучше привлечь внимание властей и иностранной прессы.
По этому поводу между лидерами двух групп, Александром Лунцем и Александром Воронелем, были существенные разногласия, обусловленные типом личности каждого из них. Лунц был настроен на политику «Штурм унд дранг», как того требовал его темперамент и темперамент его последователей. В отличие от него Саша Воронель не согласен был погубить свои лучшие творческие годы на «перебежки и перестрелки», – он хотел, чтобы даже его вынужденная деятельность могла оставить интеллектуальный след. И потому он выбрал «мины замедленного действия» – самиздатский журнал и неофициальный научный семинар.
Теперь, через четверть века, о героической борьбе демонстрантов помнят только те их близкие, которые еще живы, и, я подозреваю, даже эта хрупкая память исчезнет вместе с ними. А двадцать сборников «Евреи в СССР», изданные за три года Сашей, а потом его преемниками после его отъезда, украшают полки многих библиотек – как на русском языке, так и в переводах. Не говоря уже о престижном журнале «22», выросшем на останках этого собрания материалов.
Но это видно сейчас, в исторической перспективе, а в 1974 году, когда еще было неясно, к чему приведет разрастающееся «еврейское движение» – к выезду на Запад, или к коллективной высылке на Восток, речь шла о вещах практических: какой лапой бить?
Поначалу лапа, которой «бил» Саша Лунц, выглядела более впечатляющей: советская власть правильно реагировала на смелые выходки демонстрантов, а зарубежная пресса восторженно отражала и выходки, и реакцию. Однако, как известно, «приедается все», и западной публике начало приедаться однообразие черных «воронков», задним ходом наезжающих на кучку демонстрантов с плакатами «Отпусти народ мой!» Тогда аккредитованные в Москве иностранные корреспонденты приступили к поиску новых объектов, пусть не таких колоритных, зато свежих. Многолюдная возня вокруг Сашиного семинара снабдила их недостающим раньше, но обязательным для широкой публики элементом – запахом крови, и нас захороводили в бесовском карнавале: привод – пресс-конференция, обыск – пресс-конференция. В результате у меня открылась дремлющая язва желудка и воспаление легких.
Советское начальство тоже не дремало – чем острее возрастал международный интерес к Сашиной деятельности, тем больше она их раздражала. Но они еще не придумали, как его обуздать. Ведь ими еще был не полностью преодолен период первоначального шока, когда желание не портить отношения с Западом мешало применить к непослушным обычные хватательные движения. Дело Марамзина, которое было пока единственной обвинительной зацепкой, развивалось недостаточно быстро, а дерзкий Воронель торчал на экранах всего мира, как бельмо на глазу.
Как всегда, первым вестником начавшейся атаки явился участковый милиционер Коля, принесший голубую повесточку с вызовом в суд по поводу тунеядства. Срок для устройства на работу Саше был дан небольшой – три недели, но это не играло никакой роли – было издано распоряжение никуда его не принимать. Значит, через три недели его ожидал административный суд и немедленная высылка из Москвы.
Настроение было скверное, август подходил к концу, моя язва не давала покоя, и мы решили позволить себе передышку – удрать в Коктебель. Ключ от нашей квартиры вместе с полномочиями руководителя семинара был передан Виктору Браиловскому, – однако в первое же воскресенье после нашего отъезда с замком «что-то случилось», и ключ заклинило намертво. Разочарованная толпа семинаристов устроила птичий базар под нашей дверью, но тут как раз случайно мимо проходил участковый Коля, который сурово потребовал, чтобы Браиловский предъявил доверенность на вход в квартиру уважаемого профессора. О том, что профессора, несмотря на уважение, собираются судить за тунеядство, Коля и словом не обмолвился.
Жизнь наша в Коктебеле протекала дивно – погода стояла прекрасная, и мы валялись на пляже в обществе двух дружеских писательских пар – Славы и Бена Сарновых и Ларисы и Володи Корниловых, а наши ангелы-хранители прели в полной выкладке в припаркованном прямо над пляжем джипе. Но вечного счастья не бывает, и очень быстро подошло время ехать обратно. Лазутчики-доброхоты сообщили из Москвы, что у нас в почтовом ящике лежит вторая повестка с назначенной датой суда. Нужно было принимать меры.
Мы разработали смешной по примитивности план – купили билеты до Москвы в одном купе с Сарновыми и с удовольствием проследили, как наши провожатые загрузились в тот же вагон, уверенные в том, что советский человек не бросается билетами, приобретенными на свои кровные. Они не учли, что Саша уже перестал быть советским человеком: осторожно выскользнув из купе в пять часов утра, он соскочил с поезда в Харькове, городе нашей юности, и исчез, растворился в воздухе. Представляю, как они взвыли, обнаружив, что в Москве на платформу Курского вокзала вышла я одна в сопровождении Сарновых!
Втроем мы взяли такси, которое, выпустив Сарновых возле их дома на Аэропортовской, помчало меня дальше, за Сокол, на улицу Народного Ополчения. Я немного нервничала, вспоминая эпизод с ключом Браиловского, но все обошлось благополучно – мой ключ, как видно, был заколдованный, он открыл дверь квартиры 103 без запинки.
Напрасно я радовалась: едва замок защелкнулся изнутри, как раздался настойчивый звонок – мой друг, участковый Коля, был уже тут как тут.
«А где Александр Владимирович? – сияя улыбкой, полной радости встречи, спросил он. – Я тут ему повесточку принес!»
Голос его звучал так празднично, будто для нас с Александром Владимировичем не было лучшего подарка, чем его повесточка.
«Александра Владимировича нет, – разочаровала его я, отвергая столь щедро предложенный подарок. – Он в Крыму остался».
А про себя добавила злорадно: «Накося-выкуси!»
Неподготовленный Коля выкусил весьма болезненно – перегибаясь через мое плечо, чтобы заглянуть в комнату, вход в которую я загородила своим внушительным чемоданом, он запричитал неожиданно высоким дискантом:
«Как так – остался? В каком еще Крыму? Что ему там делать?»
Я глядела ему прямо в лицо чистыми глазами первой ученицы:
«А он работу там ищет – вы же сами велели».
«Какую еще работу? Мы же знаем, что он с вами вместе уехал…» – начал было Коля, но прикусил язык – сообщать об этом ему не полагалось. Чтобы замазать проговорку, он добавил неуверенно:
«Говорят, его на вокзале видели…»
«Видели, конечно, – он меня провожал, – спокойно поддержала его версию я, но все же не выдержала, поинтересовалась: – А кто его, собственно, видел?»
«Ну, люди видели», – с этими жалкими словами Коля, окончательно сбитый с толку, припустил от меня вниз по лестнице, подальше от греха.
На этот раз меня обложили по первому разряду – машин стало не две, а несчитанно, и мальчиков тоже: «они» были уверены, что Воронель прячется где-то в Москве, и надеялись, что я, в конце концов, их на него выведу. Своим постоянным кружением вокруг меня они мне ужасно мешали, ведь у меня была сверхзадача – найти для Саши работу, да еще такую, чтобы они не пронюхали о ней раньше времени и не пресекли.
Отделаться от них помог мне счастливый случай, опровергающий народную поговорку: «Нужны стране герои, да где их взять!» Как-то ранним вечером вышла я из дому, привычным взглядом проверила наличие своих хранителей в двух родных сердцу «Волгах» и взяла третью – такси, чтобы мирно поехать на урок английского языка. В какой-то момент таксист – лихой кудрявый парень – спросил меня, не кажется ли мне, что нас кто-то преследует. Мне это не казалось, я точно знала, кто меня преследует и почему, но я не стала делиться своей информацией с таксистом, а только изобразила испуг, не совсем притворный.
Он решил проверить, мерещится это ему или и впрямь преследуют, – свернул в кривые переулки возле Белорусского вокзала и принялся извиваться вместе с ними туда-сюда. Через пару минут у него уже не осталось сомнений – «моя» «Волга» с четырьмя седоками мужского пола неотступно следовала за всеми нашими капризными поворотами и разворотами. Особенно зловеще выглядел ее черный силуэт на фоне закатного неба, когда на наше заднее стекло падали лучи заходящего солнца. И таксист меня пожалел: «Номера у них частные, не правительственные, – отметил он задумчиво. – Вы что, деньги им должны?»
Не успела я сообразить, что мне выгодней – подтвердить эту версию или опровергнуть, – мой лихой таксист загорелся новой идеей.
«Хотите, я от них удеру?» – спросил он, сияя от одной мысли о такой возможности. Небось, смертельно скучал, целый день крутя баранку на осточертевших московских улицах.
«А вы можете?» – усомнилась я.
Мои сомнения в его способностях подстегнули таксиста безмерно. Тем временем мы подъехали к Садовому кольцу, где перед нами неожиданно открылся уже отмеченный желтым светом левый поворот. В последнюю долю секунды, пока желтый свет не стал красным, мой таксист резко свернул налево. И тут же вслед за нами по кольцу покатили тяжелые грузовики, оставив мою личную «Волгу» беспомощно торчать по диагонали под самым светофором.
Мой таксист ликовал: «А вы сомневались!», я ликовала еще больше – теперь, если мне удастся надолго скрыться от своих преследователей, я смогу, наконец, добраться до академика Михаила Александровича Леонтовича, благородно обещавшего когда-то взять Сашу себе в секретари. До сих пор я все не решалась выйти с ним на связь, опасаясь, что наши переговоры пресекут самым грубым образом.
На урок я, конечно, уже не пошла, – из страха, что меня там могут засечь. Нужно было решить, где мне приземлиться на то время, что я буду договариваться с Леонтовичем и сводить с ним Сашу. Я понимала, что надо спешить – каждого из нас могли выследить в любую минуту. Но где-то мне нужно было приклонить голову. Наверняка не у друзей, наперечет известных КГБ, но и не у совсем чужих – кто из чужих стал бы рисковать ради меня и Саши?
Я решила эту задачу, воспользовавшись гостеприимством дружеской нам с молодости семьи подпольных миллионеров, описанных мною в главе «Петли судьбы». У самой Туси я ночевать не решилась, она вполне могла быть тоже на заметке у КГБ – мы с Сашей у нее бывали, пусть не часто, но регулярно. Но, видно моя добрая фея еще не окончательно меня покинула – мало того, что она подослала ко мне таксиста-лихача, она именно в этот критический момент отправила всех членов Тусиной семьи в город Н. на поиски вторично пропавших семейных ценностей, оставив в моем распоряжении отличную, совершенно чистую от слежки квартиру одного из Тусиных братьев.
Квартира эта к тому же находилась недалеко от Курчатовского института, где жил Леонтович, так что я, опасаясь ему звонить, отправилась к нему пешком. Похоже, это было моей ошибкой, потому что проходя мимо метро «Октябрьское поле» в двух шагах от своего дома, я наткнулась на Джамлета, симпатичного тбилисского физика, связанного когда-то с Сашей по работе. Увидев меня, он замахал руками и бросился мне наперерез, но я в страхе шарахнулась от него и вскочила в автобус, идущий в противоположную сторону. Из автобуса я выскочила на следующей остановке, вскочила в трамвай, идущий неведомо куда, и огляделась. Никто, вроде, не пытался за мной увязаться, но я предпочла на следующей остановке выйти из трамвая и затеряться в мелких прилегающих улочках. К Леонтовичу в тот день я уже не пошла.
С тяжелым сердцем я добрела до своего временного прибежища и загрустила. Мне не к чему было проверять, случайной или преднамеренной была моя встреча с Джамлетом, – если бы мои преследователи напали на мой след, я рисковала слишком многим. Но мне горько было оскорблять подозрением славного интеллигентного человека, широко по-грузински принимавшего нас когда-то в своем родовом замке в нескольких часах езды от Тбилиси. Я не сомневалась, что, если он и вправду поджидал меня возле метро, то делал он это не по собственной воле. И я в который раз прокляла бесчеловечную систему, сеющую рознь и страх среди своих граждан только ради собственного самосохранения.
В конце концов, я добралась до Леонтовича и получила его согласие на проведение почти незаконной операции по найму профессора с мировым именем на скромную должность секретаря. Весь наш замысел был построен на существовавшем в СССР праве каждого академика нанять себе личного секретаря, которому он мог платить из собственного кармана, причем общественный статус секретаря нигде оговорен не был. Главный фокус состоял в том, чтобы найти академика, который не побоится это сделать. У Сахарова секретарь уже был, а кроме него только Леонтович готов был отважиться на такой смелый поступок.
Получив от Леонтовича его академическое удостоверение и письмо с просьбой оформить ему секретаря, я принялась осуществлять план тайного приезда Саши в Москву, после чего он должен был немедленно отправиться в посредническую контору, имеющую право заключить контракт между академиком и его будущим секретарем. Мне удалось вызвонить Сашу в Москву, сговорившись с ним по телефону через его двоюродную сестру Ляльку, в харьковской квартире которой он пока залег на дно, готовя к выходу очередной номер «Евреев в СССР». Многократно убедившись, что за мной нет хвоста, я встретила его в заранее условленном месте, и, запасшись коробкой роскошных конфет, мы без задержки отправились оформлять его на новую работу.
Когда секретарша посреднического бюро в восторге от щедрого «подарка академика» поставила в сашином паспорте печать, подтверждающую его трудозанятость, я вдруг почувствовала, как все мое тело стало невесомым – это распался стальной обруч, стискивавший мне сердце все эти напряженные дни. Едва лишь мы весело вошли в нашу заброшенную квартиру, тут же громко затрезвонил дверной звонок.
«Коля явился», – предположила я и не ошиблась. Ума не приложу, как он сумел примчаться с такой скоростью, – все же вряд ли он все эти десять дней провел в кустах под нашей дверью.
«С приездом, Александр Владимирович! – счастливым голосом выкрикнул Коля, только что не бросаясь Саше на шею. – А я вам тут повесточку в суд принес! За тунеядство!»
«И напрасно, Коля, – ответил Александр Владимирович не менее счастливым голосом, однако желания броситься Коле на шею не проявил. – Я уже устроился на работу».
«В Крыму, что ли?» – усомнился Коля, зная наверняка, что из Крыма Саша уехал вместе со мной.
«Нет, в Москве. Хотите заглянуть в мой паспорт?»
«Не откажусь», – осклабился Коля и жадно протянул руку.
«Тогда отойдите к входной двери», – скомандовал Саша, пятясь при этом по коридору к другой двери, внутренней, подальше от Коли. Мы были наслышаны о том, как милиционеры выхватают из рук паспорта с печатями, а потом возвращают уже без них. Саша вынул из кармана паспорт, раскрыл на нужной странице и показал Коле печать с сегодняшней датой. Я на всякий случай встала между ними, чтобы Коля не мог дотянуться.
Но он и не пытался. Он, как мне кажется, вздохнул с облегчением и поспешил прочь – видать, мы здорово ему надоели со своими еврейскими штучками.
Отбившись таким образом от обвинения в тунеядстве, мы начали готовиться к долгой осаде – ясно было, что за этим обвинением последуют другие, которые будет не так легко обойти. Грозным призраком вставала над нами – на этот раз уже и надо мной, – мощная обвинительная волна под кодовым названием «Дело Марамзина». Несмотря на то, что мы не имели никакого отношения к подготовке зарубежного издания книги стихов И. Бродского, именно это дело с легкой руки Марамзина обретало все более и более реалистические очертания. Володе и Ваде каким-то непостижимым образом удалось привязать его к нашему журналу, для чего из Ленинграда к нам зачастила тамошняя неразлучная пара следователей – «добрый» майор Волошенюк и «злой» лейтенант Автух. Бог их знает, зачем они приезжали – по делам или так, погулять в столице, – но для оправдания командировочных расходов они то и дело выдергивали нас в какие-то унылые официальные комнаты с голыми стенами, где часами обсуждали с нами – по отдельности, разумеется, причем Волошенюк облюбовал меня – особенности литературного стиля Марамзина и неразумность нашего решения покинуть столь нежно любящую нас родину.
Хоть мы, не сговариваясь, заявили, что не видим ничего антисоветского в литературных изысках Марамзина, это не смягчило отношения следователей к нашему журналу – они жаждали, чтобы мы сознались в его антисоветской направленности. А так как мы упорствовали и ни за что не сознавались, им, к великому их удовольствию, приходилось все чаще наведываться в Москву за государственный счет.
Кроме этого, исключительно полезного для государства результата, настойчивость ленинградских следователей давала постоянную пищу иностранным журналистам для их корреспонденций. За последние месяцы 1974 года мы с Сашей стали центральным пунктом этих корреспонденций, частично благодаря все возрастающему интересу мировой научной общественности к Сашиному семинару, – в Америке был даже создан Комитет озабоченных ученых, целиком посвященный борьбе за вызволение ученых-отказников.
Каким-то непонятным образом я начала выступать в роли главного связного нашей группы, частично благодаря моему хорошему английскому языку, а частично потому, что непрерывные испытания неожиданно выковали во мне бесстрашие отчаяния. До моего сознания дошло, что эту пропасть не удастся перепрыгнуть в два приема – а значит, чем быстрее я буду бежать по предначертанной мне дорожке, тем больше у меня будет шансов этот единственный прыжок совершить. Конечно, всегда оставалась опасность, ломая кости, загреметь вниз, но нерешительность и осторожность не могли эту опасность устранить. И я смело, прямо на глазах своих ангелов-хранителей, звонила из автомата знакомым журналистам – чаще всего их неофициальному лидеру, корреспонденту «Нью-Йорк Таймс» Хедрику Смиту, получившему впоследствии Пулицеровскую премию за свою книгу «Русские», – и секретным кодом назначала место встречи или пресс-конференции. В те дни мне ни в чем не было отказа от иностранной прессы.
Как-то я стояла на Ленинградском проспекте, поджидая кортеж корреспондентских машин, чтобы отвезти их на место запланированной пресс-конференции, как вдруг передо мной возник бывший Сашин аспирант П-р, еврей из провинциального университета, о котором я знала только, что он из карьеристских соображений вступил в партию. Я содрогнулась – только его мне там не хватало! – и, вежливо ответив на пару вопросов, попыталась от него отделаться. Но он ни за что не желал со мной расставаться, хотя за прошедшие годы не сделал ни одной попытки навестить своего руководителя или узнать, как его дела.
Сложность моего положения состояла в том, что я не могла сдвинуться с места – свидание с журналистами было назначено именно на этом перекрестке, а напряженное движение на Ленинградском проспекте могло помешать мне перехватить их кварталом раньше. В конце концов, я не сдержалась и довольно грубо попросила П-ра оставить меня в покое и уйти. Лицо его дрогнуло, он круто развернулся и зашагал прочь.
Я и по сей день не знаю, справедливо ли я заподозрила его в сотрудничестве с КГБ, как когда-то возможно несправедливо заподозрила Ивася и Джамлета. Или кого-то одного из них. Но мы висели над пропастью на тоненькой ниточке, которую в любой миг могли перерезать, и нервы мои были напряжены до крайности – ясно было, что нам грозит опасность, только неясно было, с какой стороны ее ожидать.
Саша, несмотря на допросы и осаду, упорно продолжал работать над восьмым номером журнала. Время от времени его вызывали в КГБ, чтобы еще раз сообщить, что у него нет никакой надежды когда-нибудь получить разрешение на выезд, а у меня, значит, нет никакой надежды увидеть когда-нибудь сына. Хотя со времени непрерывного штурма КГБ на нашу жизнь я не раз возблагодарила судьбу за то, что сын уехал и не подвергается опасности быть избитым в подъезде. Но у меня в сердце зияла незаживающая рана.
Числа десятого декабря, в самый разгар работы над журналом, где-то около часу ночи раздался звонок в дверь – я помню, что я уже легла в постель, хотя еще не успела уснуть. Я, как всегда, испугалась, – опережая Сашу, я вскочила с постели, бросилась к смотровому глазку и не поверила своим глазам – за дверью стояла Дифа. Это было невероятно – она обычно ложилась рано, потому что рано утром уезжала на работу.
«Что случилось?» – спросила я дрожащим голосом, почему-то не отпирая дверь: я чувствовала, что случилось нечто непоправимое, и руки мои дрожали от страха.
«Вы получили разрешение!» – выкрикнула Дифа и заплакала.
Я не потеряла сознание, но ноги у меня подкосились, и я упала на пол. Со мной началась истерика, какой у меня не было никогда в жизни, ни до, ни после – меня корчило и трясло, а из горла вырывался какой-то нечеловеческий хрип. Странно, что я все это очень ясно помню, несмотря на то, что была совершенно не в себе. Тем временем подбежал Саша и впустил Дифу, которая продолжала плакать. Саша поднял меня с пола и начал трясти за плечи – он и сам был близок к истерике.
«Сейчас же прекратите рев!» – заорал он во всю мощь своего командирского голоса. Стены, к счастью, не упали, но Дифа замолкла и побежала на кухню за стаканом воды для меня. Пока я дробно стучала зубами о край стакана, Дифа отдышалась и рассказала, что ей позвонили в половине первого, чтобы сообщить о нашем разрешении. «Ведь у них нет телефона», – поведали они ей. Кто ей звонил, она не знала – наверняка не сотрудники ОВИРА, которые не работают по ночам.
«А вдруг это розыгрыш?» – спросила я шепотом, и все застыли.
Но это оказалось чистой правдой – нам действительно дали разрешение на выезд при условии, что мы уберемся не позже, чем через две недели. Наша выездная виза кончалась 24 декабря.
Я надеюсь, кое-кто еще помнит, что в те времена собраться за две недели и уехать навсегда было не так-то просто. Тем более что мы были совершенно не подготовлены к возможности отъезда – мы рассчитывали еще долго жить в России и бороться за выезд. Необходимо было преодолеть целую серию бюрократических процедур, получить десятки печатей и разрешений, продать квартиру, расплатиться за потерю гражданства и пройти таможенный досмотр.
Мы приложили все усилия, чтобы с этим справиться, но наши московские мучители Володя и Вадя, объединившись с ленинградцами Волошенюком и Автухом, твердо решили нам помешать. Именно в последние наши российские дни они неумеренно активизировались и вызывали нас в свое ведомство почти каждый день. Трудно себе представить, что они терзали нас из примитивного садизма. Скорей всего, наше разрешение было оформлено кем-то власть имущим против воли КГБ, и они хотели этому решению помешать. Во всяком случае, на наши возражения, что мы ведь скоро уезжаем, они загадочно улыбались и отвечали: «Кто знает, скоро ли вы уедете».
Жаловаться на них было некому и не имело смысла. Кроме них нас донимали толпы желающих с нами попрощаться – мы даже не представляли, какое количество людей, затаив дыхание, следило за нашей борьбой. Двадцать первого декабря, за три дня до предполагаемого отъезда эти два противоположно направленных вектора – сопротивления и сопереживания – пересеклись на нашей скромной кухне, превратив охоту за нами из трагедии в комедию.
В тот день в шесть часов утра нас разбудила серия настойчивых дверных звонков. «Опять их черт принес, – пробормотала я сквозь сон. – Почему они всегда приходят на рассвете?» Что это снова они, я не сомневалась, хотя, казалось, сегодня в их приходе уже вовсе не было смысла. Однако они думали иначе и продолжали трезвонить у двери, которую я отказалась открывать. В ту ночь наша квартира была полна родственников, приехавших из разных городов, чтобы устроить нам достойные проводы, – они спали на всех диванах, раскладушках и даже на одеялах, расстеленных на полу. Услышав боевой зов дверного звонка, они дружно вскочили и принялись уничтожать все, что могло быть принято за криминал. Сашина кузина помогала моему сводному брату сжигать какие-то листки в пламени газовой плиты, а один из кузенов методично рвал на мелкие кусочки и спускал в унитаз рукопись повести Марамзина «Блондин обоего цвета».
Завершить этот Сизифов труд ему не удалось – наши названные гости забыли свою прошлую деликатность и взломали дверь. В квартиру хлынул поток зимних шапок – Вадя, Володя, Волошенюк и Афтух вели за собой процессию оперативных шестерок и взъерошенных понятых, безжалостно выдернутых из теплых постелей. На лестничной площадке маячила тень участкового Коли, по-отечески наблюдающего за порядком. Оперативники разбежались по комнатам и принялись за дело. После довольно продолжительной торговли женщинам позволили одеться в ванной комнате под присмотром понятой из соседнего подъезда.
Через час вся наша семейка все же собралась на кухне и уселась пить утренний кофе, но кусок застревал в горле от пристальных взглядов приставленных к нам надзирателей. Как только мы завершили кофепитие, началось непредвиденное театральное действо, которое можно было бы назвать «Прощальный поцелуй» – к нам стали стекаться друзья, приятели и сочувствующие, желающие сказать нам последнее прости. Как известно, во время обыска никого из пришедших не выпускают из квартиры, причем каждого из них надо опросить, проверить документы и составить протокол. За первые полдня пришло человек пятнадцать, что вместе с ночевавшими у нас родственниками составило больше двадцати душ, не считая четырех следователей, двух понятых и полдюжины шестерок.
Но это были только цветочки: часам к четырем народ повалил косяком, – можно было подумать, что они сговорились. Каждые четверть часа звонил звонок и в коридор вваливалось новое лицо, требующее внимания следователей. Скоро уже негде было их сажать даже на полу, но звонок продолжал заливаться. Около шести вечера, когда число посетителей перевалило за тридцать, ко мне ворвался майор Волошенюк с перекошенным лицом и завопил: «Чего им тут надо? Нельзя их как-нибудь остановить?»
Я пожала плечами – должны же были и у меня быть какие-то радости!
«Уходите поскорей – другого способа нет», – вразумила я его, но он и сам это отлично понимал:
«Как же мы можем уйти, когда они все идут и идут? Ведь каждого надо обработать!»
Если бы мне не было дурно от табачного дыма, нервозности и многолюдья, я бы могла торжествовать по поводу свечки, которую «им» вставили мои гости. Но я слишком страстно хотела, чтобы они убрались – все, и друзья, и враги, – и оставили нас с Сашей в одиночестве. Однако на это не было ни малейшей надежды – к восьми вечера в нашей малогабаритной квартире собралось сорок два человека, не считая своих и оперативных. Волошенюк понял, что если он не остановит этот поток волевым усилием, им не удастся покинуть нашу квартиру до утра, – и дал команду сворачивать обыск. Но когда его мальчики поволокли к двери холщовые мешки с добычей, в частности, с восьмым номером журнала и с материалами для девятого, на пороге появился сорок третий гость, – я даже не помню, кто это был.
С ним уже не стали церемониться – не рискуя дождаться появления сорок четвертого, его загребли вместе с нами и повезли на Лубянку, «обрабатывая» по дороге. Он сидел ни жив, ни мертв, – он ведь зашел к нам попрощаться, не предвидя поджидающей его ловушки.
Гостя, в конце концов, отпустили, а нас поволокли на допрос. Почти теряя сознание от усталости, мы просидели со своими следователями еще несколько часов, который раз обсуждая стилистические особенности прозы Марамзина. Не сговариваясь, мы с Сашей дали абсолютно идентичные показания, и нам, наконец, позволили уйти, – я думаю потому, что следователи устали не меньше нашего. Придя домой, мы осознали, что предпоследний день наших сборов пропал и что придется отказаться от визита в Пушкинский музей и в Ленинскую библиотеку, где нужно было получать разрешение на вывоз картин и старых книг.
«Ладно, – решили мы, – если останемся живы, заведем новые картины и новые «старые» книги», и начали готовиться к прохождению грузовой таможни, назначенной на двадцать второе декабря. Грузовая таможня – это операция сложная, она требовала покупки контейнера и наема грузовика, который ввозил этот контейнер в огромное складское помещение на площади трех вокзалов, а главное – ее нужно было назначать заранее. Так как нам дали всего две недели, мы получили очередь на прохождение грузовой таможни с большим трудом и за изрядную взятку.
Однако это не помешало Володе с Вадей через час после начала досмотра ворваться на промерзший насквозь таможенный сарай в сопровождении их обычной оперативной команды и рассыпаться по всему помещению, не сводя с нас глаз влюбленных кошек. Возможно, они за эти полгода так привязались к нам с Сашей в роли мышек, что не могли на нас насмотреться, предвкушая горечь предстоящей разлуки. Или, наоборот, в надежде эту разлуку предотвратить – кто их знает. Во всяком случае, они снова пришли по наши души. При виде их небольшого отряда таможенники немедленно начали саботаж: они стали рассматривать каждую мелочь нашего багажа чуть ли не под микроскопом. Саша не выдержал и попробовал их поторопить. «Если ты хочешь, чтобы мы поторопились, убери своих дружков!» – огрызнулся главный.
Но «дружки» и не думали убираться. Полюбовавшись вялыми движениями таможенников, они приступили к любимому делу: выпустили когти, загребли каждый свою жертву – Володя Сашу, а Вадя меня, – и поволокли к выходу, прервав процесс досмотра, так как его можно было проводить лишь в присутствии подследственных. (Я сама удивляюсь собственным оговоркам – ведь я имела в виду хозяев багажа, но исправлять не хочу, для вящей достоверности.) На улице выяснилось, что они везут нас в разные места – Сашу на Лубянку для нового допроса, меня – неизвестно куда, неизвестно зачем. На прощание Вадя потребовал отдать ему наши документы и билеты, и Володины мальчики повели Сашу к поджидающей у тротуара «Волге».
«А когда он вернется?» – крикнула я вслед Володе, заталкивающего Сашу в машину.
«Если вообще вернется», – утешил он меня.
После всего происшедшего накануне у меня уже не было сил на сопротивление. Я добровольно села на заднее сиденье и впала в близкую к обмороку прострацию, так что не знаю, как долго мы ехали и куда приехали. Очнулась я у охраняемых вооруженными солдатами ворот, запирающих длинный забор, одиноко торчащий посреди пустынной промышленной зоны. Вадя показал свою книжечку, створки ворот поехали в стороны, и мы подкатили к голому кирпичному зданию, украшенному странным архитектурным излишеством – все его металлические лестницы лепились к нему снаружи, словно про них забыли при постройке и наспех пристроили потом. Что бы это могло быть? На тюрьму не похоже – слишком много окон, но не похоже и ни на что другое, виденное мною на воле.
Ноги у меня подкашивались и голова кружилась, так что при восхождении по прозрачным ступенькам Ваде пришлось поддерживать меня под локоть, тем более что вдоль верхних этажей, сдувая меня вниз, гулял пронзительный холодный ветер из соседних пустырей. В центре коридора, куда мы с Вадей вошли рука об руку, как влюбленная пара, нелепо высилась металлическая будка, дальше которой меня не впустили. Вадя уронил меня на деревянную лавку напротив будки, приказал что-то вооруженному солдату у входа и скрылся в одной из комнат.
Я закрыла глаза и откинулась на спинку скамейки – мне вдруг стало совершенно безразлично, что будет со мной дальше. Хотелось только сидеть так с закрытыми глазами и ни о чем не думать. Понятия не имею, сколько времени прошло. Потом откуда-то из небытия опять вынырнул Вадя, лицо его бледно закачалось надо мной, рот открывался и закрывался, но мой измученный мозг не зарегистрировал ни слова из того, что он сказал. Он всмотрелся в меня повнимательней, безнадежно махнул рукой и обратился к девушке, маячившей в будке за стеклом:
«Поменяйте дату отъезда с двадцать четвертого на двадцать седьмое», – и что-то мягко шлепнулось на прилавок будки. Сознание начало потихоньку возвращаться ко мне, и мне показалось, что это наши билеты.
«Значит, пока не посадят», – безразлично, словно о ком-то постороннем, промелькнула в голове догадка и тут же растворилась в мути усталости.
«А тут виза только до двадцать четвертого», – возразила девушка.
«Вот продление визы», – возразил Вадя.
«А у меня на двадцать седьмое мест нет», – возразила девушка.
«А у меня бронь», – возразил Вадя.
«Какая еще бронь?» – возразила девушка.
«Бронь КГБ», – возразил Вадя, защитник моих прав.
Тут я окончательно пришла в себя – до чего докатились, уезжаем по брони КГБ! Но, кажется, все-таки уезжаем. Или это просто очередная провокация – отложить наш отъезд на время в надежде отложить его навсегда? Я по сей день так и не поняла, какой цели служили их судорожные хватательные движения, но все же вряд ли они забавлялись с нами для удовлетворения своего эго.
Если все же именно ради удовлетворения чьего-то эго, то, скрутив нас в грузовой таможне, они почти добились своей цели и могли торжествовать победу – меня, во всяком случае, они привезли обратно в продуваемый всеми ветрами сарай в полуобморочном состоянии. Таможенники страшно сердились, но ничего нельзя было поделать, так как без Саши они не имели права продолжать досмотр. Сашу доставили обратно вскоре после меня, но нам пришлось вернуться домой ни с чем, так как рабочий день уже кончился. Зато назавтра таможенники завершили свою внеурочную работу со сверхсветовой скоростью – частично, потому что на очереди уже были другие, а частично из солидарности с жертвами Эс-Эс.
Нам с трудом удалось наверстать потерянные два дня, но мы все же ухитрились преодолеть все бюрократические препятствия и на рассвете 27 декабря прибыли в аэропорт Шереметьево, где бывали уже не раз, провожая родных и близких. Несмотря на ранний час зал ожидания аэропорта заполнила огромная толпа провожающих. Мы с Сашей, обалдевшие от хронического недосыпания последних недель, бродили, как сомнамбулы, среди протянутых к нам рук и заплаканных лиц, не чувствуя ничего – ни боли, ни радости. Наконец, по радио прозвучал неразборчивый призыв на посадку нашего рейса и мы, оторвавшись от бесконечной череды провожающих, проникли в тот мир для избранных, куда впускают только пассажиров.
Но там – о неожиданная радость! – мы увидели так примелькавшиеся за эти полгода, знакомые до слез лица Володи и Вади. А мы-то думали, что никогда их больше не увидим, но они, похоже, никак не могли с нами расстаться! А мы, к сожалению, никак не могли расстаться с ними. Они опять окружили нас и протащились за нами по всем кругам ада, по каким было положено пройти уезжающим из СССР навсегда. Они повели себя, как настоящие друзья, ни на миг не оставляя нас своим вниманием. Они следили, как мы сдавали чемоданы, они наблюдали, как сотрудница аэропорта размагнитила на специальном столе все наши кассеты с магнитофонными записями, они даже сопроводили меня обратно в зал ожидания, чтобы я отдала папе две из шести серебряных ложечек, не пропущенных за перевес при таможенном досмотре.
Когда все процедуры были завершены, другим уезжающим навсегда позволяли подняться вверх по лесенке и пройти в последний раз над головами провожающих, чтобы помахать им ручкой. Но Володя и Вадя с нами этого безобразия не допустили – наверно, боялись нас перенапрячь. Они подхватили нас под руки, – как обычно, Володя Сашу, а Вадя меня, – и в таком виде, окруженные четверкой мальчиков в галстуках, мы пустились в последний путь по советской земле. То есть, мы надеялись, что он последний, но чем дальше мы шли, тем сомнительней становился наш маршрут. В полном молчании нас провели через два безлюдных зала и вывели в темный коридор, завершающийся темной лестницей, уходящей глубоко вниз.
Прежде, чем начать спускаться по ступенькам, Саша спросил, куда они нас ведут, и получил лаконичный ответ: «Придем – увидите». Мы попытались заупрямиться, но мальчики стали так угрожающе группироваться вокруг нас, что мы предпочли последовать за Володей и Вадей. Мы долго плутали по подземному лабиринту, не решаясь разговаривать друг с другом, чтобы не выдать охвативший нас страх, – а вдруг нас просто арестовали, но так ловко, что какое-то время никто об этом не узнает? Если это правда, то можно было только восхищаться хитростью замысла – позволить нам на глазах у всей толпы провожающих выйти за дверь, ведущую в никуда, а там – цап! – и в подземелье! Сколько дней пройдет, пока нас хватятся? Если и впрямь какая-то всемогущая рука на Западе нас охраняла, нас можно было стереть в порошок, пока до нее дошла бы информация о случившемся.
Но, к счастью, этот сценарий они не осуществили – после долгих, леденящих душу блужданий нас, в конце концов, вывели из-под земли прямо к трапу самолета. Чего они хотели, зачем разыграли этот прощальный спектакль? Я могу интерпретировать их поведение только при помощи теорий Зигмунда Фрейда, так как ни одно рациональное объяснение меня не удовлетворяет. Может, они все еще продолжали мстить нам за те неприятности, которые мы им доставили своим проворством и непокорством? Или их терзала зависть, что мы уезжаем, а они остаются? Нет, это слишком примитивно – скорей всего, они наказывали нас за то, что в каких-то высших инстанциях было принято решение не калечить нас и не сажать за решетку, как им бы хотелось! И не имея власти покалечить и посадить, они проявляли власть в мелких пакостях типа той, которой завершились наши драматические отношения.
Твердой рукой подведя меня к трапу самолета, Вадя придержал меня за локоть и пропустил вперед Сашу. Проводив Сашу взглядом, он интимно склонился к моему уху и нежно прошептал:
«Ведь вы, Нинель Абрамовна, утешаете себя надеждой, что сейчас улетите и навсегда избавитесь от нас? Так я хочу предупредить вас, что руки у нас длинные – мы вас и там достанем».
Я отшатнулась и заглянула ему в лицо, маячившее прямо у меня перед глазами. До того я никогда не видела это лицо так близко от себя, – только тут я разглядела хищный оскал его длинных желтоватых зубов, нацеленных прямо на мое горло. Я вырвала свой локоть из его ладони и поспешно взбежала вверх по пустому трапу – все остальные пассажиры давно поднялись в самолет. Уже наверху, в кажущейся безопасности, я остановилась и поглядела вниз – на меня были напряженно нацелены два лица, Володино и Вадино. Это было последнее, что запечатлелось в моей памяти, – облик покинутой мною Родины.
Раздел четвертый. В Зазеркалье
Нью-Йоркская тусовка
Прощальную картину в Шереметьевском аэропорту я закрыла за собой так окончательно, как закрывают лишь крышку гроба, – поднимаясь по трапу самолета «Москва-Вена», я навеки стряхнула на головы провожающих весь прах своей прошлой жизни. Это было равносильно смерти – теперь мне предстояло выяснить, есть ли после смерти жизнь, и я сильно опасалась, что ничего там нет. К счастью, на это выяснение у меня ушло не так уж много времени.
Из всего неправдоподобного перелета «Москва-Вена» в моем сознании запечатлелся только тот восхитительный момент, когда металлический радиоголос торжественно объявил, что наш самолет пересекает государственную границу Союза Советских Социалистических Республик. Рука моя, подносившая в этот миг ко рту щедро выданный нам Аэрофлотом крошечный бутерброд с черной икрой, непроизвольно разжалась и выронила на пол лакомый кусочек, – начинала проступать надежда, что заграница и впрямь существует!
Мне смутно припоминается венский перевалочный пункт, где, по словам друзей и знакомых, мы с Сашей провели свои первые дни за пределами тогдашней Российской империи. Мне приходится верить своим друзьям на слово, так как, хоть империя к тому времени была уже обречена, мы еще об этом не подозревали, и она казалась нам вечной. И потому, вырвавшись из ее когтей, я, впавши в посттравматическую прострацию, с трудом осознавала, где я и что со мной происходит.
Я только помню, что у меня началась настоящая истерика, с рыданиями и перехватом дыхания, когда после ужина все сидевшие в столовой венской пересылки поднялись и хором запели «Атикву». Сейчас трудно сказать, с чего меня так проняло, – может, мой истрепанный арьергардными боями организм только того и ждал, чтобы ему подали повод для истерики, и, наконец, дождался. Однако катарсиса не произошло, и меня в полуобморочном состоянии погрузили в самолет компании Эль-Аль, через несколько часов приземлившийся в аэропорту Бен-Гурион.
Там нас окружила толпа встречавших, такая многолюдная, что я буквально силой вынуждена была прорываться к своим родным и близким, – к сыну, к невестке, к родителям. Но их быстро оттеснили, а нас начали передавать из рук в руки, обнимать, целовать, тискать, произносить над нами речи по-русски и на иврите и впихивать в руки цветы, от которых мы не знали, как избавиться.
Тут в моей бедной голове все смешалось окончательно, закружилось, замелькало, померкло, и я пришла в себя только на заднем сиденье чьей-то машины, мчавшей нас в неизвестность по темному шоссе. Незнакомый голос с переднего сиденья сообщил, что шоссе ведет в Иерусалим, и тут в беседу включился некто в очках, затиснутый между мной и Сашей. Был этот некто до странности похож на кого-то хорошо знакомого из прошлой жизни – я собрала в кулак последние остатки воли и из дальней кладовки памяти выудила имя, соответствующее лицу в очках. Ну, конечно же, как я сразу не узнала – это был Сима Маркиш!
Сима не стал тратить время зря: весь час пути из аэропорта до Иерусалима – тогда, в 1974, шоссе номер один еще не было построено, и дорога занимала куда больше времени, чем сегодня, – он посвятил воспитанию во мне комплекса неполноценности. «Тебе придется забыть, что ты литератор, – произнес он с доброжелательной суровостью. Здесь никому никогда не понадобится твое писательское мастерство». После чего пустился обстоятельно и красноречиво развивать этот утешительный тезис.
К счастью, мое душевное состояние сильно снизило мою восприимчивость, иначе я должна была бы безотлагательно выброситься из машины на ходу, чтобы раз и навсегда покончить со своей никому не нужной жизнью. Хоть я и поверила убедительным доводам заботливого коллеги, но сердце мое задубело и воля была парализована, так что из всего эпизода мне в основном запомнилось зловещее посверкивание очков Симы в свете фар мелькавших мимо встречных машин.
После искрометного приземления начался мучительный процесс привыкания к новой жизни. Воля моя была так ослаблена, что я никак этим процессом не управляла, а только сонно подчинялась требованиям окружающих, хоть зачастую доброжелательных, но всегда противоречивых. Я послушно шла и ехала туда, куда меня везли, – то на арабский рынок в Старом городе, то в кнессет, то во дворец президента, то на съезды каких-то неразличимых поначалу партий, однообразно жаждущих заполучить наши героические лица для своих предвыборных плакатов.
Домогательства однообразно неразличимых партий были весьма практичны, так как наши лица в те дни были народным достоянием. Помню, однажды, назавтра после очередного выступления по телевизору, я зашла на почту, где публика, опознав меня, дружно защебетала, довольная собственной прозорливостью. И только один пожилой человек не захотел присоединяться к общей радости. Нахмурив брови, он спросил:
«А с чего вдруг тебя по телевизору показывали?»
«Я недавно приехала из СССР», – охотно объяснила я, считая такой ответ исчерпывающим.
«И за это тебя показывают всей стране? – возмутился он. – А я уже тридцать лет как приехал, и меня до сих пор ни разу на телевидение не пригласили!»
В ту минуту я готова была ему позавидовать – у меня не хватало сил на это головокружительное коловращение, я способна была только притворно улыбаться и согласно кивать головой в ответ на любую фразу. Время от времени я ходила в ульпан на коллективные уроки иврита, но незнакомые слова тут же бесследно выскальзывали из моей парализованной памяти.
Что-то путное я все же делала – по заказу американского журналиста Хедрика Смита брала интервью у людей разных экзотических профессий, недавно выехавших из СССР. С Хедриком Смитом мы подружились еще в дни нашего недоброй памяти единоборства с советской самоохранительной системой – он был тогда главой московского бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» и главным связным между еврейскими активистами и западным миром. Взятые мною интервью, порой весьма драматичные, были мною же собственноручно переведены на английский язык, мелкие ошибки, по мнению Смита, только придавали им оттенок подлинности. Кое-какие реалистические детали, чистосердечно рассказанные мне впервые открывшим рот бывшим советским человеком, так меня потрясли, что я потом долго использовала их для сочинения фантастического антуража своих пьес. Хедрику Смиту многие из них тоже пришлись по душе, так что они практически без изменений – даже в языке! – вошли в его нашумевшую тогда книгу «Русские», удостоенную Пулицеровской премии.
Вдохновленная своим первым, опровергающим предостережения Маркиша литературным успехом, я совершила логически необъяснимый, но оказавшийся судьбоносным поступок: часть денег, заработанных таким образом, я истратила на перевод на английский язык своей одноактной пьесы «Первое апреля». Я не стала переводить ее сама – хоть мой английский был вполне хорош для изложения взглядов провинциальных аптекарей и мясников, для собственного творчества я сочла его недостаточным. И была права, ибо результат оказался оглушительным.
Первый же нью-йоркский режиссер, прочитавший английский перевод моей пьесы, захотел ее поставить. И у меня началась новая жизнь, причем немедленно. Театр снял мне квартиру в Гринич Вилледж, и я, с трудом врастая в новый образ преуспевшего драматурга, стала каждый день ходить на репетиции. Все это казалось мне чудом, тем более, что так оно и было.
Но моя маленькая удача ничего не значила, она только подчеркивала безнадежность нашей общей ситуации – как группа, как передовой отряд, мы были обречены. Американская культурная жизнь была абсолютно самодостаточна, и никто там не нуждался в подсказках незваных пришельцев из российской глухомани. А в том, что Россия – сплошная глухомань, не было в Америке сомнений только у тех, кто вообще не помнил о ее существовании.
Это был удар не только по нашему самолюбию, но и по нашему идеализму – нам ведь казалось, что мир только и ждет нашего появления, чтобы услышать страшную исповедь о страданиях людей, живущих по ту сторону железного занавеса. Услышать и задохнуться от горечи, от возмущения, от обиды за поруганные жизни и попранные свободы. Но миру было глубоко наплевать, а если некоторые из нас не могли с этим смириться и продолжали настаивать и требовать внимания, их обзывали параноиками.
Нам не было суждено ворваться в новую культурную среду стройной когортой носителей художественных ценностей, взращенных на ниве, засеянной Достоевским, Толстым и Мейерхольдом. Никто и не думал признавать нас их наследниками – все, что Западу было нужно, он извлек из их наследия без нашей помощи, по собственным рецептам, со своими поправками, а мы только мешали, морочили голову несущественными подробностями, мельтешили перед глазами, искажая отлично выстроенные перспективы. А главное, мы были склонны к чудовищным преувеличениям – специально для нас был даже введен в обиход поучительный термин «оверстейтмент».
Никогда не забуду тирады своего крайне доброжелательного продюсера Дэвида Конроя, почти насильно ворвавшегося в мой договор с телевидением Би-Би-Си и за большие деньги получившего там долю в коопродукции многосерийного фильма о жизни Достоевского, сценарий которого писала я. Мы шли с ним от автомобильной стоянки к зданию Би-Би-Си на обсуждение очередного варианта сценария, болтая о несущественном, и вдруг он сказал:
«Вы должны подумать о том, что у английских актеров возникнет много проблем при исполнении написанных вами диалогов. Ваши герои слишком далеки от всех правил английской театральной школы, они ведут себя так расхристанно, так безудержно, они не скупятся на жесты и истерики, – их попросту невозможно сыграть!»
«Но ведь не могу же я сделать Достоевского английским джентльменом, он тогда перестанет быть Достоевским», – взмолилась я.
«Не можете, – согласился Конрой. – И в этом ваша беда».
Этот разговор произошел через добрый десяток лет после моего нью-йоркского чуда, но он приоткрыл зияющую пропасть, которая едва ли виделась мне в те счастливые осенние дни, когда все крупнейшие газеты театральной столицы мира поместили рецензии на мой спектакль. Такое с офф-офф-бродвейскими спектаклями случалось крайне редко. Обо мне даже расщедрился написать в газете «Нью-Йорк Таймс» главный заправила тогдашним художественным мнением Америки – знаменитый Клайв Барнс. Ума не приложу, почему он был так знаменит – статьи его, на мой вкус, не отличались ни стилем, ни проницательностью, впрочем, может, именно это от них и требовалось.
О моих пьесах он написал как бы хорошо, но все же с этакой невнятной кошачьей осторожностью человека, точно знающего границы дозволенного, – а я, как видно, этих границ не знала и позволила себе. Ну зачем же так? – пожурил меня великий критик. Все, как будто, на месте – и конструкция изящна, и диалог напоминает теннисный матч, но зачем же палку-то перегибать? Зачем рисовать черной краской действительность великой страны, пусть не всегда нам близкой, но все-таки великой?
Вопрос был риторический, ответа от меня никто не требовал, но расстановку сил можно было из основополагающей статьи Барнса при желании рассмотреть. К тому времени ее уже хорошо рассмотрел прозаик Лева Наврозов, первым забивший мяч в американские ворота, – ему, единственному из нас, сразу после выезда из СССР удалось опубликовать свой роман «Воспитание Льва Наврозова» в настоящем американском издательстве.
Роман Левы был собственноручно написан им по-английски, что не удивительно – в советской жизни Лева был сказочно, по нашим представлениям, богат, зарабатывая огромные деньги переводами всей русской классики на английский язык. Поселившись в бывшем доме Леонида Утесова, Лева горделиво похвалялся перед друзьями: «Я владею самым большим количеством личных окон в Советском Союзе – их у меня двадцать девять!»
К сожалению, к моменту моего знакомства с Левой пересчитать его личные окна было уже невозможно – к тому времени он успел продать свой многооконный дом и снимал дачу у некогда прискорбно знаменитого Ореста Мальцева, автора пресловутого пасквиля «Югославская трагедия». За эту похабную книгу о «предателе» Иосифе Броз Тито, изданную многомиллионным тиражом, Мальцев получил необозримый гонорар и Сталинскую премию. Но с тех пор сильно захирел и добывал себе пропитание, сдавая людям с деньгами свою роскошную виллу в Переделкино, а в придачу также и себя в качестве дворника и шофера. Однако, оказалось, что он все еще не лишен амбиции.
Мы приехали к Леве в своем стареньком «Москвиче», в который умудрились затолкать кроме нашего сына Володи и семьи Сарновых с их Феликсом еще и сына Булата Окуджавы – Игоря. Навстречу нам из виллы выскочил восьмилетний Андрюша Наврозов, до крайности взволнованный приездом такого количества сверстников. День был дождливый, и нам пришлось долго соскребать грязь с туфель о мраморную голову Зевса, вкопанную у порога для этой цели. Пока мы оскверняли гордую голову греческого бога, Мальцев, гостеприимно стоя в дверях в качестве мажордома, услышал, как Бен Сарнов объяснял Наврозову-отцу, чей сын Игорь Окуджава.
Не зная, кто мы такие, Мальцев вообразил, что Саша и есть Окуджава, и приклеился к нему, как банный лист. Он поплелся за нами в гостиную, то ли в качестве слуги, то ли в качестве хозяина, и окружил Сашу необъяснимым поначалу вниманием – ссылаясь на промозглость за окном, заботливо усадил его поближе к огню, пылавшему в элегантном диккенсовском камине, и все пытался подлить ему в рюмку коньячку «для сугреву».
Загадка разъяснилась, когда он извлек из ящика бюро карельской березы толстую амбарную книгу, оказавшуюся гостевой, и, чуть заикаясь от смущения, попросил товарища Окуджаву сделать запись. Мнимый товарищ Окуджава и бровью не повел – он взял оставшуюся от славных времен хозяйскую вечную ручку с золотым пером, разборчиво вывел: «С кем был, куда меня закинула судьба!» и недрогнувшей рукой четко расписался: Александр Воронель. Мальцев жадно схватил книгу, с полувзгляда оценил шутку, и лицо его вытянулось – а он-то надеялся на подпись самого товарища Окуджавы!
Но история моя не о Мальцеве, и даже не о Саше, а об оставшемся в московской дали особом статусе Льва Наврозова, у которого, как говорится в анекдоте, «сам Андропов шофером служил». В Нью-Йорке мажордома у Левы не было вовсе, а шофером служила его лихая жена Муза, подрабатывая при этом гроши на радиостанции «Свобода».
Дома у писателя печальная горка книг в коричневом с позолотой твердом – хардкавер! – переплете пылилась в углу то ли Бруклинской, то ли Квинзовской, уже не помню, квартиры, а на большом столе были разложены вырезки из американских газет, этому опусу посвященные. Вырезок было много, разных форм и размеров, Лева уверял, что их больше ста, – может, и правда, я не считала. Но это нисколько не помогло продаже книги – американский читатель в упор не интересовался воспитанием Льва Наврозова.
«Издать здесь книгу, все равно, что красиво напечатать ее на машинке, – открыл мне страшную тайну Лева, – пользы никакой. Никто не хочет платить за чужие оргазмы».
Но я ему не поверила, ведь я приехала из страны, где издание книги было событием, а оргазмы у всех были если не общие, то, в крайнем случае, групповые. Однако Лева лучше меня понимал секрет американского успеха: вычислив, что скандал – двигатель торговли, он решился на большой скандал. Он опубликовал в «Комментари», солидном журнале с правым уклоном, провокационную статью под заголовком «Наивность западной интеллигенции», где поведал миру страшную историю о том, как товарищ Сталин обвел вокруг пальца Голду Меир, бывшую в ту пору послом Израиля в СССР.
Уж на что умная была женщина, а попалась на удочку коварного горца, вынудившего ее представить ему список высокопоставленных советских евреев, жаждущих уехать в свой родной Израиль. Она наивно воображала, что делает доброе дело для своей страны и своего народа. Результатом этого доброго дела стали повальные аресты еврейской интеллигенции и разрыв дипломатических отношений Советского Союза с Израилем.
Публикация статьи Наврозова в «Комментари» вызвала заметный общественный всплеск, не приведший, впрочем, к разрыву дипломатических отношений между Израилем и Соединенными Штатами, а только к грандиозному судебному иску, предъявленному дерзкому журналу. В суд на «Комментари» подала Голда, бывшая в то время премьер-министром Израиля, – за свою запятнанную честь она потребовала компенсацию в пять миллионов долларов.
Леве только того и было надо – он ринулся в бой, восторженно развернув боевые знамена в виде огромной пачки документальных доказательств, которые он умудрился каким-то образом добыть и вывезти из СССР. Копии этих документов, собственноручно переведенных им на английский язык, он с удовольствием дарил всем желающим для пропаганды своей правоты и Голдиной наивности, – в частности, он вручил их и мне, и я до сих пор храню их на дне какого-то ящика.
Я не проверяла правдивости и убедительности наврозовских документов, однако, похоже, они прошли проверку самой жизни, потому что адвокаты Голды Меир в конце концов отозвали ее иск из суда. Я же, прозревши после первых неуверенных лет знакомства с Западом, стала так часто сталкиваться с наивностью здешней интеллигенции, что перестала называть это наивностью, а перешла к другим, менее ласковым определениям.
Живя в Израиле, я пропустила несколько лет наврозовской нью-йоркской биографии и вновь столкнулась с ним, когда он открыл огонь по американскому президенту Рональду Рейгану. Тот совершил ужасный поступок, рассматриваемый Левой как предательство – он устроил в Белом Доме просмотр свежеиспеченного фильма Уоррена Битти «Красные» – фильма о русской революции, о писателе Джоне Риде (что-то такое мы о нем учили в школе?) и о десяти днях, которые потрясли мир. В статье «Красные в Белом Доме», напечатанной в «Новой газете», скорый на осуждение писатель Лев Наврозов немедленно заклеймил неосторожного президента:
«И вот накануне подавления Польши и в те дни, когда советская тайная полиция продолжает душить сопротивление в Афганистане, Рейган присоединяется к либерал-демократам и просоветской прессе в чествовании «Красных» – трех-с-половиной-часового гимна американскому коммунизму и тоталитаризму. В России я никогда не встречался с таким чистейшим, стопроцентно сахариновым панегириком просоветскому коммунизму и ленинскому тоталитарному перевороту, как «Красные».
Вряд ли кого-нибудь в двадцатых годах прошлого века потрясла книга американского журналиста Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Так бы и лежать ему всеми позабытым в кремлевской стене, если б десять дней эти не потрясли мир столь основательно и бесповоротно.
Чем же фильм Уоррена Битти так поразил Наврозова? Начнем с начала: молодой, красивый, привлекательный Уоррен Битти под именем Джон Рид приезжает в далекий город Портленд, штат Орегон, проведать своих буржуазных родителей и нарушить их сытый покой. Дамы в соблазнительных декольте и господа в ослепительных манишках ждут, что скажет им столичный гость о причинах мировых неурядиц, а гость удостаивает их лишь кратким выкриком «Прибыль!» и демонстративно покидает зал в сопровождении экстравагантной Луизы Брайнт, супруги местного зубного врача.
Истории любви Джона и Луизы и посвящен, собственно, фильм, – впрочем, можно ли назвать их отношения любовью? Это скорей бесконечный поединок, который мне как раз и представляется истинной темой фильма, его привязкой к сегодняшнему дню. Ибо, по существу, это фильм о сегодняшней американской интеллигенции, а Джон Рид – не более, чем предлог, удобный манекен, на который ловко надеваются подходящие одежды. Перед нами проходит печальная романтическая судьба глуповатого идеалиста, слепо верящего в конечную победу сил добра над силами зла. И готового ради этой победы на жертвы.
Головокружительно и беспечно катится сладкая жизнь интеллектуальной богемы Гринич Виллидж: там все время танцуют, пьют, целуются, но не бездуховно и бесцельно, как делает это «золотая молодежь», а возвышенно и ради блага угнетенных. Потому что все участники пьянок и танцулек не забывают о своем мазохистском долге перед «простым человеком» из рабочих – танцы перемежаются спорами о классовой борьбе, поцелуи перемежаются собраниями под красными знаменами, рюмки сдвигаются во имя трудящихся масс. Призрак коммунизма в окладистой бороде бродит из одного салона в другой, слегка отяжелевший от выпитого и сказанного, но всегда готовый к борьбе. Участники этого веселого карнавала покинули свои благополучные дома ради будущего благополучия угнетенных и эксплуатируемых, они отринули скучные путы буржуазных добродетелей ради свободной любви. Они гордятся своим бескорыстием и своей смелостью, тем более, что самопожертвование отнюдь не лишает их радостей жизни.
Достоверность этой своеобразной атмосферы подчеркивается умелым использованием серии говорящих портретов: дряхлые старцы, современники Рида, его «подельники» и собутыльники, дают свидетельские показания о героях фильма. Все они – лица не только реальные, но хорошо известные.
И хоть режиссер намеренно не обозначает их имен, все они легко опознаваемы и соответственно опознаны: здесь основоположник сексуальной революции Генри Миллер, фанатик-социалист Скотт Неринг, сын Александра Керенского, известная писательница Ребекка Вест, аристократ-мятежник Роджер Болдуин. Показания их противоречивы и разностильны и потому убедительны. Таким образом режиссер оправдывает достоверность одежд, надетых на удачно подобранный манекен героя.
Мост от прошлого к сегодняшнему дню переброшен с помощью главной героини фильма, подруги Рида Луизы Брайнт. Недаром роль Луизы исполняет Диана Китон – ее Луиза ничем не отличается от серии женских образов, созданных актрисой за последние годы. Это все та же Диана Китон, даже не замаскированная и не загримированная – современная американская женщина, вырвавшаяся, наконец-то, на свободу! И так ей на этой свободе неуютно, так там холодно и пустынно, как, наверно, и положено быть на свободе. Ведь свобода – это освобождение от всего морального хлама, от бытового и духовного уюта, которым связан был человек в несвободном обществе.
«Долой запреты!» – провозглашает Диана Китон от имени Луизы с той же жалкой полуулыбкой, с которой провозглашала она это в фильмах Вуди Аллена от своего имени – к черту верность, к черту стыдливость, к черту размножение, к черту хозяйство! Дадим свободу чувствам, свободу совести, свободу ближнему, но только не другу-сожителю: его она при первом же необоснованном подозрении в неверности вышвыривает из своей жизни. А главное – дадим свободу угнетенному пролетариату, свободу на радость себе и другим – все равно помирать, а раз того света нет, так урвем, что можно, на этом!
Она, попирая скучные условности буржуазной романтики, без обиняков говорит Джону Риду в начале их романа: «Я хочу увидеть тебя без штанов». Зато она готова посвятить свою жизнь другой романтике – романтике борьбы за какое-нибудь общее дело, будь то групповой секс или объединение пролетариев всех стран.
Но участие в общем деле не отменяет заботы о себе, не отменяет проклятых вопросов: кто я? что я? какая мне цена? И тут начинается новый этап в жизни освобожденной женщины, получившей равное право на самоутверждение. Ведь одного права недостаточно, надо и впрямь доказать себе и другим, что ты тоже личность, творческая единица, достойный член свободного полигамного братства.
Метания и разочарования Луизы эпохи русской революции неотличимо похожи на метания и разочарования Дианы Китон в фильмах семидесятых годов. Тщеславие гонит ее из одной писательской постели в другую, сексуальная неудовлетворенность, замещающая неудовлетворенность своим творческим потенциалом, гонит ее перо по бумаге в тщетной надежде причаститься духовных тайн. Любовь превращается в вечный поединок с мужчиной-соперником. И только бедственное состояние брошенного возлюбленного, пропавшего без вести где-то в голодных заснеженных просторах России, возвращает Луизу к роли любящей женщины: ведь в новой ситуации он перестает быть соперником, он превращается в объект романтического восторга, в идеального рыцаря, которого можно любить, позабыв о радостях группового секса.
Что же остается делать бедняге-Риду, если он даже со своей женщиной справиться не может? Выход только один: заняться судьбами мирового пролетариата. Ведь одну судьбу устроить гораздо трудней, чем судьбы миллионов – тут нужен другой запас прочности, другая точность подгонки деталей. Удовлетворить одну эмансипированную литературную даму – с такой задачей не каждый справится, а вот с миллионами дело обстоит гораздо проще: одного угробил, десятерых спас, сотню сгубил, одного осчастливил и статистически достиг положительного результата.
Впрочем, несправедливо приписывать весь революционный пыл Рида неурядицам его любовной жизни, – это означало бы сведение сложной задачи к простой. В действительности отношения Рида с Революцией заслуживают специального внимательного анализа, ибо именно в них может отыскаться ключ ко всей проблематике фильма, к его очевидной многозначительности – что бы ни говорил г-н Наврозов! – и к его злободневности.
Я не оговорилась, обозначив Революцию с большой буквы и лишив ее прилагательного «Русская», ибо сама по себе русская революция несущественна ни для Рида, ни для всех тех, кого автор фильма назвал «красными», а мы привыкли называть «левыми», хоть первоначальный смысл этого понятия давно уже затерялся в многоцветной путанице демократического лабиринта.
При всей моей неприязни к «Великому Ильичу» я не могу не признать остроты его определений – ведь как точно и метко сказал: «Детская болезнь левизны»!
Для всех, больных этой болезнью Революция не имеет лица: неважно, русская она или кубинская, главное, что она пишется с большой буквы, освещает мир алым заревом и освобождает человека от скучных повседневных обязанностей. С ее образом связан звук ветра, цвет крови и хоровое пение – что весьма полезно для тех, кто не способен к пению соло.
Похоже, по представлению Уоррена Битти, у людей типа Рида болезнь эта врожденная – так, во всяком случае, можно истолковать один небольшой, не слишком исполненный доброты эпизод фильма. После жестокой стычки с полицией, во время которой Риду отбили почки, он подходит в тюремной камере к унитазу и, морщась от боли, мочится кровью. Пожилой рабочий, стоящий рядом, видит в этом символический смысл, он кричит своим друзьям:
«Гляньте, у него даже моча красная!»
Впрочем, если признать верность определения левизны как детской болезни, то стоит предположить, что в детстве у всех моча красная. И только со взрослением приобретает она свой упоительно-лимонный тон. Но случается это не со всеми. Современная психология утверждает, что многие неврозы и нестабильности человеческого поведения обусловлены нашим ужасом перед взрослением.
Ой, как не хочется добровольно покидать уютную беззаботность детства, его сладкую безответственность, его веру в бессмертие. Сознательно и подсознательно цепляемся мы за любую мелочь, способную задержать наше вступление в беспощадный мир взрослых – ведь почти каждый в глубине души знает, что тот лысый дядя с брюшком, которого он по утрам с отвращением видит в зеркале, вовсе не он.
Почти каждый помнит себя веселым кудрявым мальчиком, подававшим надежды. И он готов мочиться кровью, только б не сознаться себе, что надежд больше нет, что пора посмотреть в глаза правде и узнать себя в лысом дяде с брюшком. Для этого годится все: русская революция, кубинская революция, организация освобождения Палестины и Ирландская революционная армия, – лишь бы не вставать по будильнику, не трястись в переполненной электричке, не сводить чужое сальдо с чужим бульдо в бухгалтерской конторе.
По этому рецепту протекала и у Джона Рида болезнь левизны, прописанная тем взрослым, которые пожелали навечно остаться детьми. Сначала ему было достаточно его американской, или, если угодно – антиамериканской, деятельности: собраний, споров, митингов, демонстраций. Тем более, что много сил уходило на поединок с Луизой.
Но время шло, и даже романтическая работа ради блага трудящихся постепенно взрослела, обрастая деталями устроенности и скучной упорядоченности. Надо было что-то решать: то ли смириться со статусом взрослого, то ли искать новой романтики на стороне. Все преимущества были за вторым вариантом: судьба мирового пролетариата явно входила в критическую фазу неотвратимого революционного пожара, а личные обстоятельства столь же явно не поддавались контролю.
Здесь Уоррен Битти очень умело ввернул фразу, кстати брошенную Генри Миллером в очередной интермедии: «Люди, стремящиеся решать глобальные проблемы всего человечества, боятся взглянуть в глаза собственным проблемам».
Что ж, бедняга Джон несомненно не хотел признаваться себе в собственной несостоятельности, – ни как мужчина, ни как писатель. Он не преуспел ни в том, ни в другом качестве: Луиза в очередной раз покинула его, и никакая упорная работа в тиши писательского кабинета не делала его произведения достойными вечности. Для того, чтобы подчеркнуть это, Битти столь же умело, как и острословие Миллера, использовал неприязнь к Риду Юджина О'Нила, связанного с ним соперничеством из-за Луизы.
Противопоставление Рида О'Нилу как бы расставляет точки над всеми предполагаемыми «И». Возможно, дело тут в необъяснимом обаянии Джека Николсона, исполняющего роль О'Нила, но как-то сразу веришь, что человек этот вхож в святая святых творчества и потому прав, даже когда пьян, циничен и несправедлив.
Он как бы представляет в фильме Высший Суд, определяя своей значительностью место бунтаря-мятежника в историческом процессе, и приходится признать, что место это выглядит незавидным.
Итак, выбор сделан: во имя вечной молодости, во имя торжества справедливости, во имя униженных и оскорбленных отправляется Рид в Россию, навстречу пожару Революции. Пожар этот заволакивал небо дымом и слепил глаза, так что мелкие подробности повседневной жизни застенчиво тушевались перед величием грандиозных событий.
В странном поезде, бесстрашно и беспрепятственно пересекающем охваченную братоубийственной войной Европу, Джон встречает Луизу. Она откликнулась на его призыв и, сломя голову, мчится вслед за ним туда, где, по слухам, будут решаться судьбы мира. Поезд пересекает границы воюющих государств, но никто не останавливает его, никто не спрашивает документы, не выясняет намерений пассажиров.
Абсолютная нереальность такого переезда наполняет неким мистическим потусторонним смыслом как таинственный этот поезд, неподвластный юрисдикции насмерть воюющих сторон, так и саму революцию, превращенную в Революцию с большой буквы. Она так и выглядит: более символическим событием, чем реальным взрывом народной воли. И уж никак не «русским бунтом», не узкогрупповым дворцовым переворотом.
Стройными праздничными колоннами движутся под звуки «Интернационала» радостные (с чего бы, спрашивается, такая радость?) народные массы по трамвайным путям вдоль колоннады Зимнего Дворца – хоть все это снято в Финляндии, но выглядит чудо как по-петербургски. Во главе марширующих ко всеобщему счастью народных толп едет пронзительно звенящий трамвай, который наводит на мысль о «Заблудившемся трамвае» Гумилева – что это, намек, выдумка, совпадение?
Нет, на совпадение не похоже – не случайно через два года Рид смотрит из окна Зимнего на те же самые трамвайные пути, вдоль которых вместо праздничных колонн маршируют теперь роты красноармейцев.
Четко печатая шаг, поют они о своей готовности умереть поголовно («…и, как один, умрем!») за Власть Советов, наполняя сердца зрителей холодным ужасом перед наступающей машиной тоталитаризма. И бедный Рид понимает, что ему не вырваться из ловушки, расставленной ловкими беззастенчивыми политиканами, вершащими сегодня судьбы огромной страны. И его личная судьба предрешена: как марионетка на веревочке обречен он плясать под дудку коммунистических политиканов, верный своему детскому обязательству отдать жизнь «за Власть Советов», хоть она уже превратилась из доброй феи в Бабу-Ягу. Подарки, как говорится, не отдарки.
Безжалостно звучат для Рида слова американской анархистки Эммы Гольдман: «Большевики принесли стране только разруху: всюду голод, репрессии, эпидемии. Ради этого стоило совершать революцию?» Это приговор не только конкретной революции, но и Революции вообще, хоть Рид лепечет беспомощно:
«Если мы не сможем найти хоть какой-то смысл в происходящем, как нам оправдать всю нашу жизнь?»
Жалкие слова прозревающего неудачника, вдруг осознавшего свою наивность и призрачность своих иллюзий.
За что цепляется он? За хрупкую соломинку самообмана, желая любой ценой купить себе право на самоуважение? Но соломинка эта немедленно ломается под напором реальности: если Рид когда-то с гордостью заявлял редактору либеральной американской газеты, что он не позволит никому переделывать свои статьи, то в российских условиях он оказался бессилен против партийной цензуры. Его статьи перекраивают так, как это угодно представителю ЦК большевиков Зиновьеву, и никого не интересуют яростные возражения Рида: их попросту не слушают, пренебрежительно «стряхивая с ушей».
И символическим трагизмом наполняется одна из заключительных сцен фильма: спор из-за изуродованной Зиновьевым статьи, происходящий в среднеазиатском экспрессе, прерывается атакой басмачей. Рид вместе со всеми выскакивает из поезда и сначала в оцепенении следит за ходом басмаческой атаки, за артиллерийской перестрелкой, за конными стычками, за приближающейся вражеской цепью.
И вдруг, словно охваченный безумием, бежит вперед, на выстрелы басмачей, бежит безоружный, уязвимый, не пригибаясь, не пытаясь укрыться от пуль. Чего ищет он – не смерти ли в бою, чтобы последним рывком спастись от страшного прозрения, от невозможности сохранить наивную веру в торжество справедливости? Ведь справедливость эта показывает каждый раз такие страшные волчьи зубы, что даже самому преданному трудно сохранить веру в ее чистоту и бескорыстие.
А дальше идет заключительный эпизод – смерть в больнице, не от пули, а от уремии, – разве это не символично? Так он и умер, отравленный красной своей мочой. Выкрутился, не вступил в безжалостный и циничный мир взрослых. Зато с помощью этой смерти сохранил все: и завидное место в кремлевской стене, и чистоту молодости, и любовь эмансипированной Луизы – ведь так сладко любить мертвого, оплакивать его и быть свободной!
И даже завоевал сердце президента Соединенных Штатов. Трудно поверить, что он и впрямь воспылал неожиданной любовью к советскому строю, который вскорости обозвал «империей зла». Скорее можно поверить, что проницательный Наврозов чего-то тут не досмотрел. А вернее – не рассмотрел.
И не случайно – рассмотреть не позволил внутренний настрой на двоичную систему нашего детства, где единица противостояла нулю, белые – красным, русские – немцам, солнце – луне. Нужно было только сделать выбор – раз и навсегда: «За луну – за советскую страну, или за солнце – за щербатого японца». После того, как выбор был сделан, начинался второй акт драмы: «Ваше слово, товарищ маузер» – ибо не подлежало сомнению, что «кто не с нами, тот против нас».
Мы заучили это с младенчества, впитали с молоком матери или, в крайнем случае, с бутылочным кефиром детской молочной кухни? И вместе с выездной визой пронесли через таможенные заслоны Чопа, Брест-Литовска и Шереметьево. И вытравить это знание оказалось трудней, чем сменить московскую зиму на тель-авивское лето.
И даже стреляный волк Лев Наврозов, у которого сам Орест Мальцев служил шофером, выступил совсем как маленькая девочка, которая однажды вернула в детскую библиотеку книгу Редиарда Киплинга «Маугли».
– Ты все поняла? – спросила девочку библиотекарша.
– Все, – неуверенно ответила девочка и вопросительно уставилась на черную пантеру Багиру, притаившуюся среди буйной зелени обложки.
– Я только не поняла, – смущенно добавила она, – Маугли за кого – за белых или за красных?
И Лев Наврозов тоже не понял, за кого президент Рейган. Он не заметил, что фильм Уоррена Битти прозвучал похоронным маршем радикальной левой интеллигенции, отравленной собственной красной мочой.
Но атака Наврозова на президента Рейгана случилась гораздо позже, когда я уже начинала расставлять некоторые точки над некоторыми «i». А в тот первый, очарованный год моего неожиданного театрального счастья реальная американская жизнь была для меня окутана радужным туманом, скрывающим неутешительные детали. Я и близко не подпускала опасные мысли, способные разрушить охватившее меня чувство благодати. Мне даже нравился американский кофе, который за семьдесят пять центов продавали в бумажных стаканчиках на любой стойке «джанк-фуд» – уму непостижимо, как я могла с удовольствием пить эту отвратную бурду, освежающую в памяти детали убогого детства, проведенного в пионерских лагерях.
Потакая своей прихоти, я проводила все дни в театре, не уставая следить за постепенным оживлением на чужой почве моих кровных персонажей, написанных мною совсем для других исполнителей и другого зрительного зала. Я была так очарована, что меня не смущали даже мелкие курьезы, происходившие от изрядного непонимания сущности моих пьес. Так мне стоило большого труда переубедить свою режиссершу, которая во что бы то ни стало хотела взять актера-негра на роль шофера в подмосковном доме для престарелых, а самих престарелых обрядить в вышитые косоворотки и каракулевые шапочки-пирожки.
Однако порой я вырывалась из заколдованного круга сочиненной мною реальности в истинную реальность эмигрантского существования. Я делала этот рывок почти всегда с единственной целью – заработать немного денег. Дома в Израиле меня ожидала толпа недоучившихся детей и пожилых родителей, во всем полагавшихся на нас с Сашей. Мы с разгону купили квартиру себе и согласились, чтобы все родственники тоже купили себе квартиры, обязавшись выплачивать взятые ими ссуды, что было невозможно выполнить из одной Сашиной, хоть и профессорской, зарплаты.
В дальнем прицеле этот отчаянный поступок оказался очень мудрым и практичным, но в первые годы, пока мы только осваивались в новой жизни, мы едва сводили концы с концами, а порой не сводили вовсе. И я постановила, что, кроме небольшого, практически символического, гонорара за пьесы, приплюсованного к изрядной квартплате за роскошную студию в Гринич Вилледж, я обязана привезти домой еще какие-то деньги. Для этого необходимо было написать и начитать максимально возможное количество передач на радиостанции «Свобода».
Радиостанция «Свобода» была в Нью-Йорке единственным местом, дававшим бывшему советскому гуманитарию хоть какой-то грошовый заработок. В результате там образовалась истинная социальная плешка, где можно было встретить почти весь культурный русский Нью-Йорк.
Там я познакомилась с молодыми, еше не оперившимися и не зазнавшимися славными ребятами Петей Вайлем и Сашей Генисом, которые впоследствии, заматерев, похоже, забыли, что именно мы с Сашей издали их первую книгу «Потерянный рай». Книга была отличная, очень смешная, но имени у нынешних прославленных критиков еще не было никакого, и ни один уважающий себя издатель не хотел ради них рисковать своей с трудом добытой копейкой.
Мы были первыми издателями не только Вайля и Гениса, но и нескольких других авторов, отмеченных впоследствии отблесками славы разной степени яркости, у нас вышли первые «Да-дзы-бао» Игоря Губермана, первая книга Юрия Милославского «Укрепленные города», первый роман Марка Гиршина «Брайтон Бич», первый поэтический сборник Михаила Генделева «Въезд в Иерусалим», единственное собрание стихов и эссе покойного Ильи Рубина «Оглянись в слезах».
Но я что-то не припомню, чтобы хоть один из этих авторов поблагодарил нас за наши старания – они почему-то воспринимали как должное затраченные на них труды и деньги. А Генделев даже отказался забрать у нас тираж своего поэтического сборника за то, что кто-то (уже не помню, кто) ответственный за типографские работы выбросил из него несколько страниц многоточий. Многоточия были наструганы по принципу: «В каждой точке только строчки, – догадайся, мол, сама» и шли шестистрочными строфами, насчитывая страниц двенадцать. Для правильного числа страниц в типографской тетрадке их был излишек. Тут недогадливый редактор согрешил – не догадался и страниц пять из многоточных удалил. Генделев объявил, что весь смысл его поэмы теперь искажен и книг своих не забрал. Они несколько лет провалялись под столом в редакции, а потом их пришлось выбросить за недостатком места.
Хуже всех поступил с нами талантливый поэт-эссеист Илюша Рубин – он скоропостижно скончался совсем молодым, так и не осуществив свои многообещающие замыслы. Впрочем, наблюдая копошение человеческого муравейника, особенно наглядное в суженном поле эмигрантского бытия, я иногда ловлю себя на богохульной мысли, что только таким образом он умудрился оставить о себе исключительно светлую память – ни с кем не поссорился, никому не встал поперек горла, никого не задел неудачей или успехом.
Но я забегаю вперед – в тот первый заграничный год мы еще и не помышляли об издании книг, не только чужих, но и своих, и потому мои нью-йоркские встречи того времени были начисто лишены какого-либо корыстного элемента. Мимо меня по коридорам радио «Свобода» степенно проходили или пробегали трусцой самые разные литературные личности – то застенчиво промелькнет в отдалении лохматый силуэт Юрия Мамлеева, то самоуверенно заслонит дверной проем высокая фигура Аркадия Львова. Некоторые из собратьев по перу поначалу хорохорились и храбрились – мы, мол, этих америкашек с их гамбургерами вместо искусства, шапками закидаем, но в основном, все были подавлены исключительным равнодушием благополучного Запада к нашим, с таким трудом вывезенным, толстым рукописям, блистательно разоблачавшим драконовский советский режим.
Кроме радиостанции «Свобода», находящейся на содержании американского правительства, русско-еврейская пишущая братия кучковалась еще вокруг газеты «Новое русское слово», живущей за собственный счет. Заработок там был, конечно, далеко не тот, что в американском радиозаведении, и простор не тот – всего несколько малогабаритных страничек, и все же кое-кому удавалось небольшие статейки там тиснуть, чтобы хоть увидеть свое имя, набранное типографским шрифтом. В жуткой пустыне безвестности, какой предстал перед российским интеллигентом американский континент, это было хоть и жалкой, но отдушиной.
Мне тоже посчастливилось пару лет состоять постоянным автором этой газеты и даже получать за свои статьи приличные гонорары, что случалось там редко. Эта мелкая эмигрантская удачка свалилась на меня, как гром среди ясного неба, так как я вовсе не пыталась пристроиться в газете – просто меня неожиданно постигла благосклонность ее главного редактора, знаменитого Андрея Седых. Это произошло чудесным образом, почти как с Корнеем Чуковским.
Вообще, на тернистом пути литературных скитаний меня не раз осыпали своими милостями высокопоставленные старцы, причем совершенно бескорыстно, без всяких с моей стороны эротических заманок. Так, последним в цепи был израильский мультимиллионер, банкир с причудливым для моего слуха именем Хозе Мирельман, который почти при каждом моем визите в его банк, отваливал небольшую для него, но для меня чувствительную, сумму на разные мои проекты – то 5000 долларов на журнал, то 10000 долларов на дубляж фильма по моему сценарию. И хоть выписанные им чеки были украшены титлом «Акции Панамского канала», это была вовсе не «панама», а настоящие полноценные доллары, которые к тому же не требовалось возвращать.
Андрей Седых акциями Панамского канала не владел, и чеков с тремя, а то и четырьмя, нулями мне не выписывал. Да я его об этом и не просила. Я вообще ни о чем его не просила, всецело поглощенная звездопадом рецензий на свой спектакль в англоязычной прессе.
Вдруг неожиданно где-то в самом конце прогона в Интерарт Театре мне принесли «Новое русское слово» с огромной, во всю страницу, хвалебной аналитической статьей, написанной самим главным редактором. Я была польщена – Андрей Седых, как представитель добротной русской культуры, понял мои пьесы гораздо тоньше, чем все американские рецензенты вместе взятые. Это, впрочем, небольшая похвала, если учесть, как мало они понимали.
В своей статье Седых подробно рассказал, как сотрудники уговаривали его сходить на спектакль советского драматурга, а он упирался, уверенный, что «оттуда» ничего путного прийти не может. И как приятно был поражен, когда все же дал себя уговорить. Не успела я дочитать этот трогательный рассказ до конца, как зазвонил телефон – Андрей Седых, собственной персоной, лично повторив написанное в статье, приглашал меня пообедать с ним в его любимом французском ресторане.
Несмотря на свои восемьдесят с плюсом, он оказался настоящим гурманом, и мы просидели в ресторане пару часов, сперва составляя меню, а потом болтая о том о сем и находя общий язык, словно всю жизнь были знакомы. А ведь мы прожили свои столь непохожие жизни в совершенно различных обстоятельствах по разные стороны Атлантического океана и Железного занавеса.
К кормушке «Свободы» – какая злая игра слов получается! – стекались не только пираты пера, но и всякого рода массовики-затейники – режиссеры театра и кино. А куда еще им, беднягам, было деться – уж они-то точно никому здесь не были нужны. Частичное исключение, как всегда, лишь подтверждающее правило, представлял знаменитый в прошлой жизни литовский режиссер Йонас Зянкявичус – его спектакли наделали когда-то столько шума, что среди советских интеллигентов, несмотря на их повальную бедность, считалось хорошим тоном съездить в Литву только для того, чтобы посетить его театр в далекой глубинке.
Йонас мудро решил, что и в Америке самое милое дело – создать свой театр в глубинке. Он не стал тусоваться в пустынной столичной тесноте Нью-Йорка, а, пользуясь своей прошлой славой, нашел спонсора в одном из средне-американских штатов и создал скромную труппу, сыгравшую «Самоубийцу» Эрдмана. Постановка, говорят, была головокружительная и слава о ней прокатилась по многим газетным полосам. В результате перед Йонасом неожиданно возникла многомиллионная дама из Лос-Анжелеса, некая миссис Икс, которая, посмотрев спектакль, решила за свои деньги перенести его на Бродвей.
Что могло быть прекрасней? Наивный Йонас почувствовал, что он вытянул счастливый лотерейный билет. Они с женой перебрались в Нью-Йорк, миссис Икс выделила из своего бюджета какую-то фантастическую сумму – поговаривали о четырех миллионах долларов – и дело закипело. Была тщательно отобрана труппа, написана музыка, заказаны декорации, сконструированы и сшиты костюмы – спектакль стремительно приближался к завершению.
Чтобы регулярно летать из Лос-Анжелеса на репетиции миссис Икс приобрела реактивный самолет, и на вопрос Ионаса о целесообразности такой безумно дорогой покупки, ответила туманно: «В дальнем прицеле это окупится». Йонас не очень-то понял насчет дальнего прицела, но настаивать не стал – какое ему дело, ведь в конце концов, это ее деньги.
А ему бы тут как раз и насторожиться, почуять недоброе, но он был так занят, так увлечен доведением своей постановки до совершенства! Да и мысли его текли в совершенно ином русле, нежели мысли многомиллионной Спонсорши.
До премьеры оставалось чуть больше месяца и в бой была брошена тяжелая артиллерия рекламы. Фирма-спонсор не скупилась на расходы, в ход были пущены все виды медии, так что билеты были распроданы на полгода вперед – щедрая реклама давала соответственно щедрые результаты.
И вдруг Спонсорша в свой очередной прилет в Нью-Йорк сорвала Йонаса с репетиции и вызвала к себе для срочной беседы.
«Мы решили спектакль закрыть», – без обиняков объявила она опешившему режиссеру.
«Как это закрыть? – пролепетал он, надеясь, что неправильно понял ее калифорнийский американский. – Ведь билеты проданы на полгода вперед!»
«Не страшно, деньги за билеты мы вернем».
«Но ведь столько денег истрачено, – не сдавался режиссер, все еще не веря, и уж наверняка не понимая, как можно закрыть такой замечательный спектакль еще до выхода в свет. – На зал, на музыку, на декорации, на костюмы… Если и дальше так пойдет с билетами, мы сможем все вернуть…»
«Но мне ни к чему эти деньги возвращать, – уже раздражаясь непонятливости режиссера, воскликнула миссис Икс. – Мой советник по налогам подсчитал, что списать с налога мои расходы гораздо выгоднее, чем вернуть их в результате успешной продажи билетов».
«А я? – тупо спросил Йонас, все еще не врубаясь. – А моя работа пойдет прахом? Все эти месяцы, все мои идеи…»
«Почему прахом? Вы получите солидную компенсацию, а идеи ваши останутся при вас – чего вам еще надо?»
Разговор на этом закончился – Йонас и впрямь получил свою солидную компенсацию, которую использовал на покрытие долга за квартиру, купленную в расчете на будущую карьеру. А карьера так и не состоялась: хоть режиссерские идеи остались при нем, применить их было негде – чудеса обычно не повторяются дважды. И он тоже очутился в печальном коридоре неудачников на радиостанции «Свобода».
Через пару лет Йонасу однако удалось поставить офф-офф-бродвейский спектакль о свадьбе Алика и Арины Гинзбург в мордовском концлагере. Спектакль был оригинален, я убедилась в этом собственными глазами. Мы с Сашей сумели попасть на последнее представление – Йонас лично почти силком протащил нас сквозь клокочущую толпу, рвущуюся к кассе, где не осталось ни одного билета. Режиссерская любезность была нам оказана не просто так, а в благодарность за добытый когда-то Сашей израильский вызов, по которому Йонасу удалось выехать за пределы Страны Братских Народов.
Зрители теснились вдоль продольных стен на опасно прогибающихся под ними дощатых насестах, а актеры сновали взад-вперед по узкому помосту, натянутому между торцовыми стенами. Нас втиснули на битком набитые неструганные доски, раскинутые по всей протяженности странно спроектированного зала, непомерно длинного и узкого. Хоть чувствительная пьеса была весьма посредственной, режиссура Йонаса подняла ее на другой уровень искусства, и спектакль оказался успешным, насколько можно быть успешным на офф-офф-Бродвее. Но что этот успех для того, кто однажды вдохнул воздух горных вершин?
По тем же ведущим к кормушке коридорам, бродили и те, кто о воздухе горных вершин только мечтал, предвкушая, как сладостно будет его вдыхать. Хоть на миг вдохнуть его удалось немногим, – скажем, почти никому. Режиссеры и поэты не выдерживали малообещающей гонки и сдавались, – кто половчей, становился монтажером, кто пооборотистей – агентом по продаже недвижимости, а основная масса покорно переходила на пособие и фуд-стэмпы. Для неосведомленных – агентом по продаже недвижимости может стать каждый, кто согласен жить на процент от проданной недвижимости, который зачастую равен нулю, а фуд-стэмпы – это такие талоны, по которым в определенных сурермаркетах бесплатно отпускают нищим продукты первой необходимости.
И только мой дорогой друг, кинорежиссер Слава Цукерман, единственный, кто почти добрался до финиша, – казалось, ему остался небольшой рывок, чтобы порвать ленточку, но какая-то шестеренка в последнюю минуту соскочила с шарнира и его отбросило назад в печальную толпу соискателей.
Слава Цукерман со своей женой Нинкой – люди особенные, чтобы описать взлеты и падения их затейливой судьбы, нужен талант декламатора, щедрого на романтические подробности и восклицательные знаки. А что я? У меня в запасе все больше смехуечки – с их помощью возвышенное охватить трудно. Но поскольку, боюсь, никто другой сил на это не потратит, то ли по незнанию, то ли из равнодушия, решаюсь – кто, если не я?
Подружились мы со Славой в московской свистопляске, когда я училась на сценариста на Высших сценарных курсах, а он на режиссера во ВГИКе, еще до того, как он женился на своей Нинке, женщине безудержного нрава и редкой, неправдоподобной красоты. Нас со Славой связывал интерес не романтический, а профессиональный – мы оба были помешаны на идее создания киношедевров, подогреваемые верой в свои исключительные в этой области дарования. Красавица Нинка тоже была помешана на идее создания киношедевров, где рассчитывала преуспеть в качестве актрисы, так что ее появление нисколько не охладило нашу дружбу, а скорее даже ее укрепило.
Трудно представить себе пару, более несоответствующую, более непарующуюся, чем Слава и Нинка. Он – толстый еврейский вундеркинд в очках с длинными нечесанными патлами вокруг лоснящихся щек, неуклонно шагающий к своей мечте утиной походкой чарли-чаплинского героя. Она – точеная статуэтка с классическим профилем и зелеными глазами, сжигаемая внутренним огнем тщеславия такой силы, что, по слухам, от ее взгляда двери отворялись сами собой.
Слава начинал в Москве карьеру режиссера-документалиста поневоле, и начинал ее весьма успешно – он создал некий шедевр, объясняющий невеждам сущность квантовой механики, где главную роль играл сам знаменитый Иннокентий Смоктуновский. Славе бы воспользоваться этим успехом и рвануться дальше, вверх, к новым достижениям. Но его манили другие горизонты – побуждаемый возведенными в квадрат амбициями, своими и Нинкиными, он задумал вырваться в широкий мир, где способны оценить его неповторимые таланты.
Мир этот в его видениях лежал за пределами Страны победившего хамства, и Цукерманы подали заявление на выезд в Израиль. Их никто не задерживал, и они уехали из СССР на год раньше нас, так что к нашему приезду Слава успел достигнуть на новом месте всего, чего, по его представлениям, там можно было достигнуть. Он снял два вполне качественных документальных фильма на израильском телевидении, в те времена очень бедном и черно-белом, и мог бы получить деньги на создание собственного художественного кино.
Но он решил, а Нинка очень это решение подстегивала, что скромная израильская кинопродукция – не его масштаб, ему грезились многомиллионные просторы Голливуда, где он со своим даром и Нинка с ее красотой несомненно завоюют себе место под солнцем. Не знаю, если бы они тогда могли себе представить, сколько шипов скрывается меж бутонами голливудских роз, решились ли бы они на этот отчаянный прыжок в неизвестность. Сейчас они говорят, что да, решились бы, но что им сейчас остается говорить – жизнь прожита и ничего изменить нельзя.
Не знаю, как им это удалось, но через несколько месяцев после нашего приезда в Израиль Цукерманы потихоньку слиняли в Нью-Йорк, где начали многолетнюю борьбу за существование и успех. На первый взгляд они отказались от немногого: от постоянной штатной должности режиссера на израильском телевидении с проистекающими из нее жизненными благами вроде больничной кассы и пенсии в старости. Но они были тогда еще сравнительно молоды, болеть не собирались и о старости не думали.
Их первую нью-йоркскую квартирку на 46 улице мне даже вспомнить страшно – там день и ночь под окном непрерывно «ковали что-то железное», а летом можно было умереть от жары. Слава, как и все, подрабатывал на радиостанции «Свобода», а Нинка химичила, как могла, – мне открывали не все, но я знаю, что она, пользуясь своей красотой, развлекала гостей на каких-то светских приемах, выступая там в роли гадалки.
Цель у них была одна – получить возможность делать большое кино. Однако Нью-Йорк был полон такими желающими делать кино, и, несмотря на ловко составленный Славой послужной список, ни один продюсер не бежал ему навстречу с заманчивыми предложениями. Осознав это, Слава решил, что он пойдет другим путем – он сам станет своим продюсером и будет добывать деньги на собственные проекты.
Приняв такое решение, нужно было выбрать и создать проекты, на которые могут дать деньги. Несколько лет Слава посвятил изучению всех аспектов профессии продюсера – от анализа требований рынка до тщательного штудирования законов кинобизнеса. Дом его был завален книгами и журналами, и в ответ на каждую мою реплику он предъявлял мне соответствующую страницу в нужном томе.
Мне было жаль его драгоценного времени, потраченного на эту ерунду, но им с Нинкой было не жаль, они не сомневались, что впереди их ждет неслыханный успех, ради которого стоит пожертвовать всем. Главное, уверяли они, нужно завести правильные знакомства, и для этого переехали из неудобной, но жилой квартиры на Сорок Шестой улице в «лофт», представлявший собой абсолютно неблагоустроенное складское помещение, расположенное над универсальным магазином на Четырнадцатой.
В те времена Четырнадцатая улица была сильно нехороша собой – это было нечто вроде старой тель-авивской центральной автобусной станции, где вдоль грязных тротуаров с раннего утра до поздней ночи теснились ларьки и столы мелких торговцев разным дешевым хламом. Воздух был спертый, торговцы и разносчики пронзительно орали, расхваливая свой товар, вокруг сновали подозрительные личности с вороватыми повадками, так что следовало хорошенько осмотреться, прежде чем отпереть заранее приготовленным в ладони ключом незаметную невооруженным глазом дверцу, ведущую в Славкин лофт.
Прямо за дверцей круто вверх взетала ровная, как стрела, лестница без пролетов с первого этажа на третий – в ней было больше ста ступенек. Лестница выводила на крошечную площадку, заваленную черными пластиковыми мешками с мусором.
Мусор приходилось копить в мешках неделями, поскольку жилье в складском помещении было незаконным и сбора мусора на него не полагалось. Мне пришлось однажды участвовать в ночной операции, носящей парадоксальное прозвище «Кража мусора». Разумеется, мы не воровали чужой мусор, а воровским способом избавлялись от своего. В этой операции трудозаняты были все обитатели нашей незаконной «Вороньей слободки» – обряженные в свои самые старые обноски, мы собрались на лестничной площадке далеко за полночь и по знаку Нинки цепочкой ринулись вниз, каждый с мешком на плечах.
Нашей целью был огромный грузовик, приехавший за мусором, оставшимся от рынка Четырнадцатой улицы, нашей удачей была нерадивость шофера, собравшего мусор в кузов и покинувшего его до утра, нашей надеждой – его равнодушие к тому, что мусора в кузове за ночь стало гораздо больше.
Наш маленький отряд со стороны выглядел как взвод чертей, таскающих из ада в чистилище мешки с душами грешников. Мешков накопилось много, а на нашей крутой лестнице разминуться было невозможно, так что нам приходилось ходить вверх-вниз только цепочкой. Мы проделали этот маршрут раз десять, причем главная трудность поджидала нас внизу – борта грузовика были очень высокие и было невозможно перекинуть через них тяжелые мешки, стоя на тротуаре. Так что каждый пробег кому-нибудь из мужчин приходилось вскарабкиваться в кузов и принимать мусор от участников операции, то и дело озираясь по сторонам, не приближается ли полиция.
Назавтра после операции лестничная площадка выглядела девственно-чистой, но очень скоро она опять наполнялась мешками, за которыми пряталась дверь в лофт Цукерманов. Следующий марш лестницы вел в лофт их друга, американского режиссера Боба. Познакомились они на каком-то вернисаже и подружились, – Слава очень ценил знакомства с нью-йоркскими туземцами и сразу захороводил недовостребованного режиссера обещаниями пристроить его в своем проекте в случае успеха. Сразу скажу, что он это обещание выполнил на все сто процентов. Результаты этой американо-советской дружбы начали сказываться быстро – именно Боб поселил моих друзей в этом странном, призрачном помещении, размеров которого не знали сами хозяева.
Как-то я, оставшись в лофте одна, отправилась на разведку – миновав заселенные комнаты, числом пять и размером в несколько баскетбольных площадок, я вышла в необитаемые хоромы. Там было пусто и пыльно. В конце третьего необозримого зала с высоченным потолком и никогда не мытым бетонным полом я обнаружила длинный неосвещенный коридор. Пройдя до конца коридора, я наткнулась на зарешеченную дверь, выводящую на металлическую винтовую лестницу, уходящую высоко вверх. Дверь, неохотно приотворившись, дала мне протиснуться в узкую щель и вяло щелкнула мне вслед. Я начала было взбираться по решетчатым ржавым ступеням, но внезапно меня охватил панический страх – а вдруг замок за мной захлопнулся и больше не откроется? Ведь никто меня здесь не услышит, как ни ори, а хозяева, обнаружив, что я исчезла, вряд ли догадаются, где меня искать.
Не помня себя, я ринулась вниз – замок, к счастью, настолько заржавел, что не захлопнулся, скрипучая дверь отворилась так же неохотно, как и вначале, но отворилась, и я помчалась по коридору, ужасаясь его темнотой и гулким эхом собственных шагов. Я ветром пронеслась по нежилым палатам и ворвалась в слегка обжитое Цукерманами помещение. После того, что я увидела за его пределами, оно показалось мне необычайно уютным – особенно главная комната-гостиная, если можно назвать комнатой простор пола в двести квадратных метров, образованный кирпичными стенами в пять-шесть метров высотой.
В одной торцовой стене была маленькая дверца, сильно не пропорциональная остальным размерам, в другой – несколько высоченных стрельчатых окон, форма которых была очевидно продиктована не столько необходимостью, сколько внешним видом здания. Как хозяева быстро выяснили, такие просторы, осененные к тому же соответствующими просторами окон, невозможно было ни охладить летом, ни протопить зимой. А в Нью-Йорке, как известно, климат весьма своеобразный – летом жарко и влажно, как в Тель-Авиве, зимой холодно и влажно, как в Москве.
Но, мне теперь кажется, это был единственный недостаток цукермановского жилья, все остальное оказалось замечательным – словно нарочно подобранным для их амбициозных проектов. Когда Слава, наконец, нашел фраера, согласившегося вложить деньги в его сомнительное предприятие, бесконечные просторы его лофта позволили ему снимать фильм в основном у себя дома.
Но главной палочкой-выручалочкой послужила Славе его необыкновенная изобретательность, основанная на двух китах – на таланте и одержимости. С помощью одержимости он сумел собрать группу таких же одержимых, в основном, из наших, которые служили его проекту не корысти ради, а из любви – хитроумный инженер Женя соорудил из подобранных на свалке деталей чудо-прибор, позволивший осуществить за бесценок дорогостоящие эффекты, умелый оператор Валера умудрился снять задуманные режиссером неосуществимые кадры, польщенный открывшимися ему возможностями Боб составил неплохой актерский коллектив.
И дело, в котором Слава сам был себе хозяин, закрутилось – никто не тратил на него миллионы, никто не покупал самолет, чтобы потом списать его с налога. Нужно было только проявить характер – а с характером у Славы всегда все было в порядке, в крайнем случае у него на подхвате всегда была Нинка.
Созданный ими фильм «Жидкое небо» получился бы бесподобный, если бы не подвел сценарий. Сценарий всегда был Славиным слабым местом, потому что он был неспособен пользоваться чьими-либо идеями, кроме собственных. А собственные его идеи в области драматургии не эквивалентны его изобразительному и композиционному дарованию. Я много раз порывалась с ним работать, он несколько раз почти силком загонял меня в предварительные стадии сотрудничества, но из этого ничего не выходило, так как он признавал только безусловное подчинение – мое ему, разумеется, что при неравенстве наших драматургических данных было просто смешно.
Сценарий «Жидкого неба» построен как лего из составных частей, вычлененных Славой из многочисленных источников в результате изучения механизма киноуспеха. Он постановил, что в успешном фильме должны быть обязательно представлены НСО – неопознанные летающие объекты, однополая любовь и наркотики. Для торжества идеи однополой любви был избран не слишком свежий прием, когда двух прекрасных особей обоего пола, вызывающих всеобщее сексуальное влечение, играет одна и та же актриса, меняющая пол в зависимости от обстоятельств. Мне, правда, объяснили, что решение это было принято в результате несчастного случая, когда актер, предназначенный на мужскую роль, внезапно умер перед самыми съемками от передозировки наркотиков – он в жизни, как и в фильме, играл наркомана.
Сюжет фильма до неуклюжести прост – на крышу высотного дома, на верхнем этаже которого живут подружки-наркоманки, садится потерпевший крушение НСО. Он нуждается в горючем, а горючее его по странной прихоти сценариста состоит из вещества, выделяющегося в любом организме в результате оргазма. После такой преамбулы, дальнейшее очевидно – в стремлении заполучить как можно больше горючего беспощадный летающий объект убивает всех, у кого в окрестности крыши случается оргазм, а число этих счастливчиков за время действия фильма, как назло, возрастает в геометрической прогрессии. Так что фильм справедливо завершается горой трупов и ударной, по мнению сценаристов, фразой:
«Я же говорила, что оргазм – вещь опасная!»
Не правда ли, хочется спросить, перефразируя разговор двух евреев о теории относительности: «И с такими шутками он поехал в Токио?» Вопрос был бы вполне уместен в устах того, кто «Жидкого неба» не видел – а кто видел, тот бы не его не задал, потому что фильм переполнен «шутками» самого высокого класса. Как там снят перекресток нью-йоркских улиц! Сопровождающая уличные сцены музыка, скомпонованная самим Славой, вышла отдельной кассетой – это ведь было в начале восьмидесятых, никаких дисков еще и в помине не было – и часто звучала по радио.
Я как раз была в Нью-Йорке и гостила у Цукерманов в разгар работы над фильмом, – вот где сгодились просторы их нежилого лофта! Там проводилась основная часть съемок, там день и ночь шел монтаж и на самодельной аппаратуре создавались умопомрачительные эффекты, позволившие «Жидкому небу» несколько лет продержаться на экранах «Арт-синема» – кинотеатров, рассчитанных не на широкую публику.
«Что ж, – сказал Слава – этого я и хотел. Не для того ведь я покинул две своих родины, чтобы угождать американской широкой публике».
Я не очень ему поверила, хотя, путешествуя по американской глубинке, пару раз попыталась посетить кинотеатры для широкой публики. Что и говорить, товар там давали весьма и весьма некачественный, ради него и впрямь не стоило покидать даже одну родину, не говоря уже о двух. И все же я не поверила Славе – уж слишком он восхищался успехами Стивена Шпильберга, отринувшего гордые ряды создателей арт-фильмов ради успеха у широкой публики, слишком уж вчитывался в опубликованные в «Вераети» таблицы рейтингов.
И оказалась права – чуть-чуть застолбивши свой небольшой успех в арт-синемах и на паре провинциальных фестивалей, Слава и Нинка отправились искать счастья в Голливуде, средоточии киноиндустрии для широкой публики. В Лос-Анджелесе они поступили так, как было настойчиво рекомендовано в излюбленных Славиных киножурналах. Вообще-то они ютились у одной своей московской подружки, но на те два дня, что им были назначены решающие свидания, они на последние гроши сняли баснословно дорогой номер в Беверли Хиллз Хилтоне. И нет, чтобы взять напрокат машину и усадить за руль Нинку – ни за что! – они наняли дорогостоящий лимузин с шофером, который отвозил их на эти свидания и ждал под дверью. Чтобы все видели, с кем имеют дело.
Мы с Сашей как раз жили у них в то лето, когда они умчались в Лос-Анджелес, окрыленные надеждой. Шел то ли 1982, то ли 1983 год – годы как-то странно сливаются по мере удаления от них по оси времени – и мы часто ездили в Нью-Йорк. У Саши были научные партнеры в Национальном Бюро Стандартов под Вашингтоном, и в придачу всегда еще два-три приглашения в различные университеты восточного берега, так что, пока он колесил по просторам Америки, я обычно гостила у Цукерманов, наслаждаясь напряженным градусом общения.
В то лето я к тому же привезла на продажу свой собственный фильм «Абортная палата», снятый в рамках германо-израильской коопродукции другим моим другом-режиссером и постоянным соавтором Станиславом Чаплиным – Стасиком, не Чарли, – о котором я расскажу отдельно. Мои молодые и неопытные израильские продюсеры, осознав, как это дорого – продавать готовый фильм, с удовольствием предоставили эту честь мне. А я сдуру согласилась – ведь их коммерческая неопытность могла показаться великой искушенностью по сравнению с моей.
Не вдаваясь в подробности, скажу только, что мне удалось все же продать единственную существующую копию фильма группе сомнительных личностей, владевших к тому времени газетой «Новое русское слово» и магазином русской книги «Руссика». У покупателей была одна-единственная претензия – они не хотели получить фильм в том виде, в каком я его предлагала – в целях улучшения условий продажи сдублированный неопытными продюсерами на английский, что оказалось одной из их многочисленных коммерческих ошибок.
Выяснилось, что в университетских арт-клубах, где только и мог бы быть прокатан фильм такого рода, желают смотреть иностранную продукцию только на языке оригинала. Но у моих покупателей был другой замысел, и только со временем я поняла, что и третий, – по их словам, они собирались прокатить фильм по русскоязычным общинам Америки, и они потребовали, чтобы я сделала полный покадровый перевод диалогов на русский язык.
Было начало сентября, жара за окном достигала 36 градусов, что в сочетании со 100-процентной влажностью превращало окружающий мир в ад. Три адских дня я просидела в цукермановском, неспособном к охлаждению, лофте, не отрываясь от американского видеоаппарата, неспособного показать на экране изображение, записанное на европейскую видеокассету. Кадр я могла восстановить только по памяти, узнавая его по репликам, – впрочем, вру, какую-то размытую картинку иногда удавалось увидеть.
И на основании этих скудных данных я в конце концов составила покадровый перевод, в результате чего избавилась от алюминиевой коробки невыразимой тяжести, заключавшей в своих недрах единственную копию фильма «Абортная палата», живо показывающего кое-какие темные стороны советского быта. И мало того, что от коробки избавилась, вдобавок еще получила подписанный хозяином «Руссики», Дэвидом Дескалом, чек на небольшую, но для меня значительную сумму – причем чек этот оказался покрытым, что с чеками Дескала случалось нечасто.
Он долго судился с издательством «Посев» за зажиленные у них 16 000 долларов, а когда суд постановил деньги «Посеву» вернуть, вернул их непокрытым чеком. И этот человек выплатил мне сполна все обещанное, ни разу, ни в одном американском городе или городишке не прокатив мой с Чаплиным фильм. Возникает вопрос, куда он его девал, кто дал ему на это деньги, и какую их часть он отдал мне? Догадливых прошу присылать ответы в письменной форме.
Ко времени, когда завершилась моя эпопея с захоронением собственного фильма, Слава с Нинкой вернулись из Лос-Анджелеса, безумно окрыленные достигнутым – их взял в клиенты один из знаменитых около-голливудских агентов, а хороший агент, по мнению киножурналов, и есть истинный залог успеха.
Не знаю, вполне возможно, что статьи об определяющей роли агентов в судьбах художников пишут сами агенты или агенты агентов, но мой опыт ничего подобного не подтверждает. Все мои агенты, – а я перебрала их штук десять, не меньше, ни разу не сделали для меня ничего путного. Правда, и им не удалось на мне заработать, за исключением двоих – которые умудрились беззастенчиво снять свой десятипроцентный навар с дохода, полученного мною без всякой их помощи.
И Славин могущественный окологолливудский агент тоже нисколько не способствовал его дальнейшему продвижению на кино-рынке. Я так смело об этом сужу, потому что никакого дальнейшего продвижения за «Жидким небом» не последовало. Сколько я ни спрашивала Славу, что он сейчас делает, он неизменно отвечал «Пишу сценарий». Писал он, разумеется, не один и тот же сценарий, а каждый раз другой, на который он каждый раз возлагал поначалу большие надежды – до тех пор, пока они в очередной раз не рушились.
Это следовало воспринимать, как должное, – сам Слава зачитывал мне пугающую статистику из своих любимых журналов, согласно которой из 1000 задуманных фильмов финансирование получали 10, из которых 9 приостанавливали на середине из-за отсутствия денег, а из оставшихся завершенных 90 % не добирались до проката. Оставалось только удивляться числу отважных любителей расшибить себе лбы об эту непроходимую стену. И Слава среди них был не последним молодцом.
За все эти годы, а их прошло уже двадцать, он сумел поставить только еще один фильм, экранизацию «Бедной Лизы» Карамзина, по чужому сценарию, – по слухам, на деньги, вложенные в постановку отцом сценаристки, который вкладывать в прокат и рекламу уже не захотел. А без денег и рекламы какой может быть прокат, особенно по невероятно актуальным в наш развращенный век мотивам «Бедной Лизы»?
Тут даже Славина элегантная стилизация вряд ли может спасти. Да ведь и стилизация стилизации рознь – в «Жидком небе» все кипело, полыхало страстью и напором, а в «Бедной Лизе» и красота уже без задора, и любовь без темперамента. Там, где в «Жидком небе» была симфония красок и мелодий, в «Бедной Лизе» вымученное мяу-мяу, мой миленький дружок, любезный пастушок!
Теперь, говорят, Слава зарабатывает, варганя рекламные поделки для русскоязычных торгашей с Брайтон-Бича – чем грубее, тем вернее. Он мне это не рассказывает, а, как всегда, темнит, намекая на грядущие большие проекты, но слухом земля полнится. Что ж, если кто бросит в него камень, то не я. Жить-то надо! Но стоило ли покидать ради этого занятия две родины?
А мои друзья Чаплины, Лина и Стасик, приняли условия израильского телевидения, развивались вместе с ним, от черно-белого до цветного, от примитивного до изысканного, и победили – покорили сердца жестоковыйной израильской элиты, сделали в четыре руки около тридцати фильмов и за два последних года получили подряд два местных «Оскара».
Слава Цукерман говорит, что он поступил правильно – вырвавшись на широкие просторы мирового кино. Он был бы прав, если бы можно было с уверенностью сказать, что он на эти просторы вырвался. А Стасик Чаплин ничего про мировые просторы не говорит – он склонен всегда во всем сомневаться, и в правильности своего решения и в ошибочности Славиного, но мировые просторы сами простираются перед ним: первый приз на Московском фестивале и множество других, не таких важных призов по всему миру, его фильмам, и фильмам Лины, и их общим.
И чтобы окончательно высветить это противоречие между неуступчивостью в стремлении к великому и уступчивостью, ведущей к вершинам успеха, я расскажу о третьей паре своих друзей режиссеров – Леониде и Ларисе Алексейчук, в сравнении с гордыней которых даже исступленный натиск Цукермана выглядит ползучим путем конформиста.
В молодости оба они напоминали греческих богов не только статью, ростом и красотой, но и несносным неуживчивым характером. Сразу по окончании ВГИКа они сделали яркий документальный фильм о ленинградском хореографе-модернисте Якобсоне, немедленно после создания закрытый властями как за эстетические грехи хореографа, так и за эстетические грехи режиссеров. В процессе закрытия фильма Алексейчуки перессорились со всем попавшимся по дороге начальством, практически обрекая себя таким образом на волчий билет. Промаявшись несколько лет без работы и денег, они воспользовались щелью в железном занавесе, открывшейся в результате еврейской эмиграции, и ускользнули в Канаду, в город Торонто, неблагодарно прозванный ими Хуторонто, где Ларису приветила еврейская община, а Леню – украинская.
Оба они, способные и напористые, легко овладели английским языком, после чего без особого труда получили на канадском телевидении несколько заказов на мелкие документалки с перспективой дальнейшего продвижения. Тут бы им и осесть, но они быстро пресытились прелестями провинциальной жизни и начали лихорадочно искать пути бегства в культурный центр мира, Нью-Йорк. А где же еще, казалось, можно жить?
И снова хорошее знание английского в сочетании с живостью ума и яркой одаренностью подкинуло им отличную карту – Леню приняли на должность профессора на кино-факультет Нью-Йоркского университета. В то время на них стоило посмотреть: позабыв свое полуголодное российское существование, они наслаждались щедрыми дарами успеха, – профессорской зарплатой, аккуратно приходящей на банковский счет первого числа каждого месяца, и просторной университетской квартирой на Вашингтон сквер, в самом сердце артистического Нью-Йорка.
Другие люди радовались бы своей удаче до конца дней, но это – другие, не Алексейчуки! Им очень скоро стала ненавистна Америка с ее массовым размахом и эстетической неразборчивостью, и того ненавистнее собственные студенты, ограниченные недоучки и недоросли, по мнению Леонида, полностью разделяемому Ларисой. В результате конфликта с университетским начальством из-за очередного бездарного миллионерского сынка, папа которого исправно платил огромные деньги за обучение, Алексейчук влепил пощечину декану и, громко хлопнув дверью, вышел вон по собственному желанию.
С Нью-Йорком было покончено, как с Москвой, Ленинградом, Монреалем и Торонто. Выгрузив свое барахло из почти даровой университетской квартиры, Алексейчуки отбыли в Европу, заранее предвкушая, как они эту старую дуру покорят и поставят на колени.
Но это оказалось не просто. Старая дура Европа не хотела покоряться и становиться на колени перед заносчивыми молодыми гениями, которые в пылу битвы не заметили, что молодость уже прошла. С презрением отринув замшелый Лондон, они поселились в Риме – в их сердцах еще жила память о великолепии и мощи несравненного итальянского кино. В пылу битвы они не заметили, что молодость итальянского кино тоже уже прошла.
По пути Леонида и Ларису подстерегали разные незначительные соблазны – документалка тут, хроника там, но они с гордым презрением отказывались размениваться на мелочи. С особым гневом они осуждали соглашателей Чаплиных, готовых снимать что угодно, лишь бы снимать. Это осуждение не мешало их дружбе – ежегодно встречаясь, они обсуждали грандиозные проекты одних и мелкотравчатые успехи других, забывая, что режиссура подобна игре на скрипке и отмирает без постоянной тренировки.
Славу Цукермана с его коммерческими «панамами» тоже, естественно, включали в повестку дня и с пренебрежением отметали – Алексейчуков не привлекал коммерческий успех, они жаждали только высшего, подсознательно руководствуясь набившим оскомину лозунгом «лучше умереть стоя, чем жить на коленях».
Получить удовольствие от собственной непреклонности им мешала я, каждый раз заостряя проблему настойчивым напоминанием, что важно не только, где стоять, умирая, но и на чьих коленях жить.
А годы шли. Непреклонные Алексейчуки писали сценарий за сценарием, точно так же, как несгибаемые Цукерманы, а может, и те, и другие и сейчас пишут, только уже не просят прочесть. И хоть сущность этих параллельных сценариев была полностью перпендикулярна – у одних рассчитанная на кассовый успех, у других – на вечность, судьбы их оказались практически неотличимы, поскольку на какую грандиозную величину ни умножить нуль, он так нулем и остается.
Я бы назвала это трагедией, которую смягчает только общее презрение обеих гонористых пар к их общим друзьям Чаплиным, преуспевшим без излишних запросов как к кассе, так и к вечности. А творческую жизнь Чаплиных я назвала бы мелодрамой, что всегда предпочтительней трагедии, как поется в народной песне:
Если дашь – помрешь, и не дашь – помрешь,
Так лучше дать и помереть, чем не дать и помереть!
Но о Чаплиных не сейчас и не здесь. Я надеюсь написать о них отдельно, в другой главе, – об их поэтических взлетах и деловой сноровке, об их щедрости и конформизме, а главное, об их неповторимом обаянии, с помощью которого они сумели сделать своими верными союзниками всех тех, кого Слава Цукерман проклинал за несговорчивоссть и черствость.
А пока я хочу рассказать о странном организме, скрывающим свое лицо под кодовой кличкой «Американский театр». Ведь если всмотреться попристальней, такого единого организма нет вообще, а есть неоднородный конгломерат разрозненных, не зависящих друг от друга образований, рассчитанных на несовместимые цели и несовместимые вкусы.
Когда речь заходит о причудах развития современной культуры и миграции ее «центров», мне всегда припоминается поучительный опыт Римской империи.
Греческая культура была прекрасна и изысканна, она воспаряла к вершинам мысли, она апеллировала к возвышенным чувствам, она была совершенна по форме. Но поток жизни в виде римских легионов и римских денег увлекал ее вдаль от родных Афин к берегам иноязычного Тибра. По пути она трансформировалась, огрублялась и демократизовалась, – и в Риме она уже служила не только для услады патрициев, но и для развлечения толпы.
Увы, история так же склонна к повторениям, как и мы, простые смертные. Изысканное и богатое европейское искусство, воспаряющее к вершинам мысли и апеллирующее к возвышенным чувствам, устремляется сегодня к далеким берегам Нового Света. По дороге оно трансформируется и упрощается, чтобы стать развлечением многомиллионного американского зрителя.
Давно канули в вечность и почти позабыты славные времена, когда французский театр определял вкусы и вызывал восторги публики. Кто теперь говорит о спектаклях «Комеди франсез»? Сегодня французский театр – явление малоинтересное и глубоко провинциальное, о нем мало говорят даже во Франции. Еще недавно законодателем театральной моды был английский театр, и тем печальней его поспешная деградация, снижение критериев, оскудение сценических решений.
Нет, нет, это еще далеко не конец, это только начало конца, начало провинциализации английского театра, его даже не сразу и заметишь, – но тенденция уже наметилась. Ее можно описать коротко и ясно: все лучшее после первого же сезона уплывает в Америку. Остается только второй сорт, а второсортность и есть главный признак провинциализма.
Но, перехватывая, покупая и увозя, Америка одновременно перекраивает и переиначивает, приспосабливая искусство к вкусам американского зрителя. И из образовавшегося сплава возникает новый организм, имя которому американский театр.
Что же это такое – американский театр? Просто ли географическое понятие – как говорится, то же самое, только в другом месте? Конечно, внешне, с точки зрения публики, он выглядит так же, как и европейский: публика сидит в зале и смотрит на сцену, где актеры разыгрывают спектакль, кроме тех случаев авангардистского решения, когда публика сидит на сцене, а актеры бегают по всему залу.
Но такое сейчас можно увидеть и в Европе. Когда я употребляю термин «американский театр», я имею в виду нечто более существенное и основополагающее для театральной жизни, я имею в виду систему организации театрального производства, которая в конечном счете определяет лицо театра. Система же организации театрального производства в Америке ничем не похожа на европейскую. Однажды мне довелось присутствовать на встрече с директором Американского центра международного института театра мисс Конью. Вот что она сказала об американском театре: «Американский театр – это бедный театр, существующий в богатой стране». После этого она перечислила основные причины этой бедности и неприкаянности.
Я привожу их в почти дословном переводе: во-первых, основатели страны, пуритане, считали театр орудием зла, и это их убеждение легло в основу несерьезного к нему отношения; во-вторых, на театре лежит «коммерческое проклятие», то есть убеждение, что хороший театр сам себя окупит и не надо о нем заботиться; в-третьих, в Америке не было многовековой театральной традиции, которая числила бы театр одним из неотъемлемых элементов национальной культуры.
В результате, театр в Америке – это частное дело. Только мы, выходцы из страны, где частных дел не было и быть не могло, способны оценить преимущества этой ситуации. Отлично, если государство знать не хочет о существовании театра: оно за театр не платит, оно театр не поддерживает, оно в театральные дела не вмешивается и ими не руководит. Казалось бы, чего уж лучше?
И в каком-то смысле так оно и есть: если смотреть со стороны, дела американского театра идут прекрасно. Все лучшее перекочевывает в Америку со всего мира, ежедневно в Нью-Йорке открывается не менее двух десятков новых спектаклей, профессиональные качества всех участников которых выше всякой критики.
Можно было бы написать отдельную поэму о вечерней бродвейской толпе – об этом причудливом, пестром человеческом потоке, текущем к многочисленным театральным подъездам в обрамлении зазывно сверкающих, головокружительных бродвейских витрин, киосков и аттракционов. Поток этот, разбиваясь на речки, ручейки и рукава, втекает, слегка завихряясь, в распахнутые театральные двери.
А дверей этих великое множество – есть кварталы, вроде примыкающих к Бродвею с востока отрезков Сорок Пятой или Сорок Шестой, где на ста пятидесяти метрах расположено по пять-шесть театров. И в каждом из них спектакль стоит огромных денег и призван вернуть эти деньги с лихвой.
Сотни театров каждый вечер дают спектакли в этом чудовищном городе-воронке, засасывающем и увлекающем человека, как ни один город мира не может сегодня увлечь. Здесь можно увидеть все: классический мюзикл и классическую сентиментальную драму, разыгранные в традициях добротного реализма, и тут же – серию представлений без сюжета, без декораций, без света, без музыки, без одежды или без чего-нибудь еще, совершенно необходимого с точки зрения веками взлелеянных театральных канонов.
Точно так же разнятся цены на билеты: есть театры, где стоимость одного билета могла бы покрыть расходы на трехдневную безбедную жизнь в Нью-Йорке, а есть такие, что берут за вход как за самый дешевый обед у стойки бара. Столь же различны расходы на постановку и гонорары, выплачиваемые актерам. Но именно этот сложный калейдоскоп образует тот единый живой организм, который только и способен к созданию, обработке и воплощению нового слова в искусстве.
В Америке не было театральной традиции, той, что в Европе создавалась веками феодального правления и феодального меценатства. Если в Европе любой захудалый феодальный двор считал для себя обязательным иметь свой театр и не жалел на это денег, то внезапно разбогатевшие американские нувориши и думать не думали об этих глупостях. Театр в Америке возник как чисто коммерческое начинание, противопоставленное при этом пуританскому представлению о лицедействе, как о кознях дьявола.
Никто никогда в Америке прошлого века не пытался создавать государственный театр, как это было принято в Европе. Американский театр возник на пустом месте и рос, как сирота. Он сам себе пробивал дорогу. И лишь постепенно, ценой тяжких трудов, многих банкротств и жестоких разочарований, он стал тем центром мирового театра, о котором мы сегодня говорим с почтительным трепетом: «Бродвейский спектакль».
Что же это такое – «Бродвей»?
Прежде всего Бродвей – это длиннейшая и грязнейшая извилистая улица, а точнее, авеню, ибо она пересекает Манхеттен вдоль, с юга на север, а не поперек, с востока на запад, как это делают улицы-стритс. Все авеню Манхеттена, от Первой до Двенадцатой, кроме имен, имеют еще номера, и только Бродвей – это просто Бродвей, его можно узнать и без номера, ибо нет другой улицы на Земле, которая могла бы с ним соперничать.
Бродвей дал свое имя тем нескольким центральным своим кварталам, между начальными Сороковыми и средними Пятидесятыми, где сосредоточены процветающие предприятия нью-йоркской «театральной индустрии». Ибо иначе как индустрией эту ветвь мировой культуры назвать нельзя – ведь главной ее задачей является гарантированная прибыль, а гарантированную прибыль в наши дни может обеспечить только массовая продукция.
Бродвей – это рынок товаров массовой продукции, предлагающий за хорошие деньги хороший, надежный, но не выходящий далеко за рамки общепринятого массовый товар. Эта общая задача накладывает на все бродвейские спектакли некий стандартный отпечаток, заметный, несмотря на все их индивидуальные различия.
Соответственно цене билетов бродвейские театры обеспечивают зрителю высокопрофессиональную, богатую декорацию, дорогие костюмы, труппу актеров безупречной квалификации и, в качестве приправы, допустимый уровень новизны. Новое, смелое, оригинальное только в качестве приправы, на кончике ножа, не более, чтобы не раздражать среднего зрителя, – ведь это он обеспечивает кассовый сбор.
Это вовсе не значит, что все бродвейские спектакли заурядны и банальны. Секрет успеха театральной промышленности Америки в том именно и состоит, что она предлагает товар на все вкусы, – она и изысканного зрителя не забывает. Для этого зрителя существует постоянный источник новых пьес и спектаклей – на глазах нищающая интеллигентная европейская культура, всегда готовая продаться за приличное вознаграждение.
Есть на Бродвее театры, целиком специализирующиеся на вывозе и последующей продаже нашумевших в Англии лондонских спектаклей. Именно так был когда-то вывезен из Англии гвоздь театрального лондонского сезона начала семидесятых – «Травести» Тома Стоппарда. Это был спектакль, казалось бы, совершенно безнадежный в Америке, весь построенный на остроумном цитировании комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». Ну сколько можно найти американцев, читавших Уайльда? А кто из них настолько хорошо его помнит, чтобы смеяться элегантному искажению его парадоксов в пьесе, где нет ни сюжета, ни шумной музыки, ни любовной интриги, а есть только изысканная подмена понятий и блестящий обыгрыш намеренно неправдоподобных недоразумений?
Тем не менее спектакль был вывезен вместе с главным героем и прошел с большим успехом, потому что был соответственно разрекламирован и щедро воспроизведен. Я намеренно употребила слово «щедро», ибо продюсеры не пожалели денег ни на производство, ни на рекламу – и окупили свои расходы с лихвой.
Однако вывезенные из Европы спектакли нельзя назвать главным блюдом бродвейской кухни – это не более чем «эпитайзер», то есть небольшая и острая закуска для затравки, для аппетита, рассчитанная на любителя. Главное блюдо Бродвея, то, что создало его силу, славу и мощь, это мюзикл, подлинно народное блюдо, представление обильное и роскошное по всем статьям. Билет на такой мюзикл стоит дорого, и постановщики свято выполняют основной принцип американского бизнеса: клиент получает товар, достойный своей цены.
Мюзикл подается без обмана: в оркестровой яме отличный и большой оркестр исполняет лихо написанную возбуждающую музыку, под звуки которой на огромной сцене так же лихо и слаженно, как один человек, отплясывает роскошно одетый, точнее, – раздетый, и безупречно натренированный кордебалет. В такт музыке и танцам вспыхивают и меркнут, переливаясь всеми цветами радуги, мощные, продуманно расставленные по всему огромному залу прожекторы, превращая щедро оплаченный вечер в заслуженный праздник.
А в центре этого великолепия выступает молодая, красивая прима с оперным голосом и щедро обнаженной грудью, не притворяясь чрезмерной скромницей в любовных сценах, но и не слишком переходя границы общественного приличия. В сопровождении пары любовников и наряда полицейских, она весело и не очень логично пробирается сквозь все преграды непритязательного сюжета к обязательному счастливому концу, по негласной договоренности обещанному администрацией.
Так выглядит настоящий бродвейский спектакль сегодня, так выглядел он тридцать лет назад, и надеюсь, так он будет выглядеть через тридцать лет. Но, несмотря на это постоянство, в жизни американского театра произошли революционные перемены, полностью изменившие его лицо и превратившие его из театра исключительно коммерческого в богатейшую в мире лабораторию, занятую поиском и разведкой нового.
Все началось с того, что Бродвей не мог предоставить работу всем желающим посвятить свою жизнь театру. Сотни безработных актеров, режиссеров и театральных художников обивали пороги существующих театров, готовые на полуголодное существование в смутной надежде, что перед ними когда-нибудь откроются заветные двери. Но годы шли, а двери не открывались. Безработные и нищие артисты всех театральных профессий все ясней и ясней понимали, что у большинства из них нет никакой надежды разрушить десятилетиями существующую традицию театра «хэппи-энда», связывающую истинного художника по рукам и ногам своей косностью и коммерческой предусмотрительностью.
И тогда возникла идея нового, экспериментального, театра, цель которого – не создание товара для заработка, а поиск и риск. Театра, идущего в ногу с культурными веяниями сегодняшнего дня, театра, способного говорить голосом затерянной в толпе одиночки, театра, пытающегося сохранить индивидуальность в эпоху «восстания масс». Из удачного сочетания творческого поиска с нищетой и отчаянием творческой единицы возник некоммерческий, «внебродвейский театр» – так называемый «офф-Бродвей».
И бросил вызов бродвейскому театру. Казалось бы, что плохого в богатстве, тем более что бродвейское богатство зачастую бывает довольно хорошего вкуса и, уж во всяком случае, высочайшего профессионального класса. Но именно богатство раз и навсегда закрывало двери Бродвея для всего смелого, нового, ищущего. Ибо вложенные деньги не допускают риска.
Поэтому коммерческий театр не может и не хочет приютить под своей крышей полуголодных безумцев, чудаков, готовых на нищету и неустроенность ради служения искусству, а не ради высокой прибыли. И чудаки, испив полной пригоршней всего, что положено испить чудакам, и потеряв надежду приобщиться к миру обеспеченных и преуспевших, каким-то чудом объединились и начали собственное дело.
Десятки и сотни маленьких театриков рассыпались по нью-йоркским трущобам. Засверкали не очень ярко, ибо театральный свет страшно дорог, – но засверкали огнями рампы в полуразрушенных холодных подвалах и чердаках.
Где-то в стороне от Бродвея небольшие группки – без денег, без посторонней помощи и без особой надежды на успех – начали создавать экспериментальный театр.
Поначалу ставили классику в собственной обработке, потом начали появляться свои офф-бродвейские драматурги – они писали не всегда хорошо, но зато дерзко и вызывающе, – и новоиспеченные театры начали практиковать постановки новых удивительных пьес, не рассчитанных на широкого зрителя. Зачастую в них не было не только сюжета, развивающегося по правилам, но даже сюжета, развивающегося против правил. Бродвейские продюсеры забеспокоились – никто не любит конкурентов, даже нищих.
На ноги был поднят профсоюз актеров, офф-Бродвею была объявлена война. Был разработан суровый свод правил, ограничивающий коммерческие возможности офф-бродвейских театров. Эти правила предусматривали все: цену билетов, количество мест в зрительном зале, оплату актеров, продолжительность спектаклей, – и рассчитаны они были на скорейшее и надежнейшее удушение новорожденного в колыбели. Но младенец оказался на редкость живучим: он рос и развивался, несмотря на все попытки его уничтожить.
Под натиском безработной актерской массы, жаждущей играть и уставшей безнадежно штурмовать бродвейскую сцену, дрогнуло сопротивление союза актеров. Шаг за шагом шел он на уступки, смягчая суровость анти-офф-бродвейских запретов, и к середине пятидесятых годов вдруг стало ясно, что начинается коммерческое преуспевание офф-Бродвея. Конечно, не все театры, начавшие борьбу с Бродвеем, сумели привлечь публику и постепенно поднять плату за вход, не все сумели отремонтировать зрительные залы, а то и перебраться в новые, более уютные и вместительные; расцвет, как это и положено расцвету, сопровождался банкротствами и крушениями слабых.
Зато выжившие заняли к концу пятидесятых годов вполне обеспеченное положение в театральном мире Америки, хоть и старались по мере сил сохранить экспериментальный новаторский характер представлений. Но мера сил была уже не та. Я видела один из офф-бродвейских мюзиклов – музыкально-сценическую обработку романа Вольтера «Кандид». Шла уже середина семидесятых годов, и офф-Бродвей давно перерос свой молодой задор: режиссура была, правда, в меру изысканной, кордебалет не выглядел столь беззастенчивым и откровенным подражанием кабаре, как это обычно бывает на Бродвее, действие разыгрывалось в самых неожиданных местах – иногда даже под потолком, так что зрителю приходилось непрестанно крутить головой, а то и перегибаться через спинку кресла, чтобы видеть происходящее. Зато цена билетов почти сравнялась с бродвейской, и наверно поэтому создатели спектакля так и не решились показаться смелыми новаторами. А, может, они уже ими и не были.
Но это не означает, что новаторские тенденции нью-йоркского театра иссякли вместе с одряхлением офф-Бродвея. На смену офф-Бродвею в середине шестидесятых годов так же стихийно и дерзко вышло на подмостки новое незаконное дитя театральной музы – так называемый офф-офф-Бродвей, то-есть, вне-вне-Бродвея.
Интересно, что офф-бродвейские продюсеры встретили его появление точно так же, как когда-то их самих встретили бродвейские воротилы: они спешно издали серию правил, направленных на удушение непрошеного конкурента. По этим правилам, например, билеты в офф-офф-бродвейском театре не могут быть дороже жестко определенной ничтожной суммы, а количество мест в зрительном зале не должно превышать сотню. Суровые правила эти действуют безотказно, но, как ни странно, именно они обеспечивают бесперебойную работу сложного театрального механизма, призванного поддерживать высокий уровень театральной культуры.
Ведь в результате всех этих ограничений никакой спектакль принципиально не может покрыть затраченных на постановку денег, и это сразу развязывает руки постановщику: он думает только о решении профессиональных проблем, а не коммерческих, которые ему решить все равно не дано. Расходы покрываются из специального фонда, ибо вся деловая часть держится на так называемой системе «грантов», т. е. подарков-пожертвований, получаемых каждым театром в зависимости от его успехов.
В Америке существует бесчисленное множество специальных союзов, объединений и фондов, собирающих деньги на распределение таких грантов. Преуспевающий офф-офф-бродвейский театр, типа «Манхэттенского театрального клуба» или «Ла мамы», насчитывает около сотни жертвователей-покровителей. Имена их печатаются обычно в нижней части программки под перечнем действующих лиц и исполнителей, так что тщеславные меценаты могут наслаждаться своеобразным отблеском театральной славы. Тем временем более практичные радетели искусств могут радоваться, что столь ловко обошли налоговое управление: по американским законам часть прибыли, израсходованная на благотворительность, облагается гораздо более низким налогом, чем истраченная на собственные нужды.
Эта подробность очень стимулирует благородные порывы американских любителей наук и искусств: и благодаря ей несть числа благотворительным стипендиям и всяким другим щедрым пожертвованиям на развитие всевозможных духовных и неприбыльных начинаний. Всякий офф-офф-бродвейский театр изо всех сил старается поставить что-нибудь пооригинальней и поинтересней, ибо слава в профессиональном мире привлекает к театру внимание жертвователей.
Едва, например, спектакль по моим пьесам получил высокую оценку в «Нью-Йорк Таймс», «Дейли Ньюс» и «Виллидж Войс», в наш театр тут же потянулась цепочка представителей разных фондов, распределяющих гранты на постановки. Не знаю, кто из них сколько дал, но удовлетворенные лица директора и администратора подтверждали мое предположение, что урожай неплохой, и на следующий спектакль планировалось взять напрокат цветной кинопроектор, чтобы снимать отдельные сцены на пленку – из чего следовало заключить, что деньги на эти дорогостоящие аттракционы обещаны.
Что касается актеров, то они от офф-офф-бродвейских спектаклей имеют только профессиональное удовлетворение, ибо каждый актер получает за весь период (месяц ежедневных репетиций и три недели представлений) не более ста долларов, то есть всего ничего.
И все же, несмотря на ненадежность, необеспеченность и неприбыльность актерской карьеры, не оскудевает людьми театральное поле. Сотни и тысячи актеров осаждают некоммерческие театры, чтобы получить роль, не сулящую, по сути, ни денег, ни карьеры. Ведь только единицы пробиваются туда, где платят, окружают почетом и подписывают контракты. Девяносто процентов американских актеров находятся в состоянии перманентной безработицы. На деньги, полученные за дни репетиций и постановок, долго не проживешь, – значит, требуются дополнительные заработки. И актеры не гнушаются никакой работой: они моют посуду в барах, гнут спину над чертежными досками; если повезет – стоят за прилавком. Но не оставляют театр!
Эта ситуация, конечно, трагична для каждого в отдельности, но именно благодаря ей возник тот невероятный профессионализм, который поражает во всех краткосрочных спектаклях, обреченных сойти со сцены через три недели после премьеры.
Нет, отнюдь не бедна талантами офф-офф-бродвейская сцена. Напротив, мне редко приходилось сталкиваться со столь высокой концентрацией первоклассных профессионалов, какую я увидела в офф-офф-бродвейских спектаклях. И немудрено: ведь на каждую роль у режиссера бывает выбор, по крайней мере, из двадцати человек, а на некоторые роли число претендентов доходит до пятидесяти. Непринятые, не теряя надежд, бегут дальше в поисках других театров, объявивших очередной «кастинг»…
Мое понимание сложной структуры нью-йоркской театральной жизни по сути началось не с момента репетиций моих пьес, а со знакомства с профессором Нью-Йоркского университета, театроведкой Розеттой Ламонт. Розетта Ламонт, кругленькая, пухленькая и аппетитная, как ханукальный пончик, всегда точно знала, где, что и когда что следует смотреть. Она пришла на мой спектакль, а после представления, представившись, немедленно пригласила меня на новый чудо-спектакль нью-йоркского авангарда.
Я, естественно, была в восторге, – так вот сразу попасть в самый центр событий! Похоже, по мановению волшебной палочки сказочный «Сезам» начал отворять передо мной двери таинственных пещер Алладина. Первая пещера оказалась весьма оригинальной.
Такси миновало Гринвич-Виллидж и углубилось в угрюмый район, где я не хотела бы в сумерках очутиться без провожатых. Дома вокруг казались нежилыми, они напоминали заброшенные склады, набитые старой рухлядью, редкие прохожие выглядели подозрительно и обходили друг друга с явной опаской. У открытых дверей неуютных питейных заведений неприкаянно толпились группки мрачных мужчин, все вокруг носило печать многолетней нищеты и запущенности.
Такси притормозило у неприветливой подворотни, замыкающей темную арку. В тени арки нас поджидал красивый чернобородый индус – главный редактор интеллектуального альманаха «Театр сегодня». В глубине подворотни скалилась щербатая черная дверь, на которой белой масляной краской было небрежно написано: «Театр-сюрприз Ричарда Формана».
Пока Розетта Ламонт вела приглушенные переговоры с лохматым пареньком в бахромчатых джинсах, индус рассказывал мне о Ричарде Формане. Десять лет назад он начал как блестящий и дерзкий молодой режиссер, полный озорных причуд. Все восхищались им, каждый его спектакль был сенсацией, но никто из коммерческих бродвейских воротил им не заинтересовался, ибо его фантазии не могли привлечь широкую публику, то есть сделать кассовый успех.
Годы шли, молодость сменялась зрелостью, блеск начал тускнеть, острота все больше приперчивалась злостью. И сегодня у Ричарда Формана есть имя, есть этот сарай, что, впрочем, не так уж плохо, ибо сарай хорошо оснащен и просторен, есть небольшие пожертвования, которые позволяют ему продолжать творческие поиски. «Но что-то ушло, – вздохнул индус. – То ли мы повзрослели, то ли вино начало потихоньку превращаться в уксус».
Розетта, завершив свою беседу, окликнула нас: «Пора!» Никто не спрашивал билетов, и только тут я сообразила, что мы приглашены на генеральную репетицию, а не на спектакль.
Мы остановились в узком проходе между тусклой зеленовато-коричневой стеной и амфитеатром, высоко уходящим под беленный известкой потолок. Никакого сценического возвышения или подмостков, собственно, не было, была просто игровая площадка с хорошо отлаженным, роскошным набором театральных прожекторов.
К тому времени я уже знала, что самое дорогое в нью-йоркском театре – свет. Выходило, что Ричарду Форману жаловаться не на что. Впрочем, он и не жаловался. Он сидел на складном стуле между сценой и амфитеатром, уши его были прикрыты наушниками, руки ловко управляли пультом, включающим серию магнитофонов. Он был лыс, высок и очень сутул, синий тренировочный костюм болтался на нем мешком.
Он небрежно махнул рукой в сторону амфитеатра: садитесь! Я глянула по направлению, указанному его рукой, и ахнула: не то что кресел – даже стульев не было: высоко и круто уходили вверх ярусы деревянных насестов. Самый нижний поднимался метра на полтора над сценической площадкой, верхний растворялся где-то высоко в полутьме под потолком. К насестам вела крутая лесенка типа пожарной, вскарабкаться по которой требовало недюжинной отваги.
Там уже сидело человек пять-шесть, вид у них был взъерошенный и слегка встревоженный. Мы попытались было сесть в первом ряду, чтобы не карабкаться вверх, но Форман оторвался от своих магнитофонов и сердито рявкнул: «Выше, выше! Чем выше, тем лучше видно!» С ужасом заглядывая в зияющую под ногами пустоту, мы поднялись выше и сели в ряд на чуть пружинящей под нами неструганой доске. Ноги упирались в тонкую жердочку, натянутую над трехметровой пропастью.
Начала представления я просто не заметила, поглощенная одной задачей – не сверзиться вниз в темную и вполне вместительную щель. Оторвав наконец взгляд от завораживающей глубины под ногами, я подняла глаза на раздвигающийся занавес – как ни странно, но в этом модернистском спектакле каждая картина сопровождалась уютно-традиционным шорохом раздвигающегося занавеса. Открывшаяся за занавесом сцена была красоты невероятной: задняя стена представляла собой черно-белую шахматную доску с державшимися на ней чудом странными черно-алыми фигурами, пол был черный, боковые стены – белые, а по черному полу медленно и плавно катилось по диагонали большое алое яблоко. Я вспомнила, что спектакль называется «Отравленное яблоко», но, честно говоря, так толком и не поняла, о каком яблоке шла речь; скорее всего – о яблоке, сорванном по наущению змия-искусителя с древа познания, но за окончательность трактовки не ручаюсь.
Фигуры на шахматной доске зашевелились – оказалось, что это раскрашенные головы участников спектакля, просунутые сквозь дыры в расчерченном под шахматное поле картоне. Никто из участников спектакля не произнес ни слова – за всех говорили магнитофоны. Магнитофоны жили как бы отдельно от действия, они непрерывно толковали – хором, сольно и вразнобой, они обсуждали теологические, философские и эсхатологические проблемы, озабоченные в основном скорой гибелью нашей цивилизации. Актеры в это время сомнамбулически двигались по сцене, группируясь в живые картины, сплетаясь в замысловатых танцах, переодеваясь в разноцветные одежды.
Никакого намека на сюжет не было. Была прекрасная, если верить магнитофонным голосам, девушка Рода, к которой все они обращались – каждая сентенция начиналась восклицанием: «О Рода!» Постепенно я вычленила из толпы участников предполагаемую Роду, она и впрямь была хороша собой, а рядом с ней функционировала некая группа картофелин, с которыми происходили всякие ужасы: их очищали от кожуры, а иногда прямо в кожуре и варили, их резали на куски, их зажаривали, складывали в мешки, закапывали в землю.
Магнитофоны прямо надрывались от жалости и сочувствия к ним, и я постепенно пришла к убеждению, что картофель изображает простые народные массы, с судьбой которых никто не считается. Когда по истечении двух с половиной часов весь картофель окончательно извели, изжарили и сгноили, Рода, любовавшаяся этой картиной с балкона, в экстазе начала срывать с себя одежды под медленную засасывающую музыку.
Раздевшись догола, она грациозно спустилась по лестнице вниз и, повернувшись к залу спиной, начала медленно удаляться, чуть покачивая прелестным, круглым, как яблоко, задом. Перед ней одна за другой раздвигались стены, открывая довольно внушительное для маленького театра пространство: похоже, оно было раза в четыре больше зала. На последней стене наподобие закатного солнца сияло огромное алое яблоко, сильно смахивавшее на задницу Роды, выкрашенную в красный цвет.
Воздев руки то ли в отчаянии, то ли в восторге – нельзя было сказать точно, ибо магнитофоны смолкли, не утруждая себя объяснениями, – Рода устремилась к нему, и занавес закрылся. Подождав Розетту, отправившуюся выражать наши чувства Форману – я уверена, что она была не вполне искренна, расхваливая спектакль, – мы вышли на пугающе пустынную темную улицу…
«А на будущей неделе мы пойдем в Линкольн-центр на новую постановку «Агамемнона», – сообщила Розетта, и я подчинилась ей беспрекословно. Если б не она, я бы ни за что не пошла: во мне с юности жил ужас перед классической драматургией. Благодаря Розетте я этот ужас сумела преодолеть – выхода не было, она объявила, что каждый «интеллигентный человек» обязан «это» увидеть.
Линкольн-центр – это вам не сарай Ричарда Формана на заплеванной Бейкер стрит, а роскошный дворец культуры, куда настоящие дамы приезжают в лимузинах, чтобы не измять вечерние платья. Мест на сцене, как того жаждала Розетта, не оказалось – все уже были распроданы, и нам пришлось удовольствоваться местами в партере, вполне хорошими и безумно дорогими. Утешая себя тем, что распроданные места на сцене еще дороже, я спросила Розетту, зачем сидеть на сцене. Но она только усмехнулась: «Увидите!»
Началось представление. Никакого занавеса не было и быть не могло: сцена занимала всю среднюю часть зала, простираясь по его длине от стены до стены, с трех сторон окруженная уходящим вверх амфитеатром кресел. Только узкая дорожка соединяла ее со входом за кулисы. Центральная же часть сцены была сделана из какого-то прозрачного материала, напоминающего стекло, – а, может, это и было стекло, – так что зрители видели все, что происходит на нижней, подвальной по отношению к сцене, площадке.
Там внизу, наподобие пестрых рыб в аквариуме, мерно двигались разноцветные толпы – они сплетались в причудливых хороводах, зажигали и гасили факелы, а время от времени поднимались на верхнюю площадку, сопровождая все это действо стройным многоголосым пением. Наверх они восходили мерными рядами по широкой мраморной лестнице и исчезали за кулисами, чтобы появиться на лестнице снова и снова, создавая этим впечатление миграции народов.
Но это был только фон. Главное действие происходило на верхней площадке. Оно напоминало, скорей, балет с декламацией, а не драматическое представление. Время от времени треть амфитеатра, непосредственно примыкающая к ведущей за кулисы дорожке, вдруг медленно и бесшумно приподнималась над сценой и повисала в воздухе, чуть-чуть отодвинутая от центра, так что зрители смотрели спектакль совсем сверху, вроде как с потолка. Теперь стало понятно, почему эти места так дороги.
Во всем представлении была завораживающая красота, создающая ощущение участия в ритуальных обрядах неведомого языческого культа, так что вся фантастическая структура древнегреческих трагедий – в спектакле объединили «Ифигению» с «Агамемноном» – вдруг представилась мне неожиданно реалистической и современной. О скуке не могло быть и речи, но когда я в антракте бросилась благодарить Розетту за доставленное удовольствие, то, к своему удивлению, обнаружила, что она вовсе не очарована увиденным. «Боже мой! – восклицала она, по-оперетточному заламывая пухлые ручки. – Так все опошлить!» И в ответ на мой недоуменный взгляд рассказала мне историю этого спектакля.
История эта началась где-то в середине шестидесятых годов, на самой заре офф-офф-Бродвея. Многие из возникших тогда экспериментальных театриков гибли, не протянув и до конца сезона, а на смену им приходили новые, тоже зачастую недостаточно жизнеспособные. Однако некоторые все же набирали силу и высоту. Первыми среди них были два «театра-кафетерия» – «Капуччина» и «Ла мама».
«Капуччина» в течении нескольких лет с блеском продержала первенство, но не выдержала, сошла с круга и где-то в конце шестидесятых канула в небытие. А «Ла мама» тихой сапой выбилась в первый ряд и на много лет закрепила за собой место законодателя внебродвейской театральной моды.
В туристическом справочнике по Соединенным Штатам упоминаются два театра, посетить которые справочник рекомендует особенно настоятельно, утверждая, что иначе турист из Европы не сможет похвастаться, будто он видел Новый Свет. Один из них – это «Ла мама» Эллен Стюарт, другой – «Шекспировский фестиваль» Джо Паппа.
Трудно сейчас сказать, что именно было причиной столь блистательного взлета «Ла мамы», но несомненно, что немалую роль сыграла в этом личность Эллен Стюарт – создательницы и бессменного директора театра. Чего только ни рассказывают о ней в театральном мире Нью-Йорка: что она ненавидит американский театр и из кожи лезет, чтобы уподобить его европейскому, что она проводит большую часть своей жизни в поисках новых драматургов, режиссеров и актеров, но главное – что она твердо держится за статус офф-офф-бродвейского театра, хотя давно могла бы превратить «Ла маму», с ее известностью и репутацией, в золотое дно.
Подтверждением последнему может служить длиннейший список спектаклей, начавших жизнь на подмостках «Ла мамы» в виде экспериментального эксцентрического виража и закончивших ее (или продолжающих и сейчас) на сценах самых преуспевающих бродвейских предприятий. К ним относится и «Агамемнон», второй спектакль из греческой трилогии «Ла мамы».
Режиссер этой трилогии, румын по происхождению, Андрей Шербан, – находка Эллен Стюарт. Она подобрала его во время какой-то своей европейской поездки, безработного и неприкаянного, выслушала, увлеклась его идеями и привезла в Нью-Йорк. Начал он с постановки «Медеи» – я этого спектакля не видела, но легенды о нем до сих пор бродят по театральным барам и кафе Нью-Йорка. Говорят, что все действие происходило на упругой металлической сетке, натянутой над головами зрителей, и что успех «Медеи» побудил «Ла маму» приступить к созданию новой сценической версии «Агамемнона».
По утверждению Розетты – а она в этом деле собаку съела, – спектакль в «Ла маме» был во столько же раз лучше своего парадного повторения в Линкольн-центре, во сколько раз скромнее. Не было мощных, подавляющих совершенством механических приспособлений, не было сверкающих золотым шитьем дорогих костюмов, не было грандиозных карнавальных шествий, зато был истинный трепет, истинная изобретательность и истинное режиссерское мастерство, – не надуманное штукарство, а попытка воплотить неумирающие страсти древней мифологии в соответствующую им гармоническую форму.
Что ж, это и есть тернистый путь, которым проходит сегодня истинное искусство от экспериментального поиска к общепризнанному успеху. Я выбрала случай безусловного таланта и безусловного успеха – ибо он с особой убедительностью отражает все потери и находки, сопровождающие творческий процесс с момента зарождения замысла до его наиболее полного публичного воплощения.
Ведь вряд ли Андрей Шербан хотел опошлить свой первоначальный замысел – по всему видно, что он человек с недюжинным вкусом и пониманием. Но он вынужден был это сделать, и не столько для удовлетворения своего непосредственного заказчика – дирекции Линкольн-центра, сколько для удовлетворения заказчика истинного, имя которому массовый зритель. В стенах изысканной «Ла мамы» можно было позволить режиссеру создавать шедевры для элиты, но общедоступные подмостки предъявляют свои требования, и широкий кассовый успех неизбежно связан с потерями.
Мне довелось услышать, что говорит об этом сама Эллен Стюарт, встречу с которой я отношу к числу немногих счастливых случайностей моей жизни. Я пришла в американское посольство в Тель-Авиве, чтобы послушать доклад о состоянии современного американского театра. Там я узнала немало любопытных вещей, – в частности, оказалось, что театр в Америке называют явлением ПОДПОЛЬНЫМ (!), ибо в этой стране нет Министерства культуры, поддерживающего и субсидирующего театр, как это принято в Европе, и он существует исключительно на свой страх и риск.
Все немного посмеялись и вдруг затихли – по рядам пробежал трепет, и в зал быстрым шагом вошла высокая седая негритянка в черных замшевых сапогах выше колена и в ярко-красном замшевом жакете почти до сапог, юбки в просвете между сапогами и жилетом я не заметила. В ушах у нее мерно покачивались огромные, с розетку для варенья, ажурные золотые серьги. По холодку, прокатившемуся по моей спине и перехватившему дыхание, я поняла – это она, Ла Мама!
Я много слышала о ней от «моего» режиссера Марго Луитин, которая была ее ученицей и проработала в «Ла маме» девять лет, пока не организовала собственный театр. Я знала, что добраться до Эллен Стюарт почти так же трудно, как до президента Соединенных Штатов, – и вдруг увидела ее вживе, прямо перед собой, женщину, определяющую, что такое хорошо и что такое плохо в сегодняшнем театре самого театрального города мира.
Ее попросили сказать несколько слов о современном театре, – вот они примерно, ее слова: «Прошли славные времена, когда театр принадлежал элите. Сегодня нам надо находить путь к сердцу широкой публики. Но это не значит, что мы должны снижать качество своей работы, это значит, что, апеллируя к толпе, которая задает сегодня тон во всех делах, мы должны по-прежнему помнить о задачах и потребностях истинного театра. Это трудное, циничное отношение, но мы должны найти свой новый путь».
Не могу сказать, чтобы этот тезис привел меня в восторг. Мне померещились за ним откровенные высказывания бродвейских воротил, твердо знающих, что зритель голосует ногами, а точней – деньгами, и мне вдруг почудилось, что и офф-офф-Бродвей не так уж юн и что на пороге стоит следующий наглый ниспровергатель.
Как же его назовут? – подумала я. Неужели «офф-офф-офф-Бродвей»? Совсем как Як-ци-драк-ци-драк-ци-дрони!
Парижская тусовка
Другим средоточием осиротевшей российской интеллигенции естественным образом стал Париж – ведь он был таким центром всегда, и до революции, и после. Главной особенностью парижской эмигрантской тусовки была отличная от американской концентрация русско-еврейской смеси. Где-то в промежутке между двумя мировыми войнами замечательно написал об этой смеси поэт Довид Кнут:
Особенный еврейско-русский воздух, Блажен, кто им когда-нибудь дышал!Ко времени «третьей волны», как назвали нашу эмиграцию, этот еврейско-русский воздух стал уже изрядно разреженным – то ли Париж потерял часть своего обаяния, то ли концентрация смеси не обеспечивала прежнего очарования.
В Америку попадали все, кто умудрился в России получить вызов из Израиля и свернуть по дороге в Рим, а это, несмотря на изрядное количество прилипал, в основном были евреи. Попасть в Париж было значительно сложнее. Туда прорывались истинные изгнанники, вроде Владимира Максимова, высланные советскими властями за особые провинности, поддельные изгнанники, вроде Синявских и Ефима Эткинда, пристроенные во Франции теми же властями за особые заслуги, и православные диссиденты, вроде Володи Аллоя, вовремя заручившиеся поддержкой русских эмигрантских кругов.
Поскольку жизненное пространство в Париже было гораздо более ограниченным, чем в бескрайней Америке, отношения между различными группами быстро превратились в бескровную окопную войну. Накал ненависти и неприязни порой поражал своим бессмысленно высоким градусом. А впрочем, природная склонность к детективным трактовкам в сочетании с постепенно развившимся уважением к работе советских секретных служб, потихоньку нашептывала мне, что не так уж все стихийно и бессмысленно. Как сказал поэт: «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?» А кому это было нужно, ясно и без специальных разъяснений.
По приезде в Париж я часто оказывалась между двух, а то и трех огней. Главными стрелками были мои друзья Синявские – они жили в постоянном состоянии то круговой обороны, то лобовой атаки.
Порой мои потери были очень чувствительными. Так в ходе этой войны я осталась без авторского экземпляра знаменитого авангардистского сборника-альбома «Аполлон», изданного Михаилом Шемякиным.
В конце 70-х художник пригласил меня участвовать в своем сборнике, который по выходе заслуженно прославился необычным для российской литературы тех лет вызывающим подбором как составляющей его словесной мозаики, так и исключительной красотой оформления, – весь печатный текст там перемежался фотографиями лучших шемякинских картин. Я надеюсь, что моя пьеса «Змей едучий» тоже поспособствовала славе сборника – я сама, во всяком случае, до сих пор числю эту пьесу в главном пакете своих творческих достижений.
Альбом «Аполлон», крупноформатный, многоцветный, а в придачу еще и в твердом переплете, был очень дорог – сразу же по выходе в свет он стоил 400 долларов, а уж теперь, когда он стал библиографической редкостью, ему, я полагаю, и цены нет. Но увы! – хоть мне полагался авторский экземпляр не только за пьесу, но и за огромный, во всю страницу портрет, – сборника этого у меня нет.
Из моих знакомых он есть только у Миши Хейфеца, который – обидно признаться! – нашел его недавно в подъезде, когда ивритоязычные наследники какого-то умершего старика из «наших» выволокли в мусорку все его ненужные им книги, а эту, слишком уж красивую, пожалели и стыдливо прислонили к батарее.
История о том, как я осталась без авторского экземпляра, очень уж замысловатая, чтобы изложить ее в одном абзаце, но я попробую рассказать ее так кратко, как смогу.
С Шемякиным я по сути знакома не была, разве что, проездом мелькая в Париже, встречалась с ним не в притык на каких-нибудь унылых эмигрантских тусовках. Первый раз я увидела этого замечательного художника во всей красе во время его собственного вернисажа, помпезно проходившего в какой-то престижной галерее на набережной Сены.
Народ все прибывал, и попадались даже такие чудаки, которые, пренебрегая тусовочным общением, начинали бродить из комнаты в комнату, разглядывая шемякинские картины. Три небольших зала, образующих выставочное пространство, были переполнены. Там были все – кто из осколков первой эмиграции, кто из огрызков второй, но в основном – из ностальгирующей массы «наших», только-только вырвавшихся из советского плена и не вполне уверенных, там ли они приземлились, да и приземлились ли вообще.
Это подвешенное состояние вовсе не мешало им группироваться вокруг стола с бокалами легкого вина, не способного напоить жаждущих, и с наколотой на зубочистки коктейльной закусью, не способной насытить голодных. В окрестности стола царил сам Миша Шемякин, вызывающе наряженный в маскарадный костюм а-ля-Рюс – кожаные брюки в обтяжку, заправленные в высокие кожаные сапоги, поверх брюк фольклорно расшитая кожаная безрукавка, длинные темные волосы схвачены надо лбом широкой кожаной лентой, как у русского мастерового с картин передвижников. С тех пор я не видела его лет двадцать пять и не знаю, как он выглядит сейчас, но тогда он был так строен, молод и хорош собой, что никакой кожаный китч не мог его испортить.
Однако Шемякин царил бы на своем вернисаже не только в окрестности стола, а и в прилегающем пространстве, будь толпа, заполнившая галерею, более однородной. Но, к сожалению, она была разобщена и раздвоена точно и безжалостно, подобно тому, как набриолиненные темные волосы виновника торжества были разделены прямым, под линейку, пробором.
Стол с вином и закусью был водружен в центральном зале, куда с улицы втекал поток посетителей прежде, чем раздвоиться. Выпив по бокалу вина и проглотив пару маслин, гости начинали растекаться в смежные залы – сторонники Максимова направо, сторонники Синявского налево. И никаких компромиссов.
Одна только бесхозная девушка Ариэла, особа особого назначения, беспечно порхала из зала в зал, перенося на чуть траченых временем крылышках пыльцу сплетен и пересудов. Положение и назначение девушки Ариэлы в эмигрантском парижском мирке было то ли слишком понятным, то ли совершенно непостижимым. Мнения об этом раздваивались так же, как раздваивалась под кожаной лентой мастерового псевдо-русская прическа Шемякина.
Ариэла была подружкой поэта Романа Сефа, о котором ползали разные слухи, и который, в свою очередь, был дружком печально известного Виктора Луи, слухи о котором давно уже перестали ползать и закаменели в твердой уверенности. Мы знавали легкомысленную Ариэлу еще по советской жизни. Это она, ловко выкрутившись из-под локтя восходящего к славе художника-концептуалиста Ильи Кабакова, познакомила нас в Пицунде с таинственным соглядатаем Осей Чураковым и, убедившись в успехе предприятия, грациозно удалилась завязывать узелками новые нити.
Впрочем, эмигрантская братия Парижа не принимала порхания девушки Ариэлы слишком близко к сердцу, и праздник Шемякина протекал нормально и даже весело.
Мы, естественно, пришли вместе с Синявскими – война против «Континента» была тогда в самом разгаре, и Марья зорко следила за каждым потенциальным бойцом. Мы с Сашей, зарекомендовав себя бойцами не вполне надежными, нуждались в особом надзоре, и потому по приезде в Париж вынуждены были всегда останавливаться у Синявских в отдаленном пригороде Фонтанэ-о-Роз, чтоб у нас даже и поползновения не было выскользнуть из цепкой Марьиной хватки и гулять по своему произволу. «Куда вы собрались?» – спрашивала обычно она, как строгая классная наставница, когда мы, крадучись, пробирались к выходу. И, не дожидаясь ответа, добавляла: «Подождите, я поеду с вами».
Однажды я, оказавшись в Париже без Саши, посмела ослушаться и поселилась в отеле, однако назавтра Марья приехала за мной на такси и, не слушая моих робких возражений, увезла к себе – под предлогом, что у нее есть для меня срочная работа. Работа у нее и вправду была, но ее вовсе не обязательно было выполнять у Марьи на глазах.
И в этот приезд мы, как обычно, жили у них и отправились на вернисаж Шемякина вместе, предвкушая приятный вечер. Вечер поначалу и впрямь обещал быть приятным – в залах выставки мы то и дело встречали разных бывших московских знакомых, с которыми до сих пор не случилось повидаться в новой жизни. Кроме того, мне привелось услышать от Шемякина пару любезных слов о моей пьесе, вошедшей в его подготовленный к печати сборник «Аполлон», а это всегда греет сердце автора.
И вдруг в самый разгар этой благодати в галерее появился некогда ленинградский, а ныне парижский писатель Володя Марамзин. Увидев нас с Сашей, он бросился к нам здороваться и целоваться, – мне сейчас кажется, что это была наша первая встреча после его выезда из СССР. Мы любили его прозу, ценили его виртуозное владение словом, и нас связывала с ним старая дружба, слегка, правда, омраченная его неоднозначным (а, может, слишком однозначным) поведением в наши последние московские месяцы.
Однако, хоть Марамзин нас не раз подводил, мы склонны были его прощать, понимая, как нелегко ему приходилось – ведь он маялся тогда под следствием по делу о подготовке к изданию книги стихов Иосифа Бродского, которое власти пытались раздуть в серьезное политическое событие.
Не стану вдаваться сейчас в детали этого странного дела, лично для нас с Сашей важного тем, что оно было единственной привязкой, дававшей КГБ предлог преследовать нас и терзать обысками и арестами, хоть мы в нем никак не были замешаны. Но вряд ли их навел на нас Марамзин, – скорее, это они вывели его на нас. Мы решили об этом не думать – ведь нас в конце концов выпустили, а само дело обернулось пшиком, – всех подсудимых и подследственных оправдали и выпустили из СССР, присудив срок одному только Мише Хейфецу, наименее в издании сборника замешанному, зато самому честному и бескомпромиссному изо всей подозрительной компании.
Для новых парижан все это выглядело таким же малосущественным, как и броуновское движение бесхозной девушки Ариэлы, – не все ли равно, кто кого подвел в той старой жизни, когда мы все уже здесь, в Зазеркалье, где у нас совсем другие проблемы?
Здесь куда важнее был, по-видимому, еще плохо усвоенный нами факт недавней ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, где роль первого играл Синявский, а роль второго – Марамзин. Хоть истинная причина ссоры и по сей день осталась тайной, но все знали, что произошла она на кухне у Синявских, где было сказано много резких слов и даже совершена попытка рукоприкладства. Слова, вроде бы, произнес Андрей, а руку на него поднял Марамзин. Правда, поднявши, он ее все же куда следует не опустил, а так и ушел, позорно изгнанный с поднятой рукой.
Ненависть Марьи к Марамзину была так велика, что приводила порой к курьезам. Так, говорят, поэт Михаил Генделев позвонил однажды Синявским и, сообщив, что он в Париже, попросился в гости. Марья очень приветливо пригласила его приехать немедленно и хотела объяснить, как до них добраться. Все было бы хорошо, если бы Генделев на ее вопрос, где он находится сейчас, не ответил: «У Марамзина». После чего разговор немедленно прервался – Марья бросила трубку, и визит поэта Генделева к Синявским так и не состоялся.
Чего же можно было ожидать, когда этот самый непрощенный Марамзин – руку он, правда, к тому времени уже опустил, – с ходу полез целоваться с нами на глазах всего честного общества, а мы, суки, нет, чтобы его оттолкнуть – мы, и глазом не моргнув, стали ответно с ним целоваться и выкрикивать вслух всякие нежности!
При виде этой безобразной картины Марья вскрикнула, как раненая птица, – вряд ли она прореагировала бы столь же болезненно, если бы Синявский у нее на глазах стал целоваться с девушкой Ариэлой! И, громко рыдая, бросилась вон из галереи.
Я и сейчас вижу эту сцену так ясно, будто она произошла вчера: Марья, сотрясаясь от рыданий, взлетает по невысокой лестнице, ведущей из галереи наверх, на улицу, а я, как последняя дура, зачем-то бегу вслед за ней.
Мы выбежали на набережную, – Марья впереди, я в пяти метрах от нее, тщетно пытаясь ее догнать. К счастью, она мчалась хоть и быстро, но недалеко – с явным истерическим расчетом, чтобы выскочившие с вернисажа Синявский и Воронель успели заметить, в какое кафе она заскочила. Расчет был правильный – они заметили и через минуту присоединились к нам, создав таким образом благодарную публику, необходимую для успеха готовящегося спектакля.
Спектакль был шикарный, вполне в Марьином духе, я таких видела немало и до, и после, – она, захлебываясь рыданиями, обвиняла нас в предательстве и требовала, чтобы мы поклялись всем святым, что навсегда откажемся от общения с Марамзиным. На первый взгляд, из этого требования ничего не вышло – Саша по странному капризу терпеть не может в чем бы то ни было клясться. Но на деле, Марья, как всегда, победила – я не могу вспомнить, чтобы мы когда-нибудь потом с Марамзиным встречались, даже случайно.
На вернисаж мы, конечно, не вернулись, но Шемякин поступил со мной благородно и, несмотря на скандал, учиненный частично по нашей вине, пьесу мою из сборника не выбросил, – я тешу себя надеждой, что он сохранил ее за ее художественные достоинства.
К следующему моему приезду в Париж, – а ездили мы в те годы часто, затребованные разными организациями, специализирующимися на борьбе за чьи-нибудь права, – сборник «Аполлон» только-только вышел. Он даже еще не поступил в продажу, но некоторые счастливцы хвастались полученными от Шемякина авторскими экземплярами.
Я погладила глянцево поблескивающий переплет, полюбовалась из чужих рук на свой изрядно приукрашенный облик – портрет был сделан профессиональным фотографом газеты «Нью-Йорк Таймс», – и позвонила Шемякину. Он жил тогда в отдаленном парижском пригороде, а книги хранил в Монжероне, где у русских художников было гнездо, выбитое у каких-то благотворителей коллекционером Александром Глезером. Шемякин не возражал выдать положенный мне авторский экземпляр, но не признавал ни почтовых пересылок, ни доверенных лиц – для получения альбома я должна была приехать в Монжерон собственной персоной.
Марья встала на дыбы, услышав о моих планах съездить в Монжерон. Там жили шумно и весело, – ели, если было что, пили всегда – пить всегда было что, – писали картины и спорили об искусстве. Там бывали все, кроме тех, кого туда не пускали, – и Виктор Некрасов, и Володя Аллой, и Ирина Иловайская, и Гинзбурги, Алик с Ариной, и ненавистный Марье Марамзин.
Так что, объявила она, нечего мне туда соваться. Причина разумная, вырвусь из Марьиного плена и упорхну во вражеский лагерь, куда ей дорога заказана, поскольку она со многими тамошними успела уже перессориться. В Монжероне я буду безнадзорно веселиться, да еще, небось, останусь ночевать, ссылаясь на холод и темноту, и стану болтать с кем попало о чем попало, и, уж конечно, о них с Андреем, как же иначе?
Каждый день, просыпаясь, я намеревалась отправиться в Монжерон, но так ни разу и не поехала. Спрашивается, почему? Я и по сей день ищу объяснения, но разумного не нахожу – а только мистическое. Логически, правда, все, как будто, сходится – за окном дома в Фонтане-о-Роз свирепствовала не по-парижски студеная зима, пальто у меня было тель-авивское, рассчитанное в худшем случае на десять градусов выше нуля, денег не было даже на автобус до Монжерона. И Марья очень отговаривала, соблазняя легким заработком на радиостанции «Свобода» – поедешь, мол, когда наговоришь мне кассету и получишь свой гонорар, а то мне в другой день студию не дадут.
Гонорар, как обычно, заплатили в последнюю минуту перед самым отъездом, да и дней-то было всего ничего, вот я и не поспела в Монжерон – «Ерунда, – сказала Марья, – никуда твой экземпляр не убежит, в следующий раз приедешь, получишь». А следующий раз случился через год, Шемякина в Париже я не застала, а потом мне сообщили, что никаких авторских экземпляров у него больше нет, весь тираж разошелся и допечатки не будет.
«А почему не приехала, когда я приглашал?» – спросил он совершенно справедливо в ответ на мои упреки. И мне нечего было ответить. Действительно, почему я не приехала? Мороза, что ли, испугалась?
Я и мороза этого толком не помню, словно память заволокло непроницаемой пеленой. Осталось только ощущение плотной, как тошнота, размагничивающей слабости, охватывавшей меня той зимой всякий раз, как возникал вопрос о моей поездке за «Аполлоном».
Что я тогда делала? Чем была занята? Помню, куда-то ездила с Марьей в такси, скорее всего, в студию радиостанции «Свобода» наговаривать обещанные кассеты, или, сидя на кухне дома в Фонтане-о-Роз, отстукивала на машинке программы будущих Марьиных радиопередач, или с книжкой под локтем валялась на диване в захламленной комнате, предназначенной быть гостиной.
Но не в силах была встать, надеть свое легкое пальтишко и потащиться за авторским экземпляром в холодную загородную даль, сперва на автобусе, потом на метро, потом на электричке с пересадкой, а потом опять на автобусе. Эта странная вялость, эта неспособность вырваться из опутавших мою волю тенет что-то мне напоминала, но смутное видение тут же ускользало, так и не проступая на поверхности сознания.
И только теперь, когда я увидела свою жизнь в прощальной ретроспективе, забытые события начали выплывать из небытия и группироваться по сходствам и аналогиям, выстраивая прошедшие годы в осмысленный узор. И мне припомнился драматический случай, происшедший со мной много лет назад в Москве, и внешне, казалось бы, не имеющий никакого отношения к моей странной пассивности в ту парижскую зиму.
Дело, правда, было тоже зимой, во вторник, когда в московских издательствах был выплатной день, и я получила большой гонорар за перевод либретто оперы Уолта Диснея «Три поросенка», записанной на ярко-красную пластмассовую пластинку, изданную миллионным тиражом журналом «Колобок». Я не знаю, как это делают сейчас, но в мои времена никаких чеков или банковских переводов в России не существовало – в выплатной день гонорар попросту выдавали наличными из окошечка кассы.
Получать такие большие деньги Саша повез меня на машине – не потому, что охранял, а потому что в тот день случайно оказался в Москве: обычно он с утра уезжал в подмосковный пригород, где находился его исследовательский институт. Я, потрясенная количеством нулей в предложенной мне сумме, расписалась в нужной графе гроссбуха, сунула толстую пачку купюр в сумочку, и мы весело покатили по заснеженной Москве, предвкушая, на что сможем с ходу истратить часть этих денег.
Все было бы хорошо, если бы я, торопясь похвастать перед Сашей своим выдающимся заработком, не забыла перед выходом из редакции «Колобка» заскочить в туалет. Ошибка моя стала очевидной, пока мы толклись в разных очередях в Елисеевском магазине, покупая недоступные в обычной жизни лакомства. Так что, выйдя из магазина, мы, нагруженные пакетами и пакетиками, вынуждены были развернуться и поехать а Проезд Художественного театра, где находилась одна из немногочисленных московских общественных уборных.
Я рысцой вбежала в некое подобие вестибюля этой уборной и стала протискиваться к кабинкам сквозь заполнявшую его женскую толпу. Точнее, мне пришлось не протискиваться, а прямо-таки продираться – в вестибюле полным ходом шла торговля. Торговали всеми предметами роскоши, которые способна была представить себе несчастная советская женщина: лифчиками, кофточками, колготками, заграничными румянами, противозачаточными таблетками и тушью для ресниц.
Среди торговок и покупательниц сновали три цыганки и просили позолотить ручку, но никто им не подавал. Одна из них, с младенцем на руках, подскочила ко мне и вцепилась в мою сумочку жадными пальцами: «Подай на ребеночка, а не то кривая станешь!» Для иллюстрации своего щедрого обещания она скорчила выразительную гримасу, показывая как именно искривится мое лицо.
Я к тому времени уже знала, что с цыганками нужно вести себя осмотрительно. От своей мачехи, врача-терапевта, я слышала замечательную историю, происшедшую с нею во время дежурства в харьковской районной больнице. Туда привезли молодую цыганку, которая, хитростью проникнув в чью-то квартиру, ловко сунула в рот и проглотила лежавшие под зеркалом золотые кольца хозяйки. Хозяйка колец, не будь дурой, заперла дверь и вызвала милицию, и цыганку доставили в приемный покой больницы. Там ей дали сильное слабительное и усадили на горшок под надзором моей мачехи, дежурной сестры и милиционера.
Как только цыганку пронесло, милиционер поднял ее с горшка, а мачеха и медсестра уставились в горшок в поисках колец. Кольца были тут как тут, но никто и глазом не успел моргнуть, как цыганка ужом выскользнула из рук милиционера, выхватила кольца из горшка и снова их проглотила!
Казалось бы, мне, с моим знанием цыганок и с сумочкой, полной денег, следовало особенно остерегаться, однако никакой защитный механизм в тот раз не сработал – прямо на глазах цыганки я открыла сумочку и вытащила оттуда рубль. Не могу объяснить, почему я так поступила – то ли она меня и впрямь запугала, то ли на душе у меня царила благодать из-за неожиданно свалившегося на меня богатства, – ведь по советским обычаям мне не полагалось знать заранее, какие я получу потиражные. Цыганка мгновенно выхватила мой рубль и проворно сунула ребенка своей подружке – обе они сразу учуяли добычу, забыли всех других и полностью переключились на меня.
Они ловко оттеснили меня в выгородку с кабинками, где народ почти не толпился, и та, что раньше была с ребенком, начала атаку – похоже, она была у них солисткой. Вторая слегка придерживала спиной дверь, за которой третья, по всей вероятности, стояла на шухере. Солистка направила мне в душу всепроникающий черный взгляд и затараторила: «У тебя в сумочке денег полно, я их вижу, вот они, деньги, толстая пачка».
И попыталась сдернуть сумочку у меня с плеча, но я не дала, хоть на предположение о толстой пачке денег не возразила, – язык у меня вроде бы отнялся, и по всему телу разлилась свинцовая тяжесть.
«А ты деньги свои на ладонь положи, – продолжала солистка, – и я твое будущее тебе все, как есть, изложу. Не бойся, я денег твоих не возьму, я тебе погадаю на тот рубль, что ты дала, а деньги свои ты назад получишь, все, до копейки. Ты их просто на ладонь положи, – и, заподозрив во мне тень сомнения, вдруг перешла на пронзительный шепот, – только не смейся, а то кривая станешь!»
И опять скорчила ту же гримасу. Я вовсе не смеялась, я только начисто забыла, зачем я сюда пришла. В голове у меня лениво ворочалась полумысль, что ведь это игра, и я эту игру насквозь вижу, а значит, в любую секунду могу ее прекратить. Цыганка тем временем перешла к сказке о какой-то женщине, которая ворожит, чтобы я умерла, так что, если не принять надлежащих мер, я и вправду могу умереть. Но можно очень просто избежать такой ужасной участи, всего-то и нужно положить мою толстую пачку денег на мою же ладонь – разве не стоит это сделать для спасения собственной жизни, тем более, что риска никакого?
Как завороженная, я вынула из сумочки деньги, – к счастью, не все, какая-то сила остановила меня, и я положила на ладонь лишь несколько десятирублевых купюр, отложенных в кошелек на первостепенные нужды. Цыганка живо разгадала, что это не все мои деньги, и начала требовать, чтобы я положила на ладонь остальные. Но, несмотря на все возрастающую вялость, я как-то умудрилась не поддаться, почти решительно защелкнула замок сумочки и даже потянула на себя дверь кабинки, пытаясь прошмыгнуть внутрь.
Видимо, до цыганки дошло, что она может меня потерять, – хоть она и преградила мне путь в кабинку, но, явно примирившись с реальностью, перешла к новому циклу. Поминутно повторяя свою угрозу об искривлении моего лица в случае непочтительного к ней отношения, она вынудила меня завернуть лежащие на ладони деньги в мой собственный носовой платок, концы которого она завязала туго-туго. Полученный узелок я по ее указанию послушно сунула себе за пазуху. Я подчинялась ей с автоматизмом робота, не переставая вяло убеждать себя, что мне ничего не стоит при желании прекратить это безобразие, оттолкнуть ее и уйти.
Тут в дверь забарабанили снаружи, вторая цыганка с ребенком на руках громко завизжала, в ответ на что моя солистка сама втолкнула меня в кабинку и бросилась к выходу. При этом она успела приказать мне запереться и не пытаться развязать узелок, спрятанный у меня за пазухой, а не то он будет весь испачкан кровью.
Едва только за ней с грохотом захлопнулась дверь, вялость мою как рукой сняло, и я принялась развязывать узелок. Он поддался не сразу – цыганка затянула концы платка так туго, что мне пришлось пустить в ход зубы. Когда мне это, наконец, удалось, я развернула платок – никакой крови на нем не было, но вместо моих кровных десяток там лежали аккуратно нарезанные газетные страницы.
Я выскочила из кабинки и бросилась в вестибюль – цыганок, конечно, и след простыл. Я не стала за ними гнаться, мне было не до того – меня сильно мутило, голова кружилась, руки-ноги стали ватные. Я прислонилась к стене, утирая со лба капли обильно выступившего холодного пота, – такое было со мной однажды, когда меня привели в чувство после сильного отравления. Что же эта цыганка со мною сделала – загипнотизировала, заворожила, навела порчу?
Я думаю, удерживая меня в ту зиму от поездки в Монжерон, что-то подобное сделала со мной Марья, которая сама любила говорить о себе:
«Я вчера на базаре метлу купила. Так продавец спросил: вам завернуть или вы прямо на ней домой полетите?»
Однако, как ни увлекательны были распри двух враждующих лагерей, нельзя сказать, что на парижских аллеях не пытались прорасти независимые сорняки, не принадлежавшие ни к грядкам Максимова, ни к грядкам Синявского.
Где-то на задворках возник охальный журнальчик «Мулета», издававшийся художником Владимиром Толстым (от слова Толстый, не путать с Толстым – от слова Толстой), задачей которого был эпатаж. Не знаю, кто его финансировал, но кто-то подкармливал наверняка – ведь без подкормки журналы не плодоносят. Кусался журнал не крупно, но метко, умело находя ахиллесову пяту очередной жертвы. Мне запомнился разухабистый стишок, посвященный каким-то мелким проделкам Натальи Рубинштейн:
«Таких примеров в эмигранстве Доброжелателю не счесть — Воспитанный в советском хамстве, И рыбку съесть, и на хуй сесть».Просуществовала «Мулета» несколько лет, не щадя ни наших, ни ваших, и кувыркаясь на подмостках голышом – не фигурально, а физически: именно в таком виде презентовал ее на встречах с читателем Толстый, для вящего эффекта прикрывая наготу густым слоем синей краски, кое-где прочерченную белым. Кто знает, может быть, он руководствовался эстетическим принципом какого-то московского авангардиста, имя которого я позабыла и который писал:
«Дайте мне женщину, синюю-синюю, Я проведу на ней белую линию!»Во время такой именно синей-синей презентации «Мулеты» в Иерусалимском театрике «Паргод» произошел большой скандал с мордобоем – не из-за костюма ведущего, а из-за журнальной публикации хулиганских записок Володи Кузьминского, где он позволил себе непочтительно отозваться о тогдашней жене Миши Генделева Лене. Оскорбленный муж явился требовать сатисфакции и скандалил у входа так долго и громко, что пришлось вызвать полицию. Полиция не стала разбираться, кто прав, кто виноват, а без лишних раздумий арестовала Толстого, который к моменту ее появления куролесил на сцене, катаясь голышом по измазанному красной краской куску линолеума, чтобы разрушить однообразие покрывавшей его тело густой синевы. Вот смеху-то было!
Рядом с «Мулетой» под небесами Парижа начал было подрастать тоненький журнальчик Николая Бокова «Ковчег», скромненький, серенький, в бедной бумажной обложке, но зато смелый до самозабвения – именно он позволил себе непостижимую по тем временам первую публикацию скандального романа Эдуарда Лимонова «Это я – Эдичка».
Хоть Коля Боков напечатал «Эдичку» с изрядными купюрами – в основном политического характера, оставив во всей красе и мат, и порнуху, – читающая публика начала восьмидесятых, еще не прошедшая через горнило безудержной похабели, ворвавшейся в постперестроечную литературу, замерла в оцепенении, не зная, как реагировать. Наиболее модным считалось восклицать с брезгливой гримасой: «Эту гадость я читать не смог(ла)! Начал(а) и тут же бросил(а)». Бросали ли они «эту гадость» или тайно упивались ею в своих защищенных от постороннего взгляда спальнях, мы так и не узнаем, но признаваться в прочтении Эдички считалось тогда дурным тоном.
И только журнал «22» счел своим долгом откликнуться – в девятом номере мы напечатали первую подборку «читательских писем», посвященных «неприкасаемой» публикации Лимонова, которые были по сути письмами писательскими. Одно из писем было мое – даже сейчас я сочла его достаточно актуальным, чтобы привести здесь с небольшими купюрами.
«Под сенью синтетического вибратора»
Шведский энтомолог Хальстрем, помешанный на идее грядущей гибели человечества под натиском насекомых, снял документальный фильм «Хроника Хальстрема», посвященный обычаям этих страшных врагов человека и тому мистическому страху, который наполняет человеческую душу при встрече с ними.
Именно такой, не поддающийся логике ужас охватил меня при чтении творения Эдички, – а меня трудно поразить обилием матерных слов, или цинизмом авторских откровений. Эдичка, воображая, что он со всей откровенностью раскрывает перед нами свою «неповторимую индивидуальность», на самом деле написал гораздо более значительное произведение, чем просто его, Эдички, духовный стриптиз, – он документально изобразил во всей красе истинный облик человека «восставшей массы». В открывшейся нашему взору мелкой лужице его души нет ничего индивидуального – ее появление массовым тиражом было зафиксировано давно и надежно.
Еще в 1929 году Ортега-и-Гассет в «Восстании масс» дал точное описание того малопривлекательного образа, который в 1979 году Эдичка воспроизвел с завидной обстоятельностью и верностью деталей:
«XIX век создал совершенную организацию нашей жизни во многих ее отраслях. И это совершенство привело к тому, что массы, пользующиеся сейчас всеми благами этой цивилизации, стали считать ее за нечто естественное, природное. Только так можно понять и объяснить абсурдное поведение этих масс: они целиком заняты собственным благополучием и в то же время не замечают источников этого благополучия. Так как за готовыми благами цивилизации они не видят чудесных изобретений и конструкций, созданных человеческим гением, то они воображают, что они вправе требовать себе все эти блага, как естественно им принадлежащие в силу их прирожденных прав».
«Но мне-то какая разница, – восклицает Эдичка, – по каким причинам мир не хочет отдать мне то, что принадлежит мне по праву рождения и таланта!» У него нет ни тени сомнения, что ему принадлежит все, так же как нет сомнения относительно своего таланта, своей избранности, своей отличности (в выгодную сторону, конечно!) от пошлых производителей «пульпы и пейпера». Он и не думает отказываться ни от каких благ этого мира, ни от черных кружевных рубашек, ни от белых элегантных костюмов, ни от роскошных номеров в роскошных отелях, и даже от пульпы и пейпера, – он только хочет получить все это без труда, просто за свою «исключительность».
Ортега-и-Гассет написал о нем:
«Человек массы всегда восхищен собой».
Наш Эдичка восхищается собой неистово и бурно, он воспевает себя с пылкой страстью влюбленного, он неустанно, как зазывала, расхваливает свое тело («Ах, какой у меня животик – вы бы посмотрели – прелесть!»), свою душу («От природы своей человек я утонченный… Моя профессия – герой»), свою одежду – знак особой избранности («Рубашки у меня все кружевные, пиджак у меня из лилового бархата, белый костюм – прекрасен, туфли мои всегда на высоченном каблуке… есть и розовые… и покупаю я их там, где все вызывающе и для серых – нелепо»). И всякий собственный поступок для Эдички – тоже свидетельство его исключительности:
«Я был счастлив и доволен собой… когда, проснувшись, лежал с улыбкой и думал, что, конечно, я единственный русский поэт, умудрившийся поебаться с черным парнем на нью-йоркском пустыре»…
И как естественное следствие этого безбрежного довольства собой возникает ненависть к миру, который не желает разделять Эдичкиных восторгов, не согласен задаром кормить, поить и холить предмет Эдичкиного обожания. Приговор, вынесенный этому миру Эдичкой, лаконичен и прост: «Я разнесу ваш мир! Ебал я ваш мир, в котором мне нет места, – думал я с отчаянием. – Если я не могу разрушить его, то хотя бы красиво сдохну в попытке сделать это вместе с другими такими же, как я!»
Можно подумать, что он сознательно не хочет ни на йоту отступить от жесткой схемы прозорливого Ортеги, пятьдесят лет назад запланировавшего Эдичку в полный рост: «В поисках хлеба во время голодных бунтов толпы народа обычно громят пекарни. Это может служить прообразом поведения нынешних масс в отношении всей цивилизации, которая их питает. Предоставленная своим инстинктам, масса… в стремлении улучшить свою жизнь обычно сама разрушает источники своей жизни».
И словно в подтверждение этих слов Эдичка истерически вопит: «Что ж ты, мир, еби твою мать! Раз нет места мне и многим другим, то на хуй такая цивилизация нужна?! Свалить эту цивилизацию, свалить с корнем, чтоб не возродилась!»
Но, выкрикивая это, Эдичка начисто забывает, что «свалив с корнем» этот мир, он заодно уничтожит всех создателей кружевных рубашек и розовых башмаков на высоких каблуках, не говоря уже о других радостях земной жизни, столь милых его сердцу потребителя. Но Эдичку нельзя назвать очень уж принципиальным противником столь ненавистной ему цивилизации – он в любую минуту готов ее принять и даже полюбить, только бы она, подобно сказочной избушке, повернулась «к морю задом, к нему передом»: «Напротив моего окна виден отель «Сан-Реджис-Шератон». Я с завистью думаю об этом отеле. И безосновательно мечтаю переселиться туда, если разбогатею».
Как именно он разбогатеет, ему неважно: он готов на все. Ему все равно: написать ли письмо «вери аттректив леди» из газеты «Виллидж Войс» в надежде, что она купит его сексуальный пыл, или послать подборку стихов в Москву, в журнал «Новый мир», в надежде, что там купят его пыл литературный. А если никто на его предложения не откликнется, то можно и иначе: «Воровать надо, грабить, убивать, – говорю я».
От грабителя с большой дороги его отличает только масштаб требований и угроз: он ставит этот выбор не перед одиноким оробевшим путником, а перед всей нашей цивилизацией; а получить хочет не горсть жалких монет, а все освоенное человеком жизненное пространство.
Угрозы такого рода в демократическом обществе неподсудны. И потому Эдичка не утруждает себя дурацким маскарадом: темный лес, захрапевшие от испуга лошади, маска на лице. Он с радостной готовностью сообщает свой адрес, он позволяет нам обозреть его лицо во всей красе, предпослав повести свою фотографию: любуйтесь, вот он я – Эдичка! А чтобы мы, не дай Бог, не упустили какой черты в его облике, он предстает перед нами голый по пояс (почему только по пояс, Эдичка?!), украшенный лишь висящим на шнурке крестом…
Однако, нацепив крест для украшения своей нагой персоны, Эдичка в действительности – как и подобает истинному «человеку массы» – не верит ни в Бога, ни в черта и, чуждый высших побуждений, начисто отрицает возможность таких побуждений за другими. Он сам, непрестанно рекламируя себя, как одного из лучших поэтов России, время от времени проговаривается об истинных целях своих поэтических попыток; а ведь Фрейд давно подметил, что для понимания личности проговорки и оговорки куда важней прямых деклараций.
Вот истинное поэтическое кредо Эдички: «Поэт – самая значительная личность в этом мире… Для поэта лучшее место – Россия… Десятки тысяч поклонников… и прекрасные русские девушки, Тани и Наташи, все были его… Потому что речь идет о хлебе, мясе и пизде. Это вам не шутка».
Неудивительно, что первые свои поэтические успехи Эдичка эксплуатировал в целях мелкой личной наживы: «Я выступал в роли херувимчика-поэта – читал, обычно это происходило на танцевальной площадке или в парке, раскрывшим от удивления рты девушкам стихи, а Саня Красный в это время… легко и незаметно… снимал с девушек часы и потрошил их сумочки». Неудивительно, что и других он подозревает в столь же низменных побуждениях: «Печатал же свои книги Солженицын… здесь, на Западе, его совесть не мучила, по сути дела, он думал только о своей писательской карьере, но не о последствиях и влиянии своих книг». Интересно, кто, по мнению Эдички, потрошил сумочки западной общественности, пока Солженицын заставлял ее раскрывать от удивления рты, – уж не Сахаров ли?
Эдичка не сомневается, что речь всегда идет «о хлебе, о мясе, о девочках»:
«Удачно сидел в тюрьме или психбольнице там – получай деньги здесь».
А он, Эдичка, не удостоился такой чести – ни в тюрьме, ни в психушке не посидел, вот никто ему «здесь» и не платит; и даже потаскухой, как его бывшая жена, он стать не сумел – ну как тут не возроптать?! Ведь он страдает «только потому, что такое неравенство, что у нее есть пизда, на которую есть покупатели, а у меня нет!» Но никто его ропота не слышит, а жить дальше надо. А пока он не набредет «на вооруженную группу левых экстремистов, таких же отщепенцев», как и он, Эдичке остается только онанизм – физический, столь красочно им воспетый, и духовный – воспоминания о славном его прошлом: «В моей стране я был одним из лучших поэтов».
Господи, откуда он это взял? Приставал к нам в Москве наш общий с Лимоновым приятель, бывший харьковчанин Феликс Фролов, приносил стянутые двумя скрепками рукописные тетрадки со стишатами Эдички, предлагал купить за трешку – человек, мол, с голоду помирает. Но тут же проговорился, что человек не совсем помирает, а неплохо зарабатывает шитьем фальшивых иностранных брюк. Мы тетрадочку полистали, пожали плечами и, раз от голодной смерти спасать не надо было, трешку на эту ерунду пожалели. А в Нью-Йорке Эдичка уже всплыл «одним из лучших поэтов»! Невольно вспоминаешь разговор двух бывших московских пуделей, встретившихся на Таймс Сквер: «А в Москве я был Сен-Бернаром», – говорит каждый.
Конечно, лучший способ стать лучшим поэтом, – всех других отменить и по возможности прикончить. Что Эдичка с успехом и делает. Свое отношение к миру русской классической литературы он выразил весьма недвусмысленно: «Таская собрания сочинений, мутно-зеленые корешки Чеховых, Лесковых и других восхвалителей и обитателей сонных русских полдней, я со злостью думаю обо всей своей родной, отвратительной русской литературе, во многом ответственной за мою жизнь. Бляди мутно-зеленые… и буквы-то их мне маленькие, многочисленные противны». Чудный способ – всю старую культуру отменить и на образовавшемся пустыре стать первым певцом новой!
Конечно, не Эдичка положил начало этой новой культуре, не он сказал в ней первое слово. Он просто последователь, подражатель, эпигон других, более ранних, сильных своим невежеством и неразборчивостью претендентов на первородство в русской поэзии. Когда в начале века всеобщее образование, насаждаемое закомплексованной интеллигенцией, выплеснуло на культурную арену массового читателя, желающего стать массовым писателем, встревоженный Н. Гумилев писал: «Все это очень серьезно. Мы присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своей талантливостью и ужасных своей небрезгливостью».
Но и этот, испугавший Гумилева, всплеск «литературной» пены на гребне высоко взметнувшейся волны восставшей массы, не был первым сигналом надвигающегося потопа. За пятьдесят лет до того беспощадная рука Достоевского с пугающей точностью набросала портрет первого апостола новой культуры, утверждающей приоритет Желудка перед лицемерными высокими идеалами XIX века:
«Жил на свете таракан, таракан от детства, И потом попал в стакан, полный мухоедства… Место занял таракан, мухи возроптали, Полон очень наш стакан, к Юпитеру закричали… —тут у меня еще не докончено, но все равно, словами!.. – Никифор берет стакан и, несмотря на крик, выплескивает в лохань всю комедию, что давно надо было сделать».
Узнаете? Да, да, это он – капитан Лебядкин, автор замечательных строк о том, как «краса красот сломала член», истинный первооткрыватель новой страницы духовной жизни нашего времени. Явление этого пророка народу замечено не мной первой, о нем уже писали другие. Вот что сказал об этом известный критик Бенедикт Сарнов:
«Устами капитана Лебядкина заговорил Желудок… доросший до того, чтобы иметь свою жизненную философию. Вот… его концепция мироздания, его кредо: ничего нет, ни Бога, ни черта, ни вечности, ни разума, ни смысла. Все это чушь, ерунда, интеллигентские бредни. Есть только стакан, полный мухоедства. А коли так, какой смысл стеснять свои желания, если «мухоедство» – единственный закон земного бытия? И в полном соответствии с нарисованной им картиной мироздания Лебядкин четко формулирует новую мораль нового человека, свою единственную заповедь, способную противостоять всем заповедям Моисея и Христа: «Плюй на все и торжествуй!»
Путь был давно проторен, так что Эдичке было не так уж трудно по нему пуститься. Он смело выполз в «стакан, полный мухоедства»:
«В литературе тут своя мафия, в любом виде бизнеса своя мафия. Мафиози никогда не подпустят других к кормушке. Дело идет о хлебе, о мясе, о жизни, о девочках».
Выполз и заорал: «Нам надоело защищать ваши старые, вылинявшие знамена, которые давно перестали быть ценностями, надоело защищать «Ваше». Ну вас всех на хуй!.. Может, набреду на вооруженную группу левых экстремистов… – пострелять хочется! – а, может, уеду куда-нибудь, к палестинцам или к полковнику Кадаффи, в Ливию». Он уедет к кому угодно, только бы разрушить мир, в котором нет ему, Эдичке, места, «принадлежащего» ему «по рождению и таланту». Но и это тоже уже не ново:
«Свету ли провалиться иль мне чаю не пить? Я скажу, чтоб свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить…» (Ф. Достоевский, «Записки из подполья»)
В отличие от щепетильного Достоевского Эдичка выражает свои чувства куда более энергично: «Я ебал вас всех, ебанные в рот суки! Идите вы все на хуй».
Содрогаетесь? С чего бы это? Ведь вы уже привыкли к бранным словам в печати, да и не сами слова страшны, их все знают, даже те, кто их не употребляет, вас пугает другое – осознание того, что потомок капитана Лебядкина уже вышел из подполья, что таракан из своего стакана, полного мухоедства, изрыгает проклятия нам, «блядям мутно-зеленым», носителям ненужных ему ценностей. А ведь он по-своему прав – пока мы еще верим в эти ценности, он продолжает оставаться тараканом, как бы он ни гоношился. Но бой только начался, и мы еще увидим, кто кого – он нас или мы его. Его положение куда лучше нашего – никакие доводы устаревшей морали не омрачают его чистую душу, они ему неведомы, ибо он от рождения не знает разницы между уборной и гостиной.
Что ж, содрогайтесь – когда автобус, в который вы посадили свою жену с ребенком, взорвется на ваших глазах, разбрасывая вокруг окровавленные ошметки человеческих тел, будьте уверены – это Эдичка выполняет свою программу расправы с нашим миром. А когда кучка вооруженных негодяев захватит ваш самолет и поставит вас к стенке в бараке далекого африканского аэропорта, – будьте уверены, это Эдичка выполняет свое обещание.
* * *
Мы живем в безумном, безумном, безумном мире, атакуемом полчищами маленьких людей, желающих казаться значительными, ради славы и власти готовых на все, ибо «по рождению и таланту» они лишены всякого морального барометра, регистрирующего разницу между добром и злом. Такие люди, собственно, всегда водились в любом обществе, вернее – вне любого общества, но в нашем веке роковой перелом определился изменением их числа на общественной арене и их влияния на судьбы мира.
Нельзя сказать, что в предшествующей литературе не было попыток описания их тараканьей души (или того, что у них вместо души), – но ни одна не была столь совершенной и полной, как попытка Эдички. Воистину, Эдичку следует поздравить с большим литературным успехом – он ухитрился превзойти в этом деле таких писателей, как Михаил Зощенко и Владимир Марамзин, все свое мастерство отдавших воссозданию облика восставшего человека массы. Причина Эдичкиного успеха очевидна: там, где Зощенки и Марамзины пытаются с помощью высокого мастерства втиснуться в шкуру простого человека, понятия не имеющего ни о звездном мире, ни о нравственном законе, там Эдичке не надо ни мастерства, ни искусства, – он сидит в этой шкуре по праву рождения и таланта.
Литературно он убог, но ему большего и не надо – никто и не ждет от таракана высокого мастерства в области изящной словесности. Он свободен от наших «мутно-зеленых» игр с противными маленькими буквами, ему нет нужды подгонять слова– ведь он рассказывает о себе, а не о своем «лирическом герое». Это он, Эдичка, а не плод его, Эдички, художественного воображения, похваляется тем, что стегал ремешком по пипке свою жену, и наивно восхищается своей исключительной образованностью на том основании, что знает наизусть несколько строк Т. С. Эллиота в русском переводе. Ему неведомо авторское отношение к персонажу, ибо нет нравственного зазора между Эдуардом Лимоновым и его Эдичкой, нет иной точки отсчета, иного угла зрения, выводящего произведение из плоскости существования в пространство искусства.
Жизнь, как справедливо подметил Эдичка, – бессмысленный процесс, не знающий нравственных ограничений, у жизни нет моральной составляющей, она по сути своей аморальна, и только человеческое сознание придает значение таким понятиям, как грех и добродетель. Искусство – это одна из форм, в которых человек пытается осмыслить и упорядочить свое представление о жизни, и потому оно всегда написано в присутствии неких потусторонних ценностей, лежащих за пределами биологического существования.
Как ни старается Зощенко перевоплотиться в Васю Былинкина, утверждая, что соловей «жрать хочет – вот и поет», ему не удается перестать быть писателем Михаилом Зощенко. Эдичка же искренно восхищается собой, Эдичкой, – созданный образ свободен от потустороннего отношения создателя к персонажу, от насмешливого подмигивания автора читателю, от ужаса художника перед описанным им тараканом. И потому образ этот – кристально чист и целен. Он весь, как на ладони, он красуется перед нами, бесстыдно вывернутый наизнанку, – ибо главное достоинство Эдички именно в полном отсутствии стыда.
Ведь стыд, как и боль, есть индикатор морального непорядка, а Эдичка, живущий по ту сторону добра и зла, незнаком с моральным порядком, о нарушении которого возвещает стыд. Вооружившись бесстыдством, как главным и единственным литературным приемом, он пишет – как дышит, не затрудняя себя искусством и прочей косметикой: он и без косметики прекрасен и конгениален себе самому.
Я не иронизирую, – я считаю повесть Э. Лимонова крупным литературным событием, равным которому могла бы быть только расшифровка дневников человекообразной обезьяны в момент превращения ее в человека. Это произведение необходимо было предать гласности, то есть напечатать и обсудить, невзирая на все осложняющие публикацию обстоятельства. И я благодарна Н. Бокову и А. Крону за то, что они избавили журнал «22» от этой тяжкой общественной обязанности, – ведь если бы не они, это пришлось бы сделать нам: наш принцип неутаивания правды не позволил бы нам уклониться. А теперь вся тяжесть последствий такой публикации ложится на плечи «Ковчега», и мы можем с чистой совестью обсуждать повесть Лимонова за чужой счет.
Я в последний раз перелистываю творение Эдички и слышу, как на соседней странице горькими слезами завистника умывается писатель Юрий Милославский. Он завидует и надрывно утверждает, что он такой же замечательный, как Эдичка, – ведь он тоже таракан, и поет лишь потому, что жрать хочет. И при этом горько плачет, ибо в глубине души знает, что это – не так.
Он доказал это, умудрившись написать о книге Эдички без единой цитаты из нее. После всех своих хвастливых деклараций Юрий Милославский в растерянности запнулся перед трехбуквенным именем того предмета, который он, так и не решившись на «прыжок в бездну», скромно назвал «синтетическим вибратором» – в отличие от Эдички, давшего ему истинное полновесное имя. Так что не поможет Милославскому попытка подольститься к Эдичке и обещание шагать с ним в ногу – когда полчища тараканов ворвутся в наши края, они Милославского не пощадят, своего в нем не признают. Они мигом смекнут, что все, им написанное, писано в присутствии «Того, кто сотворил Небо и Землю, сломал меня пополам, так что от хруста собственного станового хребта ничего другого не услышишь…» (Ю. М.)
А таких в тараканы не берут, нечего и проситься: ведь если что постороннее и присутствует в тараканьих писаниях, то это всего лишь вышеупомянутый синтетический вибратор, заменяющий таракану «Того, кто сотворил небо и землю», – и мы должны быть благодарны Эдичке за искренность, с которой он в этом признается».
Статья эта была написана более двадцати лет тому назад, и сегодня, оглядываясь на литературную и политическую карьеру Лимонова, разросшуюся за эти годы буйной развесистой клюквой, я сама удивляюсь точности своего диагноза. К сожалению, ему не удалось больше никогда написать что-либо, сравнимое по пробойной силе с исповедью Эдички, где есть воистину берущие за душу пассажи.
Увы, все остальное, что он писал и издавал с тех пор, выглядит бледной шелухой, слущенной с задорных страниц его первого шедевра – там он все сказал и расставил все точки над всеми «и», а дальше ему уже сказать нечего, он только повторяется. А повторение лишь в учении – мать, в художественном же творчестве оно – злая мачеха.
Одна-единственная книга из написанных Лимоновым после Эдички способна местами оцарапать чувства читателя – вероятно, потому, что и чувства писателя там не совсем еще отмерли. Это – «Книга мертвых». Прекрасно вписывается в образ автора включение им в выигрыш по очкам факта смерти своих кажущихся соперников, а иначе, как кажущимися, этих бедняг не назовешь – ведь нельзя же всерьез воспринять соперничество Эдуарда Лимонова с Иосифом Бродским, напоминающее соперничество Эллочки-людоедки с дочерью Вандербильда (у Эллочки в запасе было тридцать три слова, у Эдички не намного больше). В этом странном соревновании умерший автоматически проигрывает живому, и Эдичка пока набирает очки, поскольку еще жив. Он так заносится перед умершими, что порой кажется, будто он надеется жить вечно.
А может, он в чем-то прав? На международной Франкфуртской книжной ярмарке 2003 года в киоске издательства «Амфора», которое из моего прекрасного далека казалось мне интеллигентным, я наткнулась на целый иконостас книг Лимонова – их там было не менее десяти. Иконостаса книг Бродского я, к сожалению, нигде не заметила – похоже, преждевременно скончавшись, он и впрямь проиграл по очкам.
Как это понять? Может, все дело в рейтинге, книгодолларе и скандальной известности? А может, уже наступает предвкушаемый Эдичкой звездный час таракана?
Вот и я посвятила Лимонову не одну страницу своих воспоминаний, не то, что Бродскому, о котором вовсе не написала. А ведь вживе видела Эдичку всего один раз, когда он вместе с Вагричем Бахчаняном, пришел в нашу московскую квартиру на улице Народного Ополчения, чтобы попросить Сашу устроить ему израильский вызов. Саша устроил вызов им обоим, предопределив этим, возможно, судьбы русской культуры. Боюсь, мы будем вынуждены слегка пожурить его за этот безответственный поступок.
О парижской жизни Лимонова я знаю только из его книг – мне не приходилось его встречать ни у Синявских, ни у Бокова, что, впрочем, почти одно и то же – Боков закончил свою культурную жизнь в книгопечатнице Марьи Васильевны, набирая издаваемые ею тексты. Но и там он не удержался и теперь одиноко бомжует где-то на берегах Сены.
Судьба же Лимонова сложилась совсем по-другому, и, если поверить ему самому, в значительной степени благодаря активному вмешательству высокопоставленного парижского коммуниста Жана Риста, который не только способствовал появлению лимоновских книг на французском языке, но и спровоцировал шумную кампанию интеллектуалов, добившихся для новоявленного русского писателя французского гражданства.
Естественно, напрашивается самое простое объяснение заинтересованности Риста и других коммунистов в судьбе неизвестного им русского хулигана, поливающего грязью Сахарова и Солженицына, заинтересованности, необъяснимой даже для ее объекта, если ему верить. Но верить ему необязательно, и тогда все становится на свои места: и поспешные публикации Эдичкиных писаний в коммунистических издательствах, и непостижимые хлопоты французских левых интеллектуалов об Эдичкином благополучии.
Именно поэтому приятно радует посвященный их заботам абзац на 88 странице «Книги мертвых»:
«Сейчас бы они подписали мне смертный приговор, эти люди отправили бы меня в Гаагу, в трибунал, хотя я такой же, как и был».
Ах, как ловко наш Эдичка натянул им нос, этим прихлебателям с барского стола Страны Советов, этим гуманным любителям Ясера Арафата! Впрочем, Эдичка Арафатом, похоже, тоже не брезгует, раз не прочь был бы присоединиться к боевой группе палестинцев, – только он любит его с какой-то иной стороны. Не знаю, кого из них тянет к вождю палестинских бандитов орально, а кого анально, но это различие вклинилось между ними, как обнаженный меч между Брунгильдой и Зигфридом, не давая им слиться в экстазе. И за это одно я готова простить Лимонову многое, чего другие ему не прощают. Оказалось, что я милостливее Гаагского суда, разыскивающего Эдичку за пулеметный обстрел мирных жителей боснийского города Сараево.
Интересно, какое необозримое количество страниц я истратила на незначительное литературное явление, носящее имя Эдуард Лимонов, – а ведь это не случайно. Раньше я чуть ли не четверть тома своей книги «Без прикрас» отвела Марье Синявской, сама этому удивляясь и ища объяснений. Недаром странная дружба связывает эту несовместимую на первый взгляд пару – они «два сапога на одну ногу», как метко выразился когда-то один пьяный простонародный мудрец.
Пусть они не писатели, зато завихрители пространства, а это тоже не каждому дается…
Артистическая тусовка
Подписывая договор с израильским телевидением на экранизацию своего сценария «Час из жизни профессора Крейна», я наивно спросила: «Почему нет пункта о том, что я получу, если фильм будет продан за границу?»
Ответом мне был гомерический хохот всех присутствующих. «К чему такой пункт? Ведь ни одна наша теледрама еще не была продана за границу», – ответил администратор, утирая слезы счастливого смеха.
«Но все же включите его в мой контракт», – настаивала я.
«А зачем? Наши драмы никто не покупает».
«А вдруг мою купят?»
«Много о себе воображаешь! Если купят – придешь, поговорим! – отрезал администратор. – Так будешь подписывать или нет?»
И с намеком на угрозу одной рукой потянул лист к себе, пока другой уже приоткрывал ящик стола, будто намеревался небрежно смахнуть туда контракт.
«Буду, буду», – заторопилась я, пугаясь, что он передумает, и мой сценарий сыграет в ящик.
Я подписала контракт, отмахнувшись от пункта, защищающего мои права в случае продажи фильма за границу, – и напрасно. Теледрама по моему сценарию, поставленная Станиславом Чаплиным, была первой израильской продукцией, купленной для проката иностранным телевещанием. Ее с успехом показали на фестивале в Венеции, после чего ее приобрело Гамбургское телевидение ЦДФ и, сдублировав на немецкий, показало в «прайм-тайм».
Но хоть мы с Чаплиным открыли новую эру в жизни израильского телевидения, ни гроша нам за это не заплатили, прикрываясь справедливым вопросом: «А о чем вы думали, когда подписывали контракт?»
О чем мы тогда думали? Да только о том, чтобы этот проект не рухнул в небытие, а осуществился на экране. К торжественному моменту подписания контракта нас привел тернистый извилистый путь, за каждым поворотом которого затаилась возможность крушения. Поразительно, что все прошло, как по маслу! Ведь когда мы со Стасиком с разгону выскочили из грязи в князи, вокруг нашего маленького успеха поднялась такая волна зависти, что под ее напором мы вполне могли бы погибнуть в автомобильной катастрофе.
Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что все обошлось благодаря вмешательству моей старой доброй феи. На этот раз она вступила в игру не сразу, а дала мне годик-другой помучиться, – с воспитательной целью, небось, чтобы я не заносилась.
Ведь я вернулась в Израиль из Нью-Йорка, упоенная своим американским успехом, и мне казалось, что израильский театр только и ждет моего появления. Слегка оправившись от первоначального теплового удара, я нарядилась в здешние одежки, больше обнажавшие, чем скрывавшие, и храбро отправилась на завоевание израильского театрального мира. Дешевые одежки эти, на мой российский вкус весьма смелые и элегантные, я научилась покупать почти даром в захламленных лавочках на шуке Кармель – «шук» по-нашему «рынок», но словосочетание «рынок Кармель» безнадежно теряет всю экзотическую прелесть «шука Кармель», многоголосой, многоцветной клоакой бурлящего в центре Тель-Авива.
Вооруженная дерзостью, продиктованной моим иллюзорным «покорением» Америки, я ринулась на штурм израильского театра, гордо неся перед собой дурно оформленные копии английских переводов поставленных в Нью-Йорке пьес. Я так недавно вырвалась из объятий социалистического реализма, что понятия не имела, как важно внешнее оформление рукописи, представленной в театр. Тем более, что театров в Тель-Авиве оказалось немного, – «Габима» да «Камери», «Камери» да «Габима», ну и еще пара мелких театриков без труппы и бюджета.
В каждом из них, хоть в большом, хоть в маленьком, как паук в центре паутины, сидел полный самоуважения и неприязни главный режиссер. Добиться приема у любого наперед заданного главного режиссера было не просто, но я преодолела сопротивление их цепных секретарш и ворвалась к каждому из них в кабинет.
О том, чтобы связно говорить на иврите, не было и речи, так что я вынуждена была вести переговоры по-английски. Мой английский язык, отполированный круглосуточной двухмесячной практикой амерканского театра, оказался намного лучше английского любого из этих довольных собой жрецов искусства, и это отнюдь не добавило очков в мою пользу.
Скептически выслушав мой рассказ о нью-йоркских спектаклях, каждый из них милостиво позволил мне оставить у него на столе свои пьесы, хоть дурно скопированные и покрытые актерскими пометками, но зато снабженные пачкой газетных вырезок из американских газет. Возможно, обилие этих вырезок тоже не добавило очков в мою пользу. Во всяком случае, хоть каждый главный режиссер пообещал со временем мне позвонить, время это никогда не наступило.
Месяцы проходили даром, складываясь в годы, и было совершенно неясно, куда бежать и в кого стрелять. Вот тут-то в дело вмешалась моя фея. Впрочем, на этот раз она не афишировала свою благотворительность открыто, а приступила к ее осуществлению исподтишка и загодя.
Одним воскресным утром, еще в Нью-Йорке, когда я, лихорадочно опаздывая, собиралась на театральный ланч к театроведке Розетте Ламонт, мой телефон зазвонил. Чертыхаясь при взгляде на уносящие время часы, я сняла трубку с намерением побыстрей отделаться от неурочного абонента. Однако отделаться от него не удалось, и наш разговор продлился более часа, в результате чего, когда я появилась на пороге розеттиной квартиры, ланч был уже съеден и мои извинения отвергнуты – в Америке на ланч не опаздывают и нарушителей не прощают.
Учитывая мое российское происхождение, меня за час опоздания не отлучили от дома Розетты, а только перевели в другой разряд опекаемых, зато за этот час я приобрела нового – я бы сказала, друга, но ведь друзей не приобретают за час, да еще по телефону, и потому я затрудняюсь в определении роли этого удивительного человека в моей жизни. Лучше я о нем расскажу.
Напоминаю, я сушила волосы, опаздывая на ланч к Розетте, когда зазвонил телефон. Не выпуская из правой руки фен, я левой рукой схватила трубку и несколько раздраженно выкрикнула «Алло!» – сразу по пересечении советской границы я выбрала этот телефонный ответ за его интернациональное звучание. Хриплый мужской голос произнес по-русски с неуловимым акцентом: «Я говорю из Лондона. Это Нелли Воронель?»
«Да», – призналась я, отложив на время свое намерение тут же бросить трубку, все-таки человек звонил из Лондона! «Я прочел о тебе в Нью-Йорк Таймс, – продолжал голос из Лондона, с легкостью переходя на «ты». – Ты имеешь отношение к Володьке Воронелю? Мы с ним выросли в одном харьковском дворе». Я не сразу сообразила, что речь идет не о моем сыне Володе, а о Сашином отчиме, носящем в семье прозвище дед Володя и тоже выросшем в харьковском дворе на каких-нибудь пятьдесят лет раньше.
Через двадцать минут я уже знала не только имя своего собеседника – Эфраим Илин (не Ильин, а именно Илин, с ударением на первом слоге), но и разные пикантные подробности из жизни неизвестного мне до тех пор друга дедова детства. Из Лондона он звонил, потому что там у него была картинная галерея, где каждая картина оценивалась минимум в миллион долларов. Таких галерей у него было около дюжины – во всех крупных культурных центрах мира. А с нашим дедом Володей Эфраим дружил в детстве, потому что в начале двадцатого века отцы их были совладельцами фирмы «Воронель-Илин», – впрочем, Эфраим называл ее «Илин-Воронель», – изготовлявшей и продававшей несмыливающееся мыло, изобретенное нашим прадедом Моисеем Воронелем. Все было, как в романах: Воронель изобретал, Илин торговал, Илин богател, Воронель оставался бедняком.
Так все и осталось – Воронель, уже не Моисей, а Владимир Моисеевич, изобретал и оставался бедняком, Илин торговал и был миллионером. Однако торгуя и наживая миллионы, Эфраим Илин совершил столько нетривиальных поступков и занял столь особое место в портретной галерее выдающихся личностей Израиля, что я горжусь своим знакомством с ним и нашей долголетней дружбой.
Его увлечение коллекционированием картин началось где-то в двадцатых годах прошлого века, когда он, будучи студентом Льежского политехникума, купил у молодого голодного художника приглянувшийся ему рисунок. Этот рисунок, за который он заплатил 50 сантимов, по сей день висит на стене его гостиной, освещенный так, чтобы издалека видна была подпись художника Модильяни. Стены его дома в Хайфе украшали не только картины Модильяни, но и картины Бракка, Шагала и Сотто, украшали до тех пор, пока он не решил дом снести, а коллекцию пожертвовать городу.
Подарить коллекцию городу, это конечно красивый жест, но снесенный дом мне искренне жаль. Это был замечательный дом, – высоко на склоне горы Кармель, соединенный с домом сына Эфраима, Арнона, полнометражным плавательным бассейном, над которым громоздились поросшие декоративным лесом скалы. Мы с Сашей часто бывали там в гостях – Эфраим любил приглашать нас на свои рауты, пикники и приемы. Он всегда чувствовал себя молодым, даже и сейчас, перевалив за девяносто, он все еще напивается на своих праздниках и задорно поет скабрезные русские частушки. Наверно, он выбрал в родственники нас, а не своего друга детства, нашего деда Володю, потому что надеялся таким манером сдвинуть даты рождения и смерти.
Дом Эфраима был обставлен уникальной мебелью, которую он подарил теперь музею Хайфского университета – тоже красивый жест, ничего не скажешь. А раньше мы не раз обедали в огромной, увешанной драгоценными картинами гостиной, где за столом, сделанным лично для Эфраима по эскизу Макса Эрнста, свободно помещались тридцать человек. Стол Макса Эрнста заслуживает отдельного описания – он представляет собой овальную плиту из прочного, сантиметра в 4 толщиной, прозрачного стекла, покоящегося на трех бронзовых опорах, выполненных в виде крылатых гриффонов – если бы не громкое имя автора дизайна, я бы сочла эту комбинацию китчем.
Гости, собиравшиеся за этим столом, отлично вписывались в неповторимую картину, созданную хозяином из различных, хорошо продуманных элементов: из роскошных полотен кисти лучших мастеров мира на трех стенах гостиной и открывающимся за четвертой, сплошь стеклянной, стеной захватывающим дух видом на лазурный прямоугольник бассейна в оправе возносящихся к небу декоративных скал. Там я встречала знаменитых художников, пианистов и промышленников, а также нашего нынешнего премьера, а тогда еще просто прославленного генерала, Ариэля Шарона, первого начальника израильской разведки Биньямина Джибли и одного из основателей израильского морского флота Владимира Маринова.
Помню, как мы нарядной толпой, сплошь утыканной знаменитостями, шли по краю бассейна из дома Эфраима в дом его сына Арнона – пить предобеденные коктейли. Дамы были в вечерних платьях, мужчины в крахмальных рубашках под темными пиджаками, и только хозяин в шортах и красной жилетке шел вприсядку перед праздничной толпой, играя на красной – под цвет жилетки – гармошке и весело распевая:
«Калинка-малинка, малинка моя!»
Знаменитости собирались в доме Эфраима не случайно – он славился не столько своим хлебосольством, сколько неожиданными поступками, судьбоносными для истории страны. Когда в 1948 году во время войны за независимость Англия и Франция, желая удружить арабам, ввели эмбарго на ввоз в Израиль оружия, Эфраим подсчитал свои миллионы – их оказалось тогда не так уж много, меньше полутора. Но в те времена это были неплохие деньги, и Эфраим спросил свою жену Цфиру, можно ли пожертвовать их на спасение Родины. Цфира ответила так, как Мордехай ответил Эсфири: «Мы же не хотим остаться одни, когда все погибнут».
Услыхав эти слова, хитрый еврей Эфраим отправился в Чехословакию, где у него были деловые связи. Там он закупил огромную партию оружия, которую перевез в Италию, где у него тоже были связи. В Италии он договорился с контрабандистами, с которыми у него тоже были связи, и они тайно доставили оружие в Израиль, обеспечив таким образом нашу победу в нашей первой войне.
Созданное после победы правительство Бен Гуриона было так благодарно Эфраиму, что открыло зеленую улицу его деловым начинаниям, а идей у Эфраима было хоть отбавляй! Во-первых, он строил во всех городах жилые кварталы, во-вторых, возвел и содержал колоссальные дома-холодильники для хранения аргентинского мяса, в-третьих, создал израильскую автомобильную промышленность, производившую военные джипы. Было еще в-четвертых, в-пятых, в– шестых и далее, но для всех начинаний Эфраима не хватит места в моих воспоминаниях, так что я вернусь к своим проблемам и к новому вмешательству доброй феи в мою судьбу.
На этот раз она приняла облик невестки Эфраима, Нои, привлекательной молодой женщины, терзаемой каким-то внутренним несовершенством. Мы познакомились во время пикника на траве, устроенного Эфраимом для своих высокопоставленных друзей. Дамы и господа прибывали прямо в купальных костюмах и с ходу ныряли в бассейн, после чего с удовольствием вгрызались в ароматные стейки и шашлыки, в большом количестве испекаемые у всех на глазах на древесном угле. Мы с Сашей, чуждые, как марсиане, с отстраненным любопытством озирали веселую толпу гостей, знакомых друг с другом с детства, когда один еще не был хозяином банка Дисконт, другой – председателем Кнессета, а третий не владел еще половиной бензоколонок страны.
Их элегантные жены в умопомрачительных пляжных костюмах от Готтекса кружили вокруг празднично накрытых столов, уставленных разноцветными салатами и блюдами с паштетом из гусиной печенки, собственноручно изготовленным хозяином дома по собственному секретному рецепту. Эфраим, человек словоохотливый и открытый, щедро рассказывал многое из встреченного им и пережитого, но никогда ни с кем не поделился он секретным рецептом своего знаменитого паштета.
Именно там, неприкаянно слоняясь среди многоголосого ивритского говора, пересыпанного космическими именами из другого мира, вроде «Гуччи, Реканатти, Ив Сен-Лоран», мы набрели на Ною, которая смотрела на окружающее великолепие так же отчужденно, как и мы, хотя формально она, в отличие от нас, была там своей.
Своей, да не совсем. Похоже, привычное комфортабельное существование уже не наполняло ее жизни, ей хотелось чего-то большего, не столь материального. Она металась, маялась, пыталась писать прозу, но не очень успешно, и сразу потянулась к нам. Услышав о моих американских достижениях, она попросила привезти ей мои пьесы.
Пьесы ей понравились, и она взялась показать их своей подруге, которая была подружкой известного режиссера Одеда Котлера, хоть и молодого, но перспективного, уже намеченного на должность руководителя отдела драмы израильского телевидения, которое было еще моложе и оказалось еще перспективней.
Поверьте, к сердцу израильского режиссера нет пути вернее, чем этот, случайно предложенный мне Ноей, – через дружка или подружку этого режиссера, готовых подсунуть ему твои пьесы в интимный момент. Пьесы могут ему, конечно, не понравиться, но он наверняка их прочтет. Я восприняла это как чудо, ведь к тому времени я уже постигла главную проблему драматурга – заставить режиссера прочесть твои опусы.
Котлер мои пьесы не только прочел, но оценил и отверг, предложивши взамен найти тему, подходящую для израильской теледрамы. Я поняла, что это мой звездный час, и мысль моя заметалась в мучительных поисках – где и как следовало эту тему искать? В здешней жизни я не понимала ничего, писать об унылых бедствиях вновь прибывших не хотелось, и я решила обратиться к своему уникальному опыту борьбы с КГБ. Я знала эту борьбу в деталях, и нужно было только выбрать оригинальную форму, отличающую мою пьесу от десятков других.
Похоже, я в этом деле преуспела, и новую пьесу, написанную мною рассудочно, почти без любви, а может, именно поэтому, экранизировали дважды – первый раз на израильском, второй – на лондонском «Темз» – телевидении. Экранизовали на соответствующих языках – увы, ни один из них не был русским!
Осуществить русскую пьесу в виде израильской теледрамы – задача не из простых. Передо мной высились два непреодолимых камня преткновения: перевод на иврит, и режиссер, способный понять и передать зрителю мой замысел.
Единым ловким маневром я ухитрилась перескочить через оба камня одним прыжком – я вовлекла в этот проект своего старого московского друга, Стасика Чаплина, который к тому времени прибыл в наши палестины, и на безрыбье взялся руководить русским студенческим театром иерусалимского университета. Должность эту он получил почти чудом, когда прежний руководитель театра Зиновий Зиник закапризничал и пустился куда-то за моря в поисках счастья.
Стасик оглядел свою малочисленную труппу, – тогда русскоязычных студентов было вообще немного, а жаждущих играть в театре и того меньше, – грустно вздохнул и принялся искать решение неразрешимой задачи: как поставить профессиональный спектакль с такой разношерстной любительской труппой. И как ни удивительно, ему это удалось – он так изобретательно организовал сцены в «Женитьбе» Гоголя, что дефекты постановки можно было спокойно списать на ее модернизм.
В труппе Стасика оказались и настоящие таланты – Фира Кантор стала профессиональной характерной актрисой, она и по сей день играет в фильмах Стасика, а покойный Мирон Гордон проявил себя как блистательный переводчик на иврит. Он-то и перевел мою пьесу «Последние минуты», переименованную при экранизации в «Час из жизни профессора Крейна», причем на нашей первой встрече с Одедом Котлером он бегло декламировал ее на иврите, просто глядя на страницу русского текста. И несмотря на это, а может, благодаря этому, пьеса Котлеру понравилась.
«Но кто же сможет ее здесь поставить?» – спросил он. И тогда я выпустила на сцену Стасика, который был способен сказать на иврите только «спасибо» и «пожалуйста». К счастью, Котлер оказался человеком истинно театральным – посмотрев спектакль студенческого театра Стасика, в котором он даже «спасибо» и «пожалуйста» не мог вычленить из общего потока чужой речи, он оценил мастерство режиссера и заключил с ним контракт. А заодно и со мной.
В фильме «Час из жизни профессора Крейна» был представлен один час – непосредственно перед арестом – профессора-диссидента, разыгрываемый на двух игровых площадках: квартира диссидента и стоящий у подъезда автомобиль с оперативными работниками КГБ. В предвидении близкого ареста между обеими партиями соблюдается некое негласное соглашение жертвы с палачом, которое драматически нарушается ночным приходом бывшего любимого ученика профессора, покинувшего того полгода назад по взаимной договоренности. И все рушится – и хрупкий мир в семье, и уютный мир в теплой машине кэгэбэшников, и грядущая научная карьера любимого ученика.
Сценарий был готов очень быстро, перевод Мирона был завершен еще быстрей. Со страхом и восторгом мы принялись увлеченно стряпать русское блюдо на восточной кухне местного телевидения начала 80-х годов. И, как ни удивительно, преуспели!
Вдохновленные первым успехом, мы со Стасиком задумали новый проект, воображая, что мы на верном пути. Ах, какая это была иллюзия! Мы еще не осознали, как в этом мире все зыбко, как легко улетучивается успех, как «нестерпимо он зависим» от любых капризов судьбы.
Поначалу все шло отлично – худсовет принял мою заявку, переведенную Мироном, и я приступила к написанию сценария. Сюжет я придумала вполне действенный – замужняя молодая режиссерша из «наших» заводит роман с молодым красавцем-сефардом, который играет роль «сексуальной приманки» для мафиозной группы, зарабатывающей шантажом. Влюбленный в режиссершу красавец-сефард отказывается представить своим «браткам» материал на нее и пытается порвать с ними, но они ему этот бунт не прощают. Парень гибнет, а режиссерша, смахнув мимолетную слезу, отправляется на поиски новых приключений.
Пока я писала сценарий, в окружающем мире незаметно для меня произошли судьбоносные изменения: Одед Котлер, поднявшись выше по номенклатурной лестнице, отринул утлый челн теледрамы ради более надежного капитанского мостка на устойчивом судне одного из государственных театров.
И, как назло, одновременно верный Мирон вдруг стал неверным – покинув и Славу, и меня, он тоже начал взбираться по номенклатурной лестнице, но не в актерстве, а в дипломатии. Там он изрядно преуспел – сразу после перестройки он стал первым культурным атташе израильского посольства в Москве, потом был нашим послом в Польше, и только преждевременная смерть помешала ему стать послом Израиля в России.
С болью осознав, что наши мелкие телевизионные забавы ему теперь по колено, мы принялись искать нового переводчика. И нашли какую-то милую даму, начисто лишенную литературного умения. Она, бедняжка, перевела сценарий, как могла, а могла она очень немного, – весьма кстати для ревнивых преемников Котлера, старающихся стереть с лица отдела драмы все его следы. Они порадовались плохому переводу и дружно зарубили сценарий. Нам со Стасиком, правда, пообещали рассматривать наши новые предложения, причем время ожидания ответа постепенно переходило в бесконечность.
Что же нам было пока делать? Оставалось только вернуться на скудное поле русского студенческого театра, где Стасик начал репетировать мою пьесу «Змей едучий», ту самую, которую Михаил Шемякин напечатал в своем уникальном альбоме «Аполлон». Я рассказываю об этой постановке только для того, чтобы по мере своих скромных сил раскрыть перед читателем поразительное художественное дарование режиссера Станислава Чаплина – кто знает, может, это влияние фамилии, которая обязывает?
Действие пьесы происходит на дебаркадере – плавучей пристани на Волге, где четыре пьяных персонажа разыгрывают исключительно абсурдную драму, полностью основанную на истинных деталях истинной российской реальности. По ходу пьесы герои движутся по сцене, взбегают по мосткам и спускаются в каюты. Но Стасик рассудил иначе – он поставил всех четверых на колени и накрыл тяжелой рыболовной сетью крупной вязки, так что они не могли покинуть подмостки. Они ползали и копошились под сетью, ссорились, мирились, оскорбляли друг друга, даже совокуплялись, и все это не поднимаясь с колен, от чего их полувразумительный диалог неожиданно приобрел многоплановый глубинный смысл.
Думая о былом в ракурсе свершившегося настоящего, я не удивляюсь, что и Шемякин, и Чаплин выбрали именно эту мою пьесу. Кроме того, что драма в ней замаскирована в виде комедии, пьеса «Змей едучий» была предтечей всего того безобразия, которое пышно расцвело в сегодняшней российской литературе – за четверть века до Владимира Сорокина я построила драматический конфликт на выяснении вопроса «Кто в камбузе кучу наклал?», но, мне кажется, сделала это достаточно деликатно, не в пример нынешним.
Но Бог с ним, со «Змеем едучим», он тоже уплыл в прошлое, как и уютный иерусалимский театрик «Паргод», где шли наши спектакли с неизменным аншлагом. Вымуштрованный равнодушием израильской публики к искусствам хозяин «Паргода» был так потрясен энтузиазмом русского зрителя, что надолго сделал свою сцену убежищем для бездомных российских изгнанников.
Потом наши с Чаплиным пути на короткое время разошлись – ему все же выделили фильм на израильском телевидении, а меня вдруг занесло на другие берега, в другие дали.
В журнале «22» была опубликована та самая моя пьеса «Последние минуты», по которой Стасик поставил теледраму «Час из жизни профессора Крейна». Именно на эту, уже лишенную девственности, пьесу упал ищущий взгляд известного английского переводчика Майкла Гленни. Он быстренько настрочил заявку и представил ее лондонскому телевидению «Темз», одному из лучших в мире по производству теледрам.
Я жила, не подозревая не только о назревающем проекте, но даже о существовании Майкла Гленни, пока однажды очень вежливый и очень английский баритон не спросил меня по телефону, не возражаю ли я против постановки моей пьесы на «Темз-телевижн». Еще не оправившись от шока, я поспешно согласилась и только потом позволила себе роскошь забиться в истерике восторга. Значит, моя фея опять порхает надо мной, на этот раз в виде солидного лысого англичанина – ее причуд не счесть!
Меня пригласили на съемки в Лондон, где поселили в роскошном отеле в Ричмонд Парке, и я опять стала осторожно входить в образ уважаемого драматурга, пьесу которого ставят на одной из лучших телестудий мира. Это был уже не офф-офф-Бродвейский театр и не провинциальное израильское телевидение, да и актеры были в основном звезды с мировыми именами – Йон Хогг, Морин Липпман, Антони Хиггинс, которых я потом многократно видела на телеэкранах. И играли они соответственно.
Английская постановка так разительно отличалась от чаплинской, что я на миг почувствовала себя Шекспиром, инсценированном в двух противоречивых трактовках. Если у Чаплина все дышало тревогой, трепетало и тонуло в таинственном полумраке, в фильме Майкла Дарлоу были четко расставлены все точки над «И», экран был ярко освещен и ни в какой тени не прятались тайны или загадки.
Я не могу сказать, какой из двух вариантов лучше. А точнее – режиссерское решение несомненно лучше чаплинское, зато английское актерское исполнение на порядок выше израильского. Игра английских кинозвезд так естественна, так убедительна, что компенсирует стандартность режиссуры. Где-то в разгар съемок произошел забавный казус – увлекшись своей ролью оскорбленного мужа, Йон Хогг влепил Морин Липпман такую звонкую пощечину, что она отлетела в дальний угол, ударившись щекой о край кровати, в результате чего все последующие дни ее гримерша то и дело вынуждена была замазывать ей внушительный синяк под глазом.
Те дни в Лондоне вспоминаются мне каким-то сказочным сном, внутри которого точно известно – проснешься, и все вмиг рассеется. С одной стороны, я чувствовала себя Золушкой, на время обрученной с принцем – меня привозили на съемки в лимузине, знаменитые актеры наперебой приглашали меня кто на обед, кто на ланч, а, с другой стороны, я не обманывалась, понимая, насколько это все призрачно и мимолетно – и принц, и лимузин, и роскошный отель, и внимание актеров.
По вечерам, после съемок я бродила по лондонским улицам, наполняясь пронзительной ностальгией по сегодняшнему, еще не прошедшему, но уже уплывающему счастью. Я бы хотела, чтобы так было всегда – суетливые коридоры телевидения, обсуждение деталей сценария перед съемками, просмотр материала и обсуждение результатов в конце рабочего дня! И ясно понимала, что такие чудеса повторяются не часто, что вся эта благодать временная, преходящая, и что нужно просто благодарить за нее судьбу, а не желать невозможного. Как говорила одна из героинь моей пьесы «Майн либер кац»:
«Не надо требовать от жизни слишком многого. В лагере я всегда молила Господа, чтобы он дал мне кончить жизнь на нижних нарах».
Но ведь я была не в лагере, а в Лондоне, и меня ничуть не увлекала возможность кончить жизнь на нижних нарах. Как-то в за ланчем в роскошном кафе при роскошном универмаге «Фортнум» я покаялась Морин Липпман в своей тоске по невозвратности сегодняшнего дня. Прелестная еврейка Морин была выбрана на роль жены моего диссидента, по национальности чеченки, за свои выразительные еврейские глаза, – в те наивные времена чеченцы еще числились не мусульманскими террористами, а несчастными жертвами сталинского террора, которыми они в действительности и были. И потому еврейской актрисе вполне пристало играть роль гонимой чеченки, – ведь в те наивные времена евреи тоже числились не жестокими оккупантами на танках, а несчастными жертвами гитлеровского террора, которыми они в действительности и были.
Хоть говорят, сытый голодного не разумеет, Морин посочувствовала мне – неясно, как она, блистательная успешная актриса, жена блистательного успешного драматурга, могла влезть в мою сиротскую шкуру. Может, это просто была еврейская благотворительность.
Но как бы то ни было, она решила устроить прием в мою честь. Меня привезли в очаровательный английский дом, законно претендующий на роль крепости, усадили за нарядный стол, обильно уставленный английской едой, съедобной только на английский вкус, и начали развлекать на английский манер. Я была так напряжена от необходимости быстро понимать их шутки-скороговорки и смеяться в нужных местах, что из всех этих шуток запомнила только одну, зато шикарную.
Среди гостей был агент Морин и многих других известных актеров и актрис, старый польский еврей, удачно ставший евреем американским. Он рассказал, как его уволила одна его клиентка, очень красивая и знаменитая кинозвезда сорока трех лет, мать троих детей и скандальная героиня полдюжины разводов. Он имел неосторожность послать ей сценарий по дневнику Анны Франк, предполагая пригласить ее на роль матери – ему это казалось очевидным. Актриса прочла сценарий и сообщила ему, что согласна. Когда он приехал к ней обсуждать контракт, она спросила, кого планируют взять на роль матери.
«Как – кого? – удивился он, не сразу врубаясь. – Вас, конечно».
«Что? Меня на роль матери? – вне себя завопила сорокатрехлетняя мать троих детей и в ярости затопала ногами. – Вы осмелились предложить мне… мне? мне!.. роль матери?»
В этом месте она зарыдала и выкрикнула: «Вон отсюда! Вы уволены!»
Надеюсь, я не должна напоминать, что Анна Франк умерла пятнадцатилетней девственницей. Впрочем, может быть, напоминание и не повредит – если капризная кинозвезда средних лет об этом начисто забыла, и другие тоже могли позабыть.
Мы посмеялись и разошлись – актеры, режиссеры и агенты продолжать свою привычную жизнь в искусстве, я – оплакивать очередное возвращение в неопределенность. Вообще-то говоря, плакать было грех – в начале июля 1981 года моя пьеса появилась на английских экранах, ею открывалась серия несерийной теледрамы Независимого телевидения.
Мне конечно немедленно захотелось послать об этом весточку в Россию как друзьям, так и завистникам – не правда ли, хорошо бы выяснить, насколько эти множества пересекаются? Впрочем, я обратилась с этой идеей в русский отдел радио Би-Би-Си к своему хорошему приятелю Зиновию Зинику вовсе не с этой безрадостной целью. Но именно этой цели я достигла, хоть вовсе к ней не стремилась.
Зиник ответил мне, что был бы рад сообщить русским слушателям о постановке моей пьесы на лондонском телевидении, но передачи их отдела строго следуют за отзывами английской прессы, а о моем фильме в этой элитарной прессе не было ни слова. И я, дурочка, ему поверила!
Через пару недель я получила по почте большой коричневый конверт от своего английского агента. В конверте было больше дюжины вырезок из всех лондонских газет – ни одна не обошла мой дебют молчанием.
Я и по сей день храню эти вырезки – не столько для утешения, сколько для напоминания, что никогда не следует испытывать дружбу, чтобы не остаться с разбитым сердцем у разбитого корыта.
На этом мои отношения с английским телевидением не закончились. Дальнейшее их развитие напоминало психологический триллер. Жаль только, что главная роль в этом триллере досталась мне, а мой типаж – лирическая комедия. Но лучше по порядку.
Когда знаменитый кинорежиссер Криштоф Занусси, соскочив с пожарной тумбы, торчащей в центре зала прибытий Франкфуртского аэропорта, изящно склонился и поцеловал мне руку, я с трудом удержалась, чтобы не сказать ему:
«Польский офицер денег не берет!»
Хоть ничего остроумного в этой дурацкой шутке не было, я практически прикусила себе язык, чтобы она не вырвалась наружу, – наверное, вышеописанная рыцарская сцена из девятнадцатого века меня сильно смутила, иначе я не могу объяснить свое извращенное побуждение. А может, просто скрытая во мне героиня лирической комедии еще не смирилась с предназначенной ей ролью в психологическом триллере.
Обстоятельства нашей с Криштофом встречи были совершенно неправдоподобные – у меня во Франкфурте была пересадка по дороге из Америки в Тель-Авив, и знаменитый режиссер Занусси примчался из Варшавы специально для того, чтобы просидеть со мной пару часов в кафе аэропорта, обсуждая детали нашего совместного проекта – многосерийного телефильма о жизни Федора Достоевского, включенного в ближайший план телевидения Би-Би-Си. Мне предстояло выступать в этом проекте в роли сценариста, а Занусси в роли режиссера и моего соавтора по сценарию.
Во время той памятной встречи в кафе мы с Криштофом сверили свои взгляды на близнецовую связь творчества великого писателя с его биографией и вскорости приятно расстались, наслаждаясь радостью взаимного узнавания. Мы даже не подозревали, какие подводные рифы подстерегают нас на пути к осуществлению этого проекта.
Начался он за полгода до нашей встречи во Франкфуртском аэропорту, причем начался самым банальным образом, дающим результаты крайне редко, – под сильным впечатлением дневников Анны Григорьевны Достоевской я накатала заявку на многосерийный телефильм-биографию ее великого супруга и отправила эту заявку прямо в святилище теледрамы, на телестудию Би-Би-Си.
Для этого смелого поступка у меня была небольшая зацепка – с ведущим продюссером Би-Би-Си, Кеннетом Троддом, меня познакомил чешский киновед, профессор Антонин Лим, один из главных героев злополучной «пражской весны», один из соавторов печально известных «Двух тысяч слов», один из… – всего не перечислишь – забредший однажды на мой нью-йоркский спектакль и ставший на какое-то время поклонником моего творчества.
Именно Кеннету Тродду я и адресовала свою заявку. Проходили месяцы, ответа все не было, и я, потерявши надежду на великое, пошла размениваться на мелочи – положила копию заявки в картонную папку и отнесла в дружественную израильскую кинофирму «Беллбо-филмз». К тому времени я уже научилась заботиться о внешнем виде своих рукописей, и потому хозяйка фирмы Номи Шхори прочла мою заявку довольно быстро.
Израильских хозяев в «Беллбо-филмз» было двое – Номи и ее муж Катри. Полиглотка Номи, женщина исключительной интеллигентности и тонкого интеллекта, отвечала за художественную сторону дела, а Катри, мужик практический и хваткий, за производственную и финансовую. Основные хозяева фирмы – голландец Луди Бокен и англичанин Дэвид Конрой, успели прославиться производством нескольких выдающихся фильмов, в частности, биографическим сериалом «Винсент и Тео», срежиссированным самим великим Робертом Альтманом.
Прочитав мою заявку, Номи Шхори быстро переправила ее своим компаньонам, которые еще быстрей посоветовали ей: «Брать и подешевле!» Это их и подвело. Когда Катри сообщил мне радостную весть, я, немедленно потерявши соображение от восторга, согласилась на все его условия.
Составленный им контракт был ужасен – он за гроши лишал меня всех прав, нагружая невыносимым бременем обязанностей. Но для меня эти мелочи были несущественны – какая разница, если со мной хотят работать создатели знаменитого фильма о Ван-Гоге!
Я подписала этот чудовищный контракт, который завершался пунктом, обязывающим Катри заплатить мне 1200 шекелей до 1-го мая. Уверенный в том, что я у него в кармане, Катри предпочел, чтобы и 1200 шекелей тоже пока оставались у него в кармане, и 30 апреля укатил на фестиваль в Канны, «позабыв» оставить мне чек.
И тут фортуна решила сыграть с ним злую шутку – 2 мая мне позвонил Кеннет Тродд и сообщил, что телевидение Би-Би-Си готово заключить со мной контракт на написание сценария четырехсерийной драмы о Достоевском при условии, что я полажу с Криштофом Занусси, которому они хотят поручить режиссуру. Боюсь, в их английских головах не умещалось соображение, что Польша не совсем Россия, и даже немножечко наоборот, – все эти славяне, ютящиеся где-то на задворках Европы, казались им на одно лицо. Однако возражать я не смела, тем более, что названная Троддом сумма гонорара была настолько астрономической – по крайней мере, на мой эмигрантский слух, – что я и по сей день не решусь ее назвать.
Когда Катри, вернувшийся в середине мая из Канн, узнал, что я решительно расторгаю наш с ним контракт из-за незаплаченных мне вовремя 1200 шекелей, он не поверил своим ушам. Однако, услыхав о предложении Би-Би-Си, он эти уши навострил и прочно на них встал, а его английский партнер Дэвид Конрой вцепился в Тродда мертвой хваткой и висел на нем, как бульдог, пока его не взяли в коопродюсеры, что стоило ему немалых денег.
Пока тянулась зубодробительная комедия составления договора между Би-Би-Си и «Беллбо-филмз» – а количество страниц этого договора превысило количество страниц сценария первых двух серий, – я пережила не менее зубодробительную драму в своих отношениях с Криштофом Занусси.
Начиналось все идиллически, как в сказке. После недолгих телефонных переговоров выяснилась подходящая, хоть и весьма отдаленная точка нашей возможной первой встречи – Лос-Анжелес. Смешно, не правда ли, – пути Криштофа из Варшавы и моего из Тель-Авива смогли пересечься во времени только на противоположном берегу противоположного океана. Но таков, как видно, был замысел высших сил – Сашина конференция по физике низких температур в точности совпала по времени с местом работы Криштофа над очередным голливудским сценарием.
Так мы встретились впервые – за ланчем в увитом розами патио его отеля, под недремлющим шестиглазым надзором тройки его голливудских продюсеров, следящих за мной так неотступно, будто я собиралась умыкнуть их драгоценного принца. Высокий сероглазый Криштоф действительно выглядел, как сказочный принц, особенно на фоне своих хамоватых приземистых Церберов, выделивших для нашей беседы ровно один час – Криштоф признался, что чего-то им недодал, и они держат его под домашним арестом. Особенно не нравилось Церберам, что они не могут понять ни слова из нашей беседы – ведь мы весь подаренный нам час говорили по-русски.
За этот час я наскоро рассказала Криштофу основные пункты своего замысла и уехала в путешествие вдоль всего тихооканского побережья, окрыленная надеждой, что мы с ним поладили. Надежда эта подтвердилась самым фантастическим образом – в номере случайного мотеля в захолустном штате Орегон, где мы нечаянно задержались из-за Сашиной болезни, вдруг зазвонил телефон, и очень английский женский голос потребовал, чтобы я безотлагательно приступила к написанию сценария первой серии, предварительно и еще более безотлагательно выслав на Би-Би-Си подробный эскиз всех четырех серий. Голос настойчиво повторил, что и эскиз, и сценарий необходимо представить как можно скорей, лучше всего – вчера, так как они уже включили серию о Достоевском в ближайший план студии.
Я была так ошарашена этим требованием, обязывающим меня безотлагательно и срочно выполнить работу, рассчитанную на пару лет, да к тому же на английском языке, что даже не полюбопытствовала, как им удалось меня найти – ведь еще вчера я сама не знала, что судьба занесет нас в этот забытый Богом мотель на краю географии. Тут было из-за чего взволноваться – сидя в машине, застрявшей из-за болезни водителя в джунглях тихоокеанского побережья, можно было с грехом пополам шлифовать план предполагаемой серии, и только. Но оставалась неразрешимая проблема – как уточнить факты жизни писателя без книг и как записать придуманное без компьютера, которого в обозримом будущем у меня не предполагалось.
Однако по приезде в Сиэттл, куда Саша был приглашен на месяц, все быстро устроилось – нашелся хороший врач, быстро поставивший Сашу на ноги, нашелся компьютер, и в придачу к нему множество книг о Достоевском в богатейшей университетской библиотеке. Оставалось только продумать конструкцию предполагаемой серии.
Перелистав сотни страниц с подробностями жизни великого писателя, я постепенно начала понимать, в какую бездну я себя ввергла – его судьба представляла собой не что иное, как развернутую композицию всех его романов, вместе взятых. Демонические женщины Достоевского терзали его с тем же остервенением, с каким терзали они героев его романов, а кроткие девушки вздыхали о нем так, как он их описал – хотя, честно говоря, количество таких кротких воздыхательниц он в своих романах слегка преувеличил. А, может, он просто списал их всех с одной, настоящей?
И даже причиной убившего его горлового кровотечения послужила бесовщина, укором сошедшая с его страниц и возникшая в виде отражения заговорщиков в витрине книжного магазина, где он стоял, рассматривая обложки новых изданий. Он не разглядел лиц своих бесов, пристроившихся прямо за его спиной, но явственно расслышал их разговор о готовящемся покушении на царя. В отчаянии заметался он между двумя полюсами своей гипертрофированной совести – как быть, разоблачить или промолчать? Пристало ли доносить на революционеров ему, бывшему каторжнику, пережившему последние минуты перед казнью и едва не сошедшему от этого с ума? А, с другой стороны, имеет ли он, поборник христианской морали, право не доносить?
Но это были проблемы великого русского писателя, а мне, не великой и не русской, нужно было решать свою проблему – как втиснуть его супердраматическую судьбу в узкие рамки скромных четырех серий? Как расчленить его запутанную жизнь на простые формулы диалогов и сцен? В конце череды долгих безрезультатных дней и долгих бессонных ночей, когда я окончательно поняла, что поставила перед собой неразрешимую задачу, тьма моего отчаяния вдруг осветилась догадкой, пугающей своей простотой – вехами его жизненного пути должны служить его женщины!
Дрожащей рукой я набросала план серии:
1. Путешествие с Авдотьей.
2. Путешествие с Марией.
3. Путешествие с Полиной.
4. Путешествие с Анной.
Конечно, это было еще не окончательное решение, а только путь к нему, но путь этот был освещен четырьмя женскими лицами, восстанавливающими прерванную связь времен.
Теперь нужно было искать сквозной образ, объединяющий романы Достоевского с его судьбой – наверное, кто-нибудь другой не стал бы мучить себя этими поисками, а удовольствовался бы богатейшим материалом, предоставленным самой жизнью писателя. Но мне этого оказалось мало – именно там, в Сиэттле, я начала прозревать в себе непреодолимое стремление к композиционной стройности, из-за которого я в конце концов упустила возможность поработать с одним из лучших режиссеров нашего времени.
Нет, нет, «не поймите меня правильно», как говаривал зав. отдела кадров подмосковного Института стандартов, – я довольно долго и напряженно работала с Криштофом Занусси, но чем дольше и напряженней мы работали над сценарием, тем острее и напряженней становились наши разногласия, завершившиеся в один печальный день полным и окончательным разрывом.
Впрочем, тогда я бы этот день печальным не назвала – ведь он завершился видимостью моей победы над знаменитым режиссером, а я не сразу сообразила, что моя победа всего лишь видимость.
Началось с того, что после составления моего, одобренного советом продюссеров плана серии, мы с Криштофом не пришли к соглашению о ее названии. Я хотела назвать фильм о Достоевском «Вечный игрок», но Занусси настаивал на «Двух смертях Федора Достоевского», и, несмотря на мои возражения, начальством был принят его вариант.
Они это сделали, не подозревая, какую мину Криштоф заложил под это заглавие, а я, пусть и «скрипя сердцем», все же согласилась, исходя из принципа «хоть горшком назови, но впусти в кузов». Тем более, что по моему замыслу две смерти и впрямь должны были обрамлять фильм – первая серия начиналась сценой издевательской инсценировкой казни Достоевского и его друзей-петрашевцев, а последняя сцена последней завершалась смертью писателя.
Вдохновленная практично выбранной архитектурной конструкцией, я нашла тот лифт, который, с легкостью скользя между сериями-этажами, должен был облегчить мне непрерывность повествования. Для этого я придумала ловкий трюк, по тогдашним временам противозаконный, а по-сегодняшним почти необходимый, – предвосхитив таким образом уловки странного литературного явления, называемого ныне «постмодернизм».
Я ввела в сценарий новое действующее лицо, Николая Ставрогина, портретно снявши его со страниц романа «Бесы» и наделив чертами современника Достоевского, праотца терроризма, Михаила Бакунина, которого некоторые литературоведы и впрямь считают прототипом Ставрогина.
К этому меня побудило не стремление вовремя влиться в стремительно входящий в моду поток «постмодернизма», а удивительное совпадение географических и временных факторов в судьбах Достоевского и Бакунина. Вчитываясь в детали их биографий, я увидела некий мистический узор совпадений, словно чья-то прозорливая рука водила их обоих во времени и в пространстве странно согласованными кругами, не отдаляя друг от друга, но и не допуская встречи.
В молодости они, чуть-чуть не совпав во времени, были членами литературного сообщества, центром которого был Белинский. В ссылке оба они были в одно и то же время и в одних и тех же местах. За границей оба одновременно оказались в Швейцарии и посетили один и тот же конгресс, где Бакунин произнес речь, а Достоевский эту речь слушал, отсеивая из нее первые зерна замысла «Бесов».
Окрыленная своей непредвиденной придумкой, я с большим воодушевлением написала «Путешествие с Авдотьей», где светский красавец Ставрогин-Бакунин выступал в роли друга-соперника незадачливого, но талантливого дебютанта Феди, которого остальные завсегдатаи салона Авдотьи Панаевой прозвали прыщом.
В честь завершения сценария первой серии Кеннет Тродд прислал в Израиль Занусси, поместив его в роскошном номере отеля «Дан-Панорама». Партнеры из «Беллбо-филмз» закатили по этому поводу небольшой банкет, после которого отправили меня и Криштофа обсуждать мое любимое детище.
И тут к моему ужасу выяснилось, что Криштоф категорически не согласен ни с одним из основных пунктов моего ловкого еврейского замысла – в его сердце жил совсем другой замысел, по сути, римско-католический. Он требовал построить весь сценарий на раскрученной в четыре серии предсмертной исповеди Достоевского, совсем как в нашумевшем тогда фильме о Моцарте и Сальери, причем требовал выбросить из сценария все яркие неконвенциональные сцены.
Я ни за что не хотела принять его версию, утверждая, что такая исповедь – обычай отнюдь не православный, а римско-католический, но Криштоф так упорно стоял на своем, что заставил меня и впрямь поверить, будто польский офицер денег не берет. Отчаявшись, я обратилась за поддержкой к Номи Шхори. Услыхав ее разумные доводы в пользу моей версии, – как женщина интеллигентная, она пыталась убедить его, что православные перед смертью не исповедываются, а причащаются – Криштоф пришел в ярость и начал названивать Тродду в Лондон.
Звонил он из отеля, торговались мы с Троддом часами, и все это в страшные времена монополии телефонной компании «Безек», назначавшей монопольные цены на международные разговоры, – представляю, в какую копеечку влетели Би-Би-Си наши с Криштофом разногласия!
В конце концов, Тродд, полностью ставший на сторону своего любимого режиссера, объявил, что «Клиент» всегда прав, а я должна подчиниться и перестать морочить голову. Делать было нечего, – Криштоф уехал без того, чтобы поцеловать мне ручку на прощанье, и я, глотая слезы, принялась за кастрацию своего сценария. Через месяц, прочитав полученный результат, скучный и вялый, умная Номи пожала плечами и умыла руки, а я отправила свое изуродованное детище в Лондон на суд худсовета Би-Би-Си.
Ждать пришлось недолго – очень скоро прибыло сообщение, что худсовет мой сценарий отклонил, и Тродд намерен расторгнуть наш договор в связи с профессиональной несостоятельностью автора, то есть меня.
Вот тут в ярость пришла уже я. Заручившись поддержкой Номи и Дэвида Конроя, тоже возмущенного настояниями Криштофа, я ринулась в бой, потрясая первым, отвергнутым Криштофом вариантом сценария, и поэпизодным планом, одобренным тем же худсоветом.
Словно позабыв о наших душераздирающих телефонных спорах, Тродд спросил меня, почему я согласилась изувечить свой сценарий, а я с мудрой сдержанностью не стала напоминать ему о его роли в этой римско-католической кастрации. В результате худсовет сменил гнев на милость и принял мой сценарий, отказавшись от Занусси как в качестве моего соавтора, так и в роли режиссера.
В тот момент я обрадовалась, – во-первых, я была на Криштофа очень сердита, а во-вторых, после его отставки мне полагался весь гонорар сценариста, вполне мною заслуженный, так как там не было ни одной его строчки, ни одной его идеи. Но теперь я думаю, что деньги деньгами, а по существу для меня это была ужасная потеря. Ведь русских режиссеров, приемлемых для Би-Би-Си, тогда на рынке не было, а английского, способного справиться с расхристанностью страстей по Достоевскому, так и не нашлось.
Но это случилось не сразу – за год работы я написала сценарий «Путешествия с Марией», подробную разработку «Путешествия с Полиной» и «Путешествия с Аннной» и получила на все это утверждение худсовета. В какой-то момент я уже начала верить, что замысел мой осуществится, хоть из памяти не шел мой разговор с Дэвидом Конроем по пути на заседание худсовета Би-Би-Си. Все было так славно – в Лондоне стояла поздняя весна, на улицах еще не было пыльно и цвела сирень, мы с Дэвидом шли к зданию Би-Би-Си, болтая о пустяках, как вдруг он сказал:
«Вы должны иметь в виду, что у английских актеров возникнет много проблем при исполнении написанных вами диалогов. Ваши герои слишком далеки от всех правил английской жизненной манеры и английской театральной школы, они ведут себя так расхристанно, так безудержно, они не скупятся на жесты и истерики, – их попросту невозможно сыграть!»
«Но вся жизнь Достоевского построена на непрекращающейся истерике, так же, как и его романы, которыми все так восхищаются, – взмолилась я. – Не могу же я сделать его английским джентльменом, ведь он тогда перестанет быть Достоевским». «Конечно, не можете, – согласился Конрой. – И в этом ваша беда».
Тогда я не придала его словам особого значения, ведь я в который уже раз упивалась ролью уважаемого драматурга, по сценарию которого запланирован многосерийный фильм на самой престижной телестудии мира. Реальность подтверждала мою уверенность в успехе – я одержала верх над знаменитым Криштофом Занусси, в аэропорт за мной присылали лимузин, мои полеты в Лондон были оплачены телестудией, так же как и мои комфортабельные отели в лучших районах английской столицы. И даже известный продюсер Дэвид Конрой, создатель многосерийного бестселлера «Клавдий», несмотря на свои осторожные предостережения, клятвенно заверял меня, что в случае отказа Би-Би-Си от проекта, они с Луди Бокеном сделают фильм сами.
И я наивно верила его словам, – мне так приятно было им верить! Тем более, что никаких признаков отказа Би-Би-Си от проекта я не замечала, хоть внешние обстоятельства последнего действия этой драмы могли бы насторожить человека, более меня склонного к мистике.
В феврале 1991 года, в разгар войны в заливе, когда иракские скады шрапнелью падали вокруг нашего дома на севере Тель-Авива, меня срочно вызвали в Лондон для последней шлифовки сценария двух первых серий. Никакие мои отговорки не помогли – мне прислали билет и потребовали немедленной явки под угрозой отказа от всего сделанного мной и уже одобренного худсоветом.
Я вынуждена была согласиться, поставив Тродду единственное условие – чтобы номер в отеле был снят на двоих, так как я не могла уехать в мирный Лондон, оставив под скадами Сашу, то и дело норовящего забыть где-нибудь свой противогаз. Саша ехать решительно отказывался, ссылаясь на мужскую гордость, но я сломила ее потоками женских слез и клятвенным обещанием, что в Лондоне он целых десять дней не услышит надрывающего душу воя сирен воздушной тревоги.
Последняя сирена застала нас в аэропорту, где невозможно было уклониться от напяливания на лицо отвратительной противогазной маски. В тот вечер, на наше счастье, скады падали как раз вокруг аэропорта, и битых три часа толпы людей в масках с гофрированными хоботами шарахались из одного угла зала ожидания в другой, прислушиваясь к грохоту взрывов. Все вылеты были отложены, так что мы прибыли в Лондон далеко заполночь, даже не зная названия заказанного для нас отеля.
Однако у выхода из таможенного контроля меня поджидал водитель лимузина с именной биркой на шее, – он не только доставил нас в отель, но и сунул мне в руку конверт с толстой пачкой командировочных денег, пообещав назавтра приехать за мной к десяти утра. Измученные и голодные, мы легли спать где-то около четырех утра, но уже в шесть нас разбудил вой сирены.
«Воздушная тревога, – заорал раздраженный Саша, – а ты обещала!»
Подавленная острым чувством вины, я распахнула дверь номера – вся лестница была запружена заспанными босыми постояльцами в пижамах и ночных сорочках, остервенело рвущимися к выходу.
«Пожар! Пожар!» – расслышала я сквозь надсадный рев сирены, и, схватив Сашу за руку, поволокла его к двери. Он попробовал было упираться, ссылаясь на то, что я ему обещала, но я держала его мертвой хваткой, и мы в конце вывалились в общий кавардак на лестничной площадке. Пижаму Саша сроду не носил, и на английского джентльмена был похож не больше, чем Достоевский, но в испуганной толпе, давящей соседей по пути к спасению, никто не обратил на это внимания.
Мне показалось странным, что хоть все отчаянно вопят «Пожар! Пожар!», на лестнице нет никакого запаха дыма, но общая паника увлекла и нас тесниться вниз, в вестибюль. Не успели мы туда добраться, как вой умолк, и сдержанный мужчина в плаще, наброшенном поверх пижамы, сообщил в мегафон, что никакого пожара нет и не было, а просто испортилась пожарная сирена.
С огромным облегчением мы вернулись в свой номер, откуда даже не были украдены в переполохе мои кровные командировочные фунты.
«Вот видишь, – сказала я Саше, не понимая предупреждения, – все хорошо, никакой тревоги, как я и обещала!»
С утра начался мой каторжный труд по редактуре сценария объемом в 146 страниц убористого английского текста. Каждый день я восемь-десять часов проводила в обществе литературного сотрудника Кеннета Тродда, Джоша Голдмэна, который безжалостно вгрызался в мои диалоги с целью загладить их шероховатости и подшлифовать их под манеру английских леди и джентльменов. Хоть часто он бывал прав в критике оттенков моего английского, однако в общем вся процедура сильно смахивала на попытку надеть на Достоевского пижаму.
Сложность положения усугублялась тем, что я тогда работала на Макинтоше, а на Би-Би-Си пользовались вульгарным ПиСИ, так что мне пришлось приволочь в Лондон и таскать на спине в телестудию свой любимый компьютер, весивший вместе с сумкой и клавиатурой 11 килограммов. Каждый вечер я увозила компьютер обратно в отель, чтобы к утру внести в текст поправки, сделанные Джошем, ревностным поборником английского стиля в противовес русскому.
К счастью, поначалу все было хорошо – воздушных тревог больше не было, а меня и компьютер возили в лимузине, водитель которого любезно доносил 11 килограммов электронной премудрости до кабинета дотошного Джоша.
Правда, однажды, по дороге на Би-Би-Си, я услыхала по радио сообщение, что только что ирландские террористы обстреляли бюро премьер-министра Маргарет Тэтчер из подвезенного туда вплотную миномета, но мне и в голову не пришло, что этот обстрел может иметь какое-то отношение ко мне. Только вернувшись вечером в отель, я узнала, что Саша, изнывая от безделья в чужом городе, именно в то утро забрел на Даунинг-стрит и попал под этот самый проклятый обстрел. Он, правда, не пострадал, а только испугался и окончательно разуверился в моих обещаниях.
Я была так загружена работой, что и тут не вняла предостережению судьбы. Тогда некто, мудрый и высокий, повел против меня настоящую атаку, в надежде на мое прозрение. Для начала на Англию была послана небывалая снежная буря такой свирепости, какой бедные островитяне не видели предыдущие пятьдесят лет – так, по крайней мере, утверждало туземное телевидение.
Занесенные снегом дороги и улицы стали непроезжими, и мои уютные поездки в благословенном лимузине прекратились. Приходилось каждый день таскать в метро свой одиннадцатикилограммовый Макинтош туда и обратно – а входы и выходы лондонского метро сплошь состоят из длиннейших коридоров и крутых старинных лестниц. Вдобавок к этому я заболела тяжелым гриппом, и в один прекрасный снежный день, пока я, покачиваясь в забытье под тяжестью компьютера, то ли спускалась, то ли поднималась по бесконечным ступенькам, у меня из сумки украли пластиковый конверт с паспортом и деньгами.
Для получения нового паспорта необходимо было в тот же день лично заявить о пропаже старого в полицейский участок, который оказался где-то у черта на рогах, вдали от всех станций метро. Снегу намело видимо-невидимо, но это не остановило длящийся уже пару суток снегопад. Никакой транспорт не ходил, и на улицах не было ни автобусов, ни такси. Но у нас с Сашей не было выхода, – с трудом преодолевая сопротивление ветра, мы по колено в снегу побрели в полицейский участок, то и дело оскальзываясь и падая в сугробы. Почти не помню, как мы туда добрались, и еще меньше помню, как мы добрались оттуда до отеля.
Но это было только начало наших злоключений. На следующий день, отвезя в метро меня и комптьютер на Би-Би-Си, Саша отправился бродить по застывшему под снеговым покровом Лондону. Улицы были сумеречны и тихи – ни машин, ни автобусов, лишь ломкие цепочки немногочисленных пешеходов робко пробирались по лабиринтам прорытых в снегу узких дорожек. Затянувшие небо плотные тучи не пропускали даже крошечного светового луча, зато не скупились на непрерывное бесшумное кружение липких снежных хлопьев.
Нагулявшись по призрачным белым улицам, окончательно закоченевший Саша спустился в какой-то винный погребок, уютно освещенный ароматными розовыми свечами, где выпил для сугреву бокал старинного вина из девятнадцатого века. Не знаю, что подсыпали в это вино для вековой сохранности, но среди ночи у Саши открылся приступ невиданной аллергии – температура поднялась до сорока, а обе ноги от бедра до пальцев покрылись гнойными малиновыми волдырями.
На десятый день, мы, проявив исключительную живучесть, все же сумели выползти из отеля в свой последний лондонский путь – Саша с чемоданом в руке, я – с неразлучным компьютером в специальном рюкзаке за спиной. Хоть отдельные смелые таксисты уже появились на заснеженных улицах, мы, подавленные кражей почти всех наших денег, приняли мудрое решение ехать в аэропорт на метро с Пэддингтонского вокзала, расположенного в пяти минутах ходьбы от нашего отеля. Но страшная гриппозная слабость не позволила мне пройти это ничтожное расстояние с тяжелым компьютером за спиной – пришлось все же взять такси.
Тем временем на Пэддингтонском вокзале ирландские террористы взорвали бомбу, от взрыва которой погибло три человека и многие были ранены. Услышав об этом по дороге в аэропорт, Саша даже не повторил свое привычное: «Ты же обещала», так он обессилел от своей аллергии из прошлого века и начинающегося актуального гриппа. Мы кое-как прошли все досмотры и контроли и отправились домой – к своему израильскому солнцу и иракским скадам.
И все же, несмотря на все злоключения, в душе моей царило ликование – и Кеннет, и Джош были довольны результатами нашей совместной работы, мне выписали положенные мне 50 процентов гонорара, и главное, худсовет утвердил как сценарии первых двух серий, так и подробный план третьей и четвертой. Оставалось только ждать начала работы по подбору режиссера и актеров.
В довершение этих обнадеживающих признаков успеха Дэвид Конрой написал мне длинное письмо, в котором поздравлял меня с блестящим завершением большей части проекта и строил планы на будущее. Это письмо я храню как напоминание о зыбкости всех наших человеческих начинаний в свете беспощадной суровости руки Божьей.
Из Лондона я вернулась в середине февраля, а в конце марта мне позвонил Джош и будничным голосом сообщил, что главный контролер вычеркнул проект о жизни Достоевского из программы будущего года, поскольку им сейчас не по карману костюмная драма из прошлого века. Я опешила – какой еще к черту контролер – с ударением на втором слоге? Никто даже слова такого не упоминал ни в одном разговоре!
«Тот, кто распределяет время трансляции на год вперед. Он у нас царь и Бог».
«Ну, а на год после следующего есть надежда?»
«То, что контролер вычеркнул, уже невозможно вернуть обратно – это навсегда!»
«Но столько труда затрачено! – взвыла я. – И не только моего, ладно, до меня никому нет дела, но и вашего, и Кеннета!»
«Ничего не поделаешь! – спокойно возразил Джош. – Мы всегда рассчитываем, что определенный процент нашей работы пойдет под нож – таковы правила игры».
«А как же я?» – прорыдала я в трубку.
«А что вам? – усмехнулся на том конце провода Джош. – Деньги же вы получили!»
И отключился, поставив на мне окончательную и бесповоротную точку. Действительно, что ему – он ведь за свою работу получал зарплату и заранее рассчитывал, что определенный процент его работы пойдет под нож. Но я не желала смириться со смертным приговором. Почти три года напряженного поиска, провалов, взлетов, находок и потерь – и все это под хвост какому-то задолбанному контролеру с ударением на втором слоге, пожалевшему денег на костюмную драму?
Вне себя от горя я позвонила Дэвиду Конрою, чтобы напомнить ему о его обещаниях. Ему, конечно, уже сообщили замечательную новость, и он был полон сочувствия, но в голосе его я не услыхала свойственного нашим прежним беседам энтузиазма.
Хмуро объяснил он мне, что на Независимом телевидении, включающем в себя «Темз» и «Гранаду», только что прошел конкурс на получение лицензии, который проходит там каждые восемь лет. На мое счастье, нынешний восьмой год выпал именно на год Свирепого контролера, и в результате старое правление Независимого телевидения, сплошь сформированное из приятелей Конроя, проиграло новому, ему недружественному.
«Они просто предложили более высокую сумму за получение лицензии, – вздохнул он и тускло добавил, – а с новыми людьми у меня нет никаких отношений»…
Выводы были ясны без слов. Я положила трубку и удивилась, что еще жива. Впрочем, я доказала свою исключительную выносливость еще во время лондонских передряг, к тому же в середине марта на моем горизонте начал вырисовываться новый проект, весьма перспективный, хоть ни в коей мере не конкурирующий с тем, любимым и беспощадно вычеркнутым из списков живых.
Несколько лет назад мою пьесу «Майн либер кац», переделанную из «Первого апреля», поставленного в Нью-Йорке ради семи стариков на одной площадке, сыграли в концертном исполнении на сцене Камерного театра. После чего она привлекла внимание одного из ведущих израильских режиссеров, Шмулика Гаспари, и он в течение нескольких лет безуспешно предлагал ее для постановки разным театрам. Той злополучной весной он, наконец, дорвался до власти, – он был назначен директором фестиваля неконвенциального театра в Акко, и с ходу предложил директору Хайфского театра осуществить совместную постановку моей пьесы в рамках фестиваля.
Все складывалось отлично – директором Хайфского театра был тогда тот самый Одед Котлер, с которого началось мое кратковременное процветание в роли израильского драматурга. Мои доброжелатели быстро заключили договор между собой, а потом и со мной, после чего мне предложили выбрать режиссера по собственному вкусу.
Мне, естественно, хотелось найти кого-нибудь, понимающего оттенки российской жизни, но этот кто-нибудь должен был обладать статусом, приличествующим престижному фестивалю. Задача была равносильна попытке найти члена Академии наук пяти лет от роду. Мой любимый режиссер Стасик Чаплин, принятый к тому времени в штат израильского телевидения, был занят съемками какой-то очередной теледрамы, остальные не тянули на статус, да и уровень у них был невысокий. И я совершила роковую ошибку – я предложила Шмулику пригласить Евгения Арье, режиссера еще не вылупившегося тогда из яйца театра «Гешер». Это, конечно, была не единственная в моей жизни ошибка, но она врезалась мне в память особенно болезненно, потому что она окончательно подорвала мою и без того нетвердую веру в возможность отношений, не замаранных корыстью и предательством.
Я бы могла сказать, что создание театра «Гешер» прошло через мой дом и через мою жизнь так остро, «как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, его вели нарезом по сердцу моему».
Сегодня может показаться, что театр «Гешер» существовал всегда, особенно очевидным это должно представляться тем сотням тысяч выходцев из бывшего СССР, которые приехали в Израиль в 90-е годы. Но я отлично помню время, когда не было ни театра «Гешер», ни двух дюжин русских газет, и ни одна кассирша в супермаркете не говорила по-русски.
И потому, когда осенью 1989 года Натан Щаранский, бывший тогда председателем Всеизраильского сионистского Форума, предложил Саше, который был председателем тель-авивского отделения Форума, одобрить проект театра, прибывающего из России в полном составе, Саша счел эту идею абсолютно нереалистической. Сколько театров, газет и журналов возникло за эти годы на наших глазах! И все ушли в небытие, все до единого. Потому что не было главного – зрителя, любителя, читателя…
Кто в 1989 году мог предвидеть, что в Израиль ворвется миллионная русская алия, ломая плотины, меняя привычные стандарты, разрушая стереотипы и внедряя русский язык? Кто мог предвидеть, что мы, бедные и не очень любимые родственники израильской интеллигенции, создадим здесь свою культуру и свое самодостаточное общество, не очень страдающее от недостатка любви коренных носителей языка Библии? Похоже, что теперь они больше страдают от недостатка нашей любви к ним.
А тогда, переплетенная в зеленый пластик тоненькая папочка с программой грядущего великого безымянного театра, вызывала только недоумение – где взять сорок тысяч долларов, затребованных на первые шаги театра его напористым продюсером Славой Мальцевым, не готовым ни на какие компромиссы, вроде снижения требуемой суммы до тридцати тысяч.
И потому, перелистав эту тощую папочку, Саша спросил: «А вы верите, что в Израиле можно создать русский театр?»
«Во всяком случае стоит попробовать», – уклонился от ответа Щаранский.
«Но откуда взять сорок тысяч долларов?»
«Деньги я достану, – поспешно успокоил Сашу Щаранский, – вы только подпишите обязательство Тель-Авивского форума».
«Вы сперва достаньте деньги, тогда я подпишу», – заупрямился Саша.
Сообразительный Щаранский смекнул, что обязательство без денег Саша не подпишет, и отступил, посоветовав на прощанье все же познакомиться с Мальцевым: «Вы на него только взгляните, а потом будете решать».
Свою первую встречу с четой Мальцевых – Славой и Катей – мы назначили в кафе «Осло», приятно расположенном на северном выезде из Тель-Авива над парком Яркон. Когда мы вошли в летний сад кафе, Мальцевы уже сидели за столом под полосатым зонтиком, отбрасывающим радужные тени на их повернутые к нам лица.
Преображенные игрой этих порхающих теней лица Мальцевых поражали своим странным несоответствием, вернее, даже противоречием друг другу. Стеклянная Катя, на бледном до прозрачности личике которой недостача губ компенсировалась избытком глаз, вся поросла колючками недоброжелательства, и сразу захотелось отодвинуться от нее подальше, чтобы не пораниться. В противовес ей Слава – округлый, розовый, толстый мужичок с маленькими глазками, прячущимися в зарослях рыжих кудрей и рыжей бороды, излучал такое мощное, я бы даже сказала, магнетическое, обаяние, что недостатки его внешности забывались почти мгновенно. С ним хотелось дружить, ему хотелось верить.
И мы с Сашей не удержались – поверили. Нам понадобилось несколько лет, чтобы распознать скрывающееся за этим обаянием коварство. Но, и распознав, мы не решились бы бросить в Славу камень – все, что он, хитря и лукавя, подгребал под себя, шло на пользу дела его жизни. А делом его жизни было насильственное внедрение чужеродного саженца театра «Гешер» в скудный оазис израильской культуры, где едва-едва хватало воды на свои три пальмы, а уж о четвертой и говорить не приходилось. Сколько ума, изобретательности, политической хитрожопости и эстетического жонглирования понадобилось ему для осуществления этой неосуществимой задачи!
Я знаю, что существует множество мнений о характере Славы Мальцева и о его роли, – в основном, недоброжелательных. Однако я, с первой минуты стоявшая в изголовье рождаемого им в муках дитяти, храню в душе совсем другой его образ и по сей день оплакиваю его крушение, почти как свое собственное. Причем оплакиваю совершенно бескорыстно, потому что мне от него не было никакой пользы, а, скорее, один сплошной вред.
Но я не могу не восхищаться такой преданностью делу, такой самоотдачей, таким мудрым государственным подходом. Мы, всю жизнь издавая в муках журнал «22», так и не научились доить вымя правильной партийной коровы, а Слава через полгода умудрился охмурить культурную верхушку рабочей партии и тут же начать снимать сливки с наспех надоенного молока. Причем, он проделал это без помощи своего первого покровителя – Щаранского, так как тот с рабочей партией вовсе не ладил.
Для начала он ввел в совет директоров «Гешера» основных распределителей партийных благ, которые, как ни странно, были этим польщены и споро принялись за дело. Не успел новоявленный театр выползти из пеленок, как Слава отхватил для него, причем даром, небывало роскошное помещение – не какой-нибудь заштатный клуб, а малый зал Габимы, «Мартеф». Ума не приложу, как он умудрился это сделать, – не иначе, как он всю дирекцию Габимы загипнотизировал поголовно, иначе бы они ни за что не предоставили столь престижную площадку своему грядущему конкуренту.
Кроме непостижимого психологического ключика, умело подобранного им к сердцам своих покровителей, Слава постоянно хвастался таинственным соблазном, уголком носового платочка, выглядывающим из его нагрудного кармана, – гениальным режиссером Евгением Арье, грядущим на наши пыльные нивы с нью-йоркских небес. Он старательно и умело готовил окружающих к явлению Арье народу.
Свою атаку Слава начал с нас, наверно, как говорится, «прицелявся для прахтики» – он регулярно приходил к нам домой, чтобы прокрутить очередную видеокасссету со спектаклем работы Арье. Не то, чтобы спектаклей было много, и были они в основном студенческие, но Слава всегда находил хвалебные слова для каждого актерского выхода и входа. Во время просмотра Катя то и дело закатывала глаза и кликушеским голосом восклицала что-нибудь вроде: «Гениальный проход!» или «Гениальная мизансцена!» После чего Слава прокручивал кассету назад и начинал сначала, чтобы мы могли собственными глазами убедиться в гениальности прохода или мизансцены. Под конец просмотра мы обычно так уставали, что готовы были признать чью угодно гениальность.
Однако только со временем я оценила гениальность Славы Мальцева, сумевшего склонить шею жестоковыйных израильских бюрократов так низко, что их глухое к просьбам ухо оказалось прямо напротив его шепчущих губ. Для того, чтобы добыть для театра первые здания, – заброшенный ангар в Яффо и старый полуразрушенный полудворец на улице Нахмани, – Славе понадобилось неустанно и умело крутить свое колесико, шаг за шагом взрыхляющее суровую израильскую почву. А ведь в придачу к даровым зданиям он умудрялся направлять в кассу театра неиссякающий поток финансовой поддержки. Если мне возразят, ссылаясь на исключительный талант Евгения Арье, я в ответ только напомню, что талант талантом, но судьбу театра решали партийные бонзы, а не трепетные любители искусств. И никто не убедит меня, будто главная забота партийных бонз – помощь талантам, причем талантам не местным и не американским, а возросшим в заваленной снегами варварской стране.
Где-то на спицах этого колесика, которое умело крутил гениальный Мальцев, остались капли и моей крови, пошедшие на пользу делу. Я не собираюсь воспроизводить на этих страницах историю восхождения театра «Гешер» к сияющим вершинам, она многократно описана в глянцевых брошюрах и документальных фильмах. Я сосредоточусь только на той части истории «Гешера», которая касается меня.
Попробую сделать это по порядку. Однажды Слава позвонил нам и загадочно настойчиво пригласил встретиться с ним и Катей в кафе «Тнува» на бульваре Бен-Гурион. Помню, когда мы подходили к кафе, над Тель-Авивом висел тяжелый черный хамсин, – хотелось лечь, закрыть глаза и ни о чем не думать. Сквозь стеклянную витрину кафе мы увидели, что в кондиционированном аквариуме «Тнувы» за столиком Мальцевых сидит кто-то третий, незнакомый, с огромными синими глазами на бородатом лице Карла Маркса.
Катя встретила нас как родных, сияя всеми стеклянными осколками своего хрупкого тельца. «Угадайте, кто это!» – воскликнула она.
Не столько по ее шумному сиянию, сколько по Славиной непривычной тихости я догадалась:
«Это Женя Арье, правда?»
«Он прилетел сегодня!» – взликовала Катя, и мы принялись разглядывать давно обещанного гостя, не забыв при этом заглянуть в меню. Помню, что каждый из нас заказал по чашке кофе с пирожным, а толстяк Слава потребовал себе не одно пирожное, а два – «по случаю праздника». Вечер и впрямь получился праздничный – Мальцевы и Арье наперебой расхваливали друг друга в самых экзальтированных тонах, объясняя нам, что друг без друга они и дня прожить не могут…
И только Саша ни с того ни с сего завершил этот праздник мрачным предсказанием в хорошо разработанном им к тому времени стиле Кассандры – к сожалению, высказываясь в стиле Кассандры, он оказывался прав чаще, чем мне бы хотелось.
«Вы хвалите друг друга так искренне, так горячо, а года через три один из вас выгонит другого, только я не знаю, кто кого», – со странной уверенностью заявил он, словно смотрел в хрустальный шар, показывающий будущее.
Я испуганно зашикала на него, а трое наших гостей дружно закричали, что это просто дурацкая шутка и ничего подобного не может у них случиться, ведь они полны взаимной любви, и опять повторили, как заклятие, что друг без друга и дня прожить не могут. Теперь, когда все уже свершилось, и Женя Арье, выставив Славу Мальцева за дверь, прекрасно живет без него не один день, а Катя, покинув его, изгнанного, вышла замуж за другого, и тоже, похоже, благоденствует, я вспоминаю предсказание Саши с затаенной печалью. Как это понять – он предусмотрел события или сам их накликал?
Но все же я не допускаю окончательно, что Слава Мальцев был наказан предательством лучших своих друзей именно за то, что он предал меня, хотя такая циничная мыслишка, нет да нет, а шевелится у меня на грани между сознанием и подсознанием. Кто я, чтобы за меня кого-то наказывать? И все же…
А случилось все из-за того, что я предложила дирекции театрального фестиваля, избравшего своим почетным гостем мою пьесу «Майн либер кац», пригласить Женю Арье в качестве режиссера. Женю тогда почти никто еще в Израиле не знал, хотя он уже успел поставить в «Габима-мартеф» «Розенкранца и Гильдестерна» Тома Стоппарда – именно там можно было увидеть воочию воспетые Катей «гениальные проходы и мизансцены». Они происходили на узком помосте, почти жердочке, проложенном по диагонали через всю сцену. Это было остроумное сценографическое решение, но я бы восхищалась им гораздо больше, если бы десять лет назад уже не видела такую же жердочку в нью-йоркском спектакле Йонаса Зянкявичуса.
Но жердочка жердочкой, а местная пресса, так же, как и местная культурная элита, мало интересовалась достижениями этнографического меньшинства, лопочущего на незнакомом языке. Однако мое предложение заставило Гаспари, а с ним и некоторых других небожителей спуститься с израильского Олимпа в габимовский подвал. Они в достаточной мере впечатлились «гениальными проходами и мизансценами», тем более, что о спектакле Зянкявичуса они понятия не имели и решили и впрямь пригласить на собеседование незнакомого русского режиссера, не знающего ни слова на иврите.
Приглашение приехать вместе с ними получила и я, но Слава тайком изменил дату встречи в Хайфе и «нечаянно» позабыл сообщить об этом мне. В результате они поехали без меня и переиграли первоначальный замысел руководства фестиваля, заменив мою пьесу на непотребный венигрет из московских студенческих постановок Арье. Как им это удалось, не знаю, – не исключено, что они оговорили меня и разругали пьесу последними словами, ссылаясь на свою способность прочесть ее в оригинале… Никакие мои заслуги не были приняты при этом в расчет, – ни то, что именно я приоткрыла им дверцу в израильский театральный истаблишмент, ни то, что я почти силой уговорила свою подругу Лину Чаплину сделать о них короткометражный фильм для местного телевидения. Это был первый фильм, сделанный о театре «Гешер» на израильском телевидении – кто знает, как сложилась бы судьба театра без него? Ведь недаром говорят, что почин дороже денег.
Все это было неважно – в деле избавления от моей пьесы сработал лагерный волчий принцип «Умри ты сегодня, а я завтра», и мне с любезной улыбкой указали на дверь. Официальная версия была неубедительной, но неоспоримой – мне объяснили, что в театре «Гешер» не нашлось достаточного количества стариков для постановки пьесы «Майн либер Кац». Правда, было не совсем ясно, при чем тут театр «Гешер» – ведь первоначально о нем не было и речи. Предполагалось всего лишь приглашение Евгения Арье для работы с израильскими актерами, но он посетовал, что не может с ними работать из-за незнания иврита, и свершилось очередное чудо – в мудрых руках кудесника Мальцева даже недостаток превратился в достоинство, что не помешало и Мальцеву вскоре пасть жертвой того же волчьего принципа…
Правда, вполне возможно, что, не говоря обо мне плохого, Слава тогда просто загипнотизировал двух наивных израильтян, не имеющих никакого понятия о черной русской магии. Тут естественно напрашивалось навязшее сочетание «не имеющих понятия о черной русской мафии», но я вовремя удержалась от искушения, понимая, что мафия тут все же ни при чем. Тем более, что, изгнавши Славу Мальцева с волчьим билетом, Женя Арье доказал свою непринадлежность к одной с ним мафии. Хотя я до сих пор не могу постигнуть, как Слава Мальцев, такой хитрец и умелец, оказался столь беззащитным перед враждебностью людей, судьбу которых он устроил.
С тех пор, как его выставили из «Гешера», он канул в небытие, сгинул, растаял, как утренний туман. А ведь он обладал не только неправдоподобным обаянием, но и множеством художественных талантов. Стоит только вспомнить созданную им лично первую афишу «Гешера» – блеск, да и только! Как-то во время одного из юбилейных капустников «Гешера» он сыграл в пародийном спектакле «Идиот» роль Парфена Рогожина и, на мой вкус, превзошел в актерском мастерстве всех остальных участников спектакля, тоже не последних молодцов. А в другой ситуации он, маятниковой траекторией бегая по залу «Мартефа», одновременно мастерил куклу, необходимую для какого-то эстрадного номера. Болванка куклы висела у него на шее, и, улаживая на бегу десятки организационных проблем, он методично прокалывал эту болванку большой иглой, сквозь ушко которой был продет шелковый шнурок, – и буквально у меня на глазах возникала чудо-кукла.
Поразительно, что я все время говорю о Славе в прошедшем времени – «был», «обладал», – а ведь он живет и здравствует где-то неподалеку на израильской земле. Однако потеря статуса проделала с ним злую шутку – он живет и даже работает, но очень немногие знают, где и над чем. А большинство даже не знает его имени и не подозревает о его роли в создании главного претендента на первое место в израильском театральном мире.
Изгнание Мальцева из «Гешера» было отлично оправдано одним из ведущих актеров театра, не посвященным в подробности вины Славы передо мной. Он объяснил это явление гораздо проще и реалистичней:
«Когда ракета-носитель выполняет свою функцию, ее выбрасывают с орбиты, чтобы она не отягощала спутник, а просто сгорела при входе в атмосферу». Я всей душой присоединилась к глубокой человечности такого объяснения, но почему-то постеснялась спросить этого актера, прикончил ли он уже свою маму, давным-давно выполнившую нужную ему функцию.
Каннская тусовка
О море в Ницце, та-ра-ра-ри-ра рам! О небо в Ницце, та-ра-ра-ри-ра рам!»Верила ли я в детстве, напевая это танго, что Ницца вообще существует? Вряд ли.
Удостовериться в реальности этого призрачного неба над призрачным морем в призрачной Ницце я так и не смогла: сразу по приезде надо было спешить в Канны, самолет прилетел почти в полночь. Я заметила только, что пространство французской Ривьеры сплошь заставлено человеческим жильем, как старинная бабушкина квартира добротной резной мебелью. Я имею в виду абстрактную, а не мою родную бабушку: у моей – убогая обстановка представляла собой сборную солянку, остро приправленную нищетой. Но вот в доме бабушкиной кузины, тети Бети, куда я любила ходить в гости, потому что там вкусно кормили, вещи теснились, как дома на узких улицах Канн. Огромный абрикосовый абажур колыхался над круглым столом, крытым плюшевой скатертью с бахромой, на скатерти симметрично поблескивали тонкие стаканы в серебряных подстаканниках, над распростертой на цветастом блюде медовой коврижкой курился тонкий аромат свежезаваренного чая, и плавно крутилось сиденье винтового стульчика перед распахнутым роялем. И струны в нем дрожали…
Таким представлялось мне недосягаемое сладкое благополучие в годы голодного военного детства, таким предстало оно мне сейчас в другом мире, под другим небом, над другим морем. Ноздри мои жадно ловили пряный запах молотого кофе и истомившихся в духовке круассанов. Над плавной дугой побережья уютно покачивался абажур медового солнца, обстоятельные каменные дома строем стояли вдоль узких тротуаров, как обтянутые чехлами кресла в гостиной у тети Бети.
Хотелось вернуться в детство.
Вообще вся эта затея была, по сути, моей запоздалой игрой в Золушку, этакой неразумной надеждой, что башмачок окажется волшебным. Я везла с собой фильм, сделанный режиссером Славой Чаплиным по моему сценарию на деньги худсовета при Сенате города Берлина. Фильм удалось завершить с превеликим трудом при участии множества необъяснимых чудесных совпадений, одним из которых была моя, оплаченная тем же Берлинским Сенатом, поездка на Каннский фестиваль. И потому хотелось вместо сказки «О рыбаке и рыбке» принять версию сказки о Золушке, так чтобы и последнее чудо – коммерческий успех – тоже свершилось. Название фильма – «Абортная палата», так же, как и его тема – абортная палата, находились в прямом противоречии с необходимым для успеха идиллическим хэппи-эндом, но я от этого противоречия отмахивалась: ведь весь настрой фестиваля был подчинен теме Золушки, теме неожиданного, неслыханного, головокружительного успеха. Все вокруг было как в сказке или как в кино!
«…Воскресный вечер на набережной Круазетт был заполнен черными галстуками-бабочками: англичане давали грандиозный банкет в честь просмотра своего конкурсного фильма «Возвращение солдата». Сначала банкет протекал довольно вяло, но к десерту все развеселились: пунш пылал во всех бокалах, а за окнами огромного обеденного зала отеля «Мартинез» в небе полыхал фейерверк».
«…Вечно юный Фредди Филдс до рассвета танцевал на банкете, который он давал в честь английского режиссера Аллена Паркера. В роскошной вилле Мегги Руф в Верхних Каннах, ныне принадлежащей князю и княгине Рено д’Арнкур, лучшие люди Фестиваля наслаждались омарами и шампанским во льду, а вдали переливались огни Карлтон-Отеля, и высоко в небе мерцали звезды. Воистину, магия в голливудском стиле! Единственная претензия – слишком много жратвы!»
«…Сегодня на вилле Кризалис в Антибах дверь открыта для всех. Не забудьте захватить купальные костюмы!»
«…Сегодня утром на террасе Карлтон-Отеля было зарегистрировано семь карманных краж. В этом году в Каннах карманников больше, чем журналистов! Будьте осторожны! Не носите с собой деньги!»
Десятки обнаженных девушек всех цветов и рас целыми днями сидели на продуваемом ветром пляже перед Пале Фестиваля в надежде, что волшебная палочка Феи коснется их худеньких плеч. Они не обращали внимания ни на липкие взгляды зевак, облепивших парапет пляжа, ни на поспешные весенние ливни, покрывавшие их спины брызгами и пупырышками гусиной кожи: каждая надеялась, что из толпы любопытных выбежит очарованный ее прелестями знаменитый режиссер и позовет за собой. И неважно, куда позовет: к себе в номер, на банкет в отель «Мартинез» или сразу на съемочную площадку, – главное, чтобы заметил и позвал. А там, по сказочным законам удачи все пойдет само собой: защелкают фотоаппараты, зажужжат кинокамеры, замельтешит реклама, и чудо свершится. Все будет, как в сказке или как в кино: обеды для избранных, цветы на миллион франков, прекрасные принцы на вертолетах!
«Хильда Арков истратила только на цветы миллион франков при подготовке знаменитого обеда для избранных, который ежегодно дает ее муж Сэм Арков журналистам в ресторане Отеля Дю-Кап».
«Весь пляж так и замер, когда знаменитый киноактер Роберт Джинти выскочил на берег из вертолета в сопровождении четырех красавиц в майках, заправленных в армейские бриджи, и с автоматами в руках…»
Первая осуществленная Золушка предстала передо мной в виде несколько экстравагантном, я бы сказала, даже непотребном: она перевоплотилась в толстого израильского воротилу по имени Менахем Голан. Крупнейший израильский кинопродюсер, создатель серии «Эскимо-лимон» и самого аутентичного фильма об операции Энтеббе, по праву мог бы считаться грубияном даже среди одесских биндюжников. Может, именно эта его особая (так и тянет по-антисемитски сказать «жидовская»), до высшего вдохновения доведенная наглая дерзость зашвырнула его так далеко вверх по головокружительной лестнице кинокарьеры, ведущей в пустоту небес?
«Все пятьсот самых близких друзей были в этот вечер в казино «Палм Бич» на банкете Менахема Голана и Йорама Глобуса из «Кеннон филмз!»
А кто знал Голана и Глобуса три года назад? Кто из «пятисот самых близких» потащился бы в полночь на самую дальнюю точку набережной Круазетт, где за Спорт-Клубом, за мариной, прячется среди пальм казино «Палм Бич»? А сегодня фронтон Карлтон-Отеля в межоконных просветах сплошь увешан огромными, в два этажа, черно-белыми портретами знаменитых киноактеров, и над знакомыми по множеству фильмов лицами зазывно нависает крикливая рекламная шапка, оповещая прохожих, что Голан и Глобус из «Кеннон филмз» приветствуют своих «звезд». Простенько, но мило: продюсеры приветствуют звезд. И только посвященные могут себе представить астрономические суммы, которые нужно было заплатить, чтобы покрыть рекламными щитами фасад Карлтон-Отеля в дни фестиваля.
Конечно, голановская вариация на тему Золушки выглядит модернизованной почти до неузнаваемости, и нет в ней волшебного касания палочки Феи, нет того трепета ожидания чуда перед балом, которым полны сердца продрогших на ветру голых девушек на прибрежном песке. Вариация эта пахнет мужицким потом тяжких усилий, и тяжесть эта вряд ли может быть сбалансирована радужными мыльными пузырями сомнительной саморекламы.
Но сказку нельзя убить – сказка всегда найдет способ прорасти сквозь путаницу житейских неурядиц. Для поддержания духа всех тех, кто, надрываясь, карабкается по неприветливым кинотропам над бездной банкротства и непризнания, она разыгрывает традиционную историю Золушки, выполненную согласно добрым старинным канонам.
Молоденькая девушка в клетчатой мини-юбке и в огромных солнечных очках, обрамленных оправой в клетку, бродит по дискотекам ночного Нью-Йорка в поисках счастья и наклеивает на все стены собственный портрет. Ее зовут Рэн, ее зовут Золушка, ее зовут Сьюзен Берман – она исполняет главную роль в фильме «Осколки» другой молодой нью-йоркской девушки по имени Сьюзен Сейделман. И все так перепутано: где жизнь, где вымысел, где какая Сьюзен и кто из них Золушка? Весь фильм Сьюзен Сейделман настолько дышит жизнью, так неотличим от нее, так завораживающе жизнеподобен, так точно сфокусирован, что порой трудно поверить в его принадлежность к категории кино художественного, а не документального. Актеры играют естественно, как дышат, а они за время съемок не получили ни копейки, камера скользит по нью-йоркским трущобам с той легкостью, какая дается только большим трудом и бескорыстным вдохновением – оператор тоже не получил за время съемок ни копейки.
За непритязательностью сюжета просматривается точно очерченное лицо «человека толпы» – Рэн ничего не умеет, ничего не делает, никого не уважает, но знает точно, чего хочет: славы, денег, сладкой жизни. Она жаждет встретить Фею, которая превратит ее – не кого-нибудь другого, а именно ее – в счастливую обладательницу всех благ, которые, – она в этом уверена абсолютно, – должны принадлежать ей по праву. На чем основано это право, ей неважно и неинтересно, – это право не связано в ее представлении ни с какими обязанностями, но она ни на секунду не позволяет себе в нем усомниться. Бездомная, голодная, давно не принимавшая душа, в рваных сетчатых чулках и серебряных пластиковых туфлях, сидит Рэн на пустыре и пишет красным спреем на обломках стены: «Рэн». Эту надпись она обводит жирной красной чертой и направляет на нее со всех сторон красные стрелы: вот он центр мира, центр Вселенной!
И все это снято в условиях почти фантастических: сегодня, когда бюджеты фильмов вздуты до десятков миллионов долларов, режиссеру удалось уложиться в смехотворную сумму – менее ста тысяч. Съемки производились в ночном метро по секрету от городских властей, так как нечем было заплатить за разрешение. Когда кто-то из организаторов фестиваля предложил Сьюзен представить фильм на внеконкурсный «выбор режиссеров», она не могла дать согласия: у нее не было денег ни на билет в Канны, ни на перевод фильма с узкой пленки на широкую.
Но это было уже неважно; с этого момента вступила в действие всесильная машина сказки. Пока Сьюзен объясняла озадаченному представителю конкурса режиссеров свое бедственное денежное положение, – в манхэттенском ресторане, где он платил за ее обед, – за соседним столиком угощала своих клиентов известная специалистка по продаже фильмов Джой Перес. Ей-то и выпала роль доброй Феи: случайно подслушав слова Сьюзен, она вмешалась в разговор и выразила желание посмотреть фильм. Дальше все покатилось легко и весело по накатанной многовековой сказочной практикой колее головокружительной удачи: очарованная фильмом Д. Перес дала денег на перевод его на широкую пленку, конкурсная комиссия приняла его к официальному просмотру, жадные распространители бросились на новинку, как мухи на торт.
Так в одночасье поворачивается колесо Фортуны, меняя судьбы всех действующих лиц, – и в надежде на нечто подобное суетятся вокруг заманчивого кинопирога тысячи неудачников.
Я тоже начинаю каждое утро с журнала «Международный экран»: лихорадочно листаю страницы, составляя программу дня. Ведь каждые полчаса начинается просмотр по крайней мере пяти-шести фильмов в разных залах. Какой из них выбрать, чтобы не пропустить чего-нибудь важного? Врываюсь в Пале Фестиваля, хватаю все возможные билеты на конкурсные фильмы, пересматриваю снова программу и начинаю марш-бросок по залам внеконкурсных просмотров.
В первом зале совершенно пусто, там нет никого кроме меня: идет советский фильм. Пытаюсь перетерпеть несколько минут: приятно все же, когда на экране звучит русская речь. Но какая игра! Боже, неужели я когда-то разделяла общепринятое мнение о преимуществах советской актерской школы? Ведь слова в простоте не скажут, каждую фразу выдавливают изо рта, словно зубную пасту из тюбика: «Г-спада, помилуйте, г-спада, да что же это?» – и закатывают глаза с драматическим придыханием. Дамы и господа из страны победившего хамства старательно разыгрывают предреволюционных дам и господ в фильме «Скачки».
Не выдерживаю, да и времени драгоценного жаль, выскакиваю из мерцающей пустоты зала, и скорей – в соседний. Там сегодня венгры. Там тесно сидят бородатые люди в очках. Нахожу место во втором ряду, протискиваюсь, оттаптывая ноги сидящим, – никто не реагирует, венгров здесь воспринимают с почти молитвенным восторгом. На экране много голого тела, в основном женского, все «топлесс», идет костюмированная драма из прошлого, что дает венграм повод выразить свой протест против ханжества социалистического реализма средствами интеллектуальной порнографии.
Охватив смысл происходящего на экране за десять минут, я спешу прочь. Вновь оттаптывая ноги слегка поредевшим отрядам бородатых в очках, я выбегаю на набережную Круазетт, мучительно раздваиваясь между острым чувством голода и столь же острым желанием успеть на японский фильм «Суть татуировки» – «выбор режиссеров». Пройти по набережной трудно, проехать невозможно – огромная толпа уже поджидает начала торжественного шествия «избранных» на вечерний сеанс в Пале Фестиваля.
Наверно, интересно увидеть на расстоянии вытянутой руки Альберто Сорди или Брижитт Бардо, наверно, увлекательно почти вплотную разглядывать на живых людях фантастические туалеты с Рю д’Антиб. Но парад приглашенных на вечерний конкурсный просмотр в Пале – это еще и парад удачи, и тем, кто его завороженно созерцает, хочется верить, что удача так же заразительна, как и несчастье: стоит лишь коснуться баловня судьбы, вдохнуть воздух, который он только что выдохнул, и ты, бедный и невезучий, тоже вознесешься туда, где только на цветы можно в один вечер истратить миллион франков!
Но мне стоять и глазеть некогда, а то не будет места в зале «Мирамар», где демонстрируется японский фильм. Место, однако, находится – между двумя бородатыми в очках. Кстати, ни одного бородатого в очках в толпе зевак на набережной я не заметила: те, что теснились перед входом в Пале, были, похоже, какой-то другой породы.
Говорят, что японец должен улыбаться, рассказывая посторонним о смерти матери или любимой жены, чтобы посторонние не подумали, будто он навязывает им свое горе. Говорят, что уважающий себя японец при малейшей обиде вспарывает себе живот особым ножом так, чтобы все кишки вывалились наружу, и испытывает при этом специфически японское удовольствие. И каждый японский фильм, который я вижу, снова и снова подтверждает этот поразительный миф о странностях японского национального характера, добавляя очередную каплю информации в непостижимое море этой странности.
Главной пружиной японского киноискусства я бы назвала уродливо-прекрасный симбиоз эротики и садизма, неразрывно связывающий наслаждение со страданием. Если знаменитый фильм «Империя чувств» потряс западного зрителя убедительным рассказом о силе женской любви, побудившей героиню отрезать гениталии своего возлюбленного в момент кульминации страсти, то фильм «Суть татуировки» обращается к проблеме искусства – но тоже через секс и страдание. Героиня фильма в доказательство своей любви желает покрыть собственную спину сложной многоцветной татуировкой, секретом которой обладает один-единственный мастер. Секрет этот заключается в том, что пока старик-мастер рассекает кожу клиентки и наполняет порезы едкой краской, она лежит в объятиях юного ученика, который непрерывно ласкает ее, чтобы отвлечь и возбудить сексуально. Старый мастер убежден, что только в момент высокого сексуального возбуждения татуировка получается воистину прекрасной. Ради этого убеждения, вернее, ради искусства, из него рожденного, пожертвовал он своей любимой женой и единственным сыном, – ибо чем больше страдания, тем выше искусство. Все это было для меня чудовищным и завораживающим, – и медленное, почти статичное повествование, и нерукотворной красоты кинокадры, и птичья японская речь, обрамляющая музыкально эту красоту, и научно-фантастический ультрасовременный пейзаж сегодняшнего японского социального быта, поразительно контрастирующий с традиционной консервативностью быта индивидуального.
Каннский фестиваль – одно из немногих мест в мире, где одинокая женщина может спокойно поужинать в самой захудалой забегаловке, не опасаясь ни хулиганов, ни назойливых приставаний. За хулиганами здесь зорко следит многочисленная полиция (третье место по численности, – после карманников и журналистов): ведь ей надо как-то оправдаться за нерасторопность в борьбе с ворами. А бородатые в очках, составляющие основную массу фестивальной публики, абсолютно замкнуты на себя через киноэкран. Жизнь на экране полностью заменяет для них жизнь реальную; каждый бородатый автоматически, не разбирая вкуса, подносит к мохнатому рту вилку с кусками аппетитного французского мяса, не отрывая глаз от разложенных веером программок, – каждый за своим отдельным столиком, каждый в своем мирке, прочно отгороженном программкой от всего остального мира. Время от времени один из них вскакивает из-за стола и, глядя в пространство невидящими глазами, устремляется на четвертый этаж Пале: там рядами стоят пишущие машинки с буквами всех возможных алфавитов и оттуда, денно и нощно раздавается пулеметное стрекотание рождающегося на глазах общественного мнения.
Всю ночь меня преследовали кошмары: давясь на бегу черствым бубликом, я вместе со стадом бородатых в очках металась по огромному сумрачному залу, где сотни пишущих машинок с алфавитами всех языков предавались лесбийской любви. Потому наутро, запивая головную боль кофе с круассаном, я приняла героическое решение не суетиться между осколками внеконкурсных просмотров, а сосредоточить все силы на добыче билетов в Большой зал Пале, где размеренно прокатывали конкурсные фильмы, – торжественно, без спешки, с обширными перерывами для ланча, коктейля, ужина.
Повесив на себя свои затянутые в целлофан пропуска, я отправилась за билетами. Пропусков было два, оба с фотографиями, сделанными в разных мгновенных фотомашинах: на одной я выглядела восторженной романтической дурой, на другой – прокисшей брюзгой неопределенного возраста. Фотографии распределили по пропускам без тени психологического подхода; романтической дурой украсили продолговатую карточку с черной надписью «Рынок», брюзгу налепили на квадратик, удостоверяющий мою принадлежность к суетливому братству бумагомарателей рыжим раскосым словом «Автор». Увы, по неопытности и недальновидности, я не обеспечила себе самую лучшую, сизую бирку с диагональной надписью красным «Пресса» – а именно это был «сезам», отворяющий любые двери!
Но и сочетание моей скромной пары «Автор-Рынок» оказалось вполне пробойным; к началу первого сеанса я держала в руках билеты на три конкурсных фильма этого дня. Фильмы были декорированы громкими именами, – это был товар без дураков, не какие-то жалкие Золушки с нью-йоркской свалки: каждое имя стоило добрый десяток миллионов, а то и больше. Микеланджело Антониони, Вернер Герцог, Жан-Люк Годар.
Я вышла на Круазетт, чтобы удостовериться, что это не сон: вокруг меня бурлили Канны, со стен Карлтон-Отеля дюжиной улыбок сверкали звезды Менахема Голана и Йорама Глобуса, голые девушки на пляже покрывались гусиной кожей на морском ветру, толпы любопытных глазели на счастливчиков, поднимающихся по лестнице Пале. А я шла среди этих счастливчиков, сжимая в руке драгоценные билеты и потряхивая своими удостоверительными волшебными бирками, – продолговатую я приколола к вырезу блузки, квадратную – на пояс.
В дверях меня охватил страх: сейчас не пустят! Ведь я-то знала, что все это сказка, что она каждую минуту может кончиться. Но никто ничего не заподозрил: служитель в отутюженном смокинге бегло глянул на мой билет, скользнул глазом по моим заветным биркам и вяло кивнул – и вот я уже внутри. Я опасливо оглянулась, – никто не гнался за мной, не требовал, чтобы я немедленно убиралась прочь с этого пира избранных. Я опустилась в уютное тепло кресла, свет погас, мелькали титры: Жан-Люк Годар, «Страсть».
Я была так возбуждена, так упоена уникальностью этого переживания, что поначалу не заметила, как скучно развивалось действие на экране. Я вспомнила, как один молодой советский сценарист утверждал, что о скучных событиях надо писать скучно, а никак не могла выяснить, чем может привлечь зрителя «скучное о скучном». Вероятно, жюри Каннского фестиваля поняло этот принцип лучше, чем я: многие конкурсные фильмы оказались, на мой взгляд, вполне совершенным его воплощением, – они были восхитительно скучны!
В конце концов я не вытерпела: по мере высокотехничного накручивания скучного на скучное у меня начался знакомый по прошлому дню нервный зуд, и я постепенно стала вспоминать обо всех других соблазнах, которые предлагал мне в этот день Каннский фестиваль. Под ложечкой у меня сосало, и я вовремя вспомнила, что через час кончается прием с коктейлями, даваемый в Яхт-клубе израильским культурным представительством.
Стесняясь самой себя, я выскользнула из полупустого зала, твердо выдержала взгляд билетера в смокинге и вернулась к действительности, которая была по-прежнему празднично многолюдна. Все столики дорогих кафе на набережной были заняты, веселые девушки в мини-юбочках торговали майками с разноцветным клеймом фестиваля, крикливые мальчики торговали засахаренными орешками по цене на вес золота, кавалькада автомобилей ползла черепашьим ходом вдоль прибрежных пальм. Я окончательно выбросила из головы скучное о скучном как только перешагнула порог внутреннего дворика роскошного Яхт-клуба, где гортанно переливалась ивритская речь.
Все было, как в кино: журчали фонтаны, качались цветы на газонах, искрилось вино в бокалах, заходящее солнце окрашивало пурпуром пустые блюда из-под бутербродов с икрой и пирожных. Мои прожорливые соотечественники съели все до крошки, так и не допив вино. Они стояли живописными группками среди плетеных диванчиков и цветочных клумб, держа в занемевших пальцах почти нетронутые бокалы. Мужчины были в джинсах и пестрых рубахах без галстуков, как и положено израильтянам, но дамы! Честно признаюсь: там было на что посмотреть. Я насчитала полдюжины модниц в кружевных шортах самых поразительных цветов, еще полдюжины – в развевающихся балахонах с золотыми прошивками, туалеты остальных были под стать кружевным шортам, цветочным клумбам, журчащим фонтанам и пестроте солнечных бликов.
Я не стала бы вспоминать об этом маленьком празднике красок, если б не случайная встреча, задевшая меня больнее, чем можно было ожидать. Из Яхт-клуба я опять поспешила в Пале, чтобы не опоздать на просмотр картины Антониони. До начала оставалось пятнадцать минут, времени прилично поужинать уже не было, а бокал вина, выпитый в Яхт-клубе, только распалил чувство голода. Я решила подняться в кафе прессы на четвертом этаже Пале в надежде схватить там хоть какой-никакой завалявшийся сэндвич.
В спешке я сбилась с дороги и поднялась наверх первым подвернувшимся лифтом, который неожиданно привез меня на самую крышу Пале, где я до сих пор ни разу не бывала. Сверху открывалась головокружительная благодать Каннской бухты, замыкающейся виллами Антибского мыса, от солнца остался в небе лишь сиреневый полукруг облаков, и в их переливчатом отблеске в двух шагах от меня, чуть в стороне от входа, толпилась небольшая группа людей, странно непохожая на все, к чему уже привык мой глаз. Все были серые: светло-серые, темно-серые, черно-серые, ни одного цветного пятна. Все мужчины были в галстуках, все женщины в строгих воротничках и одинаково удлиненных, чуть ниже колен, мешковатых юбках. И все говорили по-русски!
Никто не улыбался, все стояли чинно и переговаривались приглушенно, словно сообщали друг другу государственные тайны; на длинном пластиковом столе выстроились опустошенные бутылки, за ними – пара ящиков еще непочатых, закуски не было никакой. Я тоже взяла в руку бокал, чтоб не выделяться, и стала бродить среди этой унылой толпы – кого они мне напоминали? Ага, поймала: кадр из фильма «Ленин в Париже», из той его части, которая не в Париже, – самый скучный из всех фильмов фестиваля. Я, правда, смотреть его не стала, но никто другой тоже не пытался, – я специально заглянула в зал, чтобы проверить: там было абсолютно, восхитительно, стопроцентно пусто.
Я вспомнила разнообразие невыпитых бутылок на израильском приеме, чего только там не подавали: коньяк, джин, вермут, виски, разные соки, колу! А здесь был всего один сорт, кисловатое белое вино, то ли грузинское, то ли молдавское – привезли небось с собой для экономии из страны победившего социализма. Что с них взять – великая ядерная держава, у нее другие расходы!
Одна дама цветным пятном выделялась на общем фоне, плечи ее покрывала золотистая ажурная накидка из другого мира (позже оказалось, что она гостья из братской народной демократии – вот и весь секрет), и потому я осмелилась ее о чем-то спросить. Она так и вскинулась в изумлении: «Вы говорите по-русски!» Мне-то казалось, что я как все, раз я все по-ихнему понимаю, но тут я взглянула на себя со стороны, и стало мне смешно. Я уж не говорю о том, что форма моего носа и глаз сразу начисто исключала возможность моей принадлежности к советской делегации в любом качестве, но глаза эти и нос были к тому же украшены очками в золотой причудливой оправе вразлет от Кристиана Диора. Мой многолетний средиземноморский загар ничуть не скрывался экстравагантным – по меркам приема на крыше, хоть и сверхскромным с точки зрения приема в Яхт-клубе, – ансамблем из разнотонных лоскутков зеленой ткани, отороченных кружевами трех оттенков зеленого, который держался на голых плечах при помощи узеньких – не шире ботиночных – шелковых шнурков.
А я-то воображала, что могла бы сойти за свою, пока кружила среди их скудного застолья экзотической зеленой бабочкой! Я вдруг в ином свете увидела их постные лица без улыбок и неожиданно для себя пожалела их всех оптом – стукачей и отступников, тех, кто продает душу дьяволу, и тех, кто служит посредником при сделке. Пожалела, хоть знала, что они в своем кругу счастливчики, баловни судьбы. Потому что среди них я была удачница. Золушка на балу, с той только разницей, что мне не следовало бояться полночного боя часов.
Но посмотреть на часы было очень даже кстати – и я обнаружила, что до начала фильма Антониони «Поиски женщины» осталась одна минута. Так как я уже не доверяла предательскому лифту, который привозит невесть куда, я в течение этой минуты успела скатиться вниз по лестнице, проскочить мимо билетера в смокинге и найти пустое место в переполненном зале. Свет погас, и человек с чемоданом пошел по лестнице вверх.
Он шел очень долго – так долго, как может идти на шестой этаж не слишком юный человек с тяжелым чемоданом. Когда он останавливался, чтобы передохнуть, камера тоже останавливалась и любезно показывала нам все лепные завитушки лестничного пролета. Наконец он дошел до своей двери и долго рылся в карманах в поисках ключа. Пока он рылся, камера совершила назидательную экскурсию по крышам соседних домов и по завитушкам над старинным окном. Когда он открыл дверь, мы вместе с камерой долго изучали детали обстановки его квартиры, и в сердце мое начало закрадываться опасение, что и фильм Антониони окажется скучным.
И хоть он и впрямь оказался скучным, я с него не ушла – это было бы слишком, ведь в прошлой моей московской жизни я пожертвовала бы многим за возможность попасть на фестивальный просмотр Антониони. Но, выйдя из зала в толпе бородатых в очках, я мысленно взмолилась словами любовника мадам Коти, жены производителя лучших в мире духов, проведшего ночь в шкафу с образцами продукции ее мужа. Вывалившись оттуда в полуобмороке, он прошептал посиневшими губами: «Мадам, умоляю, – кусочек дерьма!»
Обескровленная обрушившимся на меня за один день водопадом скуки душа моя жаждала дерьма. Что ж, на фестивале с дерьмом все было в порядке: здесь его было сколько угодно, на любой вкус. Можно было посмотреть фильм ужаса, фильм про вампиров, сосущих кровь, как говорится, из горла, можно было забежать на садомазохистское или гомосексуальное порно, можно было насладиться развесистой клюквой про КГБ.
Обдумав все предложенные на полночный сеанс варианты, я выбрала комедию, успевшую уже приобрести скандальную известность в кругах бородатых в очках. Чтобы объяснить причину этой скандальности, я процитирую всеведущий «Международный экран»:
«Вообще-то это вовсе не про людоедство», – так режиссер Поль Бартель пытается защитить свой фильм «Поедая Рауля» и добавляет смущенно: «Впрочем, там в конце, и про это есть немножко, когда делового партнера угощают гуляшом из мяса другого делового партнера, Рауля».
Вкус этого гуляша из Рауля, политого пикантным соусом, все еще стоял у меня в горле, когда я в последнее свое каннское утро осознала, что время мое здесь истекло, а Французской Ривьеры я так и не повидала. Я не съездила на поезде в Сан-Тропе, не поглядела из окна автобуса на Антибский Мыс, не смоталась на катере в Жуан-Ле-Пэн. Я прокружилась неделю по залам фестиваля, полностью забыв о жизни реальной ради призрачного мелькания теней на экране. Но и тут я достигла немногого: почти всю дорогу в аэропорт я, загибая пальцы, считала фильмы, которые должна была посмотреть, но не успела.
Пальцев на руках явно не хватало, но я могла свободно использовать пальцы одной ноги, так как предусмотрительно оставила туфельку на пороге своего скромного отеля. Я все еще надеялась, что Принц пустится в путь вслед за мной. Для этой надежды у меня была маленькая зацепка: Фея, принявши облик солидного бородатого мужчины в очках, никому не представившись, явилась на просмотр моего со Славой Чаплиным фильма. Назавтра она в том же облике предстала перед моим продюсером и назвалась директором Международного фестиваля в Монреале Сержем Лазиком. Помахивая перед нашими очарованными глазами невидимой волшебной палочкой она (он) пригласила нас принять участие в фестивале, уже не на птичьих правах, а в официальных рамках.
В тот же день я нашла в «Международном экране» статью о Серже Лазике: не открывая широкой публике секрета его потусторонней сущности, журнал просто рассказывал читателю, что Лазик сделал себе имя в киномире, отыскивая никому до него не ведомые шедевры. Дальше шел перечень открытых Лазиком фильмов, которые впоследствии прославили себя и его фестиваль. Оставалось только проверить, не ошибся ли он в нашем случае. Что ж, я надела фартук, надвинула на сбившуюся прическу чепчик, вымазала щеки и кончик носа золой и приготовилась ждать августа, покормив на всякий случай мышей: а вдруг им придется тащить в Монреаль мой ящик с грязным бельем, наспех превращенный в карету?
А пока что мне предстоял вполне прозаический перелет над Средиземным морем без участия потусторонних сил. В зале ожидания я оказалась рядом с немолодой американской четой. Судя по всему, они владели небольшой кондитерской или фотографией в Бруклине или Квинзе. Растянув в улыбке отлично выстиранные в стиральной машине, но не отутюженные губы, моя соседка спросила, как я провела свой отпуск на Ривьере. Я ответила, что была не в отпуске, а в Каннах на фестивале. Щеки мои при этом вспыхнули, сердце заспешило, и я уже мысленно приготовила ответ на ее предполагаемый вопрос: так, скромно, без нажима – привозила фильм, ничего, спасибо, неплохо, приглашены на фестиваль в Монреаль. И тут она воскликнет: ах, как интересно!
Но ее вопрос прозвучал совершенно неожиданно:
– В Каннах? А что там за фестиваль?
Я опешила:
– Кинофестиваль… Знаменитый… Уже сорок лет…
Американка затрясла уложенными в парикмахерской крашенными волосами:
– Каннский кинофестиваль? Никогда не слышала! – и обратилась к мужу: – Исаак, ты слышишь, говорят, в Каннах был какой-то кинофестиваль!
Прошел год, и я с прискорбием убедилась, что Золушки из меня не вышло. На этот раз чемодан для поездки в Канны я складывала в соответствии со своим новым статусом современной деловой дамы (вот она – зрелость, увы!). Все строго практично: туалет официальный и туалет вечерний – две легких блузки из магазина «Маскит» – нашего израильского Диора, чтобы не ударить в грязь лицом и чтобы ничего лишнего с учетом пересадки в Риме – никаких хрустальных туфелек, Боже упаси!
Рим предстал передо мной прекрасный и неумытый, как может быть только вечный город, одолеваемый временными проблемами. Колизей хоть и стоял на своем привычном месте неподалеку от руин Форума, но роли в жизни города не играл никакой: он был лишь досадной помехой оглушительному всенощному триумфу – римская футбольная команда в этот день впервые за последние сорок лет выиграла национальный кубок. Ясно, что в свете этого жизнеутверждающего события вся римская история с ее Ромулом, Ремом и их матерью-волчицей, с тремя десятками цезарей и сотней разрушительных войн, с ее поздним эллинизмом, ранним христианством и вторжением варваров не стоила даже камеры футбольного мяча. Древний город затопили обезумевшие толпы, экзистенциально перебрасывая хлипкий временной мостик к эпохе вторжения варваров: до рассвета носились они на зловонных трескучих мотоциклах по отполированным веками плитам Аппиевой дороги, громыхали ревущими от восторга «фиатами» по булыжникам Палатинского холма, швыряли звонкие жестянки из-под кока-колы в уцелевшие портики колоннад на Форо Романо. Намек на варваров был чисто условный – у тех, бедняг, не было ни этой технической мощи, ни этого славного бензинного духа, ни этих слепящих синтетических красок – желтой и оранжевой, чтобы расписать лица, машины, волосы, платья, колеса и тротуары в цвета команды-победительницы.
Римский аэропорт был щемяще пустынен, носильщик на мой недоуменный вопрос печально отмахнулся: «Депрессия, никто к нам не едет» и потребовал добавочных чаевых. Но я в его правоте усомнилась: ночные ликующие толпы, по-моему, и слова такого не слышали – депрессия.
Над Ниццей громыхала гроза, и поезд в веерах брызг лихо проносился мимо желтых станционных зданий, осененных окоченевшими пальмами, похожими на взъерошенных птиц, одноного застывших на мокрых лужайках. Поезд был великолепно французский: никто не знал, в каком направлении он идет и где останавливается. Когда в радужном полумраке заоконного тумана мелькнул Антиб, я успокоилась насчет направления; оставалось только ждать, промчим ли мы на той же скорости и сквозь Канны. Выскочив из пропахшего знобкой сыростью туннеля, поезд пустился стремительно перелистывать блестящие от дождя улицы Канн, и я уже начала прикидывать, откуда придется сюда добраться – из Парижа или только из Лиона, как он с разгону притормозил у знакомой платформы.
С первого взгляда все выглядело как в прошлом году – те же очереди у дверей кинотеатров, те же фантастические наряды, те же голые девушки на мокром пляже. Впрочем, девушки скорей всего были другие: прошлогодние небось уже вымерли от разочарований и воспаления легких. Но отличить их от новых было бы невозможно: лиц они не имели, только тела – груди, бедра, животы, ключицы, щиколотки и ляжки. Всего этого так много, что каждое тело в отдельности теряло свой личностно-эротический смысл и становилось частью широкого ассортимента, приобретая тем самым марксово качество товара. Прошлогоднюю тему Золушки стремительно заменила тема максимальной прибыли.
Если раньше я видела в этих девушках Золушек, мечтающих превратиться в принцесс вместе с мышами, превращенными в коней, то сейчас мне бросилось в глаза только их стремление стать товаром. Казалось, этим стремлением были охвачены в Каннах все, – режиссеры и продюсеры надрывались, чтобы превратить свою продукцию в товар, причем некоторые делали это столь успешно, что миновали ставшую сомнительной на рынке стадию искусства, сразу придавая результатам своего труда товарный вид. И потому искусством фестиваль порадовать не мог.
Возможно, такое резкое изменение угла моего зрения объяснялось просто скверной погодой или отсутствием в моем чемодане хрустального башмачка, – уж не слишком ли поспешно я его оттуда выбросила, чтобы освободить место для двух элегантных блузок из магазина «Маскит», приличествующих облику деловой дамы, то есть, чтобы придать товарный вид и себе?
Вид был, похоже, вполне товарный – я удостоилась десятков вспышек и щелканья фотокамер у входа в Пале фестиваля перед началом вечернего просмотра: там загодя толпится стадо фотографов, снимающих всех, имеющих товарный вид. Ведь любой из них может оказаться Кем-Нибудь, если не сегодня, то завтра, и тогда публикация его портрета сразу окупит расходы на пленку, ужин и проезд в Канны.
Поток достойных фотографирования, шурша, вливался по дворцовой лестнице в новое здание Пале, где эскалаторов было не меньше, чем коридоров, а коридоров было столько, что никто никогда не мог бы дважды прийти в одну точку.
Здание это, похожее на аэропорт, нависающий над Средиземным морем, открыли в этом году, навек покончив с хваленым кофейно-круассанным уютом Каннского фестиваля. Архитектура Пале лишена всякого уюта в соответствии с мироощущением современного человека: участники фестиваля часами мечутся по его неоглядным просторам среди стерильно-белых, ослепляющих афишной пестротой стен в поисках входа, выхода, буфета, туалета, оргкомитета, пресс-центра, просмотрового зала, своих друзей и самих себя. Возникающее в результате душевное состояние очень способствует правильному восприятию последних достижений кинопромышленности.
Единственно, когда невозможно потеряться в лабиринтах нового Пале, это перед началом вечернего просмотра, который и есть ключевой момент фестивального дня, его апофеоз и его катарсис, его магнитный, электрический, эмоциональный и финансовый полюс. «Такседо, такседо и только такседо!» – предупреждают счастливца, допущенного на это таинство, все правила фестиваля, устные и письменные. Это замечательное слово, напоминающее по звучанию магическое заклинание, обозначает вовсе не актерский талант и не режиссерское умение, а всего лишь пиджак типа смокинга – с длинными фалдами и атласными отворотами, без которого особь мужского пола не может проникнуть в Большой зал Пале, даже обладай она сотней других, не менее важных достоинств.
Узкой извилистой лентой, строго очерченной сизой стеной полицейских мундиров, струится поток черных такседо по зелени дворцовой лужайки. Множество особей мужского пола в напряженном молчании медленно маршируют по направлению к полукруглому порталу, оправляя на ходу длинные фалды и атласные лацканы своих такседо, делающих их всех похожими на официантов ресторана «Карлтон-отеля». А, может, некоторые и впрямь официанты, получившие в свой отгульный вечер чаевые в виде заветных приглашений, – кто их знает, ведь не все же здесь Годары и Феллини.
Тут и там вкраплены в черное яркие блестки дамских вечерних туалетов, капризом моды разделенных на два типа – длинные до полу и короткие до причинного места. Я тоже медленно марширую вместе со всеми, оглаживая кружевные оборки блузки из магазина «Маскит», подавленная торжественностью молчания и пронзительной волной зависти, которая физически ощутимо исходит от глазеющей из-за полицейских спин толпы зевак, затопившей набережную Круазетт. Я всей кожей чувствую, как зависть эта касается моего лица, проникает за шиворот, вызывая по всему телу колючие мурашки, и с облегчением покидаю зеленую упругость лужайки, чтобы начать восхождение по лестнице, ведущей в зал.
В добрые патриархальные времена старого Пале восхождение это состояло из семи гранитных ступеней крыльца, плавно переходящих в короткий мраморный марш вестибюля. У крыльца плотным заслоном дежурили полицейские, вниз к морю еще плотней прессовались любители кино. Лестница нынешнего Пале пологой спиралью уходит вверх, создавая впечатление, что она завершится взлетной полосой – так и кажется, будто устремленная вверх стая черных такседо, обретя к концу пути подъемную силу, взмывает туда, где только небожители собеседуют с небожителями. А вслед за ними их дамы – те, что в длинных платьях, придерживая юбки, а тем, что в коротких, и придерживать нечего, – но зато какое удовольствие следить за ними снизу, пока сам еще не взлетел!
Я поднималась неспешно и чинно вместе со всеми, почти готовая вместе с ними взлететь, если понадобится, – стены лестничного марша, стерильно-белые, были плотно оклеены афишами предстоящего фильма. Они повторяли многократно в такт шагам одно и то же слово, зеленое по темно-коричневому полю:
«НОСТАЛЬГИЯ»
«НОСТАЛЬГИЯ»
«НОСТАЛЬГИЯ»
И так двадцать шесть раз, без перерыва. То есть я насчитала двадцать шесть ностальгий, но было их там намного больше, ведь я не сразу принялась считать. И под каждой ностальгией стояло имя режиссера – Андрей Тарковский, производство СССР-Италия.
Огни в зале были уже пригашены, создавая впечатление последних золотистых сумерек, в мерцающем полусвете которых особенно четко вырисовывалась огромная, как летное поле, сцена, опоясанная бессчетными глиняными горшочками с пенистыми розовыми цветами. Позади сцены круто взмывало под крышу неоглядное полотнище экрана – Экрана с большой буквы, – оно упруго трепетало под напором крылато нацеленных в него крупных и мелких тщеславий.
В центре сцены под сенью Экрана печальным ангелом стоял Андрей Тарковский. Бледное треугольное лицо его все время нервно подергивалось, вскидывая левый угол усатого рта к затравленному лермонтовскому глазу. Конечно, он стоял там не один, а окруженный суетливой сворой распорядителей, соучастников и переводчиков, но их присутствие нисколько не сглаживало и не смягчало того непроницаемого одиночества, которое досталось ему свыше в придачу к лермонтовским усам и строчке «выхожу один я на дорогу».
Андрей Тарковский не был моим приятелем и даже хорошим знакомым, но волею судеб мне случилось заглянуть в замочную скважину той наглухо запертой двери, за которой скрывалась тайна его душевного разлада. Мне довелось познакомиться и даже подружиться с его отцом, Арсением Тарковским, после того, как он неожиданно для всех написал не просто положительную, но прямо таки восторженную рецензию на мой перевод «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда. Когда двухтомник Уайльда вышел в свет, Арсений, раскрепостившись от обязательств рецензента, отыскал меня и пригласил к себе – он хотел, чтобы я почитала ему свои стихи.
Я, разумеется, была в восторге, ведь А. А. был тогда уже широко известен в узких кругах – по литературным задворкам бродил неясно кем утвержденный Гамбургский счет, и он числился в нем одним из лучших несправедливо замолчанных поэтов.
Мне жилось тогда хоть и голодно, но молодо и головокружительно звонко. Очевидно поэтому стихи я писала исключительно мрачные и грустные. А. А. же писал мрачные и грустные стихи независимо от возраста, а согласно своей природе, так что мы сразу нашли общий язык. Мы встречались время от времени, читали друг другу что-нибудь из вновь написанного и обменивались мнениями о том, что происходило вокруг.
А. А., как и многие прекрасные поэты тех лет, был профессиональным переводчиком. То есть стихи он писал в стол, а на жизнь зарабатывал переводами разнообразного стихотворного мусора, неустанно производимого во всех дружных республиках великой советской державы. Стихов он переводил великое множество и страстно эту работу ненавидел. Ненавидел столь же страстно, сколь отчаянно боялся ее потерять, ибо была она его единственной кормилицей, и притом кормилицей весьма и весьма щедрой.
Ему было уже за пятьдесят, у него была репутация значительного поэта, но ему, как плохому мальчику для битья, все еще не позволили издать ни одной книги стихов. Появилась надежда, что вот-вот из печати выйдет первый его сборник – «Перед снегом», и он ждал выхода этого сборника с юношеским трепетом: ведь его столько раз задерживали и откладывали! Название сборника было выбрано А. А. не случайно – период перед снегом вызывал у него невыносимую боль в раненной во время войны ноге. Об этой боли напоминали ему страдания, которые он испытывал перед выходом в свет своей первой поэтической книги.
Оглядываясь на прошедшую жизнь, А. А. любил читать своим хорошо поставленным бархатным баритоном замечательные строки, потрясавшие меня тогда глубиной и верностью выраженного в них отчаяния:
«Для чего я лучшие годы Погубил на чужие слова? Ах, восточные переводы, Как болит от вас голова!»От этих слов хотелось плакать – и было от чего! Сердце мое надрывалось сочувствием. Впрочем, старинная мебель в благоустроенной квартире у метро Аэропортовская, как и картины в золоченых рамах, мягко поблескивавшие над мягкой пушистостью ковров, внятно отвечали на вопрос, для чего именно поэт погубил свои лучшие годы.
Что поделать – это были гримасы советской эпохи, о которой многие сегодня вспоминают с нежностью и тоской по утерянной благодати. Многие, но не я. Наверно потому, что я, не успевши тогда как следует зачерпнуть густого варева из соцреалистического котла, успела зато вовремя вырваться в другое пространство и вдохнуть разреженный воздух других высот.
Но я сейчас не об этом, а о сыне А. А., знаменитом режиссере Андрее Тарковском, который странным извилистым путем утвердил имя отца на положенном ему месте в русской поэзии.
Звезда Андрея начала быстро восходить где-то на второй-третий год моей дружбы с А. А. Сперва появилось «Иваново детство», и в литературных салонах заговорили о поразительном молодом режиссере, которому прочили большое будущее. К моменту появления слухов о гениальном, запрещенном, но кое-где кое-кем уже виденном фильме «Андрей Рублев» имя Тарковского-сына начало реверберировать в московских либеральных тусовках, заглушая все другие имена.
Естественно, что я жаждала воспользоваться своим привилегированным положением, чтобы познакомиться с прославленным сыном А. А. Но как я ни наводила на него разговор, А. А. не спешил его поддержать. И, бывая в доме, я никогда не видела там признаков присутствия неуютного молодого человека, взбудоражившего умы московской интеллигенции. А ведь это были времена, когда начинающие, пусть даже гениальные, кинорежиссеры вряд ли могли позволить себе роскошь выпорхнуть из родительского гнезда. В конце концов, я набралась смелости и спросила у жены А. А., переводчицы Татьяны Озерской, почему я никогда не встречаю у них Андрея.
Я не могла выбрать худшего адресата для своего вопроса. Лицо Татьяны застыло непроницаемой маской, и, наказавши меня ледяным взглядом, она ответила, что Андрей живет у своей матери и здесь не бывает. В результате чего мне открылись новые подробности жизни А. А., о которых я не подозревала – значит, до Татьяны у Арсения была другая жена, и Андрей не вхож в дом Татьяны-разлучницы!
И все же однажды я увидела их вместе – отца и сына, они сидели за столиком в ресторане Дома литераторов. То есть по первому впечатлению А. А. сидел неизвестно с кем лицом ко мне, за ресторанным столиком, и я привычно разлетелась к нему здороваться, а, может, и присоединиться. Мало что было тогда увлекательней экспромтных посиделок в ресторане Дома литераторов – можно было оказаться рядом с кем угодно, равно хорошим и плохим, но неизменно интересным!
Однако случилось небывалое – А. А. меня к себе не подпустил. Он предостерегающе поднял руку с заградительно растопыренными пальцами:
– Я занят! У меня родительский час!
И я поняла, что неприязненно повернутая ко мне спина собеседника А. А. принадлежит знаменитому Андрею, но познакомиться с ним мне не удастся. Мне даже не удалось увидеть его лицо – он так и не обернулся поглядеть, с кем говорил отец, и у меня осталось необъяснимое ощущение, что беседа их не была особенно дружеской.
Впрочем, еще через несколько лет, когда мне посчастливилось еженедельно видеть лицо Андрея крупным планом в двух шагах от себя, я усомнилась в своих умозаключениях и укрепилась в уверенности, что он вообще не склонен к дружеским проявлениям к кому бы то ни было.
Я тогда была слушательницей Высших сценарных курсов, где Андрей читал курс режиссуры. Он не столько читал курс, сколько показывал нам свои любимые фильмы, снабжая их краткими комментариями. С его подачи я впервые познакомилась с творчеством Луиса Бюнюэля, который в те годы был практически неизвестен в России. Один известный литератор даже с пеной на губах отрицал наличие в мировом киноискусстве какого-то Бюнюэля, ссылаясь на то, что он о нем никогда не слыхал.
Из уст Андрея Арсеньевича я впервые услышала не только имя Бюнюэля, но и обоснование его эстетики торжествующего уродства. Как Андрей любил смаковать изощренный садизм «Андалузского пса», как увлеченно посвящал он нас в интимные подробности режиссерской работы над оргией нищих в «Веридиане», с каким трепетом открывал нам секреты фрейдовских подтекстов «Дневной красавицы» и «Дневника горничной»! И неспроста – уж кому, как не ему надлежало быть знатоком фрейдовских подтекстов в жизни и в искусстве!
После его лекций мне открылась природа режиссерского восторга при съемках душераздирающих сцен из «Андрея Рублева», где щедро заливают расплавленную смолу в глотки и натурально выковыривают глаза из глазниц. И стало понятно, что душа человека и режиссера Андрея Тарковского раздираема вечной неизбывной мукой, от которой нет убежища, нет спасения. Эту муку, навеки запечатленную на его лице, не смягчало ни поклонение зрительного зала, ни сияние прожекторов над его головой.
«Понятие «ностальгия», – обратился Тарковский к залу по-русски, и переводчики торопливо залопотали в микрофоны по-своему, нисколько не нарушая этим его одиночества, – непереводимо ни на какой иностранный язык. Только по-русски оно означает так много, только по-русски оно так емко: здесь и тоска по родине, и тоска по утраченной молодости, и многое другое».
В зале захлопали, свет погас окончательно, и по экрану поползли титры.
Над мокрым, скудно освещенным полем клубился туман, его рваные клочья колыхались в почти полной тьме, то разрежаясь слегка, то сгущаясь в непроглядные комья. Где-то за туманом ехала машина, увидеть ее было невозможно, но сквозь туманную глухомань иногда пробивалось надсадное ворчание мотора. Туман клубился и полз, клубился и полз, клубился и полз, а машина тужилась прорвать его и выехать в поле зрения, но никак не могла. Это длилось так долго, что у меня даже зубы заныли; в зале перешептывались и кашляли. Наконец хлопнула дверца – похоже, машина осознала тщету своей борьбы с туманом и сдалась.
Женский голос приглушенно сказал по-русски с сильным акцентом:
– Вот и прыехальи!
А мужской ответил резко, на смеси русского и итальянского:
– Я ведь просил, парле итальяно, пожалуйста!
Но женский не унимался:
– Поглядьи, как красыво! – воскликнул он и тут же поспешно перевел восторг на итальянский, это уже на бегу, удаляясь в сопровождении чавкающего припева башмаков по жидкой грязи.
Сердитый мужчина за голосом в болото не последовал, он остался где-то поблизости, еще раз хлопнул в темноте дверцей и проворчал ненавистно по-русски:
– В гробу я видал ваши красоты, чтоб вы ими подавились!
И опять заклубился туман, наползая и отползая, сгущаясь и разрежаясь, пока в белесой его дымке не прорезалось светлое окошко; в окошке взбежали на пригорок деревянные дома русской деревни. Из туманных хлопьев вынырнуло мужское лицо на негативном отпечатке кинопленки, так что лицо выходило черным, а волосы белыми. Негативный мужчина тоскливо смотрел из тумана, как в далекой русской деревне маленький мальчик взбегает на пригорок, откуда машет ему женщина с венком кос вокруг головы. Тугие косы эти строго обвивали шелковистую округлость ее затылка и короной возвышались надо лбом, не в пример неорганизованной гриве обладательницы итальянского акцента, вынырнувшей со временем из туманной тьмы начальных кадров в дождливую полутьму последующих.
Символика «ностальгии» постепенно проступала сквозь мутную сетку дождя, заливающего экран: герой его, Андрей Горчаков (надо же, какая фамилия красивая, нет, чтобы Горшков или Торчков, как это в жизни бывает) помогал режиссеру Андрею Тарковскому преодолеть Эдипов комплекс его предыдущего фильма «Зеркало». В свете этого мучительного преодоления становилась понятной непреходящая черная меланхолия нашего двуликого Андрея, приехавшего из солнечной России в промозглую от вечной сырости Италию, чтобы увидеть наконец воочию те памятники средневековой архитектуры, о которых он в течение многих лет читал лекции студентам. Ведь его томит ностальгия по семейному уюту «Зеркала», где он был счастливо женат на собственной матери – как говорится, «и дома, и замужем».
Факт этого кровосмесительного брака удостоверяется в «Зеркале» не только тем, что режиссер поручил роль и матери, и жены героя одной и той же актрисе, не затрудняя ее даже переодеванием и гримом, созвучным эпохе, но и тем, что в глазах матери-жены сын-мальчик то и дело занимает место мужа-мальчика, так что к концу фильма вовсе непонятно, кто кому кем приходится. И последнюю точку над «i» ставит отсутствие в фильме отца, то ли арестованного, то ли погибшего на фронте, но в любом случае безжалостно удаленного режиссером из экранной жизни согласно канонам Эдипова комплекса, чтобы обеспечить себе ничем не замутненный союз с матерью.
В «Ностальгии» почти преодоленное стремление героя жениться на собственной матери прорывается только изредка, когда он в ностальгическом отчаянии пытается жену «уматерить» и когда сам не знает, кто же этот мальчик, взбегающий к дому на пригорке, – он сам или его сын. Зато проблему отца режиссер решил воистину мастерски: не впуская его на экран и таким образом увиливая от непосредственного общения с объектом слишком недавней и потому неостывшей еще ненависти, он часто и подолгу читает вслух его стихи. Тут уж вовсе смешались все сознательные и подсознательные потоки, обильно орошаемые потоками текущей по экрану воды: по фильму стихи принадлежат перу Андрея Горчакова, по жизни – перу Арсения Тарковского, отца Андрея Тарковского, того самого, который после успеха «Андрея (опять Андрей, что за наваждение! – а ведь это «муж» по-гречески) Рублева» говорил мне с горьковатой (горчаковатой) иронией: «Если раньше девушки спрашивали, кто этот вертлявый юнец, им отвечали: это сын знаменитого поэта Тарковского. Если теперь они спрашивают, кто этот хромой старик, им отвечают; это отец знаменитого режиссера Тарковского».
Тут уж весь фрейдовский расклад налицо: и соперничество поколений, и соперничество поэзии с кино, и соперничество мужское – за благосклонность прекрасных дам. Но за годы, протекшие (ведь у Тарковского все именно течет, а не передвигается каким-либо иным способом, – и время, и стихи, и судьбы) между «Зеркалом» и «Ностальгией», юношеское неприятие отца у Андрея, постепенно остывая, переплавилось в форму идеологического к нему почтения, свойственного зрелости. Враждебность, правда, еще не остыла настолько, чтобы допустить физическое присутствие отца в кинопространстве, но голос его поэзии уже заполняет все эмоциональное пространство фильма, преображаясь там в некое видимое Божество, витающее над водами. Этот образ вовсе не условный, ибо многие кадры «Ностальгии» представляют собой разнообразные эффектные сцены «из жизни воды» – потоки, заливающие нижние этажи заброшенных зданий; хлюпающие мокротой болотистые луга; радужный пар над горячими источниками; прозрачные струи, омывающие позеленевшие от времени скульптуры, и т. д. – озвученные пространным чтением стихов Арсения Тарковского.
Пригасив свою неприязнь к отцу, Андрей одновременно уже не с прежним пылом стремится к союзу с матерью, и потому намеки на ее отождествление с женой Горчакова не так прозрачны, как в «Зеркале», зато жена все еще олицетворяет собой покинутую героем мать-Родину.
Вот тут-то и начинаются загадки. Сюжетно все вроде бы просто: Андрей Горчаков, специалист по итальянской архитектуре эпохи Возрождения, приезжает в Италию пощупать собственными руками старинные камни, которым отдано его сердце. Казалось бы – щупай и радуйся, что добрался, так нет: наш Андрей сразу по приезде оказывается во власти неодолимой тоски по собственному детству с домом на пригорке (или он только в Италии осознал, что уже не мальчик?), по оставленной в России жене, той, что с венком кос надо лбом, по сыну, взбегающему на пригорок, который сливается в его сердце с памятью о себе, взбегающем на пригорок; и по Родине, сливающейся в его сердце с образом жены. Тоска эта столь же неизбывна, сколь необъяснима, и потому хочется спросить у самого Тарковского, отчего это его герою так плохо.
Просматривая беседу Тарковского с каким-то дотошным итальянским журналистом, прорвавшимся к режиссеру перед самым началом съемок, натыкаюсь на провокационный вопрос: как режиссер думает увязать свое пессимистическое восприятие мира с оптимистическим образом жизни Италии? Режиссер отвечает уклончиво и невнятно: «Пессимизм его продиктован глубоким беспокойством за человечество и потому не может быть преодолен просто при помощи жизнеутверждающих склонностей итальянского обывателя». Раскрыв таким образом свою задачу не допустить победы бездумного оптимизма над обоснованным пессимизмом, режиссер честно сделал все возможное, чтобы эту задачу выполнить. Италия «Ностальгии» – это мрачная страна безлюдных руин, неосвещенных колоннад, заболоченных полей, полузатопленных домов, замусоренных улиц. Смотришь – и диву даешься: и как они там живут, бедняги? Так и хочется спросить участливо, как спросила внучка Корнея Чуковского, услышав, что дед жил при царе: «Бедненький, как же ты выжил?»
Вялую покорность, с которой итальянцы принимают свое беспросветное существование, можно оправдать разве что умственным и духовным их убожеством: как бессловесные призрачные тени, бродят они по мрачным храмам, ютятся в затопленных подвалах разрушенных городов среди свалок и болот, часами мокнут в водах горячих источников, сливаясь постепенно с радужными парами, клубящимися над их безвольными головами.
Единственный человек, который «звучит гордо» и потому удостаивается чести быть допущенным в собеседники возвышенного героя Тарковского, это сумасшедший профессор математики Доменико, разделяющий пессимизм Горчакова и дополняющий его по противоположности. Сам Тарковский так характеризует Доменико: «Он, подобно беззащитному ребенку, действует безотчетно и безрассудно, восполняя таким образом то, чего недостает Андрею».
Пока безутешный Андрей медленно и со вкусом переливал свою тоску из одного мокрого кадра редкой красоты в следующий не менее мокрый и не менее прекрасный кадр, большая часть зрителей успела разбежаться: вокруг меня то и дело слышались мягкие щелчки покинутых кресел и поспешные шаги беглецов. Непереводимая русская ностальгия никак не укладывалась в рамки «простой любовной истории», обещанной Тарковским, ни в глазах заскучавших зрителей, ни в душе пышноволосой переводчицы Горчакова Евгении, в которую он, по замыслу автора, влюблен.
Любовь Андрея к переводчице – это специфически российская любовь, описанная во многих романах и анекдотах: влюбленный герой, не соглашаясь на приятную интрижку, требует от легкомысленной итальянки только полной отдачи, полного взаимопонимания и преображения ее в привычную ему Мать с большой буквы, ибо ищет не радости, а страдания.
Вслушиваясь в сердитое итальянское стрекотание Евгении, я разделяла ее недоумение: чего ему надо? Почему он отказывается с ней переспать? Почему он требует от нее того душевного слияния, которое сам признал невозможным? Для чего он ставит перед собой неразрешимые задачи?
Пока я пыталась ответить на эти вопросы, Андрей тихо лежал на кровати в затемненной комнате с одним-единственным окном, выходящим в залитый слезами дождя сад. Он лежал тихо и неподвижно, как мертвый, силуэт его был едва различим в мутной полутьме комнаты. Секунды стекали по стеклу дождевыми каплями, перерастая в минуты – бегство из зала приняло повальный характер, так что топот многих ног заглушал иногда шорох дождя. К исходу третьей минуты в глубине комнаты появился едва различимый силуэт собаки, собака вскочила на кровать рядом с неподвижно распростертым Андреем, слилась с темнотой и тоже замерла.
Секунды потекли еще медленней, наполняя зал ощущением отчаяния, невыносимого до боли в суставах, а к концу пятой минуты полной неподвижности и тишины в комнате слегка прояснилось и оказалось, что на кровати рядом с Андреем лежит женщина с венком кос вокруг головы, беременная – где-то на последнем месяце. При виде ее огромного, чуть не до потолка вздутого живота Андрей вскакивает, как ужаленный, и выбегает из комнаты, чтобы увидеть, как маленький мальчик взбегает по залитой солнцем дороге к дому на пригорке, откуда машет ему все та же вездесущая обобщенная Мать в венке кос, на этот раз уже не беременная ни им, ни его сыном.
Вот тут-то и пришлись кстати стихи обобщенного отца, Арсения Тарковского, в изобилии прочитанные голосом Горчакова над стоячими, текучими, летучими и прочими водами, – похоже, они помогали ему избавиться от тяжкого комплекса вины. Вины перед кем? Вины за что?
Ведь Горчаков, безвольно скользя по течению фильма, не совершает ни одного поступка, ни хорошего, ни плохого, так что ему нечего стыдиться, как, впрочем, нечем и гордиться. И даже когда его единственный друг, безумный Доменико, выходит на площадь, чтобы совершить тщательно подготовленное самосожжение, цель которого – доказать миру, что безумен мир, а не Доменико, Андрей не пытается предотвратить самоубийство и остановить друга. Он только, уподобляясь белому медведю в зоопарке, долго-долго бегает по пояс в воде по затопленному залу какого-то дворца, прикрывая полой пальто крохотное дрожащее пламя зажженной им в знак солидарности с Доменико свечи, и шепчет при этом голосами всех трех чеховских сестер: «В Москву! В Москву! В Москву!»
Я вышла из зала, пытаясь убедить себя, что Андрей Тарковский, создатель «Андрея Рублева» и «Сталкера», искренне полагает, будто только «в Москве» существует истинная любовь (с венком кос надо лбом), истинная высокая духовность (давно утерянная растленным капиталистическим обществом) и истинная связь человека с природой (давно прерванная обывательским образом жизни Запада, ценящего комфорт превыше всего). Впрочем, насчет комфорта я сразу с ним согласилась; ведь я еще не совсем забыла прелести русского комфорта, приближающего к природе особенно хорошо при помощи зимнего сортира на улице без слива и отопления.
Я переворачивала детали фильма и так, и этак, пытаясь прочесть замаскированную художественную весть его автора, но ничего путного не выходило. Я чувствовала себя как традиционный сыщик из детективного романа, каждое хитроумное построение которого разваливается из-за какого-нибудь очередного несоответствия. Недостающую деталь мне подкинули непредвиденные события следующего дня.
Рано утром меня разбудил телефонный звонок: группа голландских тележурналистов умоляла меня помочь им взять интервью у Тарковского, который отказывал им, ссылаясь на отсутствие его англо-русского переводчика. Я немедленно согласилась, подогреваемая нестерпимым любопытством. Услышав, что переводчик есть, Тарковский пообещал выделить голландским ребятам пятнадцать минут через полчаса, так что они еле-еле успели за оставшееся время дотащить до «Карлтон-отеля» тяжелую аппаратуру. Впрочем, они были так счастливы своим успехом, что аппаратура не казалась им тяжелой.
Из вестибюля они позвонили в номер Тарковского, как было договорено. Телефон не отвечал. Я, конечно, сразу учуяла недоброе, но наивные голландцы, все еще ликуя, поволокли свои камеры и прожекторы на третий этаж, к дверям номера Тарковского. На стук никто не ответил. Я молчала, предвидя знакомый исход. Мальчики продолжали стучать все настойчивей, не понимая, что могло случиться: ведь Тарковский полчаса назад пообещал, что будет ждать их в номере. Вдруг дверь соседнего номера распахнулась, на пороге возник средних лет сухощавый молодец, на лице которого стояла несмываемая печать той организации, которой он служил в чине не ниже майора.
– В чем дело? – спросил он по-английски со следами русского акцента.
– Мы от голландского телевидения… господин Тарковский… интервью… – залопотали наперебой неподготовленные к подобным инцидентам мальчики. Я не вмешивалась, понимая, что могу только навредить.
– Господин Тарковский не может дать интервью, у него нет переводчика, – отрубил майор непререкаемо.
– А у нас есть. Вот переводчица… она согласна… и господин Тарковский тоже…
Наметанным профессиональным взглядом майор охватил все детали моей семитской внешности, быстро и умело пропустил их сквозь личный черепной компьютер и выдал отрицательный ответ:
– А мы не пользуемся переводчиками со стороны. Если надо, приглашаем своих, – и приготовился захлопнуть дверь.
Оператор, которому пришлось нести особо тяжелые части оборудования, ухватился за ручку двери, как за последнюю соломинку, и потащил дверь на себя.
– Но господин Тарковский нам обещал! Он обещал нам! – кричал оператор так отчаянно, словно приглашал самого Господа Бога в свидетели творящейся несправедливости.
Майор опять быстро пропустил нужные данные через черепной компьютер – на этот раз ответ был положительный: он бросил взгляд через плечо внутрь комнаты, застывшей в напряженной тишине. Оттуда, словно марионетка на ниточке, быстро выбежал взъерошенный Тарковский, повторяя на бегу одну и ту же фразу-заклинание, будто она была запрограммирована в нем, как в шарманке:
– Я никому ничего не обещал! Я никому ничего не обещал! Я никому ничего не обещал!
– Вот видите, господин Тарковский никому ничего не обещал, – проворковал майор с отеческим укором, но ласково, очевидно прощая глупым мальчикам их ребяческую ложь, и на этот раз закрыл дверь беспрепятственно, одним движением смахнув при этом Тарковского внутрь комнаты.
Мальчики уныло поволокли свое оборудование по коридору к лестнице, а я осталась стоять перед закрытой дверью, отмеченной лишь обычной гостиничной табличкой с номером, пригвожденная к месту внезапным прозрением. Несовпадающие детали загадочного фильма «Ностальгия» производства СССР-Италия вдруг встали на свои места, словно в детской картинке-лабиринте «найдите зайчика». Я ясно увидела зайчика, затаившегося в сложном переплетении маскировочных линий, и теперь уже не могла понять, как это я не замечала его раньше, – ведь он просто бросался в глаза!
Не в силах совладать с темной волей своего подсознания, режиссер попытался раскрыть трагедию советского человека в заграничной командировке, который страстно мечтает остаться на Западе и никогда-никогда-никогда не возвращаться в родную тюрьму. Стоит только поднять этот скрытый от прямого взгляда подтекст, и немедленно исчезают все неясности, все смутные места, все доселе не поддающиеся объяснению метафоры фильма. Вот женщина в полутьме храма открывает крышку огромной плетеной корзины, висящей на стене, и оттуда вылетают десятки птиц, они взмывают в светлый простор небес, поток их бесконечен, и нельзя представить, как они все могли уместиться в корзине. Ах, как душа просится на волю, из плетеной клетки корзины, из замкнутого пространства в простор неба! Как же тут не затосковать, не заболеть черной меланхолией, не упасть ничком на темную кровать, затиснутую в угол продрогшей от сырости комнаты. А женщина с венком кос надо лбом уже тут как тут, сторожит, намекает на кровное родство, не отпускает из плена, то заманивает памятью детства, то голосом отца, то суровым приказом Родины. Как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит.
Что же сделать, чтоб не так хотелось, чтоб не так кололось, чтоб мама не сердилась?
Лучшее средство – зажмурить глаза, заткнуть уши и громко кричать: «Чур меня! Чур!»
Для этого Италию следует представить мрачной страной полузатопленных домов и замусоренных улиц, по которым бродят призрачные тени неудачников. И повторять, как заклинание:
– В Италии никогда не светит солнце! В Италии всегда идет дождь! В Италии только безумцы еще не потеряли связи с природой, не погрязли окончательно в болоте буржуазного комфорта! В Италии невозможно жить!
Главное – повторять это так долго и настойчиво, чтобы самому в это поверить. А на случай, если поверить до конца все же не удастся, следует пустить в ход более сильные средства.
Простейшее из этих средств сводится к унылому припеву, подхваченному у двух загулявших купчиков, пытавшихся помочиться на роскошное зеркало в фойе парижского ресторана: «Все равно, они нас не поймут!»
А раз они нас не поймут, то и нам понять их невозможно, да и стоит ли их понимать? От природы они оторвались, погрязли в буржуазном комфорте, статуи эпохи Возрождения захламили обертками от мороженого и апельсинными корками, памятники старины запустили до непотребной зелени – деньги на чистку жалеют, и главное – ничего не хотят сделать ради собственного спасения.
Только и остается зажечь свечу негасимого духа, прикрыть ее полой пиджака, чувствуя себя при этом спасителем человечества, и метаться по пояс в воде, заклиная голосами всех трех чеховских сестер:
– В Москву! В Москву! Чур меня, чур! Я никому ничего не обещал!
Впрочем, никакие заклинания не помогут – потому что обещал: майору из соседнего номера, замаскированному то под мальчика, взбегающего на пригорок, то под большеглазую женщину с короной кос надо лбом, да еще к тому же беременную на последнем месяце.
Обещал хранить верность до гроба.
Обещал не хотеть жить на свободе, а рваться назад, в Москву, где все презирают буржуазный комфорт, где обертки от мороженого и апельсинные корки (если таковые есть с чего счистить) бросают строго в урны, где все памятники старины надраивают до блеска медных пуговиц и где всегда будет солнце, где всегда будет небо, где всегда будет Мама, где всегда буду Я!
И от этого «всегда» развивается ностальгия, истинно русская, многозначная, непереводимая на другие языки. Обоюдоострая ностальгия – по навеки недоступному манящему Западу и по России, покинутой в мечтах, но неотторжимой, как родовое проклятие.
Коричнево-зеленая ностальгия, мутная, как стоячая вода, как непролазный туман, как непреходящий дождь, доведенная до такой концентрации страдания, из которой возможен только один выход – в искусство.
Вот вам и парадокс: в искусство, а не в товар.
Да здравствует Ностальгия!
Прошло пару лет. Доброхоты сообщили мне, что Андрей Тарковский страшно на меня обиделся. Может быть, он был прав – мою статью вряд ли можно было считать комплиментарной, а того, что я назвала его фильм единственным произведением искусства на Каннском фестивале, он или не заметил или не счел важным.
К тому времени он уже успел преодолеть свою ностальгию и попросить политического убежища на бездуховном Западе, а вскорости тяжело и безнадежно заболеть. И я приложила все усилия, чтобы как-то смягчить обидные суждения своего эссе – я писала ему письмо за письмом, но никогда не получила ни строчки в ответ.
Так он и умер, оставив меня непрощенной. Владимир Максимов рассказал мне, что писем моих он не читал, а сразу выбрасывал, не распечатав.
Прошло еще несколько лет. Как-то летом, когда мы жили «на даче» в глухой немецкой деревне, к нам в гости приехал Георгий Владимов с женой Наташей, ныне покойной. Наташа была женщина вострая и стремительная, она была знакома со «всеми» в русском зарубежье и вела дневник, куда каждый день вписывала детали всех встреч и разговоров, грозясь однажды их опубликовать. «Ох, они взвоют!» – ликовала она, предвкушая. Но умерла, так, к сожалению, и не предъявив миру свой приговор.
А тогда, под деревьями уютного немецкого сада с фаянсовыми гномиками на грядках, речь зашла о Тарковском. Прищурясь на недопитую рюмку водки, Владимов упрекнул меня:
– Вы в своей статье очень обидели Андрея. Ну зачем вы написали, что он выпивал с кэгэбэшником?
Я немедленно заняла оборонительную позицию:
– Я никогда этого не писала. Я написала только, что когда киномальчики пришли брать интервью, Андрей был в его комнате.
– Неважно, что вы написали, – вздохнул Владимов. – Важно, что они ведь и вправду там выпивали.
Тель-Авивская тусовка
Нам, антисоветским интеллигентам, взошедшим на диссидентских дрожжах шестидесятых, было не очень уютно в Израиле середины семидесятых. Во-первых, никто трепетно не ждал нашего появления. Простому израильскому народу было не до нас, – у него были свои проблемы, которые можно было разрешить только путем вымирания старшего поколения, эти проблемы взлелеявшего и под ними погребенного. Интеллигенция же израильская, охваченная пылкой мазохистской любовью к палестинцам, не питала к нам никаких симпатий – наш, уже вышедший здесь из моды, сионистский романтизм только раздражал ее и отпугивал.
Мы оказались в меньшинстве и в одиночестве. Нас было так мало, что единственная русскоязычная газета «Наша страна» очень быстро превратилась из ежедневной в еженедельную. И все же наш «заезд» – так, кажется, называется очередная группа детей, прибывшая в пионерский лагерь, – умудрился создать несколько журналов, толстых и тонких. Толстые журналы могли существовать только при условии постоянной финансовой поддержки, рассчитанной не столько на израильского читателя, сколько на рассеянную по миру русскоязычную эмиграцию. Два из них, наш «22» и «Время и мы» Виктора Перельмана, заслуженно попали в короткий список долгожителей, рядом с «Континентом», «Гранями» и «Новым журналом».
Тонкие журналы возникали пачками и тут же исчезали, как падучие звезды, – все, за исключением журнала «Круг», издаваемого под мудрым руководством Георга Морделя, истинного человека из народа, который точно угадывал вкусы и пристрастия читателя. Кроме бойкой разухабистой прозы, представленной в виде романов с продолжением, каждый номер «Круга» был снабжен четырехстраничным вкладышем, посвященным эротике. По понедельникам к нашей секретарше Мирьям, еженедельно получавшей «Круг», вереницей тянулись ее пожилые подруги – полистать новый номер. Каждая из них немедленно раскрывала вкладыш и жадно читала его от первой строки до последней, то и дело громко выкрикивая: «Боже, какая мерзость!» И становилось понятно, почему легкомысленный «Круг» занимает достойное место в списке долгожителей, рядом с высоколобыми «Гранями», «Континентом» и «22».
И становилось понятно, почему тиражи «Круга» не падают на общем фоне упадка русскоязычной печатной продукции. И можно было понять нашу подругу Нелли Гутину, члена редколлегии журнала»22» и автора провокативных супер-идеологических эссе, которая тайком от всех принялась строчить в «Круг» скабрезные сексуальные советы солдатам и солдаткам под псевдонимом Лоллипоп.
В конце концов мы ее разоблачили и простили – не исключать же было из редколлегии одну из лучших наших журналисток за вполне невинное стремление привлечь как можно больше читателей!
Увы, сегодня уже нет ни «Круга», ни «Времени и нас», но наш «22» продолжает выходить, регулярно как часы, четыре раза в год. Правда, в те светлые времена, когда советский читатель подвергался опасности тюремного срока за чтение «22» из-под полы, нам хватало денег издавать его шесть раз в год. Деньги эти охотно платили нам различные международные организации, контрабандно доставлявшие пачки журнала в СССР. Мы даже могли платить тогда пусть небольшую, но все же зарплату тогдашнему главному редактору Рафаилу Нудельману.
Для описания наших отношений с Рафаилом Нудельманом лучше всего подходит древняя шутка о человеке, в жизни которого было два счастливых дня – день, когда он женился, и день, когда он развелся. Поскольку день подписания нашего союза с Нудельманом за глубокой давностью помнится мне смутно, особенно ярко горит в моем сердце радостный день развода, завершившего собой 1993 год. Не знаю, выжил ли бы наш журнал без этого счастливого оборота событий, избавившего нас как от невыносимого состояния перманентной войны – совсем как у Станиславского с Немировичем-Данченко – так и от непосильного бремени ежемесячной зарплаты. Александр Воронель, по сути всегда бывший главным редактором «22», но только после ухода Нудельмана ставший им формально, от зарплаты отказался сразу – не столько из благородства, сколько из ясного понимания финансового положения журнала.
В далекие времена до падения Железного Занавеса в журнальном деле царил парадокс – деньги на издание найти было можно, зато читателя найти было гораздо трудней. Я имею в виду легального читателя, проживающего в нормальном обществе, а не подпольного бедолагу, рискующего свободой ради нескольких страниц убористого текста. Текст был убористым, чтобы вместить побольше материала, а подпольных читателей было не счесть – они и по сей день, уже живя в Израиле, с умилением вспоминают, как с трудом добывали истрепанные экземпляры «22» и жадно выискивали в них обрывки сведений о неизвестном мире, в который мечтали попасть.
Но мы о них ничего не знали, они жили в другом пространстве, и пути наши не пересекались. А мы вели странную призрачную жизнь литераторов, оторванных от своей языковой среды. К нашим социальным играм весьма подходило шутливое одесское проклятие: «Чтоб ты знал всех своих читателей!». Никогда не забуду литературный вечер в культурном тель-авивском клубе «Цафта», где выступали три поэта – Михаил Генделев, Анри Волохонский и Владимир Глозман, все три не какие-нибудь провинциальные рифмоплеты, а отличные профессионалы, со временем заслужившие признание в российской поэзии.
Чтобы привлечь публику, бедные поэты, знающие наперечет всех своих читателей, объявили, что вечер будет костюмированный. И каждый из них явился обряженный согласно своим представлениям о характере собственного творчества – Генделев в фуражке с лакированным козырьком и длинной, до пят, серой кавалерийской шинели, Глозман – во фраке, из под которого выглядывала крахмальная манишка и белый галстук-бабочка, а Волохонский – в облегающих его детские ножки алых рейтузах под пестрым, до колен, сарафанчиком, сшитым из обрезков разноцветной замши.
Когда они, чуть приплясывая, и дружно держась за руки, рысцой выбежали на сцену, немногочисленная публика, сплошь состоявшая из знакомых, взвыла от восторга, а я с трудом удержалась, чтобы не заплакать. Я ясно поняла, что в какие бы маскарадные костюмы мы ни рядились, мы все равно обречены. Мне вдруг стала очевидна вся призрачность нашего существования на никому не нужной березовой кириллице в этом, иссушенном постоянными хамсинами мире, где все правила жизни записаны квадратными древними письменами, бегущими справа налево.
Спастись можно было только срочным переходом на иврит, а это оказалось невозможным. Отважная Майя Каганская, не задумываясь, объявила, что через год она будет писать на иврите. С тех пор прошло уже около тридцати лет, однако ничего написанного ею на иврите мне увидеть не довелось. Да это, пожалуй, и к лучшему – израильская литература, хоть и очень молодая, но достаточно заносчивая, меньше всего нуждается в наших абсолютно чуждых ей российских закидонах, озвученных на убогом, с трудом вымученном иврите.
Итак, смертный приговор был подписан, но еще не приведен в исполнение – ведь на полную аннигиляцию нашей группы по законам Исхода положено было сорок лет скитаний по пустыне.
И тут случилось чудо – на нас, как из рога изобилия, посыпались многотысячные толпы беженцев из рухнувшей в одночасье Российской империи, еще за год до того казавшейся вечной.
Культурное и даже некультурное пространство израильского быта начало бурно заполняться русским языком. Быстро появились новые шутки типа «Скоро в Израиле введут второй официальный язык – иврит». Все новые и новые газеты возникали из небытия и заполняли стеллажи киосков печати. Еще быстрее, чем газеты, не только в столицах, но даже в самых отдаленных уголках нашей необъятной родины стали открываться русские книжные магазины, – смертный приговор откладывался на неопределенное время.
И на нашем горизонте замаячили перемены. Сперва в нашу редакционную дверь стали стучаться писатели – в основном, к сожалению, не прозаики, а поэты, – а вслед им мощными когортами начали прибывать читатели. Среди писателей, особенно среди поэтов, замелькали молодые лица, – это означало настоящий праздник, «именины сердца», ведь до того нам суждено было только стариться без всякой надежды на прибавление семейства.
И мы ринулись навстречу этим славным, молодым лицам. Мы даже готовы были простить им заносчивые их выкрики, будто до их появления здесь, в Израиле, никто не умел писать на хорошем русском языке. Мы не сомневались, что, после более близкого знакомства с нами, они сами поймут всю глубину своих заблуждений. Это, собственно, в конце концов и произошло, так что теперь уже трудно определить, кто когда приехал.
Но поначалу в воздухе запахло грозой – новоприезжие встретили нас настороженно, да и мы их, наверное, тоже – ведь их было много, а нас мало, и между нами лежали почти двадцать лет жизни в непересекающихся мирах. Ни о нас, ни о нашей борьбе они ничего не знали и знать не желали. Несмотря на свои внутренние разногласия и разобщенность, против нас они держались довольно сплоченной стаей, желающей вытеснить нас и забросать наши останки песком. Им хотелось быть первооткрывателями и первопроходцами, а мы торчали на их пути, как ржавые железные надолбы, не желая сдавать позиции, доставшиеся нам дорогой ценой.
Помнится, что некоторые заносчивые культурные лидеры нашего заезда, вроде Генделева и Каганской, по первопутку публиковали в газетах страстные филиппики, отрицающие какую то бы ни было ценность вновь прибывших. Отмежевываясь от их русской культуры и русского языка, культурологи-старожилы обзывали новичков беженцами, не ставящими перед собой идеологических задач. А безрассудная Нелли Гутина чуть не подверглась линчеванию, открыто назвав заезд 90-х «колбасной алией». Казалось, что назревает грандиозный кризис, ведь недаром говорят, что ссора – это обычное состояние эмигрантских общин, даже если они называются алией.
Но, к счастью, ссора не состоялась, нарыв со временем рассосался, частично благодаря нам. Случившийся так кстати уход Рафаила Нудельмана развязал руки Воронелю, который в размолвках с друзьями всегда предпочитал мирные решения. По его инициативе мы стали приглашать «новеньких» на заседания нашей редколлегии и терпеливо выслушивать их заносчивую похвальбу, приправленную наивными мечтами о мировом признании, ожидающем их в ближайшем будущем.
Тут я погрешила против истины, предположив, что они рассчитывали на грядущее признание для всего коллектива скопом. Ничего подобного – каждый провидел это признание только лично для себя. В собственном величии ни один из них не сомневался, с талантом и умением у каждого все обстояло отлично, просто раньше ему не давала развернуться советская цензура. Для полного совершенства всем им недоставало лишь мелочи – признания и денег. Этой мелочи многим из них не достает и по сей день.
Но сегодня они уже смирились – не с осознанием – упаси Бог! – скромности своей роли в мировой литературе, а с трудностями тернистого литературного пути. Тогда они были так полны распирающим грудь предчувствием своего грядущего триумфа, что всякое общение с ними высекало искры. Но мы твердо решили их приручить, и готовы были ради этого на разнообразные компромиссы, как с собой, так и с ними.
Не довольствуясь приглашением их к нам, мы стали напрашиваться на их посиделки. Однажды я предложила самой шумной группе «молодых гениев» прочесть на их еженедельном сборище какую-нибудь свою пьесу – для знакомства. Сборища эти проходили в крохотном душном кафе в южном квартале Тель-Авива – название кафе я запамятовала, помню только, что хозяин его был идишистским поэтом. Дело было летом, на улице стояла нестерпимая жара, в кафе было еще жарче, поскольку кондиционера там не предполагалось.
Когда мы с Воронелем вошли туда, все общество было уже в сборе. Выглядели они приятно – средний возраст от тридцати до сорока, лица выразительные, неординарные. После нескольких минут вступительного разговора, в котором самые дерзкие из них дали нам понять, какие они авангардисты и нарушители общепринятых канонов, я попросила Воронеля, который читает с листа гораздо лучше, чем я, прочесть мою пьесу «Змей едучий».
Пьесу я выбрала не случайно, а с расчетом на авангардизм слушателей, – она уже была отмечена общественным одобрением, дважды пройдя испытание на хороший вкус. Именно ее напечатал Михаил Шемякин в «Аполлоне» и именно ее с успехом поставил на сцене иерусалимского театра «Паргод» Слава Чаплин в первые годы нашей жизни в Израиле.
Воронель произнес первые реплики, принадлежащие паре пьяных, сидящих под вечер на берегу Волги:
«Е-мое, ты кефаль знаешь?»
«Да что кефаль? Разве это баба?»
«А какие у ей кишки, знаешь, е-мое?»
«Ну, знаю»
«А вот и не знаешь! Нет у нее кишок, е-мое! Нет, и все!»
«А мне кишки без надобности, мне лишь бы титьки на месте были»
«Нет, титек у кефали нет, е-мое, это точно!»
В кафе стало так тихо, что слышно было, как на кухне из крана капает вода. Я оглядела присутствующих авангардистов и нарушителей канонов – их славные нестандартные лица застыли в стандартной гримасе коллективного испуга. Их молчание не было знаком повышенного интереса, оно выражало обыкновенный обывательский шок – такого они слышать не привыкли. А ведь Саша успел прочесть только начало пьесы, он не добрался даже до завязки, не то, что до кульминации, происходящей вокруг волнующей темы – кто в камбузе кучу наклал?
Это было задолго до появления Владимира Сорокина на литературном горизонте, и я вдруг осознала, е-мое, что тема «кучи в камбузе» моим слушателям не по зубам. Сама не знаю, как это вышло, но, пораженная произведенным эффектом, я вынула у Саши из рук книгу:
«Не надо больше читать. Сегодня слишком жарко».
Удивительно, но он понял меня без дополнительных объяснений и безропотно закрыл книгу. Никто не возразил – авангардисты вздохнули с явным облегчением. Я, собственно не имею к ним претензий. Ведь они чуть ли не накануне пересекли границу недавнего Советского государства и понятия не имели, как сурово эта граница отделяла их от современного искусства. То, что казалось им смелым, уже давно ушло в прошлое, но они еще были не в состоянии это постигнуть. Им еще было невдомек, что своей смелостью они могут поразить только идишистского поэта, продающего пиво в кафе без кондиционера и не слишком хорошо владеющего русским языком.
С тех пор утекло много воды. Некоторые посетители того душного кафе, пройдя мучительный процесс инициации, вынырнули из стоячего болота бывшей советской литературы и продолжают ждать чуда, некоторые, отчаявшись, нашли себе другие утешительные занятия и перестали заноситься. Грозой в воздухе больше не пахнет – мы все оказались в одной не слишком устойчивой лодке, и никого уже не интересует, кто первый сказал «Э!».
Да и российская литература сегодня сама стала потихоньку выбираться из постсоветского болота. Кроме того, ржавые ворота бывшей империи со скрипом раздвинулись, отворив для нас узенькую щелочку, и наши книги медленно, по одиночке, начали просачиваться на русский рынок. Так что для нас на повестке дня встал другой важный вопрос – как не пропустить момент и на ходу вскочить в литературный российский поезд, пока он еще не набрал скорость?
Казалось бы – что нам в этом чужом поезде? Для того ли мы уехали оттуда, чтобы снова стучаться в эту негостеприимную дверь? Но тут-то и вся закавыка – мы, может быть, уехали не для того, но не смогли уехать от себя. Как сказала когда-то востроязыкая Нелли Гутина: «Мы все больны кириллицей».
Да дело не только в нас с нашими болезнями, дело в нашем израильском читателе, который живет только сведениями оттуда, оценками оттуда, табелью о рангах оттуда. И кто не достучался до тамошних издательств, тому не полагается ничего и на израильской книжной бирже. Вот вам и парадокс!
Раздел пятый. Сквозь очки – моя портретная галерея
Менахем Бегин
Мне не приходилось встречаться с Бегиным лично, я только однажды посетила его сверхскромную квартирку в скромной блочной пятиэтажке в одном из скромных микрорайонов Иерусалима. Это случилось, когда Бегин, будучи премьер-министром, жил в официальном доме премьер-министров Израиля, а его личную квартиру показывали знатным гостям иерусалимского мэра Тэдди Колека в виде десерта к великолепному званному обеду в ресторане отеля «Кинг Дэвид». В число знатных гостей я затесалась случайно, спрятавшись от охраны за знатными спинами четы Синявских, гостивших тогда в Иерусалиме по приглашению Тэдди Колека. Я бы ни за что на этот званный обед не пошла, если бы Синявские, не знавшие ни одного иностранного языка, не умолили меня слезно не бросать их на съедение многоязыкой толпе гостей иерусалимского мэра.
Квартирка Бегина ни на что не притязала – крошечная прихожая, у окна гостиной убогий кофейный столик под кружевной салфеткой времен моей бабушки, вдоль стен шаткие полки с бесхитростными безделушками. Зато она честно отражала истинное лицо своего хозяина. Этот человек никогда не рисовался и всегда был равен самому себе. Он выглядел паяцем и произносил свои речи с невыносимым для моего интеллигентского слуха пафосом, но со временем мне пришлось признать, что его влияние на окружающих не соответствует его почти карикатурному облику. Как оказалось, за неприглядным фасадом скрывалась неподдельная сущность, способная преодолеть все препятствия, создаваемые обликом.
Где-то в конце семидесятых мы получили два приглашения – на субботний прием у Ханоха Бартова, тогдашнего председателя Союза писателей Израиля, а назавтра – на свадьбу сына нашей уборщицы Ознат, шофера автобусного кооператива «Дан».
Спешу напомнить, что главным событием тех лет был драматический государственный переворот, ознаменованный переходом власти из рук рабочей партии в руки Ликуда, во главе которого стоял тогда Менахем Бегин.
Переворот этот случился непредвиденно и непредусмотренно. Никогда не забуду разговор с преданным членом рабочей партии Нехемией Леваноном, руководителем отдела борьбы за выезд советских евреев при канцелярии премьер-министра. Где-то за месяц до судьбоносных выборов 1977 года Александр Воронель спросил Нехемию, кто станет во главе его ведомства в случае победы Ликуда. В ответ Нехемия засмеялся.
«Видно, что вы недавно приехали в страну, Саша, – сказал он, с жалостью глядя на наивного Воронеля. – Рабочая партия не может проиграть, она стоит у власти уже семь каденций. И так будет всегда». Наивным оказался не Воронель, а Нехемия: рабочая партия проиграла выборы с грандиозным разрывом – в первый, но не в последний раз.
И в пятницу мы отправились в гости к тем, кто оплакивал этот проигрыш. Дело было в середине июля, и Тель-Авив, как положено, задыхался во влажной июльской жаре. Однако, несмотря на жару, на просторной террасе писательской квартиры в Рамат-Авиве собрались все сливки израильской левой интеллигенции – литераторы, художники, музыканты. Туалеты дам отличались простотой дорогих бутиков, хорошо сочетающейся с униформно непритязательной оправой их очков, представляющей два плоских металлических кружочка, перпендикулярно поддержанных тонкими прямыми заушинами без прикрас.
Прихлебывая бледно-зеленый огуречный суп-коктейль из бокалов, напоминающих тюльпаны на длинных стеблях, гости разбились на шумные оживленные группы. От группы к группе порхало одно и то же крылатое слово «Бегин» – оно взлетало над головами, перекрывая все другие слова, то в сольном исполнении, то в слаженном дуэте, а то и в многоголосом хоре: «Бегин, Бегин, Бегин!»
Как они его НЕ любили! Эта нелюбовь придавала пряный привкус каждой ложке супа, каждому глотку вина. Когда с супом было покончено, нам подали овальные тарелочки дымчатого стекла с бананами, жаренными в сум-суме, и кто-то из гостей – кажется, знаменитый автор сценария скандального фильма «Хирбет-Хиза» – воскликнул:
«Может, хватит о Бегине7 Для чего мы здесь собрались? Чтобы говорить об этом чудовище?»
И несколько женских голосов охотно поддакнули:
«И впрямь, разве других тем нет?»
«С этой минуты – ни слова о Бегине!»
«Ни слова!»
«Договорились – ни слова о Бегине!»
Над террасой нависло тягостное молчание. Внизу во дворе дети играли в мяч. Совсем близко шуршало море. Кто-то откашлялся, и опять стало тихо. Исполнительница популярных песен пожаловалась, что жарко, и все радостно закивали: да, да, жарко, летом всегда жарко. Это откровение, не слишком оригинальное, но верное, полностью исчерпало интерес присутствующих к беседе.
С минуту было слышно только позвякивание ложечек о дымчатое стекло тарелочек, а потом чей-то голос выкрикнул: «Если бы не Бегин!», два других подхватили: «Ах, если бы не Бегин!.»; и вслед им хор снова зазвенел восторженно и слаженно: «Бегин, Бегин, Бегин!.»
И опять стало хорошо, шумно и весело, вино приобрело прежний терпкий привкус и с моря потянуло долгожданной прохладой.
Назавтра, в субботний вечер, мы посетили тех, кто внес свой вклад в победу Ликуда. В свадебном зале на пятьсот персон все выглядело совершенно иначе, чем на вчерашней элегантной приморской террасе – там веселился простой народ, «амха». Шоферы автобусного кооператива «Дан» были настоящими мужчинами – они предпочитали блондинок. В ответ на что их жены, торжественно облаченные в разноцветные бальные платья из тафты и атласа, вытравили волосы перекисью водорода и униформно превратились в блондинок, ничуть не смущаясь почти поголовной смуглостью кожи и чернотой глаз.
Огромный зал был тесно уставлен столами, накрытыми белыми скатертями, на столах без всяких ухищрений были сервированы народные закуски – питы, хумус, тхина, маслины. Блондинки и их мужья с аппетитом поедали эту вкусную снедь из простых фаянсовых тарелок и запивали «Кока-колой», «Спрайтом» и «Кинли», которые обильно наливали в незатейливые стаканы из пластиковых бутылок.
Жених был наряжен в белой чесучовый костюм и в белую кипу, невеста – в белое нейлоновое платье и в белый нейлоновый веночек, отороченный белой нейлоновой вуалью.
Это была истинно народная свадьба – выйдя в туалет, я никак потом не могла найти нужный мне зал. В двух соседних залах идентичные пергидрольные блондинки, сидя за идентичными столиками, уставленными хумусом и тхиной, пили «Кинли» за здоровье абсолютно идентичных женихов в белых чесучовых костюмах и за их невест в белых нейлоновых платьях и в белых нейлоновых веночках, отороченных белыми нейлоновыми вуалями.
По завершении свадебной церемонии белый жених взял белую невесту за руку и торжественно повел ее по проходу между столиками. Грянула музыка, и гости, словно сговорившись, дружно ударили в ладоши, поразительно слаженно скандируя одно и то же слово – из-за музыки сразу нельзя было разобрать, какое. Но постепенно музыка вошла в русло равномерного однообразия, и хор гостей, перекрывая ее, зазвучал, как языческая молитва.
Нет, они не чествовали новобрачных и не желали им долгих лет, – страстно и самозабвенно хлопая в ладоши, скандировали они: «Бегин, Бегин, Бегин!»
И лица у них сияли той же благодатью, какая осеняла лица представителей израильской интеллектуальной элиты на вчерашней рамат-авивской террасе над морем. Знак – положительный или отрицательный – был не существенен. Существенна была сила эмоций, которые возбуждало само произнесение имени этого неприглядного, низкорослого человека, не соответствовавшего никаким эстетическим канонам.
Впрочем, насчет эстетических канонов я, возможно, ошибаюсь. Как-то мы с Сашей направлялись в гости к гостившей в Израиле американской профессорской чете. Увидев Сашу, надевшего по этому торжественному поводу галстук, наш трехлетний внук Игаль восторженно захлопал в ладоши и воскликнул:
«Саша, какой ты красивый! Совсем как Бегин!»
Личность Бегина была так весома, что злые языки утверждают, будто Голда Меир запланированно умерла именно в тот день, когда ему должны были вручать Нобелевскую премию мира. Великая старуха даже жизни не пожалела, только бы не дать сопернику насладиться торжественной церемонией – ведь ему пришлось покинуть праздничную трибуну и срочно отбыть в Иерусалим на ее похороны.
Михаил Горбачев и Нонна Мордюкова
Где-то к весне 1986 года советская власть дала такую течь, что сначала отдельные брызги, а потом уже и внушительные потоки, вырываясь из ее взбаламученных недр, начали достигать и наших средиземноморских берегов. На горизонте замаячили навсегда, казалось, разлученные с нами силуэты, постепенно приучая к мысли, что в железном занавесе и вправду наметилась прореха.
Приехал с гастролями Булат Окуджава и безбоязненно пел в тель-авивском Дворце культуры перед двумя тысячами отщепенцев и предателей. Он пел, а предатели дружно плакали от умиления и восторга. Он не только подарил маленький стишок навеки заклейменному советской прессой журналу «22», но даже согласился на опубликование этого стишка на обложке журнала под собственным портретом с подписью «Интеллигенция читает «22».
Но это было только начало. Вслед за Окуджавой в коридоры Тель-Авивского университета почти из небытия выпорхнула делегация почтенных физиков под водительством вице-президента Академии Наук СССР Юры Осипяна, который не побоялся открыто сидеть с нами в прибрежном кафе на площади Атарим, как будто в газете «Известия» совсем недавно не поливали грязью Воронеля, а мне лично не посвятили обличительную книжонку «Накипь».
Там, в кафе, разнеженный шорохом прибоя вице-президент, потягивая из высокого бокала манговый сок, поведал нам, как его любимый босс, Михаил Горбачев, читал внучке вслух стихи Пушкина из хрестоматии «Родная Речь». Прочел он ей строку: «Роняет лес багряный свой убор…», и вдруг затосковал:
«Какие слова люди придумали, – пожаловался он, – «багряный свой убор»! А я такую херню пишу!»
И мы поняли, что ничто человеческое не чуждо даже первому секретарю ЦК КПСС. Академику Исааку Халатникову тоже не было чуждо многое человеческое – хотя он, глядя на Осипяна, тоже пошел с нами в приморское кафе, но, как видно, все не мог забыть той проклятой статьи в газете «Известия». И поэтому он сразу ринулся в атаку.
Поначалу он все пытался найти какой-нибудь сок или сорт мороженого, который числится в меню, но не имеется в наличии. Не найдя такого, он перешел к политическим разоблачениям:
«А ведь здорово ваша разведка обосралась в канун войны Судного дня!» – с юношеским запалом воскликнул он, загребая ложкой шарики мороженого разных сортов.
На что я, подогретая его происками с меню, не полезла за словом в карман:
«Не больше, чем обосралась ваша, в канун нападения Гитлера в сорок первом!»
Он такой отповеди не ожидал и забарахтался в путанице местоимений:
«Почему наша? Она тогда была и ваша!»
И с опаской уставился на Осипяна – а вдруг настучит дома о его оплошке? Мне ничуть не было его жалко, даже если бы Осипян и настучал, – был у меня к нему небольшой неоплаченный счет. Много лет назад, когда Саша только начинал свою карьеру, он докладывал свою новую работу в Институте Физпроблем на семинаре самого кентавра Капицы. Если доклад Капице нравился, докладчика после семинара обычно приглашали к нему на чай, что считалось наивысшей честью.
В те дни, Халатников, еще не академик, был ответственным за чайную церемонию. Он, сверкая улыбкой, разлетелся к Саше, чтобы сообщить, что он приглашен на чай, и вдруг увидел меня. Хоть тогда обличительная книжонка «Накипь» еще не была даже задумана, тонкое чутье карьриста подсказало Халатникову, что в моем присутствии на чаепитии может таиться опасность для него. И он прямым текстом потребовал, чтобы я не сопровождала Сашу в святая святых Института физпроблем.
Саша попытался было возражать, но Халатников от него отмахнулся и вцепился в меня, как утопающий в спасательный круг:
«Неличка, вы же не захотите погубить карьеру своего мужа?»
Карьера мужа была для меня важней чашки чая, пусть даже выпитого в присутствии самого Капицы. И я, довольно ловко придумав какое-то неотложное дело, быстро выскользнула из института, договорившись с Сашей, что вернусь за ним к окончанию чайной церемонии.
Когда я по возвращении снимала пальто в вестибюле, на меня неожиданно выкатилась веселая толпа чаепивцев, возглавляемая Евгением Михайловичем Лифшицем. При виде меня, он простер ко мне руки и воскликнул:
«Нинель, почему вы не захотели пить с нами чай? Нам так вас не хватало – вы бы рассказали нам последние литературные сплетни!»
Я открыла было рот, чтобы объяснить, что Исаак меня не впустил, и вдруг увидела его – стоя за спиной Евгения Михайловича, он отчаянно сигнализировал мне руками, глазами и ртом, умоляя, чтобы я его не выдавала. Я его не выдала, но и не простила.
Он с тех пор нисколько не изменился – до чаепития он боялся, что ему влетит, если я просочусь на заветную церемонию, а после – если выяснится, что это он меня спровадил. В свой первый приезд он сначала трепетал при мысли, что Осипян заподозрит его в симпатии к Израилю, а потом – что Осипян упрекнет его за чрезмерное разоблачительное рвение. Интересно, чего он боится сейчас, проводя значительную часть года в Тель-Авивском университете и скрывая этот неблаговидный факт в Москве?
Впрочем, Бог с ним, я ведь хотела вовсе не о нем, а о гостях из исторической родины, поваливших к нам косяком после падения железного занавеса. Или верней сказать, что занавес поднялся, а не упал? Как бы то ни было, поднялся он или упал, но его больше не стало, и там, где он раньше мозолил глаза, открылась бездна, звезд полна.
Первой звездой взошел на иерусалимские небеса знаменитый опальный кинорежиссер Александр Аскольдов, прихвативший с собой свой, по легенде смытый советским властями, но чудом сохранившийся, бескомпромиссный фильм «Комиссарша». Никто, кроме злокозненного начальства этот фильм не видел, но все знали понаслышке, что в нем речь идет о гражданской войне и о том, как старый еврей спас от гибели беременную комиссаршу. В сознании склонной к мистике советской интеллигенции фильм Аскольдова превратился в миф, в котором чудесное его спасение после окончательного уничтожения было сродни воскрешению Христа после распятия.
Местные кинодеятели российского происхождения были очень взволнованы приездом Аскольдова, который кроме фильма привез с собой замечательную актрису Нонну Мордюкову, сыгравшую у него роль Комиссарши. Всем хотелось прикоснуться к чудесному. И потому в пандан легенде было решено организовать скромный дружеский прием прямо у входа в Гефсиманский сад, на увитой виноградом террасе, с которой открывался живописный вид на Голгофу.
Легендарное это местечко было предоставлено израильским киношникам поэтессой Юлией Винер, муж которой, голландский кинорежиссер Джон, ныне, к сожалению, покойный, снял когда-то заброшенный сарай во дворе греческой православной церкви. Для тех, кто не знает, скажу, что греческая церковь расположена крайне киногенично над спуском в Кидронскую долину по правую сторону дороги на Иерихон. А по левую сторону этой дороги возносится к небу Гефсиманский сад с венчающей его русской православной церковью равноапостольной Марии Магдалины. У меня даже мурашки по спине бегут при перечислении такого скопления исторических святых мест на одной странице, так что же говорить о чувствах, охватывающих любого при их посещении!
Юлин Джон был мастер на все руки – за пару лет он превратил ветхий сарай в очаровательный коттедж, а сбегающие в Кидронскую долину террасы украсил цветниками и фруктовыми деревьями. Туда-то в ясный иерусалимский вечер, когда прохладный ветерок сдувает с кожи воспоминание о недавней дневной жаре, начали стекаться принаряженные режиссеры, сценаристы, операторы российского происхождения, кто с бутылкой спиртного, кто с жареной курицей, кто с тортом. Пока накрывали столы на террасе, приехали знатные гости – Аскольдов и Мордюкова.
Мы выпили за них, они за нас, стало весело и немного потусторонне, тем более ландшафт к этому располагал – неужто эти знаменитые москвичи и, впрямь нисколько не опасаясь, сидят с нами в увитой виноградными лозами беседке с видом на Голгофу?
После ужина Нонна Мордюкова вышла из беседки на террасу, устало опустилась на скамейку и окликнула меня – я стояла совсем близко на ступеньках террасы, любуясь неправдоподобной красоты видом на Кидронскую долину.
«Посиди со мной, – попросила знаменитая актриса, – устала я сегодня, а они там все мельтешат, мельтешат, в глазах рябит».
Я поспешно села рядом с ней и полюбопытствовала, от чего она так устала.
«Жарко тут у вас», – пожаловалась она, и я согласилась: «Жарко, ох как жарко!»
«А они меня целый день по горам таскали, в город Ерихон привезли и на скалу погнали – сперва триста ступенек вверх, потом триста ступенек вниз. А скала эта, скажу тебе, один сплошной камень, ни травинки, ни деревца. Какие-то сумасшедшие монахи живут там, на верхотуре, им пищу снизу приносят. Да сколько по этим ступенькам можно затащить? Они же узенько-узенько в скале вырублены, так что только одну ногу на каждую ступеньку поставить можно. А воду туда вообще не носят, они только ту пьют, что за зиму от дождей набирается. Нам ямы в камне показывали, где они воду хранят, и кельи монашеские. А чтоб от келий до воды добраться, вдоль скалы тропки вырублены, прямо над пропастью, тоже узенькие, на одну ногу, – страх один! Так что лучше уж ползком ползти, чем по этим тропкам ходить. Наползалась я там, вот и устала».
Нонна откинулась на спинку скамейки и закрыла глаза.
«Да вы хоть вокруг поглядите, – посоветовала я. – Тут ведь вид уникальный, единственный в мире. Потом жалеть будете, что не посмотрели».
Она послушно открыла глаза и невидящим взглядом уставилась на один из самых фотогеничных в мире пейзажей.
«И что же я должна там увидеть? Ничего особенного, камни да деревья, как у нас на Кавказе».
«Да ведь говорят, что это Голгофа – крестный путь, по которому Иисуса Христа вели на распятие», – пояснила я, ощущая неловкость за то общеизвестное, которое произношу.
«И ты туда же! – с досадой воскликнула Нонна. – Они мне тоже весь день про этого Христа долдонили, будто он на той скале в Ерихоне сорок дней просидел. И все сорок дней маковой росинки в рот не брал, – наверх ему никто ничего не носил, да и воду никто не приготовил. И все таки он не помер. А кто он, этот Христ, они не объяснили, будто я сама знать должна. А я вот не знаю! Ну не знаю, и все! Может ты мне про него расскажешь? Почему из-за него столько шума?»
Я уставилась на нее в полном обалдении – если это шутка или розыгрыш, то с какой целью? Вокруг нас не было ни одного зрителя, перед которым российская звезда могла бы себя показать, а моя скромная персона вряд ли представляла для нее хоть какой-нибудь интерес. Тем временем она смотрела на меня с некоторым нетерпением:
«Чего молчишь-то? Или тоже не знаешь?»
Выхода не было – не могла же я отказать самой Нонне Мордюковой?
Я набрала в легкие щедрую порцию ветерка из Кидронской долины и приступила к изложению самой популярной в европейском мире легенды. Мне было неловко излагать как нечто новое сюжет, который по моим представлениям должен был знать каждый, даже неграмотный – «и знатная леди, и Джуди О’Грэди», как говорится.
Но похоже, что моя знаменитая собеседница этого сюжета не знала, – она так бурно и искренне реагировала на все красочные детали биографии Сына Божьего Иисуса Христа и непорочной матери его Марии, что трудно было заподозрить ее в притворстве.
Я выдала на-гора очень сжатый синопсис истории рождения, гибели и воскрешения героя легенды, опасаясь, что веселые голоса скатятся из беседки на террасу и помешают мне завершить рассказ. Но даже и этот скомканный впопыхах сюжет потряс мою собеседницу. Она слушала, завороженно глядя мне в рот, и бурно реагируя на каждую новую подробность.
Непорочное зачатие она, правда, пропустила мимо ушей – ей ли, сыгравшей нашумевшую роль беременной Комиссарши, было не знать, что непорочных зачатий не бывает? Разные чудеса, вроде рождественской звезды, хождения по водам и воскрешения Лазаря, восхитили ее, но не задели сердца. Зато дальнейшее развитие событий все больше и больше увлекало ее подлинным драматизмом. К моменту Тайной вечери она уже была настроена на слезы, а поцелуй Иуды всколыхнул в ее душе какие-то ей одной подвластные воспоминания – похоже было, что о предательских поцелуях она знала не меньше, чем о непорочном зачатии.
Когда дело дошло до ареста Иисуса и суда над ним, Нонна уже трепетала и вздрагивала в предчувствии плохого конца. Усталость ее как рукой сняло – она, как маленькая девочка, то и дело теребила меня за руку, настойчиво повторяя: «Ну, а дальше что было?» Услышав про приговор суда, она совсем по-деревенски схватилась руками за щеки и запричитала:
«Как же так – распять человека на кресте? Ведь ни за что, ни про што!»
Ей явно не было известно, что в те времена римляне распинали целые коллективы, так что порой кресты с распятыми окаймляли километры хорошо ухоженных римских дорог. Под ее вздохи и причитания мы перешли к кульминационной сцене сюжета – к шествию Иисуса с крестом на спине по дороге, вьющейся меж холмов прямо у нас под ногами. Нонна впилась глазами в расстилающийся перед нами мирный пейзаж, где ничего не напоминало о происшедшей здесь две тысячи лет назад драме – было тихо-тихо, в безветренном воздухе недвижно стояли деревья, над которыми в лучах заходящего солнца поблескивал крест церкви равноапостольной Марии Магдалины.
В историю Марии Магдалины я Нонну посвятить не успела, мне удалось только упомянуть, что Мария, мать Иисуса, в толпе любопытных следовала за ним по крестному пути. Вот по этому самому, что перед нами.
«Выходит, прямо тут все это и было? – усомнилась Нонна. – На этом самом месте?»
Я подтвердила, что именно тут, на этом самом месте.
«И что же, так и распяли?» – с надеждой на чудо спросила она..
Но мне нечем было ее утешить – где бы была сейчас наша цивилизация, если бы чудо произошло и его не распяли? Какие фрески и скульптуры украшали бы церкви всех континентов? Впрочем, это неважно, – ведь без этого распятия и самих церквей бы не было. Я мимоходом подумала, что все проклинают Понтия Пилата и никому не приходит в голову поблагодарить его за выдающиеся заслуги перед христианской цивилизацией.
Но я не стала делиться с Нонной своими соображениями о роли Понтия Пилата в истории человечества. С нее и простого сюжета христианской легенды было достаточно. Она обхватила голову руками и заплакала:
«Так и распяли его, болезного? И мать его там стояла, говоришь? И на весь этот ужас смотрела? Да как же сердце ее выдержать такое смогло?»
Я хотела было утишить ее боль рассказом о воскрешении, но тут наши мужчины, разгоряченные выпитым и высказанным, веселой гурьбой выкатились на террасу и окружили нас вопросами, почему мы тут уединяемся и о чем шепчемся. Нонна не захотела делиться с ними своими переживаниями – она решительно вытерла глаза и поднялась со скамейки.
«Пойду, пожалуй, выпью чего-нибудь. Или там ничего не осталось?»
Под громкие заверения, что не все еще выпито, она усталой, но величественной походкой направилась к ступенькам, ведущим в беседку. Я не пошла за ней, интуитивно ощутив, что момент интимности миновал, и не стоит навязываться – лучше оставить ее в покое, наедине с собой.
Обдумывая потом этот случай, я все задавала себе вопрос – знаменитая актриса Нонна Мордюкова и вправду ничего не знала об Иисусе Христе? Или она просто меня разыграла? В конце концов я пришла к выводу, что это неважно. Если не знала – я счастлива, что мне удалось ее хоть немного просветить. А если разыгрывала – что ж, мне повезло: одна из лучших актрис России лично для меня сыграла замечательный спектакль.
Подумать только – спектакль одного актера для одного зрителя, и этот зритель я!
Веня Ерофеев и Василий Розанов
Что их объединяет?
Внешне – ничего, но наверняка была какая-то внутренняя связь, раз Веня Ерофеев написал о Василии Розанове растрепанное эссе с эксцентричной судьбой «Василий Розанов глазами эксцентрика».
Эссе это Ерофеев подарил нашему журналу «Евреи в СССР» 28 декабря 1973 года – сам его принес нам домой и положил на стол, где уже была приготовлена выпивка. А выпив соответствующее количество спиртного, стал нам это эссе читать вслух красивым бархатным голосом, который всегда появлялся у него после принятия соответствующего количества спиртного.
Мы с восторгом слушали и твердо решили в журнале напечатать, но вскоре во время обыска наши личные ангелы-хранители из КГБ, Володя и Вадя, конфисковали его вместе с другими материалами журнала. И оно кануло в небытие, так как Веня утверждал, что отдал нам единственный экземпляр. Туда же, в небытие, уплыл и роман Ерофеева «Дмитрий Шостакович», спьяну забытый автором на скамейке сквера в авоське с двумя бутылками водки по дороге на недосягаемый Курский вокзал.
Много лет спустя эссе о Розанове было опубликовано нью-йоркским издательством «Серебряный век» – как и где они его откопали, не знаю. Роман «Дмитрий Шостакович» пока из небытия не выплыл.
День 28 декабря 1973 года начинался темно-серым промозглым кошмаром, какой стоит в московском небе, когда оно набухает предчувствием близкого снега. Мое душевное состояние было под цвет небу. Накануне уехал в Израиль наш единственный сын, которому как раз исполнился 21 год. Нам с мужем было сказано, что нас не отпустят никогда, и я была уверена, что эта разлука – навеки.
Веня Ерофеев прочел: «Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца тоже щемило». И я поняла, что это обо мне.
Веню привел к нам в дом поэт-авангардист Лен – это имя у меня ассоциативно рифмуется с именем Крученых, может, потому, что мне так и не удалось запомнить ни одной строчки, приходящейся на них двоих. Но Лен мне милей, потому что ему я обязана знакомством с Веней и с эссе о Розанове.
Пришли они к нам назавтра после проводов сына. По тогдашнему сионистскому обычаю проводы мы устроили грандиозные, так как каждый участник борьбы за выезд хотел суеверно прикоснуться к уезжающему счастливчику. За вечер через нашу убогую кооперативную квартиру, построенную в расчете на «многодетного нищего», прошли десятки людей, среди них изрядное количество вовсе незнакомых. Выпивки было куплено гораздо больше, чем выпито, в салоне долго пел Александр Галич, а на кухне допоздна проторчала молодая пара, не слишком скрывавшая свою прямую причастность к КГБ.
Я проснулась поздно после мучительной ночи в Шереметьево с тяжелой головой и с глазами, опухшими от слез.
«Я бы мог утопить себя в собственных слезах… я бросался подо все поезда, но поезда останавливались, не задевая чресл… я шел в места больших маневров, становился у главной мишени, и в меня лупили все орудия всех стран Варшавского пакта…» – прочел Веня. Это тоже было обо мне.
Когда я открыла им дверь, они вошли не сразу, а замешкались на лестничной площадке, неловко уступая дорогу друг другу. Их было трое: в авангарде поэт-авангардист Лен, приятный лицом и надменный манерой, за ним невысокий сутулый молодой орел с пронзительно черным взглядом, а над ними, на голову их выше – Иван-царевич из сказок моего детства. Все было, как положено: молодецкая стать, ямочка на щеке, кудрявая русая прядь над мохнатыми синими глазами.
С ходу отметая подозрение, что бескрылый орел может оказаться Веней, я сказала Ивану-царевичу:
– Почему никто не предупредил меня, что вы – такой красивый?
Все засмеялись, перестали тесниться в дверном проеме и сразу оказались в нашей малометражной кухне, где стол был уставлен батареей спиртного из сертификатного магазина, и выпили по первой и тут же, не останавливаясь, по второй.
«Чередовались знаки Зодиака, – прочел Веня. – Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: «Созвездия, ну теперь-то вы благосклонны ко мне?».
Созвездия всегда были благосклонны к Вене после второй рюмки. И после третьей. К третьей рюмке поэт-авангардист Лен незаметно слинял, огорченный явным недостатком внимания к его персоне. За столом осталась мы с Сашей и еще трое – умный и светский мыслитель Веня Ерофеев, черноглазый орел Боря Сорокин, который состоял при Вене нянькой, и писатель Василий Розанов, «мракобес от мозга до костей», вызванный к жизни Вениным чтением.
После очередной рюмки Веня заговорил о себе. Он рассказал, как их с Борей выгнали когда-то с первого курса филфака Ярославского пединститута за неуспеваемость. Он быстро пропустил еще одну рюмку и уточнил:
«Все, влитое в меня с отроческих лет, плескалось во мне, как помои, переполнило чрево и душу и просилось вон – оставалось прибегнуть к самому проверенному из средств: изблевать это посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый Завет, другим – российская поэзия от Гаврилы Державина до Марины (пишущей «Беда» с большой буквы). Мне стало легче».
В зените запоя голос у Вени был бархатно-переливчатый баритон с ласкающими слух басовыми полутонами, и мысли его текли в сторону лучшего:
«Люди, почему вы не следуете нежным идеям? – спросил он и сам себе ответил. – Ведь нежная идея переживет железные идеи. Порвутся рельсы. Сломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе вечной разлуки, – это никогда не порвется и не истощится».
И заплакал при мысли, что его разлука с возлюбленной из Петушков обещает быть вечной, ибо становилось ясно, что он никогда не преодолеет бесконечной дороги на Курский вокзал. А поплакав, выпил еще и еще.
Все остальные, включая орла Борю и мракобеса Розанова, пили сдержанно, однако сертификатные бутылки быстро пустели – Вене эти спиртные реки были по колено. К закуске он при этом не прикоснулся. А закуска была неплохая – она тоже осталась от проводов, но не так обильно, как выпивка, потому что сионистские гости, джины-водки чуть пригубляя, в еде себе не отказывали. Выпив многократно и ни разу не закусив, Веня «много еще говорил, но уже не так хорошо и не так охотно. И зыбко, как утренний туман, приподнимался» из-за стола и все чаще и чаще ходил в туалет. И голос у него стал надтреснутый тенор с отдельными несинхронными баритональными вкраплениями, и темы пошли какие-то невеселые:
«Плевать на Миклухо-Маклая, который сказал, что если ты чего не сделаешь до тридцати, то после тридцати ты уже не сделаешь ничего. Ну что, допустим, сделал в мои годы император Нерон? Он не сделал еще ничего – не изнасиловал ни одной из своих племянниц, не поджигал Рима с четырех сторон и еще не задушил свою маму атласной подушкой. Вот и у меня – тоже все впереди».
Верил ли он, что все красочное у него еще впереди, или просто духарился, не знаю, хотя малопьющий Розанов веру эту в нем поощрял:
«Много ли ты прожил, приятель? Совсем ничтожный срок, а ведь со времени Распятия прошло всего восемьдесят таких промежутков. Все было недавно. И оставь свои выспренности, все еще только начинается».
Так что временами – между второй рюмкой и, скажем, двадцатой – Веня надеялся, что и впрямь все только начинается. Но к полуночи, после двадцатой и далее, Веня усомнился, что ему удастся задушить свою маму атласной подушкой – ведь для этого надо было хоть раз при жизни мамы доехать до Петушков, а для этого надо было добраться до Курского вокзала, что давно уже было признано невыполнимой задачей.
Поближе к полночи сломленный сомнениями Веня рухнул на пол нашей малометражной кухни по дороге из туалета к столу, чудом не раскроив себе голову об угол дубового буфета. Черносотенец Розанов не выдержал вида золотых Вениных кудрей, разметавшихся по затоптанному множеством сионистских ботинок линолеуму – он вскрикнул по-петушиному и исчез бесследно. Даже стул его сам собой придвинулся к столу, будто там весь вечер никто не сидел.
Зато орел Боря не был ни потрясен, ни шокирован – как видно, он к подобным происшествиям привык. Он попросил разрешения оставить Веню на ночь у нас и деловито помог перенести с пола на диван длинное Венино тело, которое от этого перемещения слегка ожило и приобрело способность, нетвердо перебирая ногами, двигаться в сторону комнаты сына, где я постелила ему постель. Боря довел Веню до расстеленной кровати, помог ему стянуть ботинки и быстро ушел, опасаясь опоздать на метро.
Прошло минут двадцать, пока мы прощались с Борей и убирали посуду. По дороге в спальню я заглянула в комнату сына и обнаружила, что кровать пуста – Веня куда-то исчез. Слегка испуганная его исчезновением, я отправилась его искать. Ходить далеко не пришлось – он мирно спал в нашей супружеской постели.
Нам пришлось провести ночь на узкой кровати сына, так что мы проснулись довольно рано. Веня все еще спал. Потом пришел Боря и громко заспорил с Сашей о роли евреев в судьбе России, а я стала накрывать стол к завтраку. Далекие предки орла-Бори несомненно спустились в русские степи с каких-то снежных гор, то ли с Кавказа, то ли с Памира – только там носят такие огненные карие глаза под такими черными дугами бровей. Но Боря об этом не задумывался – он считал себя русским, и все пытался найти высший смысл в горькой доле своего народа.
«Евреи доказали свою избранность веками страданий, а мы за что страдаем? Может, и мы Ему небезразличны? Может, и нас Он избрал для какой-то высшей цели?»
Разбуженный шумом, в дверях кухни появился нечесаный, но все равно красивый Веня, и все сели к столу. Веня глянул с отвращением на желтые глазки яичницы, и тускло поинтересовался, найдется ли чем опохмелиться. Саша торопливо поставил на стол жалкие остатки вчерашнего гулянья: только в двух-трех бутылках что-то плескалось на самом донышке.
«Это все?» – разочарованно спросил Веня, безжалостно сливая все остатки в один стакан, и самоотверженно предложил Саше половину полученной в результате серо-буро-малиновой смеси, от которой Саша самоотверженно отказался.
«Как же ты без опохмелки?» – пожалел его Веня и залпом опорожнил стакан до дна.
«А мне не надо», – прозаически объяснил Саша свою самоотверженность.
«Счастливый ты человек, если тебе с утра опохмелиться не обязательно», – позавидовал Веня лицемерно, потому что созвездия всегда были благосклонны к нему после первой опохмелки. В крови у него уже опять закружились молекулы алкоголя, придавая мыслям его блеск, а голосу – бархатную музыкальность. Он с нежностью расправил смятые с вечера странички своего эссе, и его «вырвало целым шквалом черных и дураковатых фраз»:
«Мы живем скоротечно и глупо, они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже издыхаем. А они, мерзавцы, долголетни и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен. Кащей почему-то бессмертен».
Я так и не поняла, кто это они, но не успела спросить, потому что вчерашний стул Розанова начал медленно отодвигаться от стола, словно давая место гостю, но никто пока не появился. А Веня продолжал, увлеченный собственным красноречием:
«Всякая их идея – непреходяща, им должно расти, а нам – умаляться. Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа, он украл для них, мерзавцев… Они лишили меня вдоха и выдоха, я жду от них сказочных зверств и сказочного хамства. И когда начнется, я сразу без раздумий уйду… чтобы не видеть безумия сынов человеческих…»
Голос Розанова подхватил Венину речь на полуслове:
«Что же я скажу Богу о том, что он послал меня увидеть? Скажу ли, что мир, им сотворенный, прекрасен? Нет!»
Василий Розанов опять сидел с нами за столом. Только теперь я обратила внимание на его исключительное безобразие. Перехватив мой взгляд, он выкрикнул вызывающе:
«С выпученными глазами и облизывающийся – вот я! Некрасиво? Что делать».
Делать и впрямь было нечего – Вене общество Розанова было явно приятно, так что мне как хозяйке пришлось приветствовать его любезной улыбкой. Впрочем, он застольной беседы не нарушал – был дерзок и неглуп, хоть порой чрезмерно парадоксален. Но что ему, бедняге, при такой внешности еще оставалось? Пока Веня сосредоточился на вытряхивании последних капель из пустых бутылок, Розанов пустился в философию:
«Смысл не в Вечном, смысл – в Мгновениях. Мгновения-то и вечны, а Вечное – только «обстановка» для них».
Веня, не отвечая, тоскливо постукивал костяшками пальцев по дну опрокинутого пустого стакана. Было ясно, что созвездия опять лишили его своей благосклонности. Я воспользовалась перерывом в беседе и попыталась снова предложить Вене остывшую яичницу, но он снова оттолкнул тарелку, сказав, что на еду даже смотреть не может.
«Но вы же за сутки ни крошки не съели!» – в ужасе пробудилась дремлющая во мне еврейская мама.
«Я никогда не ем, если пью», – пояснил Веня, чем привел мою еврейскую маму в полное негодование.
«Вы же губите себя! – сорвавшись с цепи, завопила она. Я уже за нее не отвечала. – Такой красивый! Такой талантливый!»
«Вы поймите, – сказал Веня внятно, – я алкоголик. Мой дед был алкоголик, мой отец был алкоголик, и мой сын будет алкоголик. Это наш образ жизни».
Он сказал это без вызова, без гордости и без печали, а просто – констатируя факт. Почуяв инстинктивно, что еврейская мама во мне готова закудахтать как курица, нипочем несогласная с подобными фактами, Розанов решил внести ясность в понятие вины:
«Чтобы избавиться от упреков разных мозгоебателей, вроде принца Гамлета, королеве Гертруде, прежде чем идти под венец, надо было просто успеть доносить свои башмаки».
И все. Ходить надо было ей побольше по булыжникам датского королевства, – и все было бы в порядке. Сносила бы быстрей свои башмаки, и никакой трагедии бы не произошло. Принц женился бы на Офелии, со временем стал бы королем, они б народили новых принцев и принцесс, а бедняга Шекспир так и не стал бы великим драматургом. История искусства по Розанову – глазами эксцентрика.
Веню мы все же утешили: где-то за шкафом Саша обнаружил пластиковый мешок с большой бутылью неудобоваримого алжирского вина «Солнцедар», по прозвищу «чернила», – вероятно, кто-то из гостей накануне принес, но постеснялся выставить на стол среди нарядных сертификатных напитков. Даже стакан этого пойла действовал как смесь касторки с крысиным ядом, но Веню это не смутило – он быстро и радостно выпил всю бутылку и снова «вышел в путь, пока еще ничем не озаренный, кроме тусклых созвездий. Чередовались знаки Зодиака» и было очень светло, потому что Солнце и Луна освещали нашу кухню одновременно со звездами. В тот короткий светлый промежуток, пока в печальной Вениной крови струились блестки «Солнцедара», он готов был согласиться даже с оптимистическим утверждением Розанова, что мир есть ворожба. Тем более что Розанов пришелся ему по душе:
«Человек этот ни разу за всю жизнь не прикинулся добродетельным, между тем, как прикидывались все. А если бабы скажут, что выглядел он скверно, что нос его был мясист и дурно пахло изо рта, – так ведь он сказал, что откусил бы голову Бонапарту, если бы встретил его. Ну как может пахнуть изо рта у человека, кто хоть мысленно откусил башку у Бонапарта?»
После этой речи Боря увел Ерофеева в очередной дом, где его ожидала очередная интеллектуальная выпивка. На прощание мы были приглашены на Рождественский вечер по старому стилю в подмосковную деревню, где Веня и Боря снимали по дешевке деревянную развалюху. Там я видела Веню в последний раз.
Из этой поездки запомнилась мне не мощенная деревенская улица, вся в колдобинах замерзшей грязи, по которой мы шли от станции электрички к Вениному дому. День был исключительно морозный, как и полагается на Рождество, и при этом совершенно бесснежный, отчего мороз казался еще круче. Воздух был налит пронзительной предсмертной печалью ранних зимних сумерек, физически ощутимо заполняющих пространство. Отдельные огоньки, вспыхивавшие то тут, то там в подслеповатых окошках, только подчеркивали непробиваемую мощь наступающей темноты.
Веня открыл нам дверь, и мы с порога увидели коленопреклоненного Борю – он раздувал огонь в слабо дымящейся печке. Они оба только что вернулись из Москвы, где пробыли несколько дней, и было очевидно, что слабосильная печь не в силах обогреть насквозь промерзший за эти дни дом. Стараясь поплотней закутаться в быстро холодеющие пальто, мы вчетвером сели к столу, где Боря поставил тарелку с крупно нарезанным черным хлебом и глиняную миску квашеной капусты. Веня сидел тусклый, поникший, нам даже на миг показалось, что приезд наш ему ни к чему, просто – головная боль и ненужные разговоры.
Смущаясь почему-то, Саша вытащил из кармана поллитровку самого низшего сорта, – такую, какую удалось достать. Но Вене сорт водки был не важен, – при виде бутылки взгляд его вспыхнул знакомым мне звездным огнем:
«Почему же сразу не сказали, что есть водка?»
Он быстро пропустил первую, за ней, не останавливаясь, вторую и засверкал, засветился, заговорил красиво, бархатно, вдохновенно.
Любопытно, что я не могу вспомнить – о чем. То ли это дефект моей перегруженной памяти, то ли было это сплошное колыхание воздуха, очарование таланта и красоты.
Нечто похожее случилось со мной, когда спустя 15 лет я перечитала эссе о Василии Розанове. В том далеком семьдесят третьем все сказанное Венедиктом Ерофеевым о Василии Розанове казалось мне откровением. Как убивалась я тогда после обыска, думая, что эссе утеряно навеки!
Когда же я перечитала его по новой, я озадачилась – что в нем так поразило меня? Может, исключительный магнетизм личности Ерофеева, которая, как бриллиант, множеством граней отражая каждое мелкое движение его мысли, создавала иллюзию мощного светового пучка? Или необычная для меня тогда раскованность его стиля – ведь недаром он назвал себя эксцентриком? Теперь вся эта эксцентричная расхристанность стиля разобрана по кусочкам и усвоена многими. Она стала нормой и уже не поражает.
Крошечное Венино эссе гораздо больше рассказывает об его авторе, чем о Розанове, а ведь Розанов стоит рассказа, – он был человек, мягко говоря, неординарный. Кто его знает, может, это по его милости сотрудники КГБ конфисковали Венин опус, – он, небось, искренне огорчился, узнав, что журнал, в котором эссе будет опубликовано, называется «Евреи в СССР». Вы скажете, что к тому времени он уже полвека был обитателем загробного мира – ну и что? Сила духа у него была необычайная, а отношения с евреями – сродни его отношениям с женщинами: этакая взрывчатая смесь любви и ненависти.
«Действительно, есть какая-то ненависть между НИМ и еврейством. И когда думаешь об этом – становится страшно. И понимаешь ноуменальное, а не феноменальное «Распни его!».
Вот она, избранность по Розанову, – глазами эксцентрика: оказывается между нами и ИМ не завет, а ненависть.
Но я не о евреях хотела, а о любви. Тоже – глазами эксцентрика.
Эксцентрик-Розанов посвятил любви много строк и сил: ведь он был не алкоголик, а сластолюбец. Наверно тем и восхитил он Веню – полной несхожестью, полярно противоположным зарядом.
«Ах, не холодеет, не холодеет еще Мир! Горячность – сущность его, любовь – сущность его… И перси… и тайны лона его. И маленький Розанов, где-то закутавшийся в его персях. И вечно сосущий из них молоко».
Ну как было не восхититься тут Вене, который с детских лет молока в рот не брал и всегда был готов пожертвовать любовью ради хорошей выпивки? Он и восхищался:
«Почему бы не позволить экскурсы в сексуальную патологию тому, в чьем сердце неизменной оставалась Пречистая Дева? Ни малейшего ущерба ни для Розанова, ни для Пречистой Девы», – писал Веня, обнаруживая при этом глубокую невинность алкоголика в вопросах сластолюбия.
Что он знал о розановских экскурсах в сексуальную патологию? И об ущербе для Пречистой Девы? Пречистую Деву Розанова звали Полина – Апполинария Суслова. Когда они познакомились, ей было 40 лет, а ему 24. Он полюбил ее безумной любовью сластолюбца за то, что за 17 лет до него ее безумно любил другой, воистину великий, сластолюбец – Федор Достоевский. Достоевского она терзала с каким-то исступленным сладострастием, испытывая свою власть над ним. Сбросив с себя одежду, она у него на глазах ложилась в постель, и, обнаженная, посвящала его в подробности своей любви к другому, а затем протягивала ему ногу для поцелуя и тут же выгоняла из комнаты. Это было тем более жестоко, что женская нога всегда составляла для Достоевского предмет жгучего эротического возбуждения.
Любовь Достоевского к Полине так прочно сплеталась с ненавистью, что могла бы служить классическим образцом садо-мазохистской привязанности. Как было Розанову, сластолюбцу и мазохисту, не броситься, очертя голову, в водоворот любви к такой женщине? Он любил в ней возлюбленную Достоевского, он хотел через нее дотянуться до интимных тайн своего кумира. И она была готова подарить ему страдание, которого он так жаждал. Она терзала его без всякой пользы, медленно, систематически, продуманно, – просто для удовольствия. И Розанов наслаждался своим страданием.
«И далеким знанием знает Глазница мира обо мне и бережет меня. И дает мне молоко и в нем мудрости огонь».
Вот этой-то мудростью, почерпнутой из молока, прельстил Розанов Веню. Тот почуял за неровными, несобранными строками розановских сочинений другую, ничем не похожую на свою, жизненную стихию. Венина тусклая в трезвости душа, все чаще страдающая от краткости алкогольных просветлений, потянулась к полной жизненных сил эротической ауре сластолюбца:
«Этот гнусный ядовитый фанатик, этот токсичный старикашка…баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, – нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, но спас мне честь и дыхание… Все тридцать шесть его сочинений вонзились мне в душу, и теперь торчали в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна».
Борис Пастернак и Ирочка Емельянова
Теперь это кажется странным, но был в моей жизни такой период, когда я была очень увлечена собственными стихами. С тех пор мне довелось встретить не сотни, а тысячи подобных безумцев – молодых и старых, мужчин и женщин, увлеченных собственными стихами до полной потери чувства пропорции. Я их сразу узнаю по голодному блеску в глазах, но уже давно не принадлежу к их числу. Впрочем, я порой с умилением вспоминаю то навсегда ушедшее время, когда казалось, – только бы найти заветный ключик, и распахнется волшебная дверь. Что будет за этой дверью, представлялось смутно, но, несомненно, нечто прекрасное и неземное. Нечто, вроде хора восторженных поклонников, скандирующих мои стихи, повторяя при этом, как припев: «Вот она, истина! Мы так долго ее ждали!»
Сомнений в том, что мои стихи несут людям истину, необходимую им как воздух, у меня не было, – значит, оставалось лишь найти нужную дверь, в которую постучаться. Или, по крайней мере, ухо, готовое выслушать. Я тогда еще не знала, что человек человеку – поэт, и потому именно среди поэтов наивно искала единомышленника, готового принять меня и понять. С этой целью мы с Сашей отправились однажды на переделкинскую дачу Бориса Пастернака в надежде, что он согласится меня выслушать.
Пастернака мы выбрали потому, что совсем недавно открыли его для себя. Вернее не сами открыли, а один из наших бывших университетских профессоров, большой ценитель поэзии, открыл нам глаза на поэзию Пастернака, которого тогда по сути никто не знал. Да и откуда было бы знать – много лет подряд имя его нигде не упоминалось, книг его не издавали, их нельзя было увидеть на прилавках скудных книжных магазинов, разве что отдельные экземпляры изданий двадцатых годов сиротливо пылились на дальних полках некоторых библиотек.
И вдруг в один из приездов в город нашей юности, Харьков, этот профессор, описанный мною подробно в главе о Дэзике Самойлове под кодовым именем Мусик, объявил за чаем, что он хочет что-то почитать вслух. Он открыл затрепанный томик в сером коленкоровом переплете и начал:
«Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться, Дни проходят и годы, и тысячи, тысячи лет, В белой рьяности волн, прячась в белую пряность акаций, Может ты-то их, море, и сводишь, и сводишь на нет».При звуке этих стихов, я, кажется, на какой-то миг потеряла сознание, – возможно, меня охватило чувство, похожее на то, что охватило Жанну Д’Арк, когда она услышала обращенный к ней божественный голос. Мне померещилось, что я всю жизнь жила в ожидании этих строк, и вот, наконец, дождалась.
С тех пор прошло почти полвека, но и сегодня многие строфы Пастернака все еще стискивают мне сердце. И неважно, что я уже способна проанализировать их структуру и даже попытаться сформулировать секрет их обаяния. Это ничего не меняет – обаяние остается все тем же. Только теперь я знаю, что поэт – это истинная вещь в себе, он должен нести себя бережно-бережно, боясь расплескать. А тогда мне верилось, что и он где-то ждет меня с моими восторгами, чтобы ответить мне взаимностью.
И вот, проникнув через Корнея Чуковского в замкнутый мирок писательского поселка Переделкино, мы с Сашей отыскали там дачу Пастернака и отправились к нему за взаимностью. Я думаю, что меня изрядно вдохновил любезный прием, оказанный мне самим Корнеем Ивановичем. День был воскресный, и поскольку мы планировали провести его за городом, Саша нес на спине рюкзак с куртками, книжками и бутербродами. Из-за этого рюкзака все и произошло.
Мы позвонили у ворот, надежно вправленных в забор, охватывающий просторный лесной участок, в глубине которого просвечивал сквозь деревья большой двухэтажный дом с террасами и балконами. Мы ни с кем, ни о чем не договаривались – в нашем скромном обществе почти ни у кого не было телефонов, и потому нам была еще чужда сама идея предварительной договоренности. Впрочем, ведь не только нам – это на Западе меня приучили к тому, что нельзя ввалиться в чужой дом без предупреждения, а в моей московской жизни меня до самого отъезда изводили толпы гостей, попросту звонивших у дверей в любое время дня с требованием любви, внимания, чаю, выпивки и закуски.
Но хоть мы пришли без предварительной договоренности, Борис Леонидович сам вышел к нам и с любезной улыбкой собственноручно отворил ворота.
«Наконец-то пришли, – сказал он приветливо. – Заходите, я давно вас жду».
И отступил в сторону, давая нам дорогу. Нам бы следовало удивиться, но мы почему-то приняли его любезность, как должное. К этому располагало все – и поспешность, с которой поэт вышел нам навстречу, и исходящее от него серебристо-голубое свечение на фоне голубого весеннего неба. На нем была голубая куртка, и седые волосы бросали такой голубоватый отблик на его лицо, что и глаза его показались мне голубыми.
С тех пор я много раз видела фотографии Пастернака и выучила наизусть фразу, что он похож одновременно на араба и на его коня, но ничто не смогло меня переубедить – мне удалось ухватить момент, когда глаза у него были голубые. И пускай никто больше этого не видел – тем хуже для них! Я видела и я знаю правду.
Голубой призрак вел нас к дому по выложенной камнем дорожке. Откуда-то из-за деревьев вывернулись две огромных немецких овчарки, молча вцепились мертвой хваткой в Сашины брюки, – каждая с одной стороны, – и повисли на нем, чуть отталкиваясь на ходу задними ногами. Я испуганно вскрикнула, на что шедший впереди Пастернак, не поворачивая головы, сказал небрежно:
«Что, собаки пристают? – Он, разумеется, отлично знал их повадки. – Не обращайте на них внимания, они безобидные».
Глядя на двух могучих зверей, волочащихся за Сашей по камням дорожки, я бы ни за что не назвала их безобидными. Но делать было нечего, нужно было терпеть – нам была оказана такая честь! Сам Борис Пастернак без всякой нашей просьбы вел нас к своему дому.
Дружной компанией – три человека и две собаки – мы взошли на террасу и послушно сели: мы в предложенные нам плетеные кресла, собаки, разомкнув челюсти, но не спуская с Саши глаз, на полу у его ног. В горле у них клокотала с трудом сдерживаемая ярость, которая вырвалась наружу обильным потоком слюны, блестящей лужей расползающейся по каменному полу террасы.
«Ну, – нетерпеливо воскликнул поэт, пожирая глазами Сашин рюкзак, – скорей показывайте, что вы принесли!»
Саша снял рюкзак и начал озадаченно распускать завязки, не слишком уверенный, что он знает, о чем идет речь.
«Ну, скорей же, скорей! – подбадривал его Борис Леонидович. – Я с утра вас жду!»
Не зная точно, что именно он ищет, Саша, наконец, разобрался с завязками и вынул из глубины рюкзака пакет с бутербродами, а затем, после короткого раздумья, тетрадку моих стихов.
«Вот, – начал он нетвердым голосом, – Нелины стихи…»
«Стихи? – голубые брови классика взлетели вверх. – При чем тут стихи? А где же магнитофон?»
Тут уж пришла очередь удивляться нам:
«Какой магнитофон?» – осторожно поинтересовался Саша, и зачем-то вытащил из рюкзака наши куртки, наверно, чтобы показать, что никакого магнитофона там нет.
«Так вы не принесли мне магнитофон? – разочарованно протянул Пастернак. – Зачем же вы пришли?»
Чуткие собаки немедленно просекли перемену в настроении хозяина – они дружно поднялись с пола и позволили клокочущему внутри рычанию вырваться наружу, хоть и не в полную силу, но достаточно угрожающе. Саша подавлено молчал, чувствуя свою вину за не доставленный во время магнитофон, так что пришло время выступить мне. Я вдохнула воздух поглубже:
«Борис Леонидович», – произнесла я, вся трепеща, как от восторга перед ним, так и от ужаса при мысли, что он сейчас крикнет «Вон отсюда, самозванцы!»
При звуке моего срывающегося от волнения голоса классик изволил, наконец, заметить и меня – до сих пор он обращался только к Саше, завороженный, видимо, его рюкзаком, в котором предполагался долгожданный магнитофон. Он повернул в мою сторону пронзительно-голубой взгляд, – ну, чего там еще?
В горле у меня немедленно пересохло, но все же мне удалось кое-как привести в действие непослушные голосовые связки:
«Мы… я… так вас любим… я преклоняюсь… я знаю наизусть почти все ваши стихи…»
И окончательно потерявшись, выпалила: «Хотите, почитаю?»
Он склонил к плечу голову, осененную голубым ореолом коротко стриженых волос:
«Мои стихи – мне? Зачем?»
Я, собственно, тоже не знала, зачем. Я громко проглотила комок застрявшей в горле слюны и отчаянным голосом предложила:
«А можно, я почитаю вам свои стихи?»
От этого предложения классик пришел в настоящий ужас:
«Нет, нет! Я никогда не слушаю чужие стихи! И не читаю! Это мешало бы мне писать!»
Саша уже пришел в себя – он собрал наши разбросанные по столу вещи и сунул их обратно в рюкзак.
«Так мы пойдем, – сказал он, поднимаясь, собаки угрожающе двинулись на него. – Простите за магнитофон».
«Погодите! Посидите еще минуточку, – замахал руками Пастернак. – Все равно этих, с магнитофоном, пока нет. И придется их ждать. А я очень не люблю ждать в одиночестве».
Саша послушно опустился в кресло и классик заговорил – было не совсем ясно, к кому он обращается, к нам или в пространство.
«Магнитофон мне необходим, потому что я сейчас пишу автобиографию, а не стихи. И когда я обдумываю свою жизнь, в голову приходят разные мысли, которые не так-то просто сформулировать сходу. О моих взглядах и воззрениях – как они формировались и менялись… Если бы я их и записывал на магнитофон, а потом прослушивал, многое стало бы ясней. А эти, с магнитофоном, все не идут и не идут».
Тут он окончательно затосковал, и мы поняли, что пора убираться прочь. Мы опять прошли по дорожке тем же порядком – Пастернак впереди, за ним – я, за мной – Саша, за Сашей – висящие на его брюках безобидные собачки, каждая размером с корову.
Ворота за нами закрылись, и больше я его никогда не видела – я хочу сказать, не видела живым. Потому что в следующий раз я увидела его в гробу. Ничего голубого в нем уже не было, глаза были закрыты, ореол погас. Собаки куда-то исчезли, и вокруг ворот клокотал огромный поток тех, кто пришел проводить его в последний путь.
Боюсь, что сегодня уже немногие помнят, что в газетах того времени не писали о болезни опального автора «Доктора Живаго», лауреата враждебной тогдашним властям Нобелевской премии, Бориса Пастернака. Как не сообщали о его смерти и о дате похорон. Я узнала сперва о его болезни, а через несколько дней и о смерти от своей сокурсницы Ирочки Емельяновой, дочери Ольги Ивинской, многолетней возлюбленной поэта, которой он посвятил знаменитые строки:
«Как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, Тебя вели нарезом по сердцу моему».Я четыре года училась с Ирочкой в одной группе переводческого отделения Литинститута, куда поступила вскоре после своего неудачного визита к Пастернаку. Наша с Ирочкой группа изучала таджикский язык «фарси». Жизненные задачи у нас с Ирочкой были совершенно разные – я и впрямь планировала переводить таджикскую поэзию, так как поняла, что на языке фарси писали все великие восточные поэты средних веков. А Ирочка вообще ничего переводить не собиралась. Она поступила в Литинститут по знакомству и не скрывала, что и в будущем собирается использовать это знакомство для дальнейшего продвижения в жизни
Это различие не мешало мне быть ею очарованной, как говорится, «по уши». Хоть я была уже почти солидной дамой, – мне было двадцать четыре года, у меня были муж и сын, и я завершала работу над переводом «Баллады Редингской тюрьмы», я отчаянно робела перед этой восемнадцатилетней небожительницей, с детства запросто вхожей в мир литературных светил. Меня восхищало в ней все – нежная бело-розовая кожа, оттененная пышной золотой гривкой, угловатая кукольная грация девочки на шаре, а главное – остро-ироническая манера говорить непочтительно обо всем на свете.
О своей матери она говорила самые ужасные вещи – и я, провинциалка, не привыкшая, чтобы маму называли мать, не знала, чему верить, чему нет.
«У моей матери до классика было 311 мужчин (именно 311 – ни больше и ни меньше!), а с тех пор, как она с ним – ни одного больше».
Ну как, верить или нет? И чему именно – тому, что их было 311 или тому, что с тех пор ни одного больше?
«Все удивляются, откуда у меня такие глаза. (Глаза и впрямь всем на удивление – раскосые, длинные до ушей и небесно-голубые.) Мать говорит, что как-то ночью она ехала в одном купе с татарином, ну, и сами понимаете… Так она думает, – может, я от этого татарина. А она даже имени его не спросила».
А теперь как, верить или нет? И чему именно – тому, что ехала мать как-то ночью в одном купе с татарином, имени которого так и не узнала, ну, и сами понимаете?.. Или тому, что мать сомневается, не от него ли ее единственная дочь?
Пастернака Ирочка называла «классик» и никак иначе.
«Вчера мы с классиком ходили в Большой театр – скука была страшная, зато в антракте все на нас смотрели, старались угадать, кто я ему – дочь или подружка».
Мне Ирочка, несмотря на все мое восхищение, подружкой никогда не была – слишком велика была социальная разница между нами. Иногда она водила к классику кого-нибудь из сокурсников – однажды красавчика Тимура Зульфикарова, в другой раз – безмерно преданную ей поэтессу Аллу Тарасову, а меня никогда. Да и чем во мне могла бы она удивить такого человека, как Борис Пастернак? Куда мне было до Тимурчика с его изысканной красой и хулиганскими сравнениями, типа: «Небо красно, как зад обезьяний…»
Назавтра после визита Тимура к Пастернаку прозвучал примерно такой диалог:
«Ты классику очень понравился, Тимурчик. Он сказал, что ты похож на принца из восточной сказки».
«А что про стихи?»
«А про стихи ничего. Ты же знаешь, он чужими стихами не интересуется».
Иногда она приносила в институт на продажу изящные вещички, приплывавшие к ее матери из-за рубежа, но мне она их даже не показывала. На мой обиженный вопрос «почему?», она ответила как-то в свойственной ей насмешливой манере, из которой нельзя было понять, шутит ли она или говорит всерьез: «А зачем тебе показывать? Ты же все равно ничего не купишь, ты бедная».
Я была не только бедная, я принадлежала к другому классу, к классу выскочек – мое будущее тонуло в тумане неизвестности, и чтобы туман этот рассеять, я должна была безо всяких гарантий неустанно рыть носом землю. А Ирочкино будущее было начертано на стене золотыми буквами – институт, аспирантура, уютное место редактора в хорошем издательстве, – и для достижения его ей не надо было делать никаких усилий. Кто мог тогда предвидеть, что злодейка-судьба распорядится иначе?
Накануне смерти классика Ирочкина судьба складывалась даже лучше, чем это было запланировано золотыми буквами на стене – у нее появился жених-француз, молодой аспирант, изучавший творчество Пастернака, Жорж Нива. Очень симпатичный интеллигентный молодой профессор – мне после приходилось не раз встречать его на эмигрантских российских тусовках, организованных Максимовым, когда в Милане, когда в Париже. А тогда он был хорошенький французский юноша, очень влюбленный и в классика, и в Ирочку, – и то, и другое было мне вполне понятно. Свадьба была назначена на конец лета, так как Жоржу нужно было преодолеть какие-то формальные препятствия, связанные с тем, что у него кончалась виза.
И вдруг уютный Ирочкин мир рухнул, как будто никогда и не существовал, – Пастернак неожиданно серьезно заболел и почти скоропостижно скончался. Всю неделю его болезни Ирочка приходила на занятия заплаканная, и, наконец, сообщила нам о его смерти, добавив, что похороны состоятся завтра в Переделкино в пять вечера. Мне это сообщение почему-то показалось страшно интимным, неким нашим с Ирочкой секретом – ведь почти никто, кроме меня и еще пары соучеников, не был с нею знаком, а значит, никто не мог знать ни о смерти классика, ни о завтрашних похоронах.
Потрясенная внезапной смертью своего поэтического избранника, я решила поехать на похороны, немного смущаясь тем, что никто меня туда не приглашал. Я представляла себе, как я одна-одинешенька пойду позади скромной похоронной процессии родственников и друзей, но втайне все же надеялась, что мне позволят идти рядом с Ирочкой или даже взять ее под руку.
Никого я в это решение, естественно, не посвящала – афишировать такую поездку было ни к чему, ведь совсем недавно отшумела гневная буря, вызванная присуждением Пастернаку Нобелевской премии. В институте я отпросилась с лекции под предлогом заранее назначенной сессии с Левиком – наш дружный труд по кастрации моего перевода «Баллады» был в самом разгаре. Левику же я позвонила, и, не застав его дома, попросила его жену, Татьяну Васильевну, передать ему, что сегодня я никак не смогу приехать. Потом я купила у привокзальной торговки букетик нарциссов и поехала в Переделкино.
Хоть пригородная электричка была переполнена, как в воскресный день, я не заподозрила в этом ничего странного. Но когда я вышла на переделкинскую платформу, я обнаружила, что и все остальные пассажиры, не только моего вагона, но и других, тоже покинули поезд и двинулись в том же направлении, что и я. Шли группами и поодиночке, многие, как и я, держали в руках цветы. Через несколько минут у меня уже не осталось никаких сомнений, куда плывет этот людской поток, плотностью похожий на первомайскую демонстрацию, только без музыки и лозунгов. В ушах неотступно звучали строки:
«Мне снилось, что ко мне на проводы Шли по лесу вы друг за дружкой. Был ощутим почти физически Спокойный голос чей-то рядом, То прежний голос мой провидческий Звучал, не тронутый распадом…»Возле дачи Пастернака к воротам было не протолкнуться, и над головами собравшихся высоко в небе звучал провидческий голос. Я с удивлением начала находить в толпе своих знакомых – где-то возле самого порога бросилась в глаза высокая фигура Корнея Чуковского, подальше, уже за забором мелькнул и исчез Виля Левик, милостиво освобожденный мною от своих рабочих обязательств, на обочине дороги кучковались какие-то завсегдатаи даниэлевских посиделок.
А народ все прибывал и прибывал. Значит, эти люди, совсем, как я, любили и оплакивали Пастернака, – отвергнутого, опороченного, оплеванного всеми допустимыми в печати бранными словами? И мне вспомнился рассказ Юлика Даниэля, после того, как он вернулся с заседания Союза писателей, посвященного изгнанию лауреата-предателя из дружной писательской семьи. Юлик членом союза не был, его тайком протащил на заседание Андрей Синявский, так что он просидел все это балаганное действо, затаясь в задних рядах и пряча лицо, чтобы не опознали и не выгнали. А мы в это время в волнении ожидали у Ларки его возвращения, – Юлика так долго не было, что у нас даже возникли опасения, как бы его не отправили в милицию за незаконное проникновение на строжайше закрытое собрание. А ведь могли вдобавок еще и побить!
Однако он вернулся далеко за полночь – живой, здоровый, но зато в крайнем возбуждении. Я не стану называть известные имена тех уважаемых поэтов и прозаиков, которые потрясли Юлика своими гневными отповедями предателю Пастернаку, – Бог с ними, пусть спят спокойно, – кто в могиле, кто в доме для престарелых. Я надеюсь, что им самим стыд за эти речи хорошо выжег сердца и души, приблизив тем самым кому могилу, кому дом для престарелых. Я хочу упомянуть только одного – Владимира Солоухина. Его речь поразила Юлика обилием и пространностью цитат из проклинаемого классика – поэзия Пастернака так возмутила партийную душу Солоухина, что он выучил ее наизусть!
Как, наверно, знала стихи Пастернака наизусть и вся эта толпа, пришедшая на проводы – без какого бы то ни было понуждения, без объявления в газетах, все вместе и каждый тайно от других!
Гроб, наконец, вынесли из ворот, и вдруг я увидела Юлика! Он был одним из четверых, выносящих гроб с телом поэта, вторым был Синявский. На миг я чуть не задохнулась от обиды – сам поехал, а мне ничего не сказал! Но тут же вспомнила, что я ему тоже ничего не сказала, и получалось, что мы квиты.
Нескончаемой нестройной колонной похоронная процессия двинулась к кладбищу. Где-то далеко-далеко, почти в хвосте колонны, ничем не выделяясь, шла заплаканная Ирочка, которую поддерживали под руки две ее институтские подружки, Алла Тарасова и Даля Эпштейн. Преодолевая сопротивление плотных рядов, я протиснулась сквозь толпу и пошла рядом с ними. Некоторое время мы мерно шагали в такт общему шагу, как вдруг совсем рядом началась какая-то суматоха: пожилая женщина, выделявшаяся среди горожан по-крестьянски повязанным на голове платком, пыталась прорваться к Ирочке. Я узнала домработницу Ивинской – тетю Полю.
«Ира! – зашипела она громко, не в состоянии подобраться поближе. – Беги скорей, там Олю отталкивают от гроба!»
Похоже, Ирочка сразу смекнула, в чем дело: ни слова не говоря, она оттолкнула подруг, выскочила из шеренги и побежала по краю шествия в сторону несущих гроб. После короткого замешательства подруги побежали за ней, я – за ними. Пока я бежала – а это было непросто, так как процессия занимала всю ширину дороги, и приходилось скакать через кочки и канавы, – от головы колонны до меня доносились какие-то звуковые всплески. Но когда я добралась до плотной кучки приближенных, тесно окружавших гроб, все уже было тихо. Ирочка шла в одном из первых – но не в первом – ряду, держа под руку плотную красивую даму, лица которой я почему-то не запомнила. Скорей всего потому, что, как Ирочка сама всегда описывала свою мать «красота у нее была самая что ни на есть стандартная, хрестоматийная красота».
После смерти Пастернака власти отказали Жоржу Нива в продлении визы и заставили его под угрозой ареста покинуть пределы СССР, лишив таким образом Ирочку возможности выйти за него замуж. Не помогло даже личное обращение премьер-министра Франции генерала де Голля к Никите Хрущеву – визу Жоржу так и не возобновили.
Но не подумайте, что советская власть вела себя, как капризная девчонка, желающая отомстить памяти обидевшего ее поэта. Ничего подобного! Мудрая немолодая сквалыга Софья Власьевна точно рассчитала, что, законно выехав за рубеж, Ирочка сумеет получить огромные деньги, накопившиеся на счету опального лауреата. А поскольку старушка Софья до самых глубин своего коммунистического сердца восприняла идею, что в мире нет ничего важнее денег, особенно денег в твердой валюте, она решила сделать все возможное, чтобы наложить лапу на эти деньги.
А возможности у нее были немалые! Не прошло и пары месяцев после смерти Пастернака, как некто власть имущий спустил сверху приказ арестовать не только Ольгу Ивинскую, но и Ирочку. Не за особые отношения с покойным классиком, конечно, – фи, как только вы могли такое подумать? Никто ничего толком не знал, но напористо поползли слухи, будто за какую-то темную валютную операцию, включающую в себя тайно привезенный из-за границы чемодан, полный валюты, по сегодняшнему «нала», то ли в долларах, то ли во франках. Я так и не узнала, в чем там было дело, но образ тайно привезенного из-за границы чемодана, полного валюты то ли в долларах, то ли во франках, постоянно наводит меня на мысль о провокации.
Как бы то ни было, суд над Ирочкой и ее матерью свершился быстро и при закрытых дверях. Ивинскую приговорили к пяти годам лагерей, Ирочку к двум, и на том закончилась история золотой девочки с заранее заготовленной счастливой судьбой.
Из тюрьмы Ирочка вышла уже совсем другим человеком – жизнь хорошо ее обтесала, и даже ее обостренно-лукавое чувство юмора смягчилось. Она покинула планетарий, в котором провела первую часть свой жизни в надежде, что так будет всегда. И вышла замуж «с понижением», – не за восходящее французское светило, а за молодого синеглазого поэта Вадима Козового, с которым она познакомилась в лагере. Вадим, как и многие в литературном мире, вынырнул на просторы российской словесности из харьковского рассадника поэтических дарований, но среди них был отнюдь не первым – а ведь Ирочке по негласному договору с высшими силами поначалу был запланирован кто-то из первых.
Я уже давно привыкла к загадочным петлям судьбы, на разных своих витках выносящим мне навстречу одних и тех же людей из далекого прошлого. С Вадимом Козовым я в Харькове знакома не была, но его отец вместе с моим папой преподавал в харьковских вузах марксистско-ленинскую политэкономию, а нянька моего сына Володи, Надька Кибалкина, до того работала домработницей у Козовых. Папу Козового она страсть как не любила за его постоянное вмешательство в кухонные дела, и потому стоило моему папе высунуть нос на кухню, как Надька громко кричала: «Только не становитесь, как Козовой, а то фартук сброшу и уйду от вас в другое место!» Так и присохла фамилия Козовой в моей памяти к привередливой Надьке Кибалкиной.
Несколько лет назад я встретилась с Ирочкой в Париже, куда она уехала со своим Козовым и где ведет довольно скромное существование, зарабатывая на жизнь преподаванием русского языка в каком-то колледже. Мужа она нам не показала: мы просидели несколько часов не у нее дома, а в кафе – как это принято у них! – вспоминая дни нашей молодости. Я не могу сказать – с умилением, потому что ни в моей, ни в ее натуре нет ни малейшей склонности к умилению. За время этого разговора она некоторых из наших соучеников – увы, довольно многих! – со странным торжеством припечатала приговором «умер!», будто осуждала их за такой неразумный поступок. С тех пор Вадим Козовой тоже, к сожалению, умер, но я Ирочку в новом качестве – вдовы – не видела. Ей как-то очень это не подходит.
А тогда, на прощанье – дело было в конце декабря, и на улице стоял несвойственный Парижу суровый, почти московский, мороз, – она пригласила нас с Сашей на Рождественскую мессу, которая должна была вот-вот начаться в соседней церкви Мадлен, красиво расположенной в устье Латинского квартала. Идти было недалеко, всего лишь пересечь бульвар Лопиталь и пройти по узкой улочке к площади перед церковью. Но даже на этом коротком отрезке ледяной ветер прохватил нас до костей, так что мы были рады спрятаться под прикрытие церковных стен.
Внутри тоже было холодно, но все же там не было ветра, и тепло сотен горящих свечей чуть согревало воздух. Да и народу было много – старых и молодых, равно зябко кутавшихся в элегантные парижские пальто, слишком легкие для этой низкой температуры, – от их объединенного дыхания стужа становилась не такой лютой. Едва мы нашли три свободных места возле одной из огромных колонн, как началась рождественская служба, очень красивая, в сопровождении хорового пения и органа.
В какой-то момент все дружно пропели «Амен!», и мы поняли, что месса окончена. И тут произошло нечто неожиданное – трое совсем молодых людей, два юноши и девушка, сидевшие все это время перед нами на такой же скамье на троих, как наша, дружно вскочили и начали бурно нас обнимать и целовать, приговаривая что-то по-французски. Ирочка восприняла этот взрыв братской любви, как должное, – ей он не был внове, – а мы, заезжие евреи, сначала попробовали испуганно отбиваться, а потом сообразили и наградили своих любвеобильных соседей ответными поцелуями.
Когда церемония целования посторонних завершилась, я потянулась поцеловать Ирочку, – все же она была мне ближе и дороже. Я коснулась губами ее щеки – она была мокрая и соленая от слез.
Айги и Асаркан
Где-то в начале шестидесятых, года через два после выхода в свет сиреневого двухтомника Уайльда с моим переводом «Баллады Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда мы были приглашены на день рождения чувашского поэта Генки Лисина, впоследствии превратившегося в знаменитого Геннадия Айги. Тогда он еще знаменитым не был и снимал комнату в покосившейся хибаре в какой-то подмосковной деревушке.
Поехали мы туда вместе с переводчиком с немецкого Костей Богатыревым, через десять лет зверски забитым кагэбэшниками в собственном подъезде за дружбу с А. Д.Сахаровым. Но тогда никто этого не мог предвидеть, так же как и превращения Генки в знаменитость, а Генкиной деревушки в очередную новостройку Большой Москвы.
Мы въехали в эту не ведающую своего будущего деревушку на стареньком «москвиче», купленном пополам с одним приятелем на деньги, заработанные мной за перевод «Баллады». Дело было осенью, и в воздухе висел отвратительный моросящий дождик, распыляющийся над самой землей холодной липкой слякотью. Пока мы топтались на так называемой главной улице, пытаясь определить, как пройти к Генкиному дому, Саша решил припарковать машину, – он лихо свернул за угол и исчез. Минут десять мы его ждали, а потом жена Богатырева взроптала, что ей холодно и мокро, и мы, увязая по щиколотку в грязи, отправились искать Генкину хибару.
Когда мы туда ввалились, именинный пир был в самом разгаре – то есть и хозяин, и гости пребывали уже в изрядном подпитии. Народу была уйма, места было мало, никто никого не представлял – всем было хорошо и так.
Генка, невзирая на свой крошечный рост, возвышался над всеми, утверждая, что Пастернак не гений всех времен и народов. Ему восторженно внимали, но не все, а только те, кто еще не упился до беспамятства.
Примерно через час явился насквозь промокший Саша и пожаловавшись, что наш «москвич» утонул в грязи, попросил, чтобы кто-нибудь из присутствующих помог ему вытолкнуть машину на сухое место.
Поэты переглянулись с критиками, критики с поэтами, и все единодушно решили, что ни к чему барахтаться в грязи из-за какого-то неизвестного неудачника, утопившего в грязи собственную машину.
Саша печально протиснулся к столу и налил себе водки. Я спросила испуганно:
«Господи, Воронель, как же мы вернемся домой?»
Сидящий на полу пожилой человек с залысинами – лет ему было чуть более сорока, тогда мне такие казались пожилыми, – с интересом поднял голову:
«Как вы сказали – Воронель?»
«Ну да, – отозвался вежливый Саша, – Александр Воронель».
Человек с залысинами встал и уставился на меня:
«Так вы – Нина Воронель? Это вы перевели «Балладу Редингской тюрьмы»?»
Я испуганно кивнула, ежась от его пронзительного взгляда и не подозревая, к чему приведет этот вопрос.
«Ребята! – зычно объявил мой новый знакомый. – Пошли вытаскивать эту чертову машину. Это машина Нины Воронель!»
Похоже, человек с залысинами был здесь властителем дум, потому что по его команде поэты и критики безропотно поднялись, как солдаты по трубе, гурьбой высыпали под дождь, и побрели по грязи, на ходу поясняя друг другу:
«Это машина Нины Воронель. Она перевела «Балладу Редингской тюрьмы»!»
Когда мы добрались до злополучного маленького «москвичонка», печально открывающего для обозрения лишь верхнюю часть своего малогабаритного корпуса, обнаружилось, что он в своей беде не одинок. Почти впритирку к его скромному серенькому бочку вздымались крейсерские очертания роскошного малинового «роллс-ройса» с дипломатическими номерами, вокруг которого бестолково хлопотали две густо-размалеванные девки, профессия которых не вызывала сомнений.
Сквозь ветровое стекло потерпевшего бедствие «роллс-ройса» на нашу веселую толпу в ужасе уставились два огромных черных глаза, симметрично расположенных над изысканно подстриженной полоской щеголеватых черных усиков. Лицо вокруг глаз и усов было очень молодое, очень смуглое и очень нездешнее, похожее скорей не на лицо, а на какой-то неведомый экзотический цветок.
Девки, не щадя ботинок и чулок, навалились на гордый зад «роллс-ройса» с криком: «Жми на газ, Юсуфчик!» «Роллс-ройс» взвыл и еще глубже погрузился в грязь. Черные глаза, сверкнув белками, горестно закатились под сень неправдоподобно длинных ресниц.
«Ты только не волнуйся, Юсуфчик!» – дружно завопили девки и снова попробовали сдвинуть машину, что, очевидно, было им не под силу. Но бедный Юсуфчик их не послушался, с каждым безрезультатным толчком он волновался все сильней и сильней, пока наконец совсем не отчаялся – он опустил стекло и, ломая длинные смуглые пальцы, запричитал на вполне сносном русском языке:
«Теперь меня вышлют, обязательно вышлют!» – и заплакал.
«Нет, нет, Юсуфчик, мы тебя вытащим, ты только не волнуйся!» – лицемерно взвыли девки в тон мотору тонущего в грязи «роллс-ройса».
Мы так и не узнали, чем кончилась эта маленькая драма – за то время, что она достигла кульминации, поэтам вкупе с Сашей удалось выудить из топи наш легковесный «москвичик» и мы уехали к Генке допивать недопитую водку. У нас не было чувства, что мы покинули друга в беде – рыдающий Юсуфчик в малиновом «роллс-ройсе» представлялся нам скорее инопланетянином, чем существом одной с нами породы.
Когда вся водка была выпита, лысоватый лидер поэтов, который оказался знаменитым московским гуру Александром Асарканом, попросил подвезти его домой. Мы втиснули его на заднее сиденье, в просвет, оставленный четой Богатыревых, и по пути попытались выяснить, чем же он так знаменит. Ходили слухи, что даже признанная красавица Ира Уварова, вышедшая впоследствии замуж за Юлия Даниэля, была безумно влюблена в него без всякой надежды на взаимность, а всякий, кто хоть раз видел Иру Уварову в те годы, не мог не поразиться нелепости описанного мною романтического тупика.
Хоть путь был долгий, ничего мы не выяснили. Должна признаться, что и по сей день мне не удалось понять, почему Асаркан обладал такой магической властью. Зиновий Зиник подобострастно изобразил его в одном из своих маловразумительных романов под именем Четверган, но и роман этот не пролил свет на тайну влияния Асаркана-Четвергана на поэтические души.
Когда мы, высадив Богатыревых, подкатили к дому Асаркана, он пригласил нас к себе выпить по чашечке кофе перед сном, обещая показать при этом нечто необыкновенное. Мы согласились, хоть нам показалась странной идея пить кофе перед сном. Роман Зиника еще не был тогда написан, и мне неоткуда было узнать, что великий гуру молодых поэтов боготворил кофе превыше всего.
«Какой грех самый страшный?» – трепетно спрашивал Четвергана восторженный последователь.
«Заваривать кофе в чайнике», – торжественно возвещал учитель. И ученик почтительно склонялся перед его мудростью.
Для нас Асаркан заварил кофе по всем правилам искусства заваривания кофе – точным движением он снял с огня подлинную тяжелую джезву с точно отмеренным количеством сахара, снял именно в тот момент, когда над нею начало подниматься коричневое кружево пены. Поставив джезву и три чашки на грубо оструганную – тоже подлинную – доску, он повел нас в свою комнату.
Я замерла на пороге, потрясенная. Таких комнат я еще не видела – она была совершенно и абсолютно пуста! Ни кровати, ни стула, ни стола, – ничего, кроме сверкающего, хорошо натертого паркета! Только вдоль стен до самого потолка высились аккуратно уложенные штабеля плотно увязанных газет. Подобные комнаты я увидела через много лет в древнем деревянном дворце японского императора в Киото – тот же сверкающий простор обнаженного паркета и ни единого предмета мебели на весь дворец, только вместо старых газет промасленная бумага, разрисованная диковинными птицами и цветами. Восковые фигуры императора со свитой, принимающего визит сёгуна, тоже со свитой, симметрично сидели друг против друга прямо на голом полу в непостижимых для европейцев, типично японских позах, уютно поместив свои ягодицы между широко разведенными пятками.
Нам не пришлось утомлять себя такими неприемлемыми позами – Асаркан, ловко выдернув из газетной стенки несколько пачек, создал из них импровизированный стол и три стула. И на этот стол он рядом с кофе возложил тот сюрприз, ради которого и заманил нас среди ночи в свою до паркета раздетую берлогу.
Сюрприз состоял из тоненькой пачки машинописных страничек, выбранных из сочинения неизвестного автора с труднопроизносимой фамилией Солженицын. На первой страничке красовалось заглавие «Один день Ивана Денисовича», следующая страничка была десятая, потом – двадцатая, потом – тридцатая и так до восьмидесяти. Асаркан объяснил, что странички украдены из редакции журнала «Новый мир». А так как всю повесть украсть не удалось, то преступник решил унести каждую десятую страницу, чтобы можно было составить представление о новом удивительном авторе.
Так, на рассвете непогожего осеннего дня в странной комнате, пародирующей жилище японского императора, мы встретили зарю новой русской литературы, отменившей в конце концов социалистический реализм.
Дэзик и Юлик
В Опалиху мы с Сашей поехали по приглашению Давида Самойлова, известного в литературной Москве под кодовым именем Дэзик. Были мы с ним слегка знакомы необязательным литературным знакомством, когда целуются при встрече, как родные, ничего при этом друг к другу не имея. Я даже как-то привела к нему своего старого приятеля из харьковских университетских времен, давно уже профессора, завкафедрой и все прочее, но несмотря на это известного во многих интеллигентских кругах под кодовым именем Мусик.
Говорят, что имя дается человеку не случайно, – а может, уже данное, судьбоносно влияет на его характер. В любом случае оба стареющих мальчика – Дэзик и Мусик, хоть один был маленький и лысый, а другой высокий и густо-седой, с первого взгляда ощутили свое сходство и прониклись взаимной братской любовью. А меня при этом небрежно вытеснили вон – потому что в ослепительном свете их внезапно вспыхнувшей приязни для меня не нашлось места. Я осознала это очень быстро, прислушиваясь к упоенному щебету этих светских бабников, обсуждавших, что делать с двумя парными пригласительными билетами на какое-то престижное зрелище, на которое они страстно захотели пойти вместе. Дэзик предлагал:
«Я пойду с женой, а ты (они тут же перешли на ты, что соответствовало их детским именам) с моей любимой женщиной».
На что Мусик возражал:
«Нет, лучше пусть жена идет с любимой женщиной по одному билету, а мы с тобой – по другому».
Дело было, конечно, не в том, как организовать культпоход на престижное зрелище, а в прощупывании друг друга на предмет братского взаимопонимания. Не знаю, как они в конце концов, устроились с билетами – ведь я, к счастью, не была в этом треугольнике ни женой, ни любимой женщиной – но взаимопонимание они наладили отлично, иначе оно бы не продлилось до последнего дня жизни Дэзика.
Я же с тех пор Дэзика почти не встречала, так как наша семья вскоре выпала в осадок, подавши заявление на выезд в Израиль, что казалось (и было) в те годы верхом гражданской дерзости. Однако неожиданно – уже не помню, по чьей инициативе, – он предложил мне стать его «негром»; то есть писать под его именем халтурные сценарии для радио пьес, что с его стороны тоже было несомненным актом гражданской дерзости. Для переговоров об этом мы с Сашей и поехали в Опалиху, где у Дэзика тогда был собственный дом.
Приглашение выпало на студеный декабрьский день 1973 года. Стоял ужасный мороз, но выбора у нас не было, зарабатывать необходимо было любым способом – нас обоих отовсюду выгнали, а наши скромные сбережения подходили к концу. Продрожав больше часа в насквозь промерзшей электричке, мы поспешили по заснеженным улицам искать дом Дэзика. Дом оказался вполне презентабельный, – типичный дачный дом, деревянный, с высоким крыльцом и крашеными наличниками.
Дверь нам открыл сам Дэзик – на нем был пестрый передник, в одной руке он держал раскаленную сковороду с шипящими в масле котлетами, под мышкой другой – большую плоскую куклу в красных байковый штанишках, из-под которых торчали крохотные черные валенки.
«А вот и наши гости, – радостно воскликнул он, по-жонглерски ловко подбрасывая в воздух котлеты и тут же ловя их сковородкой. – Сейчас мы их будем котлетками кормить! И Антошечку тоже! Будешь котлетки есть, Антошечка?»
«Не буду!» – завизжала кукла, странно откидывая назад густо заросшую желтоватой паклей головку.
Тут до меня дошло, что это вовсе не кукла, а настоящий живой мальчик в черных валенках, давно не стриженный и чем-то очень огорченный. На нас он даже не глянул, всей душой сосредоточившись на своей обиде. Дэзик круто развернулся и рысцой понес и сковородку, и Антошечку вглубь дома.
«И напрасно, – выкрикивал он на бегу. – Котлетки такие вкусные, папа их сам пожарил!»
«Не буду!» – настойчиво повторил Антошечка, закидывая свою лохматую головку так далеко назад, что я испугалась, как бы он не сломал себе шейку.
Мы побежали следом и, наступая хозяину на пятки, ворвались в большую комнату, служившую одновременно кухней, столовой и гостиной. Кухня была представлена плитой и раковиной, столовая – обеденным столом и буфетом, а гостиная – большим старинным роялем. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. Дрожали они, пожалуй, даже чрезмерно под руками маленькой девочки, – на пару лет старше мальчика, – стоящей на коленях на вертящемся табурете и с остервенением лупившей по клавишам.
«Не надо так громко, Варенька!», – взмолился Дэзик, возвращая сковородку на плиту, но не вынимая Антошечку из подмышки. Впрочем, Антошечка и не пытался высвободиться из-под прижимающего его отцовского локтя, он затих и опять вернулся к той пассивной неподвижности, которая так уподобляла его кукле. Не обращая на них никакого внимания, Варенька продолжала издеваться над роялем.
«Ну зачем же так громко, Варенька? – вкрадчиво склонился к ее уху Дезик. – К нам ведь гости пришли. Ты лучше сыграй им какую-нибудь песенку, ладно?»
Варенька соскочила с табурета и, облокотившись о рояль, приняла неожиданно взрослую позу солирующей певицы. Однако петь она не стала, а воскликнула не менее неожиданно взрослым голосом:
«Но мне же это неприятно! Неприятно! Неприятно!»
И картинным жестом уронила голову на клавиши с такой силой, что они взвыли. Не зная, что именно Вареньке неприятно – может быть, именно наше появление в счастливый день отцовского дежурства, – мы с Сашей, чтобы ее задобрить, льстиво засюсюкали, что мы тут как бы проездом и очень скоро уйдем. Нисколько не смягчась, Варенька окинула нас неуместно взрослым оценивающим взглядом и не поверила, что мы и вправду уйдем скоро. Она вернулась на свой табурет, но никакую песенку играть не стала, а снова принялась терзать рояль.
Дезик махнул свободной от Антошечки рукой:
«Ладно, пошли к столу. Ей в конце концов, самой надоест».
Мы послушно сели за стол, на который рядом с сильно початой Дэзиковой бутылкой коньяка выставили свою непочатую. Варенька была права – мы просидели за этим столом допоздна, пока гость и хозяин не прикончили обе бутылки. Моя доля в этом мероприятии была, как обычно, ничтожной, – я просто перевела небольшое количество ценного продукта, с остальным успешно управились мужчины. По мере их продвижения к поочередному донышку бутылок, дети постепенно затихли – сначала Антошечка согласился съесть котлетку и заснул на диване под громкие стоны рояля, а вскоре и Варе наскучило однообразие ее музыки, и она тоже снизошла сперва до котлеток, а затем до дивана. В наступившей тишине мы некоторое время поговорили о моем возможном выступлении в роли Самойловского «негра» и даже посмотрели на видео какой-то мультик, снятый по сценарию Дэзика.
Однако мужские головы, разгоряченные большим количеством выпитого, не могли надолго сосредоточиться на такой мелкой материи, как изготовление халтуры для детских передач. Очень скоро разговор естественным образом потек по привычному московскому руслу той эпохи, завихряясь вокруг судеб России. Мне, органически неспособной вознестись к духовным высотам алкогольного ясновидения, пришлось вынести их многочасовый сбивчивый спор, который в какой-то неуловимой точке свернул на противоречивую роль, предназначенную в этих судьбах Александру Исаевичу Солженицыну.
Я хочу напомнить, что за окном стоял декабрь 1973 года, когда Солженицын был главным героем, кумиром и символом российской интеллигенции. Он еще ни в чем не успел провиниться – он не только еще не вернулся в Москву транссибирским экспрессом, но даже не был выслан в Америку, не построил дом в штате Вермонт, и не написал «Красное колесо».
Мне вспоминается один забавный случай, отразивший то почти молитвенное преклонение, которым был окружен тогда Солженицын. Как-то в новогоднюю ночь мы были в Ленинграде и пришли в гости к драматургу Александру Володину. Он выскочил нам навстречу сияющий и счастливый, что с ним, человеком по природе мрачным, случалось крайне редко.
«Если бы вы знали, какую телеграмму прислал мне Солженицын! – звенящим от восторга голосом воскликнул он – Столько тепла, столько внимания! Вот, Саша, прочтите!» – и протянул Саше белый листок телеграммы.
«Дорогой Александр Моисеевич, поздравляю с Новым годом. Желаю счастья. Ваш Солженицын», – прочел Саша.
«Ну, а дальше?» – нетерпеливо потребовал Володин.
Саша перевернул листок: «Больше ничего нет».
«Как это нет? – не поверил драматург. – Я же сам читал… Отдайте телеграмму».
Он вырвал у Саши телеграмму и забегал по ней глазами в поисках несуществующих слов: «Вот, я сейчас вам прочту… Где же это? Я сам читал… Столько тепла и внимания…»
Он поднял на нас огорченный взгляд и по нашим лицам понял, что прочел между строк то, что ему хотелось прочесть – так велико было обаяние личности автора телеграммы в те годы.
Однако Дэзик проявил поразительное чутье – он уже тогда предвосхитил предстоящее развитие умонастроений либеральной российской интеллигенции.
Я уже не помню, за что именно он зацепился, но выступал он разоблачительно и страстно. А Саша с ним не соглашался, во-первых, потому что не был с ним согласен, а во-вторых, потому что любил спорить. В результате возник довольно стройный дуэт пьяных мужских голосов, в котором не было никакой щелочки для моего трезвого женского. Так что мне ничего другого не оставалось, как слушать и запоминать.
Главная претензия Дэзика сводилась к тому, что Солженицын не хочет вести Россию демократическим путем. Главный довод Саши сводился к тому, что не все народы одновременно дозревают до демократии, и русский народ, возможно еще не дозрел, вот мол, и Достоевский тоже так думал. Я не берусь утверждать, что если бы Дэзик высказал мнение противоположное тому, которое он высказал, Саша возражал бы ему менее красноречиво. Склонность экспериментировать с собеседником была и осталась его важной характеристикой.
Однако Дэзик, не привыкший к лукавым возражениям, принял Сашины слова всерьез и близко к сердцу – он вспыхнул и гневно объявил, что Солженицын ничего не понимает в русском народе. Саша немедленно ухватился за новый поворот спора:
«А кто же понимает, если не Солженицын?» – риторически спросил он, намекая на «Матренин двор» и «Один день Ивана Денисовича».
Дезик, не задумываясь, проглотил наживку и запил ее полной рюмкой коньяка:
«Только мы с Юликом Даниэлем понимаем русский народ по-настоящему!» – выкрикнул он, нисколько не смущаясь зияющими прорехами в своем заявлении.
«Вы хотите сказать, что вы, Давид Кауфман и Юлий Меерович, понимаете русский народ лучше, чем великий русский писатель Александр Солженицын?», – усомнился Саша, с удовольствием перевоплощаясь в истинного антисемита, срывающего с подозреваемых фиговые листки псевдонимов.
Отмахнувшись от великого писателя Дэзик сосредоточился на определении «русский»: «Какой Солженицын русский? Ничего русского в нем нет! Вот мы с Юликом настоящие русские!»
Пока я решала, насколько он прав, если измерять степень «русскости» количеством выпитого в одном застолье, Саша понял, что случайно подхваченная им роль антисемита как нельзя лучше подходит к случаю:
«Какие из вас русские? Вы же евреи, а русский народ – православный!» Только этого Дэзику не хватало для полного комплекта: «Русский народ, может, и православный, а вот Солженицын нет! Ничего он не понимает в православии! Настоящие русские и православные мы с Юликом!» «Такие православные, хучь в раввины отдавай», – смачно процитировал антисемит Саша, после чего за столом поднялся невообразимый шум, от которого проснулись дети и стали требовать ужина, любви и внимания. Оставив Дэзика хлопотать по-хозяйству я умудрилась вытащить Сашу из-за стола и вывести на улицу. На улице было очень холодно и тихо. Но ни мороз, ни тишина не отрезвили Сашу – наслаждаясь своей вновь обретенной ипостасью антисемита, подтвержденной убедительным количеством выпитого, он заорал на всю Опалиху, которая то ли спала, то ли притворялась спящей.
Сашин голос заслуживает особого упоминания – благодаря его зычности Сашины командирские данные получили самую высокую оценку на военных сборах, несмотря на то, что он был самым ленивым из курсантов. Хоть он спал на всех занятиях, и даже стоя, когда он просыпался и кричал «Огонь!», стены начинали качаться еще до выстрела.
И вот, бредя к вокзалу по притихшим улицам Опалихи, он во всю мощь своего командирского голоса выкрикнул:
«Жиды проклятые! Солженицын им не русский! Солженицын им не православный! Они сами себе – русские и православные! Веером их от живота, жидов проклятых!»
Я так и съежилась от этого монолога – мне показалось, что сейчас разъяренные жители Опалихи выскочат из своих крепостей, бросятся на нас и давай веером от живота, веером от живота! В моем страхе не было никакой логики, но от этого он не становился слабее, – ведь я с детства привыкла пугаться громко сказанного слова «жиды». Зато Саша попробовал на язык свою бичующую тираду и, словно Всевышний в первый день творения, понял, что это хорошо. А потом, следуя примеру Всевышнего, стал снова и снова повторять то, что было хорошо. И повторял с небольшими интервалами всю дорогу до самого вокзала. К счастью, как я смогла заметить, его призывы не вызвали немедленного еврейского погрома – не потому ли, что большинство обитателей Опалихи сами были жидами?
Электричка подошла через минуту после нашего прихода на вокзал, а в электричке Саша немедленно уснул и проспал почти до самой Москвы. Проснувшись, он сделал новую попытку вернуться к прерванному сном монологу, но так хорошо уже не получилось – то ли он сорвал голос на морозе, то ли градус накала снизился за время пути.
На этом наше драматическое столкновение с еврейским либерализмом можно было бы считать законченным, тем более, что из проекта моего превращения в дэзикового «негра» ничего не вышло, уж не помню, почему. Я тогда очень из-за этого огорчалась, но оказалось, что все к лучшему в этом лучшем из миров – за освободившееся в результате время мне удалось извлечь из себя давно томившуюся во мне пьесу «Матушка-барыня». Эту пьесу про женскую судьбу и про абортную палату поставили в театре и в кино в разных странах и на разных языках.
Однако у нас не получилось поставить точку в конце Сашиного страстного монолога о претензиях Дезика на роль самого русского и самого православного писателя земли русской. Когда судьба после почти тридцатилетнего отсутствия вновь занесла нас в Москву, мы обнаружили, что идеи Дэзика за эти годы не только не погасли, но, напротив, разгорелись воистину ярким пламенем. Если тогда он был первым и, возможно, единственным смельчаком, обвинявшим Солженицына в непонимании души русского человека, то теперь уже целые коллективы сделали эти обвинения своей главной жизненной задачей.
Мы с Сашей пока еще не решили, как с ними быть – помиловать или все же веером от живота.
Александр Солженицын и Бенедикт Сарнов
Моя любимая подруга Слава, необузданная жена известного литературовода Бена Сарнова, дважды побила моего сына Володю, когда он был ребенком. Первый раз это случилось по дороге из дачного кинотеатра при обсуждении сюжета польского детектива «Девушка из банка», который девятилетний Володя проанализировал лучше, чем она. Импульсивная Слава, возмущенная до глубины души этой ничем не оправданной детской дерзостью, больно огрела его по спине и столкнула в придорожную канаву.
Пару лет спустя Володя, уже перешедший в ранний разряд тинэйджеров, вмешался в наш безысходный спор об искусстве и объявил, что очень скоро электронные машины станут писать и рисовать лучше, чем люди, а люди будут принимать их творения за произведения искусства и восхищаться. Ошеломленная таким чудовищным богохульством Слава начала колотить Володю кулаками и орать: «За такие слова ты в аду сковородки лизать будешь!»
Как ни странно, я все эти выходки ей простила – то ли за непосредственность, то ли за самобытность, то ли просто из любви – к ней и к Бену. Но эта любовь не помогла мне сохранить их дружбу – когда мы встретились после тридцати лет разлуки, оказалось, что за эти годы наши представления о мире разошлись необратимо. Это не могло обойтись безнаказанно.
Дружба наша возникла много лет назад, внезапно и мгновенно. Все началось с того, что мы с Воронелем поджидали своей очереди к такси после какой-то людной тусовки в Доме Литераторов. Прямо за нами стояла нарядная пара чуть постарше нас, и вдруг я услышала, как женщина назвала своего спутника Беном. И тут у меня случилось озарение – я поняла, что это Бен Сарнов, автор восхитившей меня недавно статьи о «Святом колодце» Катаева.
Не останавливаясь на раздумья, я тут же сходу спросила: «Вы – Бен Сарнов?» В голосе у меня прозвенел такой восторг, что любой из нашей литературной братии откликнулся бы обязательно. И Сарнов откликнулся тоже, тем более, что я, не переводя дыхания, стала цитировать выдержки из его статьи. Оказалось, что нам по дороге, и мы втиснулись вчетвером в одно такси. Расстались мы, уже держа в зубах приглашение прийти в гости как можно скорее. Мы и пришли как можно скорее. Воронель и Бен тут же сцепились, как две хорошо подогнанные шестеренки, в одном длинном бесконечном споре, который продолжался долгие годы всюду, где они оказывались рядом.
Как бы ни хорош был Воронель в этом споре, у Бена всегда было утешение, что он еще лучше. Он даже придумал формулировку для своего превосходства – мы были для него «десантники с харьковским (т. е. провинциальным) образом мысли», тогда как себя он зачислял в традиционалисты с московским (т. е. столичным) мышлением. Но, когда мы вернулись в Москву гостями из большого мира, формулировка эта уже не соответствовала ни нам, ни ему.
Мы столкнулись лбами в одной из самых болевых точек современной российской культурологии – в оценке исторической роли вчерашнего кумира, Александра Исаевича Солженицына. Много лет он был кумиром для Сарнова и его круга, а сегодня они повергли его в пыль и топчут ногами. Вот я и вступилась – что может быть печальней зрелища поверженного кумира? А ведь знала, что в чужую драку вмешиваться нельзя – вот и получила по заслугам. Но не вмешаться не могла, – все-таки Солженицын не Сталин и не Дзержинский, чтобы втаптывать его в пыль интеллигентскими импортными башмаками.
Расхождения наши с Беном по поводу взглядов Солженицына на русскую историю по сути отразили глубину той культурной пропасти, которая разверзлась между нами за тридцать лет разлуки. За эти годы я много поездила, во многих странах пожила, много недоступных русскому читателю книг прочла, и увидела свою историческую родину со стороны. Во избежание недоразумений уточняю – исторической родиной я называю Россию, ибо невозможно отменить исторический факт моего там рождения.
Именно Россию я увидела, как один из многих хрусталиков вселенского калейдоскопа, а не как единственное, неотделимое от меня земное пристанище. Я уже вчуже оценила иными мерками эту страну, ее народ и ее интеллигенцию. А Бен как сидел тридцать лет назад на приросшем к его заднице стуле за фигурным столом «с плеча» Ильи Эренбурга, так и по сей день видит российский горизонт в масштабе этого стула и этого стола.
Но дело не только в Сарнове, который как раз и познакомил нас когда-то с Солженицыным, тогда еще молодым и только восходящим к мировой славе. Однако Бен уже тогда, на ранней стадии, эту славу провидел, и страшно перед нами гордился, какие у него блестящие знакомства. Каково же ему было через сорок лет услышать от нас, ездивших в гости к Солженицыну, что тот спросил: «Ну что этот Сарнов от меня хочет? Я его и не видел никогда».
Но не в этой мелкой обиде, конечно, таилась суть моего расхождения не только с Беном, но и со всей прогрессивной московской тусовкой. Мой спор с замшелым либеральным взглядом на судьбы России начался еще в 90-х годах прошлого века, когда я вступила в полемику с Майей Каганской, разоблачавшей российских ретроградов Достоевского и Солженицына в эссе «Осень патриарха».
Помнится, что на полемический ответ Каганской меня побудила пропетая ею в этом эссе вдохновенная ода бороде. «Борода, – вещала она, – это воспоминание о древних культах Земли… это знак, вызов, исповедь и проповедь». Возможно, не выскажись она так высокопарно, не подняла бы я на нее пера. Что мне, в конце концов, до репутации Достоевского и Солженицына в либеральной среде, тем более что их славы не убудет, даже если еще дюжина прогрессивных эссеистов наших дней обзовет их ретроградами.
Но провалы логики во вдохновенном разоблачении Каганской переполнили чашу моего терпения. Не удовлетворясь словарным обозначением бороды как «лицевого волосяного покрова, характерного для приматов мужского пола, достигших половой зрелости», она объявила, что форма бороды определяет не столько лицо как зеркало души, сколько лицо как зеркало русской революции.
Как видно, Каганской все же было трудно вознести бороду на уровень культового знака без ссылки на какой-нибудь высший авторитет. На роль этого авторитета она выбрала Фрезера, этого стихийного дарвиниста в области религиозной мысли, написавшего основные свои труды в конце девятнадцатого века. На русский язык его перевели только в 1980 году, когда созвучность его идей идеям российской философской мысли, отставшей от европейской на целое столетие, сделала его необходимой составляющей «малого джентльменского набора» русскоязычного (т. е. не читающего на других языках) интеллигента. А Фрезер как раз был неравнодушен к бороде, – он объявил ее символом плодородия. Неясно, как с этой точки зрения трактовать бороды, обильно растущие после смерти? Неужто гоголевские мертвецы, до пустых глазниц заросшие бородами, встают из могил, чтобы воплотить идею плодородия?
С помощью Фрезера облюбовав для осуждения бородатую пару Достоевский—Солженицын, Каганская объединила своих героев и по другим статьям, в частности, по особенностям биографии:
«Главное в Солженицыне – от Достоевского: смертная казнь – царская каторга – десять лет сталинских лагерей, оба побывали в аду, у обоих – мировая слава. И никогда еще… ожидания прогрессивного человечества не были так… безжалостно обмануты: вместо призыва к борьбе за свободу и равенство, оба призвали вернуться к… ценностям мистического коллективизма».
С тем, что главное в Солженицыне – от Достоевского, можно согласиться, можно возразить – ведь каждый главным в писателе видит что-то свое. Я, например, главным в Достоевском считаю его способность, расшелушив человеческую душу, как луковицу, дойти до самого сокровенного истока ее низости, а Солженицын в этом деле куда как не силен.
Зато если вернуться к «ценностям мистического коллективизма», открываются интереснейшие аспекты. Что правда, то правда: оба «великих мученика тирании» по возвращении из тюремного ада странным образом отказались от либеральных идей своей юности и, развернувшись на 180 градусов, стали с поразительным единодушием призывать свой народ «вернуться к вере, церкви, нации, государству».
Конечно, сердцу, преданному идеалам свободы и равенства, трудно не осудить столь предательское отступничество двух величайших писателей земли русской. А что если, прежде чем осуждать, попытаться проанализировать и понять?
Ведь даже самый самонадеянный эссеист времен перестройки может предположить, что и Достоевский, и Солженицын, как бы ни были они сбиты с толку своими скитаниями по кругам ада, не могли забыть общеизвестные азбучные истины. Что же заставило их обоих, пусть по Сарнову не вполне заслуженно, но все же заслуживших мировую славу, дружно отречься от этих истин?
Почему оба они начали проповедовать идеи, заведомо обрекающие их на непопулярную репутацию ретроградов? Ведь следует отметить, что свои предосудительные опасения насчет демократии они адресуют собственному народу, который хорошо успели изучить за время, проведенное в аду. Может, есть у них какие-то соображения, нам не столько неведомые, сколь несимпатичные? Может, они знают о своем народе нечто, чего мы не то, чтобы не знаем, но знать не хотим?
Я понимаю, что предлагаю сейчас альтернативу почти неприемлемую для либерального сознания, – я предлагаю предположить, что истина неоднозначна. Ничто так не роднит либералов с ретроградами, как их дружное нежелание признать правомочность, пускай хоть для дискуссии, другой точки зрения, другой системы аксиом, положенных в основу идеологии!
Боюсь, что верность некой общепринятой системе единомыслия тоже входит сегодня в «малый джентльменский набор»: расизм – плохо, гуманизм – хорошо, угнетенные народы – борцы за свободу, угнетатели-министры – душители свободы. И вовсе ни к чему вдумываться, что такое расизм, гуманизм и свобода, ибо все они вместе взятые – это «заповедь, исповедь и проповедь». К черту подробности – главное, чтобы в рифму.
Зато если признать, что истина относительна и зависит от места, времени и точки отсчета, то возникают проблемы почти неразрешимые, и приходится брать на себя ответственность за собственные мысли и поступки. Многим ли это может прийтись по вкусу?
И все же, трезво оценивая всю непривлекательность своей идеи, я настойчиво предлагаю еще раз вчитаться в длинный список цитат из Достоевского и Солженицына, но не с целью их разоблачить, а в надежде понять. Здесь оба они перед нами, как на ладони, и оба совершенно беззастенчиво самоутверждаются в собственном ретроградстве:
Достоевский: «Всеобщее избирательное право – самое нелепое изобретение XIX века».
Солженицын: «Избирательное право – не закон Ньютона, в свойствах его разрешительно и усумниться».
Далось им это избирательное право! Чем оно им так досадило? Жалко им, что ли, чтобы каждый мог свое мнение выразить?
Да что там избирательное право! Зарвавшийся Солженицын идет дальше: чтобы оправдать свой непростительный отход от прогрессивного либерализма, он заносит руку на святая святых гуманизма – на самую идею равенства, называя его «энтропией, ведущей к смерти».
А ведь если дать себе волю подумать, и впрямь – так ли абсолютно непререкаема идея всеобщего равенства? Или «разрешительно в ней усумниться»? Как ни стремлюсь я соответствовать «джентльменскому набору», не могу я заставить себя поверить в свое равенство с Саддамом Хусейном, с членами «Черного сентября» или с отчаянной компанией, спикировавшей 11 сентября на Башни-близнецы. Нет между нами ничего общего, кроме физиологических отправлений, и я бы ни за что не согласилась дать им право голоса при решении вопроса о будущем человечества.
Да и вообще, кто кому равен? И в чем? Старики не равны молодым, женщины не равны мужчинам. Я не ввожу оценочных критериев «лучше» или «хуже», я говорю о различии во всем – в направленности интересов, в эмоциональном складе, в шкале приоритетов. Природа создала нас такими разными не для того, чтобы мы наперекор ей доказывали, что мы друг другу равны.
Мне могут возразить, что речь идет о равенстве прав, а не о равенстве вообще. Что ж, давайте на миг предположим, что возможно равенство прав для неравных – иными словами, равенство прав при неравенстве обязательств, – и в свете этого предположения рассмотрим сегодняшнюю ожесточенную борьбу за запрещение абортов. Чьи права более равны, права нерожденных младенцев «быть или не быть» или права женщин «рожать или не рожать»?
Этот пример сразу помогает найти формулировку: равенство невозможно в случае конфликта интересов. Но жизнь, в отличие от смерти, и есть постоянный конфликт интересов. Значит, равенство возможно только в смерти, что, собственно, и составляет смысл солженицынского утверждения.
Беда в том, что, раз усомнившись, трудно остановиться. Если всеобщее равенство сомнительно, то, может, и всеобщее избирательное право не так уж несомненно? Ведь никто не оспаривает справедливости возрастного ценза, например.
Представим себе, что возрастной ценз применим не только к отдельным личностям, но и к целым народам. Ведь предположение, что разные группы людей, сосуществующие в одном астрономическом времени, существуют при этом так же и в одном времени историческом, логически абсолютно несостоятельно. Из возможности этих групп встретиться в пространстве вовсе не следует, что им суждено встретиться во времени – между ними может пролегать пропасть в несколько веков. Но стоит предположить, что каждый народ живет в собственном историческом времени, как сразу приобретает смысл понятие «возраст народа». Остается только выяснить, что это такое.
Пытаясь ответить на этот каверзный вопрос, я вступаю на зыбкую почву, и потому хочу опереться на общепризнанный авторитет, на этот раз из «большого джентльменского набора». Карл Юнг, знаменитый последователь и ниспровергатель З. Фрейда, утверждал, что существует некое «коллективное подсознательное», характерное для каждого народа. Пока еще неясно, чем именно оно определяется – языком ли, мелодикой ли колыбельных песен или образным строем детских сказок, но ясно, что каждый народ из поколения в поколение воспроизводит свой стереотип, передавая как эстафету некий таинственный код.
Код этот не зависит ни от политических режимов, ни от религиозного уклада, он спрятан глубоко в коллективной народной подкорке и надежно защищен от внешних влияний. Это как бы прочно зашифрованный свод законов, которыми народ руководствуется в самых сокровенных делах, касающихся рождения, смерти, отношений между мужчиной и женщиной, отношений между родителями и детьми. Он, конечно, изменяется во времени, но изменяется медленно, на протяжении многих поколений, и потому кажется незыблемым и неизменным.
Этот код, по-видимому, и определяет возраст народа. Понятие «возраст народа» давно существует как незаконное дитя науки: в социологической литературе нередко можно встретить определения «старый народ» и «молодой народ», хоть никто не указал на их характерные отличия. Однако мне кажется, что именно эти отличия, хоть непоименованные, но реально существующие, и определяют склонность одних народов к демократии, а других – к тоталитаризму.
Для лучшего понимания связи между возрастом народа и его способностью к демократическому укладу, мне кажется, вернее будет определить народы как взрослые и невзрослые.
Что такое «народ» и какой народ можно назвать взрослым?
Определим «народ» как группу людей, объединенных общим коллективным подсознанием, что облегчает взаимопонимание внутри этой группы. Взрослым назовем народ, представители которого готовы взять на себя ответственность за свою жизнь, в то время как представители невзрослого народа нуждаются в авторитарной фигуре «отца», принимающего на себя эту ответственность. «Отец» является подателем и распределителем благ, он может миловать и казнить по произволу, но при этом на него можно положиться, как на каменную стену.
Суть отношений между народом-ребенком и отцом на редкость художественно наглядно выражена при ежедневном исполнении государственного гимна, заключающего программу иорданского телевидения: огромное, во всю стену, изображение нежно-сурового красавца-короля в розовой куфие парит над трепетным хором низкорослых, по-собачьи преданных подданных. «Отец родной! – поют они ангельскими голосами. – Ты наша сила, наша радость, наша надежда!» Совершенно немыслимо представить себе нечто подобное в исполнении американского, английского или израильского телевидения.
Зато в России так было всегда. Гигантские лица вождей осеняли собрания и съезды, их многократно увеличенные указующие персты простирались над головами крошечных прохожих, мельтешащих на уровне громадных бронзовых или мраморных колен этих царственных чудищ. И даже сегодня, когда вчерашние идолы, развенчанные и раскуроченные, поплыли на свалку на крюках подъемных кранов, их изгнание выглядит не более чем негативным вариантом ритуала того же культа отца. Народный гнев, направленный на культовые изображения, на мраморные уши и гипсовые носы, разоблачает незрелые чувства рассерженных детей.
Интересно проследить, как проявилась эта невзрослость в фигурах речи. Русский язык на удивление богат ссылками на постоянную игру в «дочки-матери»: тут тебе и «матушка Волга», и «родина-мать», и «Кузькина мать» и «еб твою мать», и «мать зеленая дубравушка» – на любой вкус.
Недаром русская брань называется матом – вся она построена на изощренном хитросплетении разнообразных бранных слов вокруг имени матери. И как они хитро сплетены порой! А порой ничего и не надо – достаточно просто воскликнуть: «У, мать твою!» – и всем все ясно. Заговор детей, так сказать, потому что весь народ выступает здесь как коллектив недорослей, связанных с матерью пуповиной садо-мазохистской любви-ненависти. Зато никто ни за что не ответствен и неподсуден по причине несовершеннолетия.
Мне думается, что неизбежность падения России в пропасть тоталитаризма в результате любого революционного взрыва определяется этой невзрослостью русского народа.
Собственно, ни на какое открытие я здесь не претендую, об этом много раз было говорено и до меня: как радетели, так и хулители русского народа высказывались по этому поводу с трогательным единодушием.
Вот, к примеру, несколько цитат из книги образцово-показательного российского патриота-антисемита В. Шульгина «Что нам в них (в евреях) не нравится», выбранных на лету из восхитительного их изобилия:
«…русский народ во всей его совокупности женственно несовершеннолетен… для него наивыгоднейшая форма общежития есть Вожачество. К такому вожачеству (в форме ли монархии, диктатуры или иной) русские, понявшие свою природу, будут стремиться».
«Мы из тех пород, которым нужен видимый и осязаемый вожак. При соответствующем вожаке русские могут быть очень сильны. Разительный пример этому – царствование сурового вожака Николая I. Царствование это было вместе с тем золотым веком русской литературы… В катавасии, которую декабристы готовили России, конечно, погиб бы цвет нации: Жуковский, Пушкин, Грибоедов и Гоголь окончили бы свою жизнь на эшафоте, ничего не написав. Ведь на наших глазах в революции погибли все те, кто не успел вовремя унести ноги».
Шульгин писал это в 1930 году в эмиграции – имея за плечами скорбный опыт тринадцати лет торжества народной власти в России. А за двадцать лет до этого, в канун исторического катаклизма 1917 года, знаменитый немецкий социолог, специалист по русскому вопросу Макс Вебер, анализируя причины поражения русской революции 1905 г., видел их, подобно Шульгину, в незрелости народа, которому ни к чему была свобода, навязываемая ему либеральной интеллигенцией. Так же, как и Шульгин, он утверждал, что Россия не дозрела до всеобщего избирательного права, и предсказывал ей неизбежный приход к авторитарному режиму в результате любого, сколь угодно демократического поначалу, грядущего переворота.
Если уж объективно-доброжелательный диагноз Вебера звучит столь согласно с заклинаниями Достоевского образца 1880 года и с поучениями Солженицына образца 1980-го, то чего остается ждать от заведомых хулителей-жидов, вроде Ричарда Пайпса и Александра Янова? Они-то, проклятые, изначально строили свои злокозненные диагнозы и прогнозы на обидной презумпции, что пресловутая российская соборность вкупе с пресловутой общинной собственностью на землю автоматически исключает какую бы то ни было самостоятельность русского народа? И потому они, губительно предопределяя его духовную и экономическую судьбу, приходят к тому же выводу уже с совсем других, либерально-демократических, позиций: нельзя доверить индивидуальную ответственность избирательного права народу, который, если и знает какую-то ответственность, то только коллективную.
Интересно, что во всех упомянутых оценках расхождений никаких нет: и радетели, и хулители судят хоть и несогласованно, но согласно. Согласны они по существу, а не согласованы по недоразумению, так как не сговорились об определениях. И потому предлагают разные способы лечения болезни, природа которой однозначно очевидна и либералам, и ретроградам.
Выходит, мне только и остается, что поставить точки над «i», называя вещи своими именами. Я не хочу умалять важность такой постановки вопроса: еще в молодости, когда я занималась физикой, – был такой грех, – я поняла, что, правильно сформулировав условие задачи, мы практически обеспечиваем ее решение. Мне кажется, что, вводя определение народа «взрослого» и «невзрослого» для характеристики его склонности соответственно к демократии или тоталитаризму, мы можем с неожиданной легкостью прояснить картину многих исторических процессов, до сих пор затуманенную ненаучными, сбивающими с толку эмоциями участников дискуссии.
В свете всего вышесказанного нелепо обвинять Достоевского и Солженицына в ретроградстве: ведь не такой это смертный грех – знать и понимать детскую душу своего народа! И даже их претензии к скучным колбасникам-швейцарцам меняют свою первоначальную окраску – непристойно злобные в устах взрослого, они звучат почти мило в устах ребенка, которому жизнь взрослых кажется скучной. Ему отвратительны взрослые дяденьки и тетеньки, ведущие бесконечно занудные разговоры о политике, ценах и налогах. Народ-ребенок хочет играть в «сыщики-разбойники» или в «дочки-матери» – как же не опасаться той детской бесшабашности, с которой этот народ может злоупотребить равноправием, полученным не по чину, вернее – не по возрасту?!
Ведь справедливости возрастного ценза никто пока не оспаривал. И никто никогда не настаивал на равенстве взрослых и детей при решении судьбоносных вопросов. История не раз показала, к чему приводит неправильно примененная идея равенства: страшная сегодняшняя судьба многомиллионно вымирающих народов Черной Африки – наглядный тому пример. Пока они существовали как неравноправные подданные своих вождей, – хоть черных, хоть белых, – они страдали, но жили, а теперь, утвердив свои карикатурные демократии «a la Afrique», они принялись уничтожать друг друга и враг врага столь ретиво, что скоро уже некого будет спасать от голода, воцарившегося в их демократическом хаосе. Можно подумать, что они ценой жизни целого континента взялись доказать правоту Солженицына, объявившего равенство «энтропией, ведущей к смерти».
Обсуждая идею равенства, В. Шульгин близок к Солженицыну, как и положено ретрограду. Вопрос этот так его волнует, что он даже изменяет своему обычному суховато-деловому стилю и ударяется в поэзию: «Есть ли Равенство – закон Природы или, наоборот, Природа есть роскошная хартия неравенства, выписанная бесконечно-неравными литерами на картах звездного неба? Уравнение в правах людей, совершенно неравных по своим духовным качествам, есть восстание против Природы, каковое восстание не может не караться время от времени…»
Стыдно признаться, но я с ним согласна – может, я тоже из разряда ретроградов? Что ж, раз так, я перейду к анализу еще одного собрата по ретроградству – ибо многое из того, чем он вызвал раздражение русскоязычной части «прогрессивного человечества», может быть, если не вполне оправдано, то в значительной степени смягчено переопределением русского народа как невзрослого, рассмотренного в противостоянии с еврейским народом как взрослым.
Ретроград этот почти во всем соответствует тому описанию, которым Каганская объединила Достоевского и Солженицына: у него – мировая слава (в области математики), он предъявил деспотизму обвинения дантовской мощи (вместе с А. Сахаровым). В тюрьме он, правда, не сидел, но мог бы сесть, будучи верным соратником Сахарова в самые тяжкие времена. И, несмотря на все это, взял и грубо обманул наши ожидания: вместо приличествующего его статусу призыва к равенству и братству написал гнусный антисемитский опус «Русофобия». Вы уже поняли, о ком речь? Вы правы: именно о нем, об академике Игоре Шафаревиче. Именно его печально и позорно знаменитое творение я хочу опять подвергнуть анализу – не с целью осудить, а в надежде понять.
Надеюсь, никто не заподозрит меня в пристрастии к антисемитам, хоть, должна признаться, особой неприязни я к ним тоже не питаю – ведь я позволяю себе судить и оценивать другие народы, почему бы не позволить и им судить и оценивать мой? Тяжко это только в условиях политического неравенства, а если за моей спиной есть моя армия и флот, то пусть думают, что хотят.
В личном пристрастии к Шафаревичу меня тоже трудно заподозрить – суть не в том, что он обложил лично меня в «Русофобии», а в том, что он обложил меня неинтеллигентно. Привожу его слова:
«Пьеса «Утомленное солнце» (вообще замечательная клокочущей ненавистью к русским). Автор – Нина Воронель, недавний эмигрант из СССР (может быть, пьеса здесь и писалась?). В пьесе трус и негодяй Астров спорит с чистым, принципиальным Веней. Астров кричит:
– Ответственности вы не несете, но устраиваете нам революции, отменяете нашего Бога, разрушаете церкви!
– Да чего вы стоите, если вам можно революции устраивать! – парирует Веня».
На этой фразе Шафаревич основывает свое заключение о моей «клокочущей ненависти к русским». Не собираясь доказывать, что я не верблюд, я хочу обратить внимание читателей на его исключительно неинтеллигентную презумпцию, будто герои пьесы всегда выражают мнение автора. Какое счастье, что Шафаревич не татарский националист! Не то он, процитировав пьяного шкипера из другой моей пьесы «Воскрешенный»: «у татарок все поперек, – что у других баб вдоль, то у них поперек», – мог бы объявить, что я, томимая подсознательной завистью к Белле Ахмадуллиной, облыжно охаиваю татарских женщин.
И все же я хочу сопоставить тезисы «Русофобии» с тезисами книги Шульгина не с целью осудить, а все в той же надежде понять. Многое объединяет ретрограда-Шафаревича с ретроградом-Шульгиным – уж Каганская на моем месте обязательно нашла бы какое-то сложно-семантическое объяснение тому факту, что их фамилии начинаются на одну и ту же букву, родственную ивритскому «шин», с которой начинается ивритский «ШЕД», по-русски означающий – «бес, черт». Так мы и будем этих чертей величать – «2Ш». Оба черта во многом совпадающе-логичны и даже порой справедливы в оценке отдельных характерных черт как русских, так и евреев. И так же внезапно совпадающе-истеричны, когда вдруг теряют контроль над своими, до того вполне разумными, мыслями и дружно в унисон заходятся в кликушеском припадке антисемитского безумия.
Однако при ближайшем рассмотрении внезапность этих припадков оказывается иллюзорной, их можно заранее предсказать: они случаются, когда ущемляется общая душевная грыжа наших «2Ш» – их мучительный комплекс неполноценности. Можете судить сами:
«Г. Померанц открывает универсальную закономерность русской жизни – что в ней всегда ведущую роль играли нерусские: «Даже в романах русских писателей какие фамилии носят деловые, энергичные люди? Костанжогло, Инсаров, Штольц. Тут уж заранее приготовлено было место для Левинсона». Ставится даже такой мысленный эксперимент: если бы опричника Федьку Басманова перенести в наш век и сделать наркомом железнодорожного транспорта, то у него, утверждает автор, поезда непременно сходили бы с рельс, а вот «у мерзавца Кагановича поезда ходили по расписанию, как раньше у Клейнмихеля» (И. Ш.).
Ничего не скажешь, мерзавец Г. Померанц написал обидно, особенно для того, кто сам так думает – страдает, локти себе кусает, но в глубине души согласен, что мерзавец подметил правильно. А ведь какое было бы им облегчение, если бы объяснить непрактичность и неумелость русских просто их невзрослостью, детством – тогда и упреки в варварстве и жестокости звучали бы не так непереносимо: ну что взять с дитяти?
А если считать, что все народы одинаково взрослые, беднягам «2Ш», по милости таких Померанцев, становится до боли стыдно за свой народ, вот они и кликушествуют. И при этом в своих собственных, полных детских обид писаниях приводят примеры, которые при желании могли бы объяснить и оправдать их подопечных.
«…проверим наши сомнения на утверждении о жестокости, варварстве, специфическом якобы для всей русской истории. Как будто существовал народ, который в этом нельзя упрекнуть! В Библии читаем о царе Давиде: «А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки…» А эллины?.. А Варфоломеевская ночь?.. И так было через всю историю» (И. Ш.).
Обидно Шафаревичу: евреям безобразия царя Давида прощают, французам Варфоломеевскую ночь не засчитывают, а на русских катят бочку и за царя Ивана, и за царя Петра, и за императора Иосифа Сталина. А ведь он, математик, мог бы заметить сходство между евреями эпохи царя Давида и французами эпохи Варфоломеевской ночи: они проходили тогда свой период детского садизма, период вождизма, период стремления втиснуть потную народную ладошку в сильную руку Отца. Тут Шафаревич прав: все народы через это проходили. Суть в том, что некоторые уже прошли. Ни к чему страдать и стыдиться за свой народ, даже если он еще в пеленках. Все там были.
Вот вырастет, поумнеет и себя покажет. Как это у Киплинга, когда он утешает семнадцатилетнюю девушку, тушующуюся в сравнении с опытной красоткой «под пятьдесят»: потерпи, через тридцать лет «ей будет восемьдесят пять, тебе – под пятьдесят». Беда (а может, счастье?) в том, что исторические процессы текут слишком медленно, там часы другие, исторические: «тридцать лет» Киплинга – это тридцать людских поколений, так что за одну жизнь не дождешься утешительных перемен.
Вот и воюют между собой радетели и хулители, согласные по сути и несогласные по недоразумению, но те и другие равно близорукие. Главное поле их битвы – вопрос о демократии. Все они сходятся на диагнозе: с демократическим устройством в России есть – и всегда был – непорядок.
Несогласие начинается при обсуждении причин болезни и методов ее лечения:
«…основной вопрос, который сейчас, как и много поколений назад, разделяет русское диссидентское движение, – является ли Россия европейской страной или для нее существует особый, собственный путь развития». А. Янов (хулитель).
«По мнению авторов (хулителей) вообще существует лишь два решения, выбор возможен лишь из двух вариантов – современная демократия западного типа или тоталитаризм… Что касается современной демократии западного типа, которую столь настойчиво предлагают разбираемые авторы (хулители) в качестве универсального решения всех общественных проблем, то в ее современном состоянии она вызывает ряд сомнений…» И. Шафаревич (радетель).
С невозможностью немедленного полного расцвета демократии на изрядно затоптанной в грязь клумбе российской действительности согласны оба лагеря, спор идет лишь о том, считать эту невозможность результатом достоинств русского народа или его недостатков. И радетели, и хулители сосредоточились именно на оценочной стороне проблемы – читая их полемику, порой можно подумать, что реальная судьба России волнует их гораздо меньше, чем ее престиж в ряду цивилизованных стран.
«Так в России вообще делается история. Русский народ трепещет и пятится перед грозным самодержавием, которое его режет на части, как Иванушку, и спекает заново. Потом, когда спечется, – признает хозяина своим и служит ему верой-правдой». Г. Померанц (хулитель).
«…мы имеем дело не с искренними попытками понять смысл русской истории, а с целью… внушить читателю взгляд, согласно которому русские – это народ рабов, всегда преклонявшихся перед жестокостью и пресмыкавшихся перед сильной властью… а Россия – вечный рассадник деспотизма». И. Шафаревич (радетель).
Забавно, что не только хулители (что естественно), но и радетели (что, впрочем, тоже естественно, если вдуматься) именно демократический уклад принимают за образец для положительной оценки. Но если хулители требуют привести русский народ к этому идеалу искусственным насаждением структуры и насильственным давлением извне (А. Янов так и называет это «духовной оккупацией»), то радетели, подсознательно скрывая от себя самих цель таких поисков, ищут более органичных (хоть, вероятно, еще менее реалистичных) путей к достижению этой цели.
«Важно для русских не то, будет ли у них Парламент, Земский Собор, Вече или еще что-нибудь в этом роде. Важно, чтобы у нации был вожак, который ослаблял бы неистовое взаимотрение русского народа, складывал бы русские энергии, а не вычитал бы их одну из другой, как это неизменно делается, когда воцаряется хаос, именуемый некоторыми «русской общественностью», другими – «русской демократией» (В. Ш.).
«…Россия может ИСКАТЬ какой-то СВОЙ путь в истории… народ пойдет по пути, который он сам выработает и выберет… через свой исторический опыт» (И. Ш.).
А. Янов об этом поиске пишет: «Не заключается ли он в поисках альтернативы для европейской демократии? И не приводит ли такой поиск неизбежно даже самых благородных и честных мыслителей в объятия авторитаризма?»
С первого взгляда кажется, что противоречия между глашатаями обоих направлений неразрешимы, а по сути и те, и другие очень близко подходят к точке водораздела, т. е. к проблеме возраста народа, – они просто подходят к ней с противоположных сторон. Если бы они эту точку заметили и осознали, то, возможно, сами удивились бы близости своих позиций.
Это как поиски «зайчика» на картинке-лабиринте: после того, как ты его нашел, ты уже не можешь его потерять, ты всегда его видишь.
Не нужно НАСИЛЬСТВЕННО НАСАЖДАТЬ ДЕМОКРАТИЮ, точно так же, как не нужно утруждать себя ПОИСКОМ каких-то таинственных собственных путей, – просто надо потерпеть, пока народ-ребенок повзрослеет. Как ребенок неизбежно склонен к авторитаризму, так взрослый добровольно выбирает демократию – ибо только взрослый способен к сознательному выбору. Сам процесс взросления, очевидно, нельзя – И НЕ НАДО! – ни ускорить, ни замедлить.
Любопытно, что больше всего неосознанных указаний на это можно найти у самого ретивого и воинственного ретрограда И. Шафаревича. Предсказывая западной демократии скорую гибель, он в виде доказательства ссылается на то, что «из вновь возникающих государств почти ни одно не избрало государственный строй западного типа». Если признать верным склонность невзрослых народов к авторитаризму, утверждение Шафаревича нисколько не умаляет жизнеспособности демократии, оно только подчеркивает ее непригодность для «вновь возникающих государств».
Как определить наступление взрослости? Внимательный обзор исторического процесса возникновения и утверждения демократического уклада в Европе (я принимаю как аксиому тот факт, что демократия – и в Европе, и в США – это дитя европейской, точнее, христианской, цивилизации) наводит на мысль, что момент взросления народов весьма тесно связан с реформацией. По сути реформация содержит в себе все элементы взросления: как переход от слепой веры в миф к его критическому переосмыслению, так и переход от коллективного сознания к утверждению суверенности отдельной личности.
Чем же характерна реформация?
Тот же дотошный радетель Шафаревич практически поставил точку над этим «i», введя определение «малый народ».
«Мы сталкиваемся с КАЛЬВИНИЗМОМ, оказавшим такое влияние на жизнь Европы XVI–XVII веков. В его идеологии… мы легко узнаем знакомые черты «малого народа».
Совершенно в унисон с Шафаревичем пишут цитируемые им злокозненные хулители – безымянный Горский, Г. Померанц и Б. Шрагин.
«Старое противоречие между беспочвенной интеллигенций и народом предстает сегодня как противоречие между творческой элитой и оболваненными и развращенными массами, агрессивными по отношению к свободе…» (Г-й).
«Новое что-то заменит народ. Здесь складывается хребет нового народа. Масса может заново кристаллизоваться в нечто неправдоподобное только вокруг новой интеллигенции» (Г. П.).
«Интеллигенция в России – это зрячий среди слепых, ответственный среди безответственных, вменяемый среди невменяемых» (Б. Ш.).
Остается только добавить «взрослый среди детей» – и все станет на место. А поскольку с дитяти взять нечего, можно будет с легкостью пересмотреть и даже убрать обидные слова вроде «невменяемый и безответственный», «зрячий среди слепых». И ждать реформации, т. е. состояния, когда прослойка «малого народа» достигнет такого размера, что сможет повлиять на поведение «большого».
В августе 1991 года на миг показалось, что чудо уже произошло. Несомненно, толпа у Белого Дома в основном состояла из «малого народа» – она, однако, была достаточно большой, чтобы пересилить заговорщиков. Но сегодня уже ясно, что ей не удалось пересилить инертность и невзрослость «большого народа». Что ж, ведь и Февральская революция начиналась видимостью народной взрослости, а кому не известно, чем она кончилась? И опять народ-дитя ищет Отцовскую фигуру, чтоб ее гигантский силуэт мощно вырисовывался на пожарном фоне Российского неба.
За то, что я пыталась втолковать эти соображения Бену Сарнову, он проникся ко мне глубокой неприязнью и отверг нашу многолетнюю дружбу. Спрашивается, стоило ли терять старых друзей ради репутации Солженицына? Ну зачем мне понадобилось лезть в чужие дела? Зачем после стольких лет благоразумного уклонения я снова стала обсуждать этот Богом проклятый «Русский вопрос», на который нет и не может быть общего ответа?
Тем более, что единственно возможный частный ответ – уехать подальше, забыть и растереть – я нашла уже так давно, что почти забыла вопрос. Забыть-то забыла, да растерла, видно, не до конца, раз опять потянуло меня на зыбкие российские топи и на топкие хляби исторической родины, России.
Ведь к концу жизни я нашла свое место на земле. Когда я увидела ровные ряды каменных плит на каменных склонах иерусалимского кладбища, мне открылась истина: Родина – это место, где твоя смерть имеет какой-то смысл. По еврейским представлениям умереть – значит «вернуться к своему народу». То есть истинное понятие Родины кровно связано не с рождением, а со смертью. Обыденное коренное родство слов «родина» и «родиться» сбивает с толку, затушевывая эту связь и придавая чрезмерную значительность месту нашего рождения, – а ведь мы его не выбираем.
Но все же оказалось, что место рождения, пусть и не столь значительное, имеет власть над моей душой – памятными деталями, запахами детства, диктатом навечно заученного синтаксиса.
Есть ли еще язык, который я знаю так же хорошо, как он знает меня?
Есть ли еще вопрос, ответ на который подсказан мне не разумом, а чувством?
Можно ли убежать от себя самой?
За это все я и заплатила потерянной дружбой.
Илья Кабаков и Михаил Гробман
Местный хулиган Гробман гордо ехал по Тель-Авиву на белом коне, за ним весело приплясывала небольшая, но яркая процессия соучастников. Кудрявую голову хулигана украшал венок из живых цветов, конь под ним потряхивал белой гривой, в которую артистическая рука любящей супруги Ирины Гробман-Врубель-Голубкиной вплела алые ленты, соучастники нестройно скандировали непонятное на русском языке. Ивритоязычная уличная толпа обтекала процессию без излишнего любопытства – мало ли у нас в стране чудаков? Им, невеждам, было невдомек, что это русские авангардисты отмечают столетие со дня рождения Председателя Земного Шара Велимира Хлебникова.
Откуда было знать им, взращенным на свободе любого выпендривания, сколько отваги понадобилось Мише Гробману, чтобы превратить свою жизнь в непрерывный хеппенинг?
Впервые я услышала о Гробмане много лет назад в Москве от художника Ильи Кабакова, его славного соратника по борьбе с социалистическим реализмом. Это было на дне рождения Лины Чаплиной, о которой я тоже когда-нибудь напишу, если решусь рискнуть многолетней дружбой.
Мы на празднество слегка опоздали и, войдя в тесную квартирку Лининой мамочки, вдруг оказались в оголтелой толпе танцующих. Не знаю, какая муха их всех покусала – у Лины никогда не танцевали, к ней приходили поговорить. Это мероприятие так и называлось «пойти к Линке на диван», потому что и гости, и хозяева впритирку сидели на большом диване и взасос ругали Советскую власть. С дивана сползали, только если мамочка звала пить чай или если кто-нибудь приносил подсудный самиздат. Тогда ложились вповалку на потертый ковер на полу, чтобы все одновременно могли читать запретное, напечатанное с двух сторон на папиросной бумаге.
А тут все словно взбесились – позабыв родную ненавистную власть, все говоруны и пророки ни с того ни с сего начали неумело, но страстно отбивать сильно напоминающий чечетку рок-н-ролл. Кабаков выделялся среди других танцоров несомненным мастерством исполнения и полным равнодушием к партнершам. Было неважно, с кем он танцевал, – он всегда упоенно и виртуозно танцевал сам с собой. И никто больше не был ему нужен.
Тогда, в молодости, Кабаков говорил без остановки, упоенно и виртуозно, поясняя свои картины, создавая и разрушая эстетические концепции. Именно в тот вечер, переводя дух между роком и танго, он для иллюстрации своего очередного теоретического взлета упомянул Михаила Гробмана как одного из «отцов советского авангарда». Имя Гробмана вспыхнуло на миг, но тут снова грянула музыка, и Кабаков впорхнул в звуковой поток и упоенно закружился по комнате, позабыв обо всем, кроме танцующего себя.
Когда я переехала в Израиль, мне сказали, что Гробман давно живет в Тель-Авиве, но встретились мы только через несколько лет. В тот августовский вечер в небольшой тель-авивской картинной галерее был вернисаж какого-то русскоязычного художника. Смешно говорить о языке художника, для которого язык несуществен, но как иначе определить его принадлежность к нашей группе?
Вернисаж получился отличный – вина выставили много, а к вину дали разные сыры и крекеры всех сортов. Да и народу, несмотря на жару, сбежалось видимо-невидимо: очень уж все стосковались по российской тусовке. В низком подвальчике галереи было не продохнуть, так что большая часть публики выплеснулась наружу, на узкую улочку, стекающую в море ленивой струйкой плавящегося от жары асфальта. Одеты, а вернее раздеты, все были соответственно погоде – мне кажется, что только в Тель-Авиве дозволено прикрывать тела любого пола, веса и возраста такими эфемерными фиговыми листочками. В других известных мне жарких городах, например, в Нью-Йорке или в Иерусалиме, за такую фривольность осудили бы единодушно.
В оживленно болтающей пестрой толпе полуголых выделялся невысокий кудрявый парень, плотно упакованный в наглухо застегнутую на все пуговицы джинсовую куртку и в джинсы, заправленные в высокие, до колена, черные сапоги. Бросалось в глаза, что он знаком со всеми: он непринужденно бродил от группы к группе, довольно ловко лавируя среди беззащитных ног в сандалиях и босоножках. И говорил. Никого не слушал, только говорил.
«Кто это – в сапогах?» – спросила я.
«Неужто не знаешь? – удивился мой собеседник. – Это ведь Миша Гробман – кто еще в августе может явиться в сапогах? Зато зимой он бы обязательно приперся в шортах – в пику нам, обывателям, кутающимся в шарфы!»
Действительно, как я могла не догадаться, что это Гробман? Не по сапогам, а по словесам: он говорил совсем как Кабаков, – без остановки, упоенно и виртуозно, поясняя свои картины, создавая и разрушая на лету эстетические концепции. Впрочем, я ведь тогда еще не отдавала себе отчета, как неразрывно кабаковско-гробманский вариант авангарда связан со словом.
Кто-то сказал, что «авангард» – это не стиль, а образ жизни. Кто-то возразил, что это – образ мыслей. Я бы сегодня сказала, что это – фигура речи. Уже в блаженные времена подпольного «авангарда», когда всякий, кто держал в кармане эстетическую фигу, мог претендовать на гениальность, Гробман громил реализм железным кулаком слов:
«Реалист есть лживый свидетель человеческого существования, осквернитель воли Творца. Реализм… в своих объектах и художественных акциях апеллирует к прозаической логике домашних хозяек».
Ни Гробман, ни Кабаков никогда не стремились изобразить на своих полотнах внешний облик окружающего мира, хоть в молодости они еще снисходили до простого наложения красок на холст. Но с самого начала своего творческого пути оба они стремились словесно сформулировать свое философское видение искусства, явно не полагаясь на прямое, не подкрепленное словом, воздействие своих картин. Откуда это пристрастие к слову? Большинство знакомых мне художников – люди бессловесные, в ответ на вопрос, что они хотели изобразить на своих картинах, они или сердятся, или нечленораздельно бормочут. Зато слушать Кабакова, говорящего о своей живописи, куда увлекательней, чем эту живопись разглядывать. Но не потому, как говорится в известном анекдоте, что его живопись недостаточно интересна, а потому что нет ему равных в искусстве рассказа. Помню забавную его картину, сплошь записанную неприхотливыми ситцевыми обоями в виде сиреневых букетиков, геометрически равномерно чередующихся на бежевом фоне. Единственной нарушительницей порядка была большая иссиня-лиловая муха, несимметрично примостившаяся среди букетиков где-то справа от центра.
«Я сделал из мухи слона! – восторженно объяснял художник. – Она нарушает скуку размеренного поля обоев и вырастает в событие!»
И, соблазненные его словами, мы начинали смотреть на муху другими глазами.
Однажды я привела к Кабакову своего приятеля, жаждавшего приобщиться к миру неофициального искусства. Мы вошли в подъезд со двора и долго взбирались по черной лестнице для прислуги на чердак многоэтажного дома, где Кабаков обустроил свою мастерскую. Дом был дореволюционный, барский, помнится, он принадлежал когда-то акционерному обществу «Россия», так что строили его щедро и этажи были непомерно высокие, а лифт подавали только на парадной лестнице для господ. Но лестничная площадка чердачного этажа не была концом нашего пути – ею открывался следующий этап, по бесконечным дощатым мосткам, переброшенным над зияющими провалами в чердачных перекрытиях.
Когда мы наконец добрались до кабаковской двери, лицо моего приятеля выразило столь сильное сомнение в том, насколько ему действительно интересен поп-арт, что мне стало его жаль. Я не уверена, что он, человек глубоко буржуазный, был вознагражден за свои усилия, когда увидел мастерскую «первого советского дадаиста» – так тогда величали Кабакова. Теперь его титул сменился на «главного концептуалиста», что, наверно, надо рассматривать как повышение. В те далекие времена он еще не был концептуалистом, хотя, как мы обнаружили, семимильными шагами приближался к своему новому титулу.
Мы, конечно, еще не знали, что в ближайшем будущем это назовут концептуализмом, но, обходя огромный низкий зал, встроенный прямо под крышей высокостенного барского дома, мы невольно отметили, как густо картины последнего периода записаны фразами различной длины – гораздо гуще, чем замалеваны красками.
Начался наш визит с курьеза. Как я уже отметила выше, приятель мой, хоть и поддерживал в себе интерес к искусствам, по сути своей был человек вполне буржуазный, да к тому еще изрядно измученный тернистым путем в святыню авангардизма. Поэтому он поспешно снял свое вполне доброкачественное драповое пальто и велюровую шляпу и стал озираться в поисках вешалки. Хозяин, который с ходу начал упоенно рассказывать драматическую историю своих поисков способа отражения четвертого измерения в живописи, не обратил никакого внимания на страдания гостя, томящегося под бременем пальто и шляпы. Он не понимал, почему гость просто-напросто не швырнет весь этот хлам на пол или в крайнем случае на покрытый шерстяным одеялом диван, приткнувшийся в углу невысокой сцены, выгороженной посреди мастерской под жилую часть. Но гость дорожил своим приличным пальто и потому, в конце концов, нашел висящие на гвозде деревянные плечики, на которых удовлетворенно разместил свою драгоценную верхнюю одежду. Не успел он вернуть плечики обратно на гвоздь, повалив при этом дворницкую метлу, прислоненную к стене под гвоздем, как Кабаков прервал свой вдохновенный рассказ и завопил:
– Немедленно уберите оттуда пальто! Ведь плечики – это часть картины!
Мой несчастный буржуазный приятель страшно смутился: он поспешно сорвал пальто и шляпу с плечиков, которые с грохотом упали. Он испуганно бросился их поднимать, отшвырнув при этом в угол метлу, и в завершение, ясно сознавая свою обывательскую неполноценность, уронил пальто и шляпу на грязный пол, который отродясь никто не мыл. Кабаков всех этих мелочных переживаний даже не заметил: он аккуратно вернул метлу и плечики на место и стал пространно объяснять, что именно эта, еще не вполне завершенная, картина служит особенно ярким примером его последних достижений в области четвертого измерения.
Картина представляла собой большой белый прямоугольник примерно два метра на три, расчерченный как школьный дневник, если увеличить его страницу пропорционально площади картины. В верхнем правом углу прямоугольника был вбит гвоздь, на гвозде висели злополучные плечики, а под ними стояла метла. Истинная суть картины состояла не в самих предметах, а в реакции на них разных вымышленных персонажей, преимущественно членов одной еврейской семьи, как следовало из их имен, выведенных каллиграфическим почерком в левой, короткой, графе дневника. Тут были тетя Броня, тетя Песя, дядя Пиня и другие им подобные. Они высказывались категорично и с налетом одесского акцента в средней, удлиненной, графе, тогда как в правой, последней графе им за это выставлялись отметки по пятибалльной системе. Так как картина была еще не окончена, не все мнения были сформулированы, но помню, как тетя Броня настаивала, что метла нужна, чтобы в доме было чисто, а любознательный дядя Пиня хотел знать, зачем тут плечики, за что получил пятерку. Вот эти-то нехитрые соображения тети Брони и дяди Пини и передавали, по концепции Кабакова, идею четвертого измерения в нашем хоть и неблагополучном, но вполне трехмерном мире, ибо каждое событие и предмет умножались в свете разных о себе представлений.
– А вон та картина, – гордо указал Кабаков на голубой квадрат над диваном, – выставлена сейчас в Париже.
– Это, что ли, копия? – наивно спросила я, разоблачая свое полное непонимание самых основ грядущего концептуализма.
– Нет, это оригинал, – возразил Кабаков.
– А что же выставлено в Париже? Неужто копия?
– Ну что ты заладила – копия, копия! Там тоже оригинал! – рассердился он. – Я послал туда образцы цвета и шрифта, а также размеры и текст, и они все воспроизвели на месте.
Таким образом, при мне, возможно впервые, был сформулирован основной принцип возникавшего на моих глазах концептуализма – воспроизводимость. Я, разумеется, тогда этого не поняла, но теперь вычислила и горжусь своей причастностью.
Надо сказать, что картину, о которой шла речь, воспроизвести было бы нетрудно – так проста и концептуальна она была. Небольшой – полтора на полтора – квадрат был равномерно закрашен голубым, так что белыми остались только четыре маленьких равнобедренных прямолинейных треугольничка в четырех его углах. В каждом треугольничке каллиграфическим почерком было записано мнение одного из членов той же еврейской семьи – похоже, они обсуждали разделяющее их голубое пространство. «Это море», – сказала тетя Броня. «Это небо», – сказала тетя Песя. «Это просто синяя краска», – сказал дядя Пиня. «Это чистый воздух», – сказал дядя Мося.
Похоже, стареющая авангардистская живопись с годами стала все больше и больше стремиться выразить себя в слове.
Шел вечер журнала «22». Местный хулиган Гробман читал со сцены свои стихи, напечатанные в последнем номере журнала. Стихи были охальные и очень смешные. После нескольких строк, в которые были щедро вкраплены изюминки нецензурных слов, немолодые нарядные дамы, сидящие в первых рядах, дружно и картинно заткнули уши. В ответ молодые читатели, сидящие на ступеньках в проходе, не менее дружно затопали ногами и завыли от восторга.
Поскольку М. Гробман за прошедшие годы прорвался в самый передовой авангард их общего с И. Кабаковым авангардизма, он стал все сильнее пренебрегать изобразительной формой ради формы словесной. Или, выражаясь научно, стал все чаще жертвовать первой сигнальной системой ради второй. Так, лет десять назад он издавал рукописную – не путать с машинописной! – газету «Левиафан», основная прелесть которой состояла в графической красоте аккуратно и разнообразно выведенных букв с завитушками и без, которые складывались в художественную программу учения «Левиафан», которая давала жизненные силы эстетическому движению «Левиафан», которое было создано для великой цели «творить психологию, историю и этнографию», которые…и т. д.
Стихи М. Гробмана, не пренебрегая психологией и историей, похоже, сосредоточились на создании этнографии. Героями их стали члены все той же еврейской семьи И. Кабакова, впрочем, только мужская ее часть – дядя Пиня и дядя Мося. Тете Броне и тете Песе мэйл-шовинист Гробман слова не дал, разве что позволил им выступать во вспомогательных бессловесных ролях: «Детишки рыдали, жена раскололась…», «Жена украинские песни поет…», «Жена, наполни чемоданы, чего стоишь как истукан…»
Зато дядя Пиня и дядя Мося М. Гробмана сохранили свой акцент, свой здравый смысл, свой философский подход к жизни, а главное – свое умение по обстоятельствам то делать из мухи слона, то из слона – муху:
«Я сионист и я горжуся Незримой вредностью своей — Уже давно владею Русью Как франкмасон и как еврей…» «Если видеть через призму изменения жены, То не надо сионизму и не надо мне войны. Я отдам Ливан задаром, Иудею и Голан Хоть арабам, хоть татарам, хоть гибридам обезьян».Однажды дяде Мосе пришла в голову идея перераспределения Нобелевской премии И. Бродского (340 тысяч долл.) – он, конечно, знал лучше всех, кому положено ее получить:
«Я стяну с себя засаленный лапсердак Надену рубашку, галстук, черную пару… И начну быстро пока не прогнали».Все-таки он подозревал, что не все согласятся с его выбором! Я же, прочитавши имена новых лауреатов дяди Моси – Хуннадия Айги и Стася Красовицкого, – вспомнила свой почти хрестоматийный диалог с ныне знаменитым X. Айги, которого в те далекие времена прозаически звали Генка Лисин:
Лисин-Айги: Нет, Пастернак не гений всех времен и народов. Гениев всех времен и народов только три: Гете, Рильке и Красовицкий.
Я (озадаченная): А кто это – Красовицкий?
Лисин-Айги (возмущенно): Ты не знаешь Красовицкого? Это величайший поэт всех времен и народов.
Я (наивно): Лучше тебя?
Лисин-Айги (гневно): Почему лучше? Вровень!
Из этого диалога мне открылся еще один признак концептуального авангарда – каждый его участник считается (среди своих) гением всех времен и народов.
В далеком тихоокеанском городе Сиэтле, куда мой муж был приглашен на лето для научной кооперации, проходила выставка русского авангарда. Американский коллега мужа счел своим долгом почти прямиком из аэропорта втиснуть нас в машину и повезти в музей, чтобы в принудительном порядке познакомить нас с достижениями наших бывших соотечественников. Так американцы понимают гостеприимство – что, пожалуй, легче перенести, чем недавнее гостеприимство израильтян, которые настойчиво требовали петь с ними хором «Подмосковные вечера».
В музее было прохладно и пустынно – наверно, мы были единственные в тот день в Сиэтле гости российского происхождения. Мы прошли мимо весьма реалистически выполненного графика послеменструальных выделений художницы Н. Ивановой и вошли в инсталляцию И. Кабакова.
Было очевидно, что художник направил свой творческий поиск в сторону увеличения размера своих произведений: если внутри его картины прошлых лет можно было повесить пальто и шляпу, в современную его постройку могла, не очень теснясь, войти большая группа любопытных в пальто и шляпах. Перед нами, а вернее вокруг нас – поскольку мы вошли внутрь, – была воссоздана кухня коммунальной квартиры. Но, как и в полотнах раннего концептуализма, главный смысл этого произведения оказался глубоко и однозначно литературным. Я употребляю тут слово «произведение», поскольку не знаю, как иначе назвать это странное детище кабаковской фантазии – язык мой не в силах произнести неуклюжий термин «инсталляция», щедро пропахший засорившимся сортиром.
Впрочем, неповторимый запах засорившегося сортира был вовсе не чужд инсталляции коммунальной кухни, которая по всей длине была затянута густой сетью бельевых веревок, – на веревках висели старательно запрессованные в целлофан засохшие объедки, явно добытые из мусорного ведра. Ко всем покрытым плесенью хлебным коркам, ко всем позеленевшим ломтикам сыра и подгнившим колбасным огрызкам были приколоты листочки, на которых каллиграфическим почерком были увековечены философские сентенции неугомонной тети Песи и благоразумного дяди Моси.
Но, как видно, близкое знакомство с нравами Запада внушило художнику сомнения в доходчивости написанного текста, и потому под потолком кухни он поместил радиомегафон, непрерывно транслирующий насыщенную житейской мудростью дискуссию тех же персонажей. Как видно, следующий шаг авангардизма состоял не только в укрупнении декорации, но также и в расширении путей проникновения слова в сердце публики.
Через несколько лет я опять встретила Гробмана. Шло заседание худсовета Тель-Авивского культурного центра при Сионистском форуме. Мы обсуждали завершение работы по созданию русскоязычной библиотеки. Застенчивая библиотекарша Р. тихим голосом рассказывала, как она в течение года собирала книги, на покупку которых ей не было выдано ни гроша. Она с потаенной гордостью обвела рукой шеренги уставленных книгами полок и робко подняла глаза на членов совета, ожидая одобрения. Не успел никто из нас открыть рот, как к столу докладчика стремительно вылетел М. Гробман.
– Это позор! – страстно воскликнул он, указывая на книги.
Все замерли в предчувствии драмы, а библиотекарша ахнула и часто заморгала. Но М. Гробман не заставил нас долго томиться недоумением. Он картинно воздел руки и продекламировал:
– Стыдно в конце двадцатого века думать, что библиотека – это место, где на полках стоят книги. Ничего подобного, библиотека не имеет никакого отношения к книгам!
После этих слов библиотекарша заплакала и заседание худсовета пошло сикось-накось. Никто уже не говорил о библиотеке, все говорили только о Гробмане.
Я не думаю, что М. Гробман имел что-нибудь против книг вообще или против скромной библиотекарши Р. в частности. Ему скорей всего просто надоело долго сидеть среди людей, не уделявших ему специального внимания. Его выступление на худсовете не отличалось принципиально от его выезда на белой лошади – оно сводилось к расширению путей проникновения слова в сердце публики.
Много лет назад молодой и еще никому не известный художник И. Кабаков так определил свои творческие задачи: «Мы живем в эпоху инфляции искусства. Сегодня никого нельзя удивить изощренной живописной техникой или необычной цветовой гаммой. Все умеют писать хорошо. Нужно привлечь к себе внимание публики на выставке – и это главное».
Конечно, не Кабаков выставил в зале музея первый унитаз в виде художественного экспоната – но он успел вскочить на подножку этого поезда в будущее на последнем разъезде между Москвой и Парижем. Дальше его уже понесло на волне.
Он создал инсталляцию в виде двух натуральных кабинок грязного общественного туалета, и посетители выставки в музее Помпиду заходили в эти кабинки с не меньшим удовольствием, чем в чистые кабинки подлинного туалета музея. Причем о посещении туалета-экспоната они восторженно рассказывали своим друзьям, тогда как посещение подлинного туалета оставалось личной тайной каждого.
Много лет спустя, услышав мой рассказ о заветных зеленых туалетах в музее Помпиду, известный немецкий славист проф. Вольфганг Казак, неожиданно забыл правила вежливости и заорал пронзительным фальцетом:
– Настоящих лагерных сортиров он не отведал, ваш Кабаков! Посидел бы он на дощатом насесте длиной в триста очков, он бы такие сантименты вокруг сортиров не разводил!
Оказалось, что замечательный русский язык крупнейшего немецкого специалиста по русской литературе, был выучен им в лагере военнопленных, куда он попал в семнадцать лет. Он провел в этом лагере три года, которые оставили несмываемую печать в его душе – и общий сортир в триста очков сверкал там ярким пятном.
– А двери там были? – наивно осведомилась я.
– Двери, – взвыл профессор. – Дверей ей захотелось! Это в музее Помпиду были двери, а не в лагерном сортире!
Но Илья Кабаков, к счастью, не сидел на лагерном насесте и мог позволить себе безнаказанные игры вокруг российских сортиров.
Подметив, что инфляция поразила не только живопись, но и книгопечатание, М. Гробман остроумно выделил свою книгу стихов на фоне других книг – если всмотреться в изящную кружевную вязь, омывающую очертания юной гологрудой (топлесс) Музы на обложке книги, легко увидеть, что вязь эта образована бесконечно повторяющимся словом «хуй». Каждый глянет мимолетно, прочтет, не поверит своим глазам и посмотрит снова – чтобы убедиться. Вот и прекрасно – цель достигнута: повторный взгляд, притом пристальный – это уже внимание!
Разглядывая изрисованную охульным ажуром обложку охальной гробманской книжки, призывающей покончить с нашей «любимой гниющей эстетикой» и идти вперед, на Багдад, я вдруг поняла главный секрет концептуальных авангардистов.
Что бы они ни вытворяли – строили ли сортиры в выставочных залах музеев, украшали ли Музу каллиграфическим кружевом матерных слов, развешивали ли по стенам картинных галерей обагренные менструальной кровью тампоны, – все они по сути, подобно герою юношеского стихотворения Е. Евтушенко, с трогательным упорством повторяют одну единственную фразу:
– Граждане, послушайте меня!
А гражданам не до них, у граждан простые житейские заботы – квартира, колбаса, колготки, на что им Муза, даже если она «топлесс»?
Словно желая проиллюстрировать мой диагноз о возвращении авангардизма в лоно синкретического искусства, поэт Андрей Вознесенский как-то прислал мне в подарок свою книгу «Видеомы». Нет, если кто не знает, – это не сборник стихов, это каталог выставки графики автора в музее А. С. Пушкина. В предисловии к книге поэт (во всяком случае, раньше я числила его в поэтах, хотя, может, он уже давно играет ноктюрны на флейте водосточных труб) Генрих Сапгир назвал «Видеомы» вершиной творчества А. Вознесенского: «В своих видеомах Андрей Вознесенский авангарднее самого себя. Он работает на рубеже поэзии и пластического искусства».
Подумать только – совсем как И. Кабаков и М. Гробман!
Сговорились они, что ли?
Ханох Левин
Как-то во время спектакля в одном из театральных залов Тель-Авива разразился бурный скандал, взорвавший обычное вежливо-прохладное молчание театральной публики. Скандал этот напомнил славную эпоху разгрома выставок импрессионистов в Париже и разгула страстей после демонстрации первых фильмов Луиса Бюнюэля и Сальватора Дали. Происходил он согласно всем канонам того возвышенного отношения к искусству, при котором оно почитается важнейшим делом в жизни. Публика, давно привыкшая считать искусство приятным, но бесполезным баловством, вдруг встрепенулась, осознав, что присутствует при событии исключительном, принадлежащем другой жизни.
Давали пьесу израильского драматурга Ханоха Левина «Приговоренный к смерти». На сцене не было декораций в традиционном смысле слова: в центре стояли двумя рядами дамы и господа в торжественных вечерних туалетах, наводя на мысль о концертном исполнении классических пьес девятнадцатого века: так на моей памяти была одета труппа, представлявшая в шестидесятых годах ибсеновского «Пер Гюнта» на провинциальной сцене. Слева на авансцене стояли на коленях трое в полосатых тюремных костюмах, а по обе стороны сцены в роскошных, выложенных алым бархатом, витринах кровожадно поблескивали изощренные орудия пыток. Вначале все было, как положено: актеры плакали и пели, публика молча внимала, аплодируя в соответствующих местах.
Вдруг откуда-то из задних рядов раздался хриплый выкрик, похожий на птичий клекот, и грузный человек пробежал к сцене по ковровой дорожке, спускающейся ступенями в проходе между креслами. Зрители, давно привыкшие к хитроумным режиссерским трюкам, приняли его было за одного из актеров, тем более, что он с разбегу вскочил на сцену, резко выделяясь среди концертных фраков и обнаженных женских плеч, синей нейлоновой курткой на молниях. Но сами актеры в замешательстве попятились, оборвав музыкальную фразу на полутоне.
«Вы, вы! – крикнул в публику возмутитель спокойствия. Голос его вздрагивал то ли от искреннего, то ли от хорошо разыгранного гнева. – Сидите и наслаждаетесь! Аплодируете! И даже смеетесь! А здесь не смеяться надо, а плакать. Или вскочить и разнести всю сцену, все растоптать, сжечь и завыть от отчаяния на пепелище!»
Почуяв, что это не элемент спектакля, а настоящий «хэпеннинг», публика замерла, предвкушая удовольствие – равнодушная тишина зала вдруг зазвенела беззвучно от нарастающего напряжения перед взрывом. «Вон отсюда! Все вон! – завопил нарушитель спокойствия и затопал ногами. Он уже не говорил, а декламировал. – Сытые, тупые, равнодушные, прочь отсюда!»
Кое-кто из зрителей послушно поднялся – уходить, остальные сидели, не шевелясь, не дыша, боясь спугнуть происшествие. Но тут заволновались актеры за спиной возмутителя спокойствия, одна из актрис забилась в истерике. Из-за кулис выбежал администратор, он вел за собой здоровенного парня в джинсах. Вдвоем они заломили руки нервному ценителю искусств и довольно ловко уволокли его за кулисы, откуда еще долго доносился топот и неясные выкрики. Зал зажужжал, загудел и затих, актеры, поправляя сбившиеся прически, вернулись на свои места, но сосредоточиться по-настоящему уже никому не удалось, так что, хоть и побежденный физически, нарушитель мог торжествовать победу.
Прежде, чем попытаться рассказать, что в сорванном спектакле могло вызвать столь сильное желание его сорвать, мне хотелось бы окинуть беглым взором все творчество Ханоха Левина, ибо я вижу пьесу «Приговоренный к смерти» не одиночным явлением, а замыкающим звеном длинного художественного ряда, этаким восклицательным знаком в конце мировоззренческого тезиса.
Каков же главный мировоззренческий тезис Ханоха Левина, его весть, которую он несет в мир? Первая пьеса его «Хейфец» долго слонялась из театра в театр, не находя пристанища и признания. И немудрено: вся расстановка действующих сил и действующих лиц в пьесе пугала любого читателя яростным неприятием основных правил человеческой игры. Причем неприятие это было продиктовано не возвышенно-гуманистическими склонностями автора и не спасительной его любовью к ближнему, а той особой беспощадной пронзительной жалостью, которая, на мой взгляд, и составляет истинно-художественное видение.
Жалость эта происходит от бесстрашного понимания истинных причин человеческих страданий, от отважной попытки взглянуть в лицо неминуемой смерти и от сознания мелкости всех наших дел и забот перед этим неотвратимым лицом с дырами пустых глазниц над безгубым оскалом.
Персонажи комедий Ханоха Левина лишены почти всех индивидуальных и социальных черт, они напоминают маски, снабженные лишь минимально необходимым набором чувств и инстинктов. Ни на минуту автор не дает нам забыть, что как бы ни пытался возвыситься человек, – а верней, по мерке Левина, человечек, букашечка, муравьишка, тварь несчастная, – он не может уйти от своей низменной основы, ибо, как сказал Томас Манн, «внутри у него потроха, и они воняют».
Этот «запах потрохов» составляет основной элемент атмосферы всех пьес Ханоха Левина. И основная тема их, независимо от сюжета, выглядит так: вопит, суетится человеческая толпа, травит одного из себе подобных, забывая, что каждый обречен той же участи, а нет в ней ни лучших, ни худших, ибо все равны перед лицом ожидающей каждого черной ямы,
Конечно, такой взгляд на жизнь человеческую, выраженный остро и талантливо в драматургической форме, мог только отпугнуть директоров театров – ведь любой из них знал отлично, что публика ходит в театр забыться, отвлечься от ужаса существования, а не получить сокрушительную порцию смертельной тоски. Пьесы ложились стопкой в ящик стола, но Ханох Левин упорно продолжал писать – всегда об одном и том же, не склоняясь к призывам одуматься и позолотить пилюлю. И наконец Хайфский театр, в пору своей молодости стремившийся поощрять отечественных драматургов даже ценой провалов и риска, поставил «Хейфеца» без поправок и прикрас.
Успех спектакля был оглушительным и внезапным. Из безвестного чудака с дурным характером Ханох Левин вдруг превратился в одного из самых популярных драматургов страны. Но успех не изменил его отношения к жизни: каждый год он писал новую пьесу, еще горше и мудрее предыдущих, и ставил ее сам, ибо он ко всеобщему изумлению оказался еще и блистательным режиссером.
Сразу после моего приезда в Израиль мне посчастливилось увидеть один из самых успешных его спектаклей – «Торговцы резиной», не сходивший с афиш более трех лет, потом, после небольшого перерыва опять вынырнувшего из небытия, уже на других сценах, более шикарных, а в наши дни начавшего триумфальное шествие по театрам Европы.
В комедии всего трое героев, вернее, антигероев, – Аптекарша, Холостяк и Торговец, – но, хоть их мало, они, как всегда у Левина, успешно воплощают грехи, пороки и страдания всего рода человеческого. Я не оговорилась, назвав пьесу «Торговцы резиной» комедией: несмотря на истинный трагизм мироощущения, Левин избрал для его выражения форму комедии, фарса, грубого простонародного балагана, не допускающего мелкой бисерной вязи деталей.
Все в его манере просто и выразительно – это не изысканная вышивка, не тонкое кружево подтекстов и иносказаний, а скорей – контрастная, склонная к примитивизму аппликация, где каждый цвет заполняет свою, четко очерченную, геометрическую фигуру, не допуская оттенков и полутонов.
Так, без оттенков и полутонов, в разухабистом балаганном зрелище узнала я печальную историю трех пронзительно одиноких, немолодых и несчастных людей: Аптекарши, Торговца и Холостяка. Сюжет закрутился в аптеке вокруг двадцати тысяч коробок с презервативами, которые Торговец купил на аукционе по дешевке в надежде перепродать их Аптекарше. А Холостяк зашел в этот день в аптеку, чтобы купить обычную свою ежемесячную пачку презервативов в придачу к таблеткам от головной боли. Но для каждого из них это был только предлог – и Торговца, и Холостяка привлекла сюда кокетливая, хоть и не первой молодости, Аптекарша, хозяйка пышного тела и прибыльного дельца. И каждый повел на нее атаку по-своему, и каждый проиграл, ибо слишком боялся продешевить и продать свою мужскую свободу за бесценок. И каждый из троих, плача, уполз в свою одинокую нору зализывать раны.
Прошло двадцать лет, и снова встретились они в той же аптеке, у прилавка поседевшей, погрузневшей, погасшей в печали одиночества Аптекарши. Ничего не изменилось в жизни каждого из них, кроме неизбежных потерь, связанных со старостью: потери надежд, веселья, здоровья. Все так же грустит и жаждет замужества Аптекарша, все так же покупает презервативы Холостяк, только одной пачки хватает ему теперь уже не на месяц, а на полгода, все так же носится со своим катастрофически теряющим ценность товаром Торговец.
И вновь, как и двадцать лет назад, в тот роковой момент, когда надо забыть о здравом смысле, протянуть руки и крикнуть: «Ha! Бери все, что у меня есть, за крохи любви!» – каждый из них испуганно и подозрительно спрашивает: «А не проиграю ли я?» И действительно проигрывает, ибо только душевная щедрость могла бы спасти его, а ее-то как раз ни у кого из них нет.
Весь этот балаган разыгрывается в сопровождении остро-пряных, порой похабных шуток, под музыку лихих, часто похабных песенок, под смех несколько шокированного, но живо заинтересованного зрительного зала. И захлестывает невыносимая пронзительная жалость к героям пьесы, к себе, ко всем нам, жалким и жадным, столь безрассудно предусмотрительным, столь бессмысленно нерасчетливым, столь мучительно одиноким.
Комедии Левина нельзя назвать реалистическими, ибо они не привязаны ни к месту, ни ко времени – они оперируют вечными (в рамках человеческого общества, конечно) категориями, они посвящены самым глубинным, самым интимным потребностям и переживаниям человеческого существа, голого на голой сцене перед лицом неотвратимой судьбы.
Если современная драматургия, убегая от простоты реализма идет порой по пути недомолвок, как в пьесах Пинтера, а порой по пути синтетических философских иносказаний, как в пьесах Беккета, то Ханох Левин избрал свой, весьма оригинальный путь. Его герои никогда не разговаривают, как мы – простые смертные, обуреваемые множеством мелких повседневных страстей и забот. По нашим репликам можно распознать наш социальный статус, привязать нас к географической точке, найти наши временные координаты.
Герои комедий Левина живут вне времени и пространства, они не общаются на уровне второй сигнальной системы, – они выражают словами таинственную работу своего темного подсознания, того глубинного подпольного мира, где сплетаются главные нити нашего существования. Так в одной из ранних его пьес мать и дочь, выгрызая мясо из куриных ножек, ведут такой диалог:
Мать: Когда уже, наконец, ты выйдешь замуж? И перестанешь портить мне аппетит своей хмурой рожей?
Дочь: А вот ни за что не выйду, пока ты не помрешь!
Мать: А я назло тебе буду жить долго и ни за что не помру!
Обстановка этого диалога несущественна, ибо трудно представить себе подобный разговор в любой обстановке – будь то современная облицованная формаикой кухня или старомодная столовая с обеденным столом под бахромчатым розовым абажуром. Язык тоже неважен, – ведь трудно представить себе голоса, произносящие эти реплики на любом языке, тем более, что рты говорящих заняты выгрызанием мякоти из хитросплетения куриных костей и сухожилий.
И вдруг неоспоримо проясняется, что диалог этот ведется в полном молчании, которое нарушается порой лишь хрустом разгрызаемых костей и чавканьем: в прошлом веке эти реплики шли бы после ремарки «в сторону».
Если бы такой диалог был возможен в пьесе прошлого века, он в крайнем случае выглядел бы так:
Мать: Опять ты плохо ешь! И бледна что-то! (В сторону.) Господи, как ты мне осточертела!
Дочь: Да и ты сегодня к еде не прикоснулась! Уж не больна ли? (В сторону.) Надеюсь, что больна.
Мать: Разве я могу позволить себе болеть? Что станется с тобой без меня? (В сторону.) Когда уже, наконец, ты выйдешь замуж и перестанешь портить мне аппетит своей хмурой рожей?
Дочь: Надеюсь, ты еще долго будешь со мной. (В сторону) А вот ни за что не выйду, пока ты не помрешь! Назло тебе, не выйду!
Мать: Кто знает – человек предполагает, а Бог располагает.(В сторону.) А я назло тебе буду жить долго и ни за что не помру!
Конечно, такой диалог требует костюмов и декораций в стиле эпохи: подходящей мебели, соответствующих тарелок, гравюр на стенах и реалистически расположенных окон и дверей. В спектаклях Левина ничего этого нет: на голой сцене, ничем не напоминающей человеческое жилье, среди условных голых перегородок заученно движутся и разговаривают заводные куклы. Им чужды житейские мелочи, им ни к чему бытовые детали: на том уровне, на котором идет действие драмы подсознания, нет ни богатых, ни бедных, ни ловкачей, ни неудачников, там все равны.
И потому герой комедий Xаноха Левина – всегда маленький человек, букашечка, муравьишка; ведь любой из нас не более, чем муравьишка, перед уготованной каждому бездной небытия. Все мимолетное, все преходящее, все социально-значимое теряет смысл для персонажей, общающихся на уровне ремарок «в сторону»; остаются только базисные чувства и насущные желания: жажда, голод, похоть, страх.
На их фоне показались бы смешными наши неустанные игры, предназначенные для сокрытия истинных наших побуждений от нас самих, наша мышиная возня вокруг неудачной карьеры, обиженного самолюбия или неоплаченного счета. Содрав со своих героев луковые слои наносного, Ханох Левин выпустил на сцену голого человека, обреченного на страдание самой своей человеческой природой.
Исчерпав небольшой набор масок, характерных для самых основных душевных движений, драматург пришел к моменту, который можно было предвидеть: он оплакал и высмеял всех, кого мог, – обжору и сластолюбца, труса и лжеца. Ведь он сам себя ограничил выбором только фундаментальных страстей и побуждений. Маски начинали повторяться, диалоги двоиться. Что было делать дальше? Пойти по второму кругу?
Начиная с пьесы «Приговоренный к смерти», Левин вступил на новый, всем предыдущим творчеством подготовленный, путь: начал диалог с Тем, Кто ответственен за Жизнь и Смерть.
«Приговоренный к смерти» уже не бытовая комедия, где в мелких будничных обстоятельствах суетливые муравьишки улаживают свои житейские неурядицы.
В этой пьесе-оратории драматург столкнул лицом к лицу нашу краткую жизнь и наше безмерное стремление продлить ее любой ценой. Нелицеприятно и сурово решает торжественно одетый Хор жалкую судьбу трех смертных: собственно, судьба эта уже решена и смерть их неотвратима, обсуждению подлежит лишь продолжительность их жизни и способ их умерщвления. С мучительным сладострастием смакует автор равнодушие судей и страдания подсудимых, красиво выстраивая душераздирающие сцены пыток и казней, придуманных природой и усовершенствованный медициной. Не совсем ясно, кто же он такой – то ли он ненавистник рода людского, к которому сам не принадлежит и который осуждает из туманных далей по ту сторону добра и зла, то ли он – один из нас, бросающий вызов самому Творцу.
Так, во всяком случае, может быть истолкован не только спектакль «Приговоренный к смерти», но и следующие за ним «Испытания Иова» и «Великая вавилонская блудница».
Страдание – главный герой спектакля «Испытания Иова», где все несчастия, выпадающие на долю Иова, предстают в виде бесплотных масок и символических свертков в погребальных саванах, тогда как сам страдающий Иов корчится на сцене, подчеркнуто натуралистично до крови раздирая ногтями зудящую паршу на голом теле.
Но Левин не ограничивается только сценическим воплощением библейской легенды, где Бог после всех испытаний осеняет благодатью верного ему страдальца, твердящего в исступлении: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господа благословенно».
Левин хочет опровергнуть главный тезис притчи о Иове: «Человек рождается на страдание, как искры, которые рождаются из огня, чтобы устремляться вверх».
Вся вторая половина пьесы посвящена разоблачению возвышающего страдания – оно только унижает, лишая человека последних остатков достоинства и самоуважения. С честью пройдя испытания, обрушенные на него коварным Творцом, Иов попадает в руки людей – те тоже требуют от него отречения от своего Бога. Гордо отринув все их настояния, бедняга кончает свою жизнь на колу, куда он посажен очень натуралистично. Тут он, наконец, проклинает Бога, и тогда, покончив таким образом с притчей библейской, Ханох Левин приступает к разработке собственной версии притчи о Иове.
Он вводит в пьесу ловкого Антрепренера, который организует вокруг умирающего на колу Иова похабное цирковое представление, дающее карикатурный очерк человеческой жизни. Иов корчится в муках, а на его фоне обнаженная потаскуха выкрикивает в лицо изнывающему от похоти Карлику:
«Есть у меня черная дыра, откуда ты вышел. Ты хочешь обратно? Что ж, давай – ведь тебя не ждет ничего, кроме черной бездонной дыры».
И Карлик подводит печальный итог:
«Что есть человек? Вот вам человек: То он лепечет: «Бог есть» То он гавкает: «Бога нет!», То он причитает: «О, сын мой, о сын мой!», То он вопит: «О моя жопа, моя жопа!». Тот, кто вечером наслаждался жареными голубями, К рассвету мучается на железном колу. Тот, кто недавно пел, сейчас уже плачет и скоро смолкнет. Что же есть человек? То, что говорил он вчера? То, о чем он плачет сейчас? То, о чем он замолчит через минуту? То, что он делает, Или то, что делают с ним?»С еще большей яростью и отчаянием разоблачает Левин несовершенство воплощенного в человеке Божественного замысла в пьесе «Великая вавилонская блудница». Даже для тех, кто принимал жестокость и непотребство творческой манеры драматурга, было тяжелым испытанием пройти через избыточный набор насилия и непристойностей этого спектакля, оформление которого поражало почти неправдоподобным очарованием музыкальных, световых и зрительных эффектов.
Все в этом спектакле было преувеличенно и гротескно: красота и уродство, гармония и распад, ненависть и любовь. И все вместе оборачивалось проклятием нашей цивилизации, символически обозванной «Великой блудницей», потаскухой, убивающей собственных детей.
Чтобы дать представление об этой пьесе, возможно, лучший способ – способ старомодный: пересказать ее содержание. Сделать это можно на нескольких, дополняющих друг друга уровнях.
Уровень первый: Изнасилованная женщина мстит насильнику.
Уровень второй: Изнасилованная женщина мстит насильнику по канонам греческой драмы: она убивает рожденного в результате насилия ребенка и кормит им отца. Процесс выбрасывания переваренного ребенка из кишечника отца воспроизводит процесс родов нежеланного плода насилия. Так символически завершается акт мести.
Уровень третий: Все происходящее должно быть понято не буквально, а символически: согласно Библии (Иеремия, 51), Вавилон и есть блудница – при этом нельзя забывать, что на иврите слово «город» женского рода. Насильник приходит из пустыни – он варвар, не знающий моральных норм. В результате акта изнасилования блудницы варваром рождается дитя, которому суждено быть убитым матерью и съеденным отцом. Как говорится – простенько, но мило!
Мы можем принять эту версию, мы можем отвергнуть ее в негодовании, мы можем узнать или не узнать себя в маленьких человечках левиновских пьес. Но мы не можем закрыть глаза, заткнуть уши и не видеть, в каком мире мы живем.
***
Наступает вечер, куда-то за море проваливается солнце, и я открываю окно в мир.
Радио надрывно кричит по-английски, телевизор пытается перекричать его на иврите. Из-за окна доносятся лихорадочные обрывки русской речи – соседи тоже слушают новости. Душный субтропический воздух насыщен разрядами в пересекающихся силовых полях – не в электромагнитных, а в информационных.
Господи, дай силы выдержать поток новостей: всегда одно и то же – жертвы террора, жертвы обстрела, жертвы голода, жертвы катастроф. Летит в тартарары наш миленький-голубенький, наш миленький-зелененький, наш идиллический шарик, где непонятно зачем, скорей всего сдуру, вопреки законам сохранения энергии зародилась жизнь. А ведь сказано: «Все, что имеет начало, имеет и конец».
Утешительно, правда? В Иерусалиме, говорят, родился уже обрезанный мальчик – выходит, со дня на день надо ждать появления Мессии и конца забавной нашей комедии.
И неудивительно, что создатель апокалиптической драмы жил в Израиле, неподалеку от Армагеддона, что в переводе означает «гора Мегидо», и писал на языке Библии. Стоит только вглядеться в лицо его на театральной программке, чтобы увидеть, как на ладони, всю его боль и смятение. Это он – обжора и сладострастник, истерзавший себя непреодолимым чувством вины перед всеми, это он – эгоист и лжец, ни на минуту не забывающий о собственном ничтожестве, это он – приговорен и ждет исполнения приговора, это он одинок и не умеет ответить на любовь, это он страдает на сцене и негодует в зрительном зале. Кто его знает – может, он вообразил себя новым Иисусом Христом н принимает страдания за всех нас? Ведь не даром он втиснул притчу о Иове совершенно неуместную там сцену распятия, намекая, что в грехе мы все рождены и грешными сгнием в грешной земле.
Поначалу мне казалось удивительным, что человек с таким кафкианским лицом родился здесь, в стране «жестоковыйных агрессоров и лихих одноглазных Даянов». Но с течением времени я научилась различать отдельные детали социального ландшафта своей новой родины, и обнаружила, что Ханох Левин вовсе не одинок в своем разоблачительном самоедстве. Его, как мне представлялось вначале, уникальное отвращение к себе и своим собратьям с годами выявилось, как единое стадное чувство всех соучастников здешней игры в искусство, скованных общей цепью групповой вины.
Сегодня самоненависть и самобичевание драматурга меня уже не удивляет, а скорее раздражает. Это явление хорошо описано отважным израильским журналистом Арье Шавитом, который осмелился пойти против течения и поднять руку на своих, хотя он сам – плоть от плоти нашей многострадальной интеллигенции, взявшей на себя воистину христианское бремя всеобщей вины.
«На протяжении целого поколения у нас развилась культура протеста и вины, которая разработала изощренные патенты самообвинений и саморазоблачений».
Много лет назад мой давний друг, кинорежиссер Слава Цукерман, прочитав пьесу Левина «Якоби и Лайденталь», своим суждением обрек его на полную интернациональную безвестность. «Левин – объявил он безапелляционно, – необычайно еврейский писатель и только евреи способны понять движения его души и посочувствовать им».
Хоть меня это суждение смутило, я Славе поверила – ведь и впрямь драматургия Ханоха Левина не похожа на то, что охотно представляют театры мира.
Однако сейчас, через несколько лет после смерти драматурга, слава Ханоха Левина начинает набирать обороты. Во Франции девять театров ставят его пьесы – девять театров во Франции, это много или мало? Зависит от того, с чем сравнивать – если с Шекспиром, то мало, если с Ханохом Левином прошлого десятилетия – то грандиозно! Но это сейчас. А когда он сам ставил свои пьесы, и ставил весьма и весьма неплохо, никто в Европе им не заинтересовался!
Что же заставило французов вдруг полюбить нашего странного печального драматурга? Его странность, его печаль или что-то другое, более простое и понятное?
Уже не секрет, что 21 век начался давно невиданным размахом антисемитизма, который шаг за шагом выходит на центральную арену истории. Этим безобразным недугом охвачены ведущие телевизионные каналы, ведущие европейские газеты и ведущие европейские университеты, еще вчера кичившиеся свом либерализмом. Идет бурный процесс демонизации евреев и превращения Израиля в главную угрозу мировому спокойствию. Если вслушаться в слаженный хор европейских интеллектуалов, можно явственно уловить набирающее силу желание принести евреев в жертву и с облегчением расслабиться.
Но где-то в глубине антисемитских сердец европейских интеллектуалов, – не на поверхности, конечно, а под плотным слоем страха, нагнетаемого арабским террором, еще теплятся остатки прошлых убеждений. Еще не совсем забыты времена, когда было стыдно считаться антисемитом. А тут, как нельзя кстати, под руку подворачивается Ханох Левин, талантливо этих евреев принижающий, проклинающий и со знанием дела разоблачающий их отвратительную сущность.
И на душе становится так хорошо и легко.
«Мы не виноваты, – утешают себя бывшие либералы, – мы видели вчера пьесу Ханоха Левина, а он ведь израильтянин и еврей! Что же делать, если нам отвратительны его герои с их вечными жалобами на импотенцию и несварение желудка, с их неспособностью любить не только других, но даже самих себя! Он сам израильтянин и еврей, а так их не любит! Почему же должны любить их мы – благородные и справедливые обладатели здоровой мужской потенции и хорошего пищеварения? Так стоит ли из-за этих жалких уродов подвергать опасности нашу несравненную европейскую цивилизацию? Стоит ли ради них рисковать нашим миром и благополучием?»
А тут уж недалеко до проклятого, немножко постыдного, но уместного вопроса – может быть, не так уж неправ был Адольф Гитлер, приложивший столько сил для уничтожения вредоносного еврейского племени?
Боюсь, что сегодня Ханох Левин мог бы на этот вопрос ответить утвердительно.
Моцарт и Сальери Марка Гиршина
Как-то, приехав на пару недель в Нью-Йорк, мы с Сашей пригласили к себе писателя Марка Гиршина, незадолго до того приславшего нам рукопись своего романа «Брайтон Бич». К тому времени мы не только выпускали в свет журнал «22», но порой даже на заработанные журналом деньги издавали книги полюбившихся нам писателей-эмигрантов.
В тот приезд мы остановились в недорогом отеле «Роджер Вильямс», похвалявшегося тем, что в каждом его номере есть небольшая кухня – китченетт. Слово это можно было бы с легкостью расколоть на два – китчен (то есть кухни) нет, тем более, что так оно и было. Вместо кухни был узкий стенной шкаф, стыдливо прикрывавший закопченную электрическую плитку на две конфорки, оснащенную помятой алюминиевой кастрюлькой и прогоревшей почти до дыр алюминиевой же сковородкой. Над этим великолепием простирал свои крылья распознаватель дыма, который при первой же попытке поджарить кусок мяса начинал истошно завывать дурным голосом, призывая на помощь неустанно стоящего на противопожарной страже дежурного администратора.
Однако по ночам, когда наш пропахший прогорклым маслом «китченетт» наполнялся многомиллионными полчищами голодных тараканов, голосистый распознаватель не издавал ни звука – тараканы, по его мнению, не представляли никакой опасности. Возможно, он был прав, – тараканы не были огнеопасны, но громовой шорох, который они производили, устремляясь на зовущий запах сквозь клочья отставших от стен хрупких обоев, гнал прочь наш не менее хрупкий сон. Поэтому весь тот нью-йоркский период мы страдали как от постоянного недосыпа, так и от легкого несварения желудка, вызванного необходимостью довольствоваться плохо прожаренными стейками.
И вот, невыспавшиеся и раздраженные, мы сидели на жестких стульях неуютного отельного номера, поджидая автора романа «Брайтон Бич». Роман этот показался нам весьма странным, однако не лишенным своеобразного интереса. Как и обещало его заглавие, он был написан о «новых русских», то есть об одесских евреях, с боем отбивших у негритянских бандитов этот некогда преступный, а ныне коммерческий район Нью-Йорка. Герои романа Гиршина не были интеллектуалами, они вообще не были евреями в привычном для нас российском смысле этого слова.
Их дремучие мозги были оснащены ограниченным количеством извилин, но этого небольшого количества вполне хватало для обеспечения их примитивных нужд. Не задаваясь философскими вопросами о смысле бытия, они прекрасно знали, как это бытие оседлать и подчинить своей воле. Они не были ни бандитами, ни лихими ребятами из шайки Бени Крика. Не отягченные избытком совести и издержками образования, они попросту торговали подержанной мебелью или дрожжевыми пирожками, точно угадывая, где можно сжульничать, а где нельзя.
Язык их был так же примитивен, как их мысли – он тоже не был отягощен никакими интеллигентскими прибамбасами. Ожидалось, что и автор романа должен быть так же прост и свободен от издержек образования, – настолько он сроднился со своими персонажами и слился с ними воедино. И мы предвкушали, как к нам в номер ввалится напористый, жовиальный, носатый еврей с округлым брюшком, точно знающий, что чего стоит…
В дверь постучали и перед нами предстал худенький невысокий робкий человек в бейзбольной шапочке с козырьком, совершенно не вяжущейся с его неспортивным обликом. Ничем не похожий на своих мясистых, самоуверенных героев, он изъяснялся на нормальном культурном языке, а не на ужасающем диалекте пещерного жителя Молдаванки, смолоду торговавшего баклажанами на одесском Привозе.(«Ну, гражданочка, мы будем покупать или мы будем что?..»)
Храбрецом он тоже не показался – уж не знаю, как прототипы его героев справились с черными бандами Брайтон Бича, но их создатель сходу объявил, что должен уехать от нас не позже пяти вечера. «Я живу далеко и боюсь возвращаться домой после наступления сумерек, у нас очень опасный район».
Выходило, что человек, так глубоко проникший в муравьиный мир своих приблатненных персонажей, по сути не имел с ними ничего общего. Это разительное несоответствие сразу выделило Марка Гиршина из общей массы наших виртуальных авторов, хорошо образованных и по-советски интеллигентных. Мы издали роман «Брайтон Бич» и приняли к печати в журнале «22» его повесть «Секретарюк против Главинжа», посвященную разработке темы Моцарта и Сальери, только на противоположном пушкинскому – муравьином – уровне. На ее страницах Моцарт и Сальери продолжают свой безрадостный поединок, но на этот раз оба они низведены с высот духа в убогие болота повседневности.
Есть имена и слова, живущие в нашем сознании парами – то ли близнецы, то ли супруги – но всегда неразлучные, спаянные интимной подсознательной связью. Скажешь «яблоко» и тут же за ним выкатывается «груша», скажешь «день», а за ним уже спешит «ночь», скажешь «Пушкин», а «Лермонтов» уже тут как тут. Мы давно не вдумываемся в суть нерасторжимости этих супружеских словесных пар, мы принимаем их сдвоенное существование как должное, автоматически насаживая их на двузубчатую вилку соединительного союза «и».
Столь же дружно и согласно, как «помидор» и «огурец», уживаются на полках наших привычных представлений светлый вдохновенный Моцарт и его коварный отравитель, завистливый Сальери. Как утрамбованно знакомо это звучит: «Моцарт и Сальери!» А ведь не всемогущей природой впряжены они в свое двуединое сосуществование, ведь не сменяют они друг друга с устойчивой неизменностью «ночи» и «дня», не дополняют взаимно с уверенностью «севера» и «юга».
Напротив: их соединил и спаял человеческий вымысел, поэтическая легенда, рукотворный миф, в который равноправным членом входит и другая словесная пара: «гений и злодейство». И потому, на первый взгляд, может показаться, что именно к нерасторжимому противостоянию гения и злодейства сводится накатанная многократным употреблением нерасторжимость Моцарта и Сальери.
Но после первого взгляда, бездумного и несфокусированного, во владение темой обычно вступает второй, способный уже трезво взвесить все «за» и «против» (вот вам еще одна пара!). И возникает вопрос: а так ли часто в потоке повседневных встреч и событий попадаются нам гений и злодейство? Так ли они важны для нас, чтобы ради них мы связали неразрывной цепью великого музыканта и его мифического восторженного недоброжелателя? А может, дело вовсе не в гении и злодействе, а в чем-то ином – менее экзотическом, чем грешны и мы, простые смертные, не гении и не злодеи?
Откуда вообще взялась у нас уверенность, что «моцарт» (с маленькой буквы) – не подлинный автор «Реквиема» и «Волшебной флейты», а обобщенный вечный спутник обобщенного «сальери» – должен быть обязательно гениален? Или, по крайней мере, как-то особенно, крылато талантлив? Или мы просто пришпиливаем истинного, действительно талантливого Моцарта к его снедаемому завистью напарнику?
То есть, мы с ходу даем зависти подлинную пищу в виде подлинного таланта, даже гениальности, обожаемо-ненавистного соперника. Но ведь суть зависти в том именно и состоит, что она не нуждается в подлинной пище, ей довольно и суррогата. Зависть самодостаточна, она питает себя сама: легендой, воображением, сознанием собственной неполноценности. И ей вовсе необязательно подниматься до очищенных смертью вершин, она вполне уместна и среди захламленных мелочами закоулков ежедневного быта.
Вовсе не всегда гений и злодейство определяют разность потенциалов, поддерживающую силовое напряжение поединка, а более обыденное и ординарное противостояние, с которым всем нам не раз приходилось встречаться.
Я не случайно и не по ошибке назвала отношения между партнерами моцарт-сальериевского тандема поединком, хоть всякий, читавший Пушкина, мог бы мне возразить. И был бы прав, ибо пушкинский Моцарт не только не помышляет о единоборстве с завистником, он и зависти его не замечает. Но ведь это было там, на вершинах, где гений приводил завистника к единственно возможному решению, а именно – к решению окончательному, к злодейству. Для этого нужен был пушкинский (или моцартовский) масштаб.
В обычных же житейских передрягах все случается мельче, гаже, прозаичней, тут нет места хрустальному бокалу, где коварный яд смешан с пурпуром и благоуханием изысканного вина. И «Моцарт» Марка Гиршина настолько же мельче истинного, классического Моцарта, насколько анонимный донос мельче и трусливей бокала с ядом. Все измельчено, все заземлено, но все тот же потенциал зависти нерасторжимо соединяет в повести Гиршина Моцарта-Главинжа и Сальери-Секретарюка.
Только Моцарт Гиршина уже не безучастен к козням своего Сальери, он уже не пролетает бездумно мимо подозрительной возни своего брата-близнеца, игра эта беспокоит его всерьез. Да и сам сюжет, сам внешний рисунок конфликта неожиданно сплетается совершенно по-новому, открывая непредвиденные грани и вариации классической темы.
Наивно было бы предполагать за Главинжем какие-нибудь особые таланты: этот, соответствующим образом воспитанный советской школой, надежно отшлифованный социалистической реальностью, отлично смазанный и подогнанный винтик бюрократической системы не пишет музыку и не слагает стихи. Но художественная бесталанность отнюдь не умаляет его главной моцартовской черты: он живет в необычном согласии с собой. Еще М. Гершензон заметил, что главное в Моцарте – его внутренне насыщенная собой сила, его гармоничное согласие с собой. Этой силой и гармонией полон Главинж и в этом он – Моцарт, независимо от реальных обстоятельств его жизни.
Вместе с Секретарюком приехал он из южного провинциального города в Москву на семинар по повышению квалификации. Казалось бы, что за занятие для Моцарта быть главным инженером заштатной конторы «Сельэлектро», где главное дело – нагреть руки на каком-нибудь жульническом злоупотреблении служебным положением? Однако ни убогая контора в родном убогом городишке, ни убогая комнатенка в убогом районе Москвы, которую снимает Главинж у убогой старушки Татьяны Степановны, не омрачают возвышенного состояния его духа:
«…учтите, что я недавно взвешивался после парилки, – во мне 92 кило, а меня несло как бы по воздуху. Это была полнейшая согласованность, как бы слияние с чем-то разлитым вокруг, какая-то абсолютная гармония со всем, что меня окружало: тротуарами, зданиями, прохожими, троллейбусными проводами и рекламой».
Именно эта гармоническая уверенность Главинжа в себе, выглядящая порой ординарным самодовольством, навеки припаяла к нему неудачливого Секретарюка, посвятившего свою захудалую жизнь неистребимой зависти к Главинжу. Он довел эту зависть до вершин поэтической страсти, она стала для него источником творческого вдохновения. В повести Гиршина Моцарт и Сальери как бы меняются местами: если Главинж в полноте своей самосогласованности и не стремится ни к чему возвышенному, ощущая каждой клеточкой своего шестипудового тела, что он и так хорош, то несчастный Секретарюк изводится в тисках своей зависти. Стремительностью своих метаний он создает громадную подъемную силу, уносящую его далеко от мелких подробностей невзыскательного бытия.
Кощунственность такого поворота темы оправдывается словами Гершензона, сказанными в «Мудрости Пушкина»: «ад ущербного существования состоит в том, что душа безнадежно жаждет наполниться… и страсть вулканическим взрывом наполняет душу».
В ущербном сознании Секретарюка его неизменно удачливый сотоварищ вырастает в существо демоническое, пугающее своим мистическим влиянием на окружающую жизнь. Одна из их общих приятельниц по имени Аве Мария показывает ему на полу своей комнаты овал, очерченный мелом, поясняя, что здесь стоял (сидел, лежал, словом – присутствовал) Главинж. И бедный Секретарюк отшатывается в ужасе, ощущая как его невзрачное тело пронзает поток невидимых волн, излучаемых могучим силовым полем, сконцентрированным в очерченном мелом пространстве.
И хоть не вполне ясно, существует ли этот овал в реальности или только в лихорадочном воображении измученного завистью Секретарюка, не остается сомнения, что все, связанное с Главинжем, полно для бедняги мистического значения.
Сама их несносная нерасторжимость представляется Секретарюку реальной, а не психологической связью. Он ни на секунду не забывает о телевизионном кабеле, которым связал его с Главинжем фантастический извозчик, колесящий по Москве на старой пролетке, запряженной терпеливой лошадкой, которая то и дело роняет комья навоза под колеса троллейбусов.
Кабель этот, равно как и извозчик, то и дело возникает на страницах повести с пугающе достоверными подробностями. То этот кабель закреплен вокруг левой руки Секретарюка и вокруг правой руки Главинжа, то он колеблется на грани разрыва, пока обезумевший Секретарюк мечется в бреду по ночной Москве, пытаясь починить истершиеся его волокна. А Главинж спокойно спит, даже не подозревая о роковой опасности.
Впрочем, особенно волноваться Главинжу не стоит: нить эта по-настоящему не может быть оборвана, ибо многолетнее сосуществование превратило их с Секретарюком в сиамских близнецов. С того далекого дня, когда оба они молодыми инженерами сразу после института дружно переступили порог конторы «Сельэлектро», тянется эта нить к последнему этапу драмы зависти, завершающейся трагически где-то в переплетении московских переулков возле Кировского метро.
Равными и полными надежд вошли два молодых инженера, два друга, в захудалую контору «Сельэлектро», и на этом равенство их закончилось. Веселый, всегда довольный собой и обстоятельствами Главинж пошел вверх по служебной лестнице, а незадачливый Секретарюк так и остался навечно у потертого, залитого чернилами стола в общей проходной комнате младшего персонала.
Неважно, какое место в современном прогрессе занимает «Сельэлектро» отдаленной южной провинции, ибо «всюду жизнь», и все определяется не абсолютной величиной достижений, а относительной. И если поместить точку отсчета в кабинете главного инженера захолустной конторы, то сила зависти, сосредоточенной вокруг этого кабинета, вполне может быть сравнима с силой зависти посредственного композитора к гениальному. Дальше остается только выбор места, времени и оружия – а роковой исход уже предрешен классикой.
Но тут Марк Гиршин предлагает нам новое решение темы и неожиданный финал повести. Уже ясно из заданного сюжета, что, несмотря на мелкость поводов и незначительность окружающей обстановки, накал страстей неминуемо подводит героев к вопросу «или – или?» Но в столкновении Главинжа и Секретарюка автор повести поворачивает острие противостояния не против беспечного Моцарта, а против злокозненного Секретарюка-Сальери. Запутавшись в собственных безумных построениях, он, слегка подталкиваемый беспечной рукой Главинжа, попадает под колеса тяжелого грузовика и умирает в больнице Склифосовского. Причем ему самому, затравленному непреодолимой сладостно-мучительной завистью, кажется, что он добровольно выбрал свою погибель, а может быть, так оно и есть:
«Я слез с пролетки и заполз под колеса. – А теперь возьми и переедь меня, – попросил я. – Как это, переедь! – извозчик постучал себя кнутовищем по лбу. – А вот так, – сказал я, – тронь лошадку. И прежде, чем он успел опомниться, я обратился к лошади: «Н-но!..» И послушное животное сделало шаг…»
Почти половина повести посвящена судебному процессу над Главинжем, обвиняемым в подстрекательстве к самоубийству. Основой для этого обвинения служит исписанная чернилами и частично кровью тетрадка, которую Секретарюк оставил Аве Марии на случай своей гибели.
Суть дела не в подробностях процесса и не в исходе его, а в неожиданном, издевательски феерическом перевертыше. В то время, как человечество все еще теряется в догадках относительно злодейства Сальери – убивал или не убивал? – Гиршин, как ни в чем не бывало, подносит нам Моцарта, судимого за убийство Сальери.
Но как не находит облегчения Сальери, подсыпав яд в бокал своего гениального друга, так и Главинж после похорон Секретарюка ощущает вдруг острую тоску по своей незадачливой тени: жизнь отныне как бы потеряла для него остроту, стала бесцветной и пустой. Ни к чему привычные усилия для дальнейшего продвижения вверх, – кто теперь их оценит самой высокой мерой – завистью, замешанной на восхищении, на вечном неосуществимом стремлении слиться, разделить, причаститься благодати?
Ах, как понятно это чувство мне, вот уже тридцать лет заключенной в тесном отсеке израильского подразделения русской литературы, где вся атмосфера до отказа насыщена завистью! Но не стоит самоуничижаться – прочитавши отважную книгу Льва Аннинского «Три еретика», описывающую золотой век российской словесности, я убедилась, что и у букашек и таракашек тоже все было, как у нас.
О, как они умели завидовать и ненавидеть! Независимо от величия и признания, Тургенев завидовал Достоевскому, Достоевский – Лескову, Лесков – Салтыкову-Щедрину, и все они скопом – Писемскому. Как исступленно они считали чужие ошибки и чужие гонорары – ну совсем как мы!
Но вдумавшись, я не нашла в своей душе достаточных оснований для осуждения. Жизнь писателя-прозаика безрадостна – отказывая себе в простых радостях жизни, он превращается в отшельника– человеконенавистника, чтобы денно и нощно горбиться над компьютером (можно заменить на «над письменным столом»), достигая очень немногого за долгие часы изнурительного труда.
И вот наконец после нескольких лет мучений роман готов! Кто разделит радость автора? Где сегодня найти преданых друзей-поклонников, с нетерпением ждущих появления нового творения? Даже у жены (можно заменить на «у мужа») нет времени вчитаться и вникнуть.
А дальше начинается изнурительная война с издателем. Если издатель отказывает, он даже не удосуживается потратить минуту на телефонный разговор и объяснить – почему, он просто присылает типовое равнодушное письмо, униформное для всех пострадавших. А если он чудесным образом примет твой роман к печати, то по выходе книги в свет приложит дьявольские усилия, чтобы тебя ободрать, как липку. Читательские отзывы редки, критические – еще реже.
Получается, как говорила одна моя подруга о своем неудачном муже: «Ни материально, ни морально, ни физически – так что же?»
И только верные соперники прочтут, и прочтут внимательно, хотя бы для того, чтобы убедиться, что ты их не превзошел.
Напрасно говорят, что писателю нужен читатель. Не читатель ему нужен, а хороший надежный соперник, внимательный друг-враг, неусыпно следящий за его прогрессом и украшающий его скудную жизнь неугасимым пламенем искренней зависти, которая сродни любви.
Эпилог. Последствия
Последняя глава – по следам книги «Без прикрас»
Я позвонила Игорю Захарову, главе издательства «Захаров», дней через десять после того, как отправила ему окончательную рукопись своей книги «Без прикрас». Мне повезло: в России был какой-то праздник, секретарш в издательстве не было, и трубку снял сам хозяин. Настроен он был благодушно и разговаривал со мной очень ласково.
«Я читаю вашу рукопись уже третий раз, и она нравится мне все больше и больше, – почти пропел он. – Я немедленно отправляю ее в печать. А потом знаете, что мы сделаем? Мы дополним второе издание вашим рассказом о том, как кто прореагировал на вашу книгу!»
Увы, я ничего не знаю о втором издании – больше Захаров со мной не разговаривал – ни ласково, ни сурово. Судя по количеству людей, купивших и прочитавших мою книгу, оно вполне могло последовать за первым. Однако даже после того, как я больше года назад разорвала отношения с Захаровым и письменно запретила ему мою книгу допечатывать, она все еще продается во многих магазинах Москвы, и заколдованный первый тираж никак не иссякнет.
Однако, несмотря ни на что, я благодарна Захарову за идею. Решившись издать сильно дополненный и наново отредактированный вариант воспоминаний, я задумала и впрямь завершить его рассказом о том, как кто прореагировал на первую книгу.
Начну с Марьи Синявской – все-таки она у меня получилась почти что главной героиней.
«Она о смерти не думает, – сказала М. В. про воспоминания Нины Воронель «Без прикрас», – вот умрет, а после нее останется гора навоза. Она забыла главное правило: хочешь ругаться – начинай с себя. Первое дурное слово, сказанное о себе, во-первых, пробуждает доверие читателя, а во-вторых, создает необходимую для любого искусства ситуацию равновесия. Нелка сделала мне колоссальный подарок. Я покупаю ее книжку и всем дарю, чтобы долго не объяснять, какая она неумная, а попросту сказать – идиотка».
Заметьте, она ничего из мной написанного не опровергла, только дала совет, как лучше завлечь читателя. А что обозвала идиоткой, Бог с ней! Ведь нужно же ей хоть как-то пнуть меня в ответ, и она не придумала ничего лучше примитивной детской схемы «сам дурак!».
Гораздо подробнее отозвался Владимир Буковский, тот самый, который исхитрился выкрасть из архивов КГБ письмо Андропова о задании, данном чете Синявских при выезде их в Париж.
«Уважаемая Нина Воронель.
С любопытством и удовольствием прочел отрывки из Вашей книги. Очень живо, хоть большинство персонажей мне лично незнакомо (или почти незнакомо). Случилось так, что с большинством своих коллег я сидел «в разные смены» и никогда не пересекся. С Ларисой я впервые встретился уже после сов. власти и почти не разговаривал (дело было на каком-то собрании). Никогда не встречался с Даниэлем, хоть и отсидел «за него» в психушке. Синявского видел два раза в жизни, а разговаривал только один раз (впрочем, мне хватило). Даже Марью встречал лишь раза три-четыре. Первый раз еще в Москве, когда, освободившись из лагеря в 1970 году был зван на обед к своей адвокатше Каминской. Туда-то и притащилась Марья явно с заданием. Этот эпизод я подробно описал в «Московском процессе».
Вторую нашу встречу стоит описать подробнее, она сильно напоминает Вашу неудачную миссию помирить Синявского с Максимовым. Дело было в мае 1977 года, летели мы в Берлин на конференцию «Континента». Мы сидели в самолете вместе с Горбаневской и мирно беседовали, когда к нам подсела Марья и нахально встряла в нашу беседу. (Понятия не имею, почему она летела на конференцию «Континента», вряд ли ее пригласил Максимов.)
Разумеется, начала она с жалоб, что вот такому великому писателю, как Синявский, негде печататься. Мы с Натальей сильно удивились, полагая что такой проблемы не может быть у знаменитого профессора Сорбонны. Но Марья объяснила, что имеет в виду русскую эмигрантскую печать. «Он же русский писатель!» Я, признаться, ничего не знал тогда о русской прессе, да и потом мало имел с ней дела, кроме моего чисто формального членства в редколлегии «Континента». Однако Наталья как секретарь редколлегии сказала, что не видит причин Синявскому не печататься в «Континенте». Тут последовала ругань в адрес Максимова, которую я прервал, сказавши, что могу с Максимовым поговорить и уверен в его согласии на публикации произведений Синявского.
Казалось бы, вопрос исчерпан. Так нет же, для Марьи Васильевны это был только первый раунд.
«Просто печататься недостаточно. У писателей его величины должна быть своя школа. Он должен рекомендовать к печати других…» И т. д. и т. п.
Я уже начал уставать от ее присутствия, она была мне неприятна еще со времени нашего столкновения у Каминской. Поэтому я сказал, что все готов обсудить с Максимовым и другими членами редколлегии, и кое-как ее спровадил.
Так мы с Натальей и поступили. На первой же встрече редколлегии мы доложили наш разговор во всех деталях. Как ни странно, совершенно взвился Галич. Я никак не ожидал от него такого эмоционального взрыва.
«Нет, – вопил он, – я больше не хочу… Хватит этих господ Синявских! Я тогда уйду из редколлегии».
Не менее эмоционально высказался Некрасов, от которого я тоже этого не ожидал, зная его на редкость покладистый характер. Как ни странно, как раз наиболее терпимую позицию занял Максимов (чего мы с Натальей тоже не ожидали). Успокоивши кое-как Галича с Некрасовым, он сказал, что готов отдать Синявскому треть журнала на его полное усмотрение:
«Пусть печатает, что хочет и сколько хочет. Более того, его собственные произведения я готов печатать в своей части журнала, если ему мало места. Только этот его раздел будет называться «Свободная трибуна Синявского». Остальные члены редколлегии были крайне недовольны таким решением, но мы с Натальей получили мандат на ведение дальнейших переговоров.
По возвращении в Париж мы созванились с Синявскими и пришли к ним. Сам Синявский (которого я видел в первый раз) был какой-то сумрачный, в разговоре участия не принимал, только смотрел на нас тяжелым похмельным глазом.
Витийствовала Марья. Выслушав предложение Максимова, она заявила, что этого опять недостаточно: «От этого «Континент» только выиграет, так не пойдет. Во-первых, раздел буду вести я, Розанова, а не Синявский. Во-вторых, это будет анти-Континент внутри «Континента»… И еще какие-то условия, которые я тут же забыл, поскольку первых двух мне хватало.
Мы с Натальей дружно встали и откланялись. Марья была искренне поражена. Как? Постойте, мы только начали говорить! Ожил вдруг и Андрей Донатович и с явным облегчением по поводу окончания деловой части визита предложил нам «теперь выпить». Мы, однако, уклонились и тут же уехали.
Вот такой опыт был у меня с четой Синявских. Больше я с ними никогда не разговаривал. Последний раз я видел Андрея Донатовича на конференции в Париже в годовщину смерти Максимова. Он и Марья пришли явно с целью устроить скандал. Она все время пыталась выловить меня в толпе и, верно, надеялась высказать мне все плохое, что скопилось у нее в голове после моей публикации докладов Андропова о них. Я, естественно, слушать ее не хотел, а потому маневрировал меж собравшихся и столкновения не допустил.
Синявский делал доклад «Власть и интеллигенция», где всячески поносил российскую интеллигенцию за ее верноподданические чувства вообще и к Ельцину в особенности. Однако скандала не получилось тоже. Публика довольно равнодушно ему похлопала и забыла. То ли это его так расстроило, то ли он слишком нервничал в ожидании скандала, но вскоре после доклада у него случился сердечный приступ, и его увезли в больницу.
Причем Марья с ним не поехала – осталась ловить меня в надежде все-таки скандал устроить. А когда кто-то спросил ее, отчего уж она не поехала в больницу, ответила довольно громко: «А ничего с ним не случится. Не в первый раз». Право же, странная была пара. Всего Вам доброго. Владимир Буковский».
Приятно, что Буковский не разделил мнения Марьи обо мне. Но были и другие, удивительные люди, по роду занятий интеллигенты, но глухие к переносным значениям слов. О них в эссе, опубликованном в петербургской «Неве» и в иерусалимском альманахе «Время искать», предупредил меня писатель Михаил Юдсон, сверхчувствительный к тончайшим оттенкам слов:
«Конечно же, в природе водится и Суровый Читатель, сокращенно – СУЧ. Его наверняка будет раздражать, что у Нины Воронель персонажи – живые. Пусть некоторые, к сожалению, уже там, за Рекой, но в этой книге они живут вовсю – шевелятся, острят, влюбляются и ругаются, выпивают и закусывают, пишут и рисуют. Мы знаем заранее, что СУЧ будет бурчать: «И белковые тела какие-то не те, разнузданные! И способ существования у них сомнительный!» И вообще – «Нэ так все это было!» – как скромно заметил отягощенный злом товарищ Сталин, посмотрев кино, где он совершает революцию».
И впрямь по самым разным поводам раздавались обиженные выкрики: «Не так все это было!» В основном это касалось образов тех, о ком я писала с особой любовью, как, например, о дочери Ольги Ивинской, очаровательной Ирочке Емельяновой. Не поняв ни слова из того, что я о ней написала, ее – увы! – недалекие, но, надеюсь, и не очень близкие друзья подняли страшный маловразумительный шум. Им явно не хватало тонкости различения, которую физики называют разрешающей способностью, так что и объяcнить-то им ничего нельзя. Не у всех же такой глаз-алмаз, как у М. Юдсона:
«Сия книга – небольшой зоосад в бумажном багаже. Пробежимся же по-хлебниковски быстро вдоль клеток: мохнатый паук с огромными прозрачными глазами Александр Межиров; усатый морж в берете, он же старый петух, Павел Антокольский; печальный ангел (такое пугливое пернатое) Андрей Тарковский; жабье лицо Аверелла Гарримана, лиловый монстр с зелеными щупальцами внутри Ларисы Богораз; и на прощанье, на десерт – оскаленные волчьи морды «эсэсовцев» Володи и Вади – рожи Родины.
Но тут же – непрерывная самоирония, всепобеждающее вино жизни, пьянящее при хождении по мукам и радостям: звенящее «о-о!» той, исчезнувшей Москвы и серебряный клубок магендавидов с его мистическим смыслом, из которого Нина выдергивает по нитке. Есть такое понятие – «притяжение текста», неземной магнетизм, когда читатель, охнув, прилипает и не может оторваться…»
Я понимаю, что без различающей способности судить о книгах нелегко, особенно литературным критикам, но без чувства юмора и того хуже. С ироническим текстом подчас невозможно совладать, ирония – материя ускользающая, она не всем доступна. И становится обидно – почему другие смеются, а мне не смешно? Так обиделась на меня рецензентка газеты «Известия» Юлия Рахаева:
«А вот воспоминаниями «Без прикрас» о таких персонажах русской культуры, как Корней Чуковский, Лиля Брик, Борис Пастернак, Арсений и особенно Андрей Тарковский, Андрей Синявский, Юлий Даниэль и многие другие, не менее славные, вполне можно вписать себя в тот же контекст. Известно, что надежнее всего это сделать при помощи скандала.
Скандал был не просто предсказуем, но предрешен. Задолго до выхода этой книги и даже задолго до того, как она была подписана в печать, одна из самых ее крупных частей – о Синявском и Даниэле – была опубликована сначала в израильском журнале «22», который издают супруги Воронель, затем в московских «Вопросах литературы» и вызвала шквал абсолютно праведного гнева».
Что правда, то правда – скандал был не просто предсказуем, он уже разразился. В 124-м номере журнала «22» был опубликован отрывок из книги «Без прикрас», вскорости этот отрывок был перепечатан в 5-м номере московского журнала «Вопросы литературы». Поскольку мои воспоминания написаны и впрямь без прикрас, нашлись люди, которые чрезмерно возбудились, их прочитавши. В результате в «Независимой газете» появилась статья Виктории Шохиной, напоминающая лучшие образцы советской заушательской публицистики. Очень быстро эта статья была перепечатана израильской газетой «Глобус», после чего Александр Воронель счел необходимым дать разъяснения читателю. Он написал открытое письмо в редакцию «Независимой газеты»:
«Дорогая редакция!
Надеясь, что Ваша газета действительно НЕЗАВИСИМАЯ, я прошу напечатать мое письмо по поводу Вашей публикации 19 декабря 2002 под весьма ответственным заголовком «Хорошо врут только честные люди». Заголовок этот, как и весь текст статьи, призван бросить тень на воспоминания моей жены Нины Воронель (а заодно и на меня) о процессе Синявского и Даниэля в 1966 г.
При ближайшем рассмотрении выясняется, что автор публикации Виктория Шохина не знает, что сказать по существу дела, и просто злословит: «Если верить воспоминаниям, Синявский и Даниэль доверчиво читали Нине Воронель и ее мужу свои сочинения… Но верить не стоит…» Откуда Виктория Шохина может знать, стоит нам верить или нет? «Воронели знают, что их комната прослушивается КГБ… и допускают, чтобы гости, не подозревая о прослушке, обсуждали…» Откуда она взяла, что наши гости не подозревали о прослушке? Могли ли у нас в 60-х годах быть такие гости?
Особенность процесса Синявского-Даниэля как раз и состояла в том, что это был первый открытый (насколько Советская власть это позволила) процесс по обвинению в антисоветской деятельности. Эта открытость также дала шанс и советским гражданам впервые высказать свое несогласие. Именно этот процесс впервые легализовал некоторые формы открытого сопротивления действиям властей. Покойный Анатолий Якобсон, проф. Эмиль Любошиц и я написали заявления в Верховный Суд РСФСР с требованием допустить нас в качестве свидетелей защиты.
Хотя нас и не допустили, эти заявления сами по себе были формой сопротивления. Игорь Голомшток публично в суде отказался давать показания. Пошли открытые письма протеста. Поэтому и «обсуждать предстоящий день сражений», равно как и «рассказывать о процессе», мы сознательно позволяли себе открыто. Поэтому Нина иронически и назвала эти собрания «штабом организованного сопротивления интеллигенции».
А вот вывод проницательной журналистки: «Если все, что написано, правда, то Воронели были провокаторами. Или это неправда». От обвинения в клевете, конечно, Виктория Шохина таким образом себя освободила, но зловещая тень брошена: кто там у кого галоши украл…
Никакой «руководящей роли», конечно, в подготовке стенограммы процесса Нина себе не приписывала. Просто тот факт, что стенограмма была сделана Ларисой Богораз, а расшифрована собственной рукой Нины (эта роль техническая), не устраивает длинный список лиц (приведенный В. Шохиной в статье), которые впоследствии с этим историческим документом (в разных ролях) имели дело и теперь не прочь приписать себе руководящую роль. Но с этим ничего не поделаешь…
Столь же бессмысленны придирки В. Шохиной к моему свидетельству: «На допросе следователь сказал этому человеку (мне), что Синявский и Даниэль «уже сами признались», из чего следовало, что Даниэль тоже арестован… И куда в таком случае поехал Воронель?»
Если бы бывшие советские люди верили каждый раз, когда следователь говорил им, что подсудимый раскололся, Советская власть существовала бы вечно. И Юлик, кстати, тогда еще не был арестован. Но в сопровождении вежливых людей из КГБ согласился вместе с женой полететь из Новосибирска в Москву «для выяснения некоторых обстоятельств». Мы были настолько близкие друзья, что у меня был ключ от их квартиры, и я собирался либо оставить ему записку, либо застать его еще до ареста. Я, конечно, не сомневался, что он ни в чем не признался, потому что так он мне обещал до ареста. Но ключ не вошел в замочную скважину. Мой шаг был, по-видимому, предусмотрен…
Читаем дальше: «… Лариса…побежала звонить. Ей сказали, что Юлик задерживается, но в пять обязательно будет. Потом она позвонила в пять, и ей ответили: «Сейчас, сейчас…» И снова вопрос: «Лариса, что, звонила на Лубянку?..»
Да, на Лубянку, а что? Это невозможно – звонить на Лубянку?
Во всяком случае, она звонила по тому телефону, который ей оставили вежливые люди, сопровождавшие их с Юликом из Новосибирска.
У меня теперь есть основания думать, что если бы Юлик поступил так, как мне рассказывал следователь, т. е. во всем бы признался и раскаялся, возможно, обвиняемым на процессе был бы один Андрей. Ведь совместно это «преступление» совершили не двое – Синявский и Даниэль, а трое – Синявский, Даниэль и Ремезов (под псевдонимом «Иванов» – по правде сказать, только его произведение и было по-настоящему антисоветским). Ремезов немедленно во всем признался и раскаялся, и он не только никак не пострадал, но и не стал известен ни в широких, ни в узких диссидентских кругах. Но Юлик, наверное, уперся, а потом уж КГБ было трудно закрыть дело, которое начато. И у них ведь были свои ограничения…
В общем, меньше всего я расположен полемизировать с Шохиной.
Журналистка, которая, не зная обстоятельств дела, может позволить себе набор из слов «глупость», «пошлость» и, наконец, «подлость», не заслуживает ответа. А дуэли в наше время не приняты. Но мне не хотелось бы, чтоб молодой читатель, который так же не осведомлен, как и она, остался сбитым с толку в этом судьбоносном для России деле. В конце концов, можно прочитать обо всей этой истории в подробностях в журнале «22», в журнале «Континент», а теперь вот и в журнале «Вопросы литературы» номер 5, которому В. Шохина так любезно сделала рекламу.
Спасибо за внимание, Ваш
главный редактор журнала «22»,
член Пен-клуба,
член Сената Тель-Авивского университета,
член Нью-Йоркской Академии наук,
профессор Александр Воронель».
Этим письмом Юлия Рахаева пренебрегла – она направила острие своего пера как на автора, так и на издателя книги «Без прикрас»:
«Но для издателя Захарова, известного многочисленными нарушениями всех и всяческих норм – юридических, книгоиздательских, моральных и так далее – все это было как звук боевой трубы. «В своих мемуарах Нина Воронель талантливо и изящно, остроумно и безудержно рассказывает то, что другие пытаются скрыть, а большинство не знает вовсе…», – это из бумажки, присланной в редакцию вместе с книгой.
«Любопытно угадать, – пишет автор во вступлении, – кто больше обидится – те, которые увидят свое отражение в магическом зеркале моей памяти, или те, которых я вовсе не упомяну?» Фраза, небезупречная… по части морали и нравственности…
Нина Воронель и Игорь Захаров, тоже тот еще древний грек Герострат из Эфеса, просто счастливо нашли друг друга».
Особенно приятно, что в этой статейке Захарову досталось не меньше, чем мне. Но в других рецензиях, посыпавшихся со всех сторон, доставалось в основном мне и совсем не по заслугам. Тут любопытно само обилие этих рецензий и их задиристый тон – к чему такая страсть, с чего они так возбудились?
И часто абсолютно не по делу. Например, М. Муреева в «Книжном обозрении» предъявила мне не лезущие ни в какие ворота обвинения:
«Не стоит с такой неподдельной любовью описывать саму себя.
Знаете, например, почему Нину Воронель ненавидела видевшая ее всего раз в жизни Маргарита Алигер?
«Мне было двадцать пять лет, – разъясняет Воронель, – и я была одета в необычайно идущий мне синий бархатный костюмчик, а ей было под пятьдесят, она куталась в неприглядный коричневый кардиган, невыгодно подчеркивающий ее желтоватую бледность». И поэтому «старый петух Антокольский» бросился не к старой, а к молодой…»
Тому, кто умеет читать, даже из этой намеренно кастрированной цитаты очевидно, что я восхваляю не себя, а «старого петуха Антокольского». Но для тех, кто книгу мою не читал, я продолжу этот рассказ:
«Но и это было бы ничего, если бы старый петух Павел Антокольский, которого мы обе поджидали у подъезда, не предпочел меня ей откровенно и беспардонно. Выскочив из дверей ЦДЛ, он обхватил меня за плечи настолько крепко, насколько это позволил его маленький рост, и принялся рассказывать ей, как я замечательно перевела Уайльда. Все время, пока он с ней делился своими восторгами по моему поводу, она недружелюбно разглядывала меня из-под встрепанной шапки темных с сильной проседью волос и молчала. А мне так хотелось сказать ей:
– Хотите, я почитаю вам свои любимые стихи? Например:
Я в комнате той, на диване промятом, Где пахнет мастикой и кленом сухим, Наполненной музыкой и закатом, Дыханием, голосом, смехом твоим…А могу и другое – я все ваши стихи знаю наизусть…
Но я не успела ничего произнести, потому что она резко оборвала декламацию Антокольского:
«Ладно, Павел, поговорим в другой раз. А сейчас мне пора!»
И, не попрощавшись со мной, резко повернулась и пошла по улице Герцена в сторону площади Восстания, все так же зябко кутаясь в свой бесформенный кардиган. Антокольский удивленно пожал плечами и потащил меня в буфет ЦДЛ, а я пошла за ним покорно и безропотно, чего до сих пор не могу себе простить.
Я должна была столкнуть с плеча его жадные стариковские пальцы и побежать вслед за Маргаритой. Но я, полная всепоглощающего эгоизма молодости, позволила Антокольскому уволочь меня в писательское кафе, где он вовсе не стал слушать мои стихи, как я надеялась. Отмахнувшись от стихов, он заказал нам обоим какую-то выпивку и начал хватать меня за коленки, время от времени выкрикивая: «Ах, Нинель Воронель, не ходи на панель!» Я то и дело осторожно сбрасывала с колена его руку, не в силах оторвать внутренний взгляд от убегающей в сторону площади Восстания сгорбленной Маргариты, которую явно не стоило обижать ради такого бессмысленного времяпрепровождения».
Но одной Маргариты Алигер Муреевой показалось мало. Чтобы разоблачить мою самовлюбленность, она обратилась к процессу Синявского-Даниэля:
«Или еще того чище: во время процесса над Даниэлем и Синявским в московских магазинах появились шерстяные колготки по 12 рублей штука, и благородная чета Воронелей берегла деньги на борьбу за правое дело, а тут приходят к Воронелям «боевые подруги» подсудимых, «дружным, слаженным движением задирают юбки»– и оказывается, что они-то себе колготки уже купили. Одним словом, по бессмертному старому анекдоту «и тут выхожу я весь в белом».
Раз уж у меня есть такая возможность, я и этот эпизод из книги приведу целиком:
«Дело было в декабре. Марья и Ларка, как обычно, опаздывали, и я, пользуясь передышкой, стала с восторгом рассказывать Саше, что в магазинах появились замечательные шерстяные колготки – настоящее спасение в московском климате. Стоили они 12 рублей штука, и Саша строго объявил мне, что мы не имеем права тратить деньги на всякую дамскую ерунду, когда наши боевые подруги нуждаются в каждой копейке. Я, глотая слезы, вынуждена была согласиться с его суровой мужской логикой. Раздался звонок, и в комнату ввалились боевые подруги, раскрасневшиеся и слишком веселые для безутешных соломенных вдов.
«А что мы сейчас купили!» – хором воскликнули они и дружным слаженным движением задрали юбки. На них переливались изящным узором недоступные мне шерстяные колготки. Я молча посмотрела на Сашу – ни слова не говоря, он сунул руку в заветный карман, где лежала его зарплата, предназначенная для борьбы, и выдал мне запретные 12 рублей».
Не вижу, где я тут похвалила себя, разве что выставила Сашу фраером, каким он зачастую и оказывался, – его чудом сохранившийся юношеский идеализм не тянул против циничного практицизма наших боевых подруг.
Именно эту его особенность и попыталась употребить в свою пользу Марья во время нашей последней встречи в декабре 2004 года в Москве. Мы с Сашей были приглашены с докладами на конгресс, организованный фондом Достоевского, а Марья в качестве гостьи бродила там с палочкой среди съехавшихся со всех концов света бывших российских интеллектуалов. Увидев Сашу, она ухватила его за рукав и уволокла в фойе, чтобы высказать ему свои претензии по поводу моих воспоминаний.
Многократно объяснив Саше, что все ее друзья внимательно прочли мою книгу, чтобы с основанием объявить ее ужасной (представляю себе, как они упивались при чтении!), она обвинила меня в клевете.
«Нелка меня оклеветала! – воскликнула она. – Она написала, что я блондинка! А я никогда не была блондинкой!»
И в доказательство предъявила опешившему Саше темно-русую прядь, притаившуюся среди седеющих волос где-то на затылке.
«И это все?» – с облегчением пролепетал ожидавший грома и молний Саша.
«Нет, не все! Присмотрись внимательно к ее писаниям – она ведь просто в меня влюблена!»
Мы с Сашей обсудили этот вариант и решили, что какая-то сермяжная правда в ее словах есть. Не то, чтобы и впрямь влюблена, любовью это чувство назвать трудно, слишком уж царапается, но характер ее очень выпукло высветился в моей душе. А потом, конечно, и на бумаге.
Не случайно так отозвался на это Василий Аксенов:
«Из множества персонажей наибольшей удачей является образ Марьи Васильевны Розановой, которая к тому же оказывается еще и Кругликовой. Секреты ее для меня, в общем-то, не были новостью; либо я уже слышал о них, либо догадывался, но в литературном смысле типаж получился на славу».
В завершение «Последствий» я приведу еще кое-какие выдержки из письма В. Аксенова:
«Дорогие Неля и Саша!
Большое спасибо за книгу; как за факт присылки, так и за факт написания. Прочитал, что называется, in one go. Не знаю, как читает такую книгу современный капиталистический читатель, но социалистическому читателю вроде меня трудно оторваться… Неле удалось написать легкую, полную юмора и воздуха книгу о нашем времени и между прочим о вкладе российских евреев в преображение ХХ века».
Фотографии
Нина и Саша в Москве, 1973 г.
Нина в Нью-Йорке во время постановки ее пьес. Фото снято для статьи в «Нью-Йорк таймс», 1975 г.
Нина и Саша в первые годы в Израиле
Нина и Саша в первые годы в Израиле
Нина в 1956 г.
Нина в 1979 г.
Нина и Ю. П. Любимов в театре «Габима»
Нонна Мордюкова и Нина в Гефсиманском Саду
Группа отказников-ученых во время голодовки: А. Лунц, М. Азбель, Д. Рогинский, А. Воронель, В. Браиловский, М. Гитерман, 1973 г.
Юлий Даниэль и Анатолий Якобсон
А. Синявский, Нина, Юлик Даниэль, 1973 г.
Лариса Богораз с отцом – Иосифом Богоразом и сыном Павлом Марченко, 1974 г.
Ира Емельянова, Ю. Нестеренко, Нина Воронель – во дворе Лит. института, 1959 г.
Нина с Анатолием Марченко
Рисунок Сахарова с автографом
Лариса Богораз и Вика Хмельницкая, середина 50-х годов
Лариса Богораз, Митя Хмельницкий, Юлик Даниэль
Сергей Хмельницкий
Сергей Хмельницкий и Юлик Даниэль, начало 50-х годов
Школа: справа в верхнем ряду – Андрей Синявский, в нижнем – Сергей Хмельницкий
Нина с внуком Игалем
Сергей Хмельницкий
В центре – Вика Хмельницкая и Лариса Богораз, последний справа – Сергей Хмельницкий. Слева стоит Юлик Даниэль
Портрет Юлика Даниэля. Рисунок Ларисы Богораз
Портрет Андрея Синявского работы Саши Петрова
Письмо Нине от Корнея Чуковского
Открытка от Юлия Даниэля из мордовского лагеря Потьма
Обед в парижском ресторане. Среди гостей: справа – Нина Воронель, меценат Эфраим Илин, Марья Синявская, Саша Воронель. Напротив Марьи – Андрей Синявский
Нина и Саша (в центре) в аэропорту, в день их приезда в Израиль в декабре 1974 г. Слева от Нины – профессор Юваль Нееман
Нина и Саша вскоре после приезда в Израиль
Нина и Саша на пляже в Тель-Авиве
Борис Пастернак с Ирочкой Емельяновой
Булат Окуджава записывает Нине «Песенку» для журнала «22»


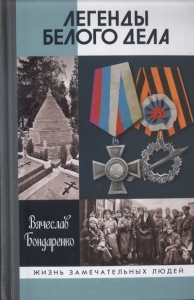

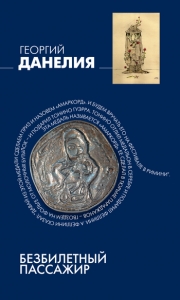


Комментарии к книге «Содом тех лет», Нина Абрамовна Воронель
Всего 0 комментариев