Виктор Афанасьев «Родного неба милый свет…» В. А. ЖУКОВСКИЙ В ТУЛЕ, ОРЛЕ И МОСКВЕ
повесть
В. А. ЖУКОВСКИЙ.
Гравюра Вендрамини с оригинала О. Кипренского.
В КНИГЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ РУКОПИСНЫХ ОТДЕЛОВ ВСЕСОЮЗНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА (В ЛЕНИНГРАДЕ), ИНСТИТУТА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР (ПУШКИНСКИЙ ДОМ), ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА И ОТДЕЛА РИСУНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО МУЗЕЯ (ЛЕНИНГРАД).
Поэзия
Час от часу становится для меня чем-то возвышенным…
Не надобно думать, что она только забава воображения она должна иметь влияние на душу всего народа, и она будет иметь это благотворное влияние, если поэт обратит свои дар к этой цели.
Поэзия принадлежит к народному воспитанию.
В. А. ЖУКОВСКИЙ Его стихов пленительная сладость Пройдет веков завистливую даль, И, внемля им, вздохнет о славе младость. Утешится безмолвная печаль И резвая задумается радость. А. С. ПУШКИН («К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО»)Жуковский выразил собою столько же необходимый, сколько и великий момент в развитии духа целого народа… Без Жуковского пушкин был бы невозможен и не был бы понят.
В. Г. БЕЛИНСКИЙГлава первая
МИНУВШЕЮ МНЕ ЖИЗНИЮ ПОВЕЙ…
В. А. ЖУКОВСКИЙВозвратившись из Павловска на Фонтанку, где он занимал три комнаты в квартире братьев Тургеневых, Жуковский отпустил слугу-калмыка Андрея и снял фрак. Настал час последней — вечерней — трубки крепкого турецкого табаку. Несколько мгновений одиночества при шуме ветра за окном, волнующего темную листву Летнего сада. Во мгле, сгустившейся под потолком, исчезали медлительные волокна дыма. «Слу-шай!..» — словно из-под могильной плиты доносился голос часового.
…Двор императрицы-матери в Павловске…
…По-военному подтянутый, словно только что чисто подметенный и свежевыкрашенный Петербург, паруса и флаги на Неве, лодки на Мойке и Фонтанке…
О Дерпте Жуковский старался не думать — и не мог. Приехал оттуда в августе, полтора месяца тому назад, с опустошенной душой, с горечью и тоской — за Машу, за себя. 1815 год.
Д. В. ДАШКОВ.
Литография К. Эргота с рис. Л. Питча.
Холодная ночь начала октября. Его баллады и элегии переписывались в альбомы и заучивались наизусть во всей России. В 1812 году прогремело его патриотическое стихотворение «Певец во стане русских воинов». Он уже был прославленный поэт, но оставался в душе все тем же мечтательным и деятельным юношей, каким был в Москве, Белёве, Мишенском. Как и там, он просиживал ночи над книгами, составлял бесчисленные планы и конспекты, любил размышлять в одиночестве.
Приглашенный — как чтец — ко двору императрицы-матери, среди страстей и причуд созданного им кипуче-юного литературного содружества «Арзамас», он жаловался в письмах на родину: «У меня ни к чему не лежит сердце, и рука не поднимается взяться за перо, чтобы описывать то, что мне как чужое. И воображение побледнело… Поэзия отворотилась. Не знаю, когда она опять на меня взглянет. Думаю, что она бродит теперь или около Васькбвой горы, или у Гремячего, или в какой-нибудь Дблбинской роще, несмотря на снег и холод! Когда-то я начну ее там отыскивать! А здесь она откликается редко, да и то осиплым голосом».
…В сентябре был дружеский обед у Дмитрия Блудова — по поводу его и Дашкова именин. Сколько было разговоров о недавнем — ведь еще только в июне (этим летом!) отгремели наполеоновские «Сто дней», — при Ватерлоо окончательно закатилась зловещая звезда беглеца с Эльбы; в июле союзники во второй раз вступили в Париж.
Кто-то предложил:
— А не пойти ли нам всем на «Липецкие воды»? Все — это присутствовавшие на обеде Крылов, Гнедич, Жуковский, Дашков, Жихарев, Блудов, Вигель и Александр Тургенев. Но не все согласились пойти: Крылов и Гнедич отказались — знали, в чем секрет пьесы, но дипломатично промолчали об этом. Было взято шесть кресел в третьем ряду партера. Комедия шла в первый раз.
Князь Шаховской уже пытался в своих сочинениях задеть кое-кого из «новых»: в комической поэме «Расхищенные шубы» досталось Василию Пушкину, а в пьесе «Новый Стерн» — Карамзину. Драматург он был даровитый, остроумный; Жуковский и его друзья предвкушали удовольствие. Но их ждал сюрприз особенного рода.
Жуковский смеялся уморительным репликам навязчивого и бестолкового стихотворца Фиалкина, ничуть не оскорбляясь тем, что в этом персонаже автор попытался карикатурно вывести его, Жуковского, — знаменитого «балладника». Зрители стали посматривать на Жуковского. Блудов и Дашков постепенно закипали гневом. Но Жуковскому было смешно, особенно когда со сцены из уст Фиалкина доносились чуть ли не цитаты из его баллад. К тому же актер Климовский играл эту роль с блеском.
До глубины души уязвлен был этой пьесой весь только что составившийся «Арзамас», точнее — «Арзамасское общество безвестных людей». Вяземский, Блудов, Дашков, Батюшков, Тургенев, а по-арзамасски Асмодей, Кассандра, Чу, Ахилл и Эолова арфа (имена, взятые из баллад Жуковского) бросились на защиту Жуковского — по-арзамасски Светланы — и тем самым новой русской романтической поэзии вообще. В ответ на комедию Шаховского Дашков напечатал в «Сыне Отечества» статью под названием «Письмо к новейшему Аристофану». Блудов написал «Видение в какой-то ограде, изданное обществом ученых мужей». Вяземский сочинил цикл эпиграмм на Шаховского — «Поэтический венок Шутовского, поднесенный ему раз навсегда за многие подвиги» — и «Письмо с Липецких вод», которое поместил в журнале «Российский музеум». Большинство литераторов оказалось на стороне Жуковского, среди них — молодые Пушкин и Грибоедов. Карамзин писал в эти дни А. Тургеневу: «Пусть Жуковский отвечает только новыми прекрасными стихами; Шаховской за ним не угонится».
А для Жуковского наступило самое тяжкое в его жизни время!..
Н. И. ГНЕДИЧ.
Худ. М. Вишневецкий.
Жуковский думал о Маше. Быть возле Маши! Вот для чего дана ему жизнь. Он в Петербурге — гость; он — на пути в Дерпт, и он ждет здесь, когда ему снова можно будет туда поехать. Но судьба, а вернее, Екатерина Афанасьевна с ее жесткими принципами выталкивала его из семьи, без которой ему нечем было дышать. Она так отозвалась однажды о его любви к ее дочери: «Тут Василий Андреевич сделался поэтом, уже несколько известным в свете. Надобно было ему влюбиться, чтоб было кого воспевать в своих стихотворениях. Жребий пал на мою бедную Машу». «Тут» — это в Белёве, Мишенском, в Муратове — родных Жуковскому и Маше да и Екатерине Афанасьевне местах.
«О, Петербург, проклятый Петербург с своими мелкими, убийственными рассеяниями! Здесь, право, нельзя иметь души! Здешняя жизнь давит меня и душит! рад всё бросить и убежать к вам, чтобы приняться за доброе настоящее, которого здесь у меня нет и быть не может», — жаловался он Авдотье Петровне Киреевской, своей племяннице, другу.
Куда бежать, если Дерпт станет невозможным совсем? На родину: в Белев, в Мишенское, в Долбино! Только там можно быть если не счастливым (счастье — не цель жизни…), то — свободным, как облака над тихой Окой!
«На всякий случай, — просит он Киреевскую, — чтобы была для меня отделана комната и в ней шкафы для моих книг, простые, но крепкие и недосягаемые для мышей, и в эти шкафы да перенесутся и поставятся книги мои, так чтобы я мог их обрести в порядке при своем приезде».
…Царедворцы, фрейлины, бравые гвардейцы, лужки и рощи Павловского парка, красивое, словно фарфоровое, лицо императрицы Марии Феодоровны, вся в белом великая княжна Анна Павловна, одетые в ловкие мундиры, довольные жизнью молодые великие князья Михаил и Николай Павловичи, недавно совершившие путешествие в занятую союзниками Францию, — все это исчезло подобно летучим видениям.
Жуковский положил трубку на стол. Какой разброд в душе, как мало ясности и совсем нет спокойствия! Но есть в душе что-то незыблемо-постоянное, простое и чистое. Любовь к Маше? Поэзия? Да, да, конечно, но и другое — просто синева высокого неба, сухие колосья ржи, заросли желтого донника, твердая — как камень — глина засохшей на зное дороги, свет, дали, шумящие на ветру толстые ракиты, высокие столбы качелей, крутая зеленая крыша, веселый цветник перед обрызганной дождем террасой…
Ф. Ф. ВИГЕЛЬ.
Миниатюра.
Он мысленно ехал на родину. С надеждой на новую — по-старому! — жизнь.
Он ехал по большой Одоевской дороге через обширную равнину, которая становилась все более холмистой и живописной; коляска с грохотом катилась под гору, ямщик изо всех сил сдерживал лошадей, чтобы не понесли, а потом, тоже сил своих не щадя, хлестал их, когда они с трудом выбирались на кручу. Жуковский выходил из коляски и шел пешком. Сапоги покрывались белой пылью. Волосы поднимались от свежего ветерка. Ямщик недовольно оборачивался, но Жуковский не спешил садиться в экипаж. Пофыркивали кони. Жаворонки заливались в вышине… Чистые мгновения бытия, когда чувствуешь во всем присутствие поэзии, когда хочется раствориться в этом душистом эфире и — одновременно — уйти глубоко в свои думы. Все вокруг словно погружено в блаженное размышление.
От села Болото показался — за семнадцать верст — далекий Белев; словно видение давнопрошедшего, неясный, колеблющийся в пронизанном солнцем тумане. Потом — пропал. В четырех верстах вдруг открылся весь, сказочно-праздничный, величественный как былина, как древняя песнь… Всё ближе его башни, блистающие купола, кирпичные побеленные стены, дома и сады над Окой.
В обе стороны — равнина полей и лугов, впереди — переливающийся блеск реки, делающей под городом дугу. Жуковский посмотрел направо, там, на фоне темного соснового бора, белел небольшой монастырь — Жабынская пустынь, виднелся обширный парк Володькова — поместья барона Черкасова, библиофила, эстета, но жестокого, безжалостно поровшего крестьян, помещика.[1] В той же стороне — Дураково с его издалека видной колокольней. Налево, вдали — старинное село Темрянь на холмах. За Окой — покрытая дубовой рощей Васькова гора, и, наконец, из-за вершин огромных лип и елей парка показалась крутая крыша родительского дома, белая колокольня: Мишенское! Далеким стеклышком блеснул у подножия холма квадратный пруд.
На равнине между Мишенским и Фатьяновом — в долине быстрой и шумной Выры — пасется табун, бежит резвая рыжая лошадка с развевающейся гривой… Под одиноким, словно подбоченившимся кудрявым деревом шалаш пастуха. Белеют на солнце сухие проселки. И еще дальше — за Мишенским, за Фатьяновом — тянутся холмистые просторы; за лесом, синеющим в мареве сонного горизонта, угадывается Долбино, где Жуковский провел так недавно — в 1814 году — столько прекрасных и отчаянных дней, будучи вынужденным покинуть Муратове.
И. А. КРЫЛОВ.
Литография Э. Лилье с оригинала Р. Волкова.
В. А. ЖУКОВСКИЙ.
Литография Е. Эстеррейха.
Прямо над Окой, правее величественного Спасопреображенского монастыря,[2] рядом с древними крепостными валами, затененный уже подросшими, посаженными некогда им с племянницами — Машей и Сашей — ивами, показался бывший его, Жуковского, белёвский дом.
Вот и любимый «пригорок» — так называл он крутой склон берега среди ив и вишенника, прямо под окнами дома, в тишине, — убегающий вниз лужок. Здесь любил он сидеть с книгой. Внизу — Ока. На том же берегу, что и «пригорок», совсем рядом, громоздится белокаменными храмами Спасопреображенский монастырь. На этом склоне так отозвались тихие вечерние зори, теплые летние сумерки в душе Жуковского:
Уж вечер… облаков померкнули края, Последний луч зари на башнях умирает; Последняя в реке блестящая струя С потухшим небом угасает. Всё тихо: рощи спят; в окрестности покой; Простершись на траве под ивой наклоненной, Внимаю, как журчит, сливаяся с рекой, Поток, кустами осененный.«Поток» этот — речка Белёвка, бегущая в глубоком, заросшем ивняком и ракитами овраге, отделяющем тот холм, на котором стоял дом Жуковского, от другого, монастырского.
Из большого полукруглого окна второго этажа его дома открывался лучший в Белёве вид. Но в доме этом Жуковский прожил мало: лето почти целиком он проводил в Мишенском, зимой выезжал в Москву. А когда он стал редактором журнала «Вестник Европы» и перебрался в Москву со всеми своими книгами и даже мебелью, то мать его, не желая разлучаться со своей благодетельницей Марьей Григорьевной Буниной, жившей почти постоянно в Мишенском, продала этот дом за три тысячи рублей Елене Ивановне Протасовой, сестре покойного мужа Екатерины Афанасьевны.[3] Деньги, вырученные от продажи, она решила сохранить для сына, о чем и написала ему в Москву.
БЕЛЕВ. ВИД НА ОКУ И СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКИИ МОНАСТЫРЬ С ТОЙ ПЛОЩАДКИ, ГДЕ В. А. ЖУКОВСКИЙ РАБОТАЛ НАД ЭЛЕГИЕЙ «ВЕЧЕР».
Владельцы дома потом никогда не мешали ему появляться здесь как бы хозяином, а ему и нужно-то было — взглянуть из окна своей бывшей комнаты на заокские луга, на Мишенское…
Он смотрит в окно и видит в ночном мраке не Фонтанку, не Михайловский разрушающийся замок и не пустынный и чуждый ему Летний сад, а дугу посверкивающей на солнце быстрыми струями Оки, бревенчатый мост с размахренными ледоходом быками, и там — ниже по течению — пристань с лабазами, скрипом колес, топотом ног, запахом пеньки, речной гнили, дегтя. На Оке — лодки, низко сидящие «тихвинки»…
Отсюда — по Оке и дальше по Мариинской и Тихвинской системам каналов — шел водный путь до самого Петербурга. Некоторые белёвцы и там имели свои лабазы. В Белев, к пристани, стекались товары со всех окрестных сел и городков. А какие богатые и шумные бывали в Белёве — по сентябрям — ярмарки!
…Вечереет. Наступает его любимое время — предзакатное, мирное, наводящее на грустные раздумья:
Уже бледнеет день, скрываясь за горою; Шумящие стада толпятся над рекой; Усталый селянин медлительной стопою Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой. В туманном сумраке окрестность исчезает… Повсюду тишина; повсюду мертвый сон; Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает, Лишь слышится вдали рогов унылый звон…БЕЛЕВ. ДОМ В. А. ЖУКОВСКОГО.
Рис. М. Рябинского.
Тонет в сгущающейся тьме вечера далекое Мишенское с его двумя холмами — господским и деревенским, но еще чуть виднеется угол третьего возвышения — древнего городища, поросшего кустарником: угол, который башенкой поднимается рядом с парком, спустившимся с господского холма. Между усадьбой и Васьковой горой досыпали крестьяне для Жуковского угол городища и поставили здесь круглую деревянную беседку.[4] Жуковский сам руководил этими работами.
… «Здесь моя скромная муза робко будет звучать на лире, обвитой цветами, посвященной свободе и добродетели…»
Это было в 1802 году, — ему девятнадцать лет исполнилось.
Высокий, худой, в белой рубашке с большим воротником, с черными, длинными — почти до плеч — волосами, темноглазый и загорелый, он приходил в эту беседку, неся под мышкой несколько книг и тетрадь. Вечером, а то и ночью — работа в своей комнате, во флигеле; утром — в ясную погоду — в беседке.
Влажные от ночной росы доски быстро высыхали. Янтарем сверкали золотые потеки смолы на еще не потемневших сосновых столбиках. Начинало пригревать, но ветер был свеж и нес по небу — одно за другим — розоватые с фиолетовыми днищами облака.
Переводить Михаилу Серванта[5] было весело — выходки безумного добряка идальго, остроты его оруженосца Санко были ему по душе: Дон Кишот был истинно добрый человек, и это была не просто доброта, а доброта во имя любви! Это-то и считал Жуковский чуть ли не главным в человеческой душе. Да и не так уж трудно было представить себе этих людей — слугу и господина — едущими мимо Васьковой горы по рыжевато-белому глинистому проселку, как раз против беседки, в жаркий день… И вышло так — незаметно для переводчика, — что Дон Кишоту подают за ужином русскую окрошку, а по будням ходит он, как бывало Афанасий Иванович, в байковом кафтане. И конь Росинант называется в переводе Жуковского Рыжаком.
…Жуковский окончил в Москве Благородный пансион при университете, вышел оттуда вместе со своим другом Александром Тургеневым. Служил недолго: вышел в отставку и уехал в деревню.
МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА.
Гравюра.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ «ДОН КИХОТА» В ПЕРЕВОДЕ В. А. ЖУКОВСКОГО.
Тургеневы! Сама судьба свела Жуковского с этой семьей. Иван Петрович Тургенев был членом просветительского кружка Новикова, совладельцем новиковской Типографической компании, выпустившей множество книг на русском языке. В 1792 году Новиков оказался в крепости, а Тургеневу было предписано безвыездно жить в собственной симбирской деревне. Император Павел I, взойдя на престол в 1796 году, возвратил Тургенева из ссылки и сделал директором Московского университета.
Афанасий Иванович Бунин — отец Жуковского — был знаком с Тургеневым. Все сложилось так, что Жуковский стал своим в семье Тургеневых. Дети Ивана Петровича — Александр, румяный голубоглазый крепыш, и Андрей, старший его брат, студент университета, серьезный и худощавый юноша, пробовали что-то сочинять, переводили с немецкого языка философские брошюры, которые Иван Петрович издавал на собственные средства. Андрей Тургенев стал самым близким другом Жуковского. Очень скоро около них образовался молодой кружок.
В 1802 году, после безуспешных попыток прикомандироваться к русской миссии в Лондоне, Андрей Тургенев отправился служить в Петербург. Его брат Александр уехал учиться в университет немецкого города Геттингена. Жуковский переписывался с ними; письма их были живыми, полными мечтаний, откровенных рассказов о себе, обо всем, что думалось, что прочитано, с советами, с маленькими вспышками размолвок.
В декабре 1802 года Карамзин напечатал в «Вестнике Европы» первое значительное произведение Жуковского — сразу ставший знаменитым перевод стихотворения Томаса Грея «Элегия, написанная на сельском кладбище»,[6] посвященный Жуковским Андрею Тургеневу: чистая речь, музыкальный стих, глубокое чувство — все в элегии дышало свежестью новизны, говорило о переводчике как о большом поэте.
В июле 1803 года Андрей Тургенев — ему не было и двадцати двух лет — неожиданно скончался.
Навсегда осталась эта боль. Спустя десять лет Жуковский напишет Александру Тургеневу:
Где время то, когда наш милый брат Был с нами, был всех радостей душою? Не он ли нас приятной остротою И нежностью сердечной привлекал? Не он ли нас тесней соединял? Сколь был он прост, нескрытен в разговоре! Как для друзей всю душу обнажал! Как взор его во глубь сердец вникал! Высокий дух пылал в сем быстром взоре.Не было такого дня, чтобы Александр Тургенев не вспомнил о брате. Он был несказанно рад тому, что Жуковский — лучший друг Андрея — приехал в Петербург и поселился у него.
Чего только они не вспомнили в долгих беседах: и «трижды помноженного Антона» — Антона Антоновича Прокоповича-Антонского (инспектора Благородного пансиона), улыбающегося, скромного, его розовые, то и дело краснеющие щечки, его смешную прибавку «та» чуть ли не к каждому слову, и военные упражнения в лагере на Воробьевых горах под командой отставного унтер-офицера, и плавание на лодках по Москве-реке, и посещения книжных лавок и театр… Конечно — и прежде всего — заседания Дружеского литературного общества в полуразвалившемся доме отставного конногвардейца Воейкова. Тогда Карамзин был их кумиром, хотя Андрей Тургенев считал уже, что он как поэт выдохся. Вспоминали осанистого, немногословного и чуть-чуть насмешливого Дмитриева, любившего молодежь. Василия Львовича Пушкина. Князя Петра Шаликова — подражателя Карамзина, истого сентименталиста; Карамзин снисходительно признавал, что в Шаликове есть «что-то тепленькое». Все это было вчера, и многое — уже после смерти Андрея.
…Тридцать два года Жуковскому.
Он еще не знает, останется ли он в Петербурге: если не в Дерпт, то — в Мишенское? Милая беседка! «Греева элегия»! Она еще есть.
…В беседке с утра уже кто-то побывал: лежит на столе букет приветливых полевых цветов, среди них его любимая скромная фиалка — «магкина душка». Жуковский кладет книги, открывает тетрадь, прижимает страницы от ветра гладким речным камнем и осматривает окрестности, словно шкипер с корабельной палубы.
Слева — мощный и прохладный парк, тянущийся вверх к усадьбе, внизу белеет дорога, за церковью блестит на утреннем солнце квадратный, обсаженный ивами пруд. Большой луг уже зарос молодой травой, за ним — по долине Большой Выры — раскинулись домики села Фатьянова, зеленеют фатьяновские огороды и словно клубится сквозная, освещенная солнцем свежая листва деревьев; за селом, в гуще ив, серебрится драночная крыша бунинской мельницы. За Фатьяновой круто вверх поднимается поле: там изумрудные полосы посевов, небольшие рощи; за этим полем скрыт Белев, часть которого выглядывает справа, — как раз то место над Окой, где Жуковский выстроил в 1805 году свой дом.
Наглядевшись, Жуковский начинал работать и не замечал времени. Налетит ветер, спутает ему длинные волосы, он нетерпеливо откинет их назад — и снова за карандаш… А то выйдет из беседки и задумчиво ходит по городищу, срывая травинки.
Кричат петухи, слышится мычание коров и отдаленный звук пастушеской жалейки. Недвижно стоят легкие облака. Вдалеке, на Волховской дороге — старинном Киевском тракте — тарахтит коляска. Распевают дрозды в роще под Васьковой горой. Беседка словно висит в утреннем чистом воздухе.
На что чертог мне позлащенной? Простой, укромный уголок, В тени лесов уединенной, Где бы свободно я дышал, Всем милым сердцу окруженный, И лирой слух свой услаждал… Вот всё — я больше не желаю.
Мерзляков[7] укорял его: «Худо, брат, ты помнишь нашу старую дружбу. И что бы, кажется, за удовольствие жить столь долго в деревне? Ныне время самое шумное, перемены за переменами… Что ты делаешь в своем уединении? Богатеет ли ученый кабинет твой новыми произведениями печально-нежной твоей музы?» Свои прозаические переводы Жуковский отправлял Мерзлякову, а тот вел переговоры с издателями.
А потом — годы прошли — жизнь перевернулась: не удалось ему миновать Петербурга. «Я не могу положить пера, не изъяснив вам общее наше с Тургеневым давнишнее желание: переселить вас сюды. Ныне Петербург стал единственно приличным для вас местопребыванием», — писал Жуковскому в деревню в 1813 году Сергей Уваров, который был в то время попечителем Петербургского учебного округа и настойчиво вызывался подыскать для Жуковского «хорошую» службу в столице. Негоже, думали друзья, прославленному певцу 1812 года, самому читаемому поэту России, пропадать в глуши.
Вышло так, что желание Уварова и Тургенева исполнилось.
«Одним словом, вот я в Петербурге, — писал Жуковский Авдотье Петровне Киреевской, — с совершенным, беззаботным невниманием к будущему. Не хочу об нем думать. Для меня в жизни есть только прошедшее и одна настоящая минута, которою пользоваться для добра, если можно — зажигать свой фонарь, не заботясь о тех, которые удастся зажечь после… Оглянешься назад и увидишь светлую дорогу. Но что же вам сказать о моей петербургской жизни? Она была бы весьма интересна не для меня! Много обольстительного для самолюбия, но мое самолюбие разочаровано — не скажу опытом, но тою привязанностью, которая ничему другому не дает места».
Привязанность эта — любовь к Маше Протасовой, племяннице, а точнее, «полуплемяннице» своей, беспредельная, полная отчаянных трудностей, катастрофически-безнадежная, но — взаимная, счастливая, — все-таки счастливая из-за этой взаимности.
Отчаянная борьба Жуковского за Машу окончилась его поражением: упорство ее матери оказалось непреодолимым — она не поддавалась ни на какие доводы, да и трудно сказать, была ли она кругом неправа, — она, вопреки «правде бумаг», считала Жуковского своим братом. Но она была потомственная дворянка, дочь барина, а он был только «грех» этого самого барина, сын пленницы и ничего более, и его дворянство не потомственное, а случайное — подаренное ему его приемным отцом, бедным киевским дворянином Андреем Григорьевичем Жуковским, приятелем Бунина. В сущности, несмотря на всеобщую любовь к нему, он чувствовал себя в семье Буниных не своим.
СЕЛО МИШЕНСКОЕ. НА ХОЛМЕ — УСАДЬБА А. И. БУНИНА
Рис. В. А. Жуковского.
За Жуковского перед Екатериной Афанасьевной хлопотало много людей: Авдотья Петровна Киреевская, соседи по Муратову — Плещеевы, друг Ивана Петровича Тургенева — Иван Лопухин, брат покойного мужа Екатерины Афанасьевны Павел Иванович Протасов, орловский архиерей Досифей и даже петербургский архимандрит Филарет, к которому по просьбе Жуковского обратился Александр Тургенев. Это были скорее судорожные метания, чем поиски защитников… Что оставалось делать?
«Чтобы не потерять всего, — пишет Жуковский из Петербурга Киреевской, — надобно мне уединение и труд (уединение, не одиночество)… И это всё там у вас! Молите бога, чтобы я поскорее к вам вырвался… Погодите, друзья, приеду к вам, и мы непременно устроим как можно лучше жизнь свою!»
Но жизнь самых дорогих для него людей была устроена плохо.
Жизнь Маши в семье сестры Саши из-за ее мужа Воейкова стала адом: он шпионил за ней, перехватывал ее письма, как-то ухитрялся даже прочитывать тайные дневники, грозил выбросить ее из дому, если она хотя бы еще раз напишет Жуковскому.
МАРИЯ АНДРЕЕВНА МОЙЕР (ПРОТАСОВА)
Худ. К.-А. Зенф.
Такие-то обстоятельства и толкали Машу — не без участия матери — выйти замуж чуть ли не за первого встречного. У нее хватило сил отказать глупому генералу Красовскому, но ее полюбил человек действительно хороший — дерптский университетский хирург Иоганн Мойер,[8] сын пастора, выходца из Голландии, человек трудолюбивый и добрый, лечивший даром всех бедняков в округе, страстный музыкант: он с друзьями давал публичные концерты и собранные деньги тратил на помощь бедным. «Теперь Жуковский спокоен и счастлив, — старалась убедить себя и Киреевскую Марья Андреевна, — он любит меня как сестру и верно теперь ему лучше прежнего. Любовь его ко мне ничего, кроме горести и мучений, не давала ему, а теперь он уверен в моем счастии и спокоен». Но ни она, ни он не могли быть спокойны. «Маша, откликнись, — взывал Жуковский, — я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось. Ради бога, открой мне глаза. Мне кажется, что я всё потерял!»
Марья Андреевна не могла не тосковать о несбывшемся. «Когда мне случится без ума грустно, — признавалась она Жуковскому, — то я заберусь в свою горницу и скажу громко: Жуковский! и всегда станет легче».
И еще — как и Жуковскому — ей помогали в ее трудной жизни воспоминания.
«Я не знаю отчего, — писала она Киреевской, — ничто, никакое воспоминание прекрасной натуры не трогает столько мою душу, сколько воспоминание прелестных вечеров Мишенских. Я готова выплакать сердце, когда воображу, как я приезжала из Долбина, как гуляла с тобой, с твоим мужем, как сиживали на широкой террасе; как провожала вас после ужина домой, как ходила с тобой взад и вперед по цветнику… Мишенское, Белев, Долбино, Муратово, всё старое, все воспоминания, все радости, — всё теснится в сердце и губит ту каплю радостей, которую здесь имею».
Дочь Марьи Андреевны — Екатерина Ивановна Елагина — вспоминала впоследствии, что мать ее в Дерпте не позволяла себе ни минуты праздности, готова была на всякую работу и многое умела — стирать, стряпать, чинить белье, рубить капусту… Ей хотелось научиться доить, дело стало за малым — не было коровы. Марья Андреевна, всегда, не только в Дерпте, но и еще в Муратове, содержала несколько воспитанников — попросту бедных сирот. Она выполняла акушерские обязанности в местной пересыльной тюрьме, — однажды надзиратель нечаянно запер ее в камере, и она всю ночь просидела там. Ее нельзя было назвать красавицей, но в ее лице, голосе и движениях было много женственности и поэтического очарования.
Тяжко было Жуковскому, но, может быть, Марье Андреевне было тяжелее: у нее не было выхода для раздирающей сердце тоски, — одни только письма Жуковскому, но какие это были письма! «Ангел мой Жуковский! Где же ты? всё сердце — по тебе изныло. Ах, друг милый! неужели ты не отгадываешь моего мученья? Бог знает, что бы дала за то, чтоб видеть одно слово, написанное твоей рукой, или знать, что ты не страдаешь. Ты мое первое счастие на свете».
Незадолго до своей смерти Марья Андреевна приехала с маленькой дочерью Катей в Белев. Когда экипаж остановился возле их бывшего дома на конце Крутиковой улицы,[9] то еще едва начало рассветать. Здесь жил теперь ее сводный брат Василий Азбукин.[10] В доме было тихо. Все спали. Марья Андреевна невольно порадовалась этому: никто не помешает ей побыть в первые минуты приезда одной. Она взяла на руки дочь и пошла по прохладной, осененной тополями улице к дому Жуковского, — это было совсем рядом. Вот и он. Буйная, выше человеческого роста крапива стеной встала под окнами, а ивы, которые они так весело сажали семнадцать лет тому назад, шумели плакучими ветвями… Медленно рассеивался над Окой утренний туман. Простучали первые телеги. Замычал выгоняемый из дворов скот.
«В этом доме, — писала она, — пережила я лучшие часы моей жизни; каждое утро было для меня наступлением блаженства, и каждый вечер был мне люб, потому что я засыпала в ожидании следующего утра». Марья Андреевна не могла удержаться от слез. Ее услышали: открылось окно и показалось бородатое, зевающее лицо мужика, «Чтой-то тут?» — спросил он оторопело. Марья Андреевна поспешила уйти.
Она перешла на другой берег Оки, к Московской дороге. «Стадо паслось на берегу, — писала она, — солнце начинало всходить, и ветер приносил волны к ногам моим. Я молилась за Жуковского, за мою Китти! О, скоро конец моей жизни, — но это чувство доставит мне счастие и там. Я окончила мои счеты с судьбой, ничего не ожидаю более для себя».
Дочь Марьи Андреевны с восторгом бегала по траве и срывала желтые лютики.
…Жуковскому не хотелось покидать родных приокских холмов. Многие его друзья и знакомые не понимали столь упорного пристрастия поэта к сельскому уединению. «В самом деле, — писал ему Мерзляков, — для чего ты так долго медлишь в деревне?.. Ты зовешь меня к себе в Белев. Хорошо, очень хорошо. Житье с тобою конечно почитаю я выше, нежели житье с чинами и хлопотами; но, друг мой, у меня есть отец и мать: они не могут быть довольны одним романическим моим житьем. Они давно уже спрашивают, имею ли я чин и состояние».
Ах, Алексей, Алексей Федорыч! Друг наш — Андрей Тургенев, который едва год как умер, — совсем иное писал: «Ты, брат, едешь в деревню; нет, еще больше, ты едешь туда, где провел свое детство! Счастливая, завидная участь!» И вот что писал Андрей Тургенев им обоим — Жуковскому и Мерзлякову — из Карлсбада, незадолго до своей кончины, мечтая о житье с друзьями в деревне, именно в деревне: «Как бы мы славно пожили! Общество друзей, добрых, соединенных одними склонностями, одними упражнениями, и вместе разнообразных в этих же самых склонностях и упражнениях. Я представляю себе сумрачный осенний вечер, когда мы, поработав и устав в день, гуляли и собирались в общую комнату пить чай, с трубками, с книгами; ты бы или я, например, сидели задумавшись, смотря на вечерние красоты осени, которые всегда изумляют; Мерзляков рассуждал бы или говорил о истории, о русских героях; я бы перебивал его иногда каким-нибудь бонмо,[11] если не острым, то по крайней мере смешливым, как это часто случалось, и которому бы он первый смеялся».
Но напрасно звал Жуковский Мерзлякова в Белев.
…Маша, которой тогда было двенадцать лет, взбежала наверх, в комнаты, еще пахнувшие свежим деревом. Когда она взглянула в полукруглое окно, ее охватил восторг, у нее закружилась голова от обилия света, и она в изнеможении прислонилась к косяку.
БЕЛЕВ. СПРАВА. НА КРУТОМ СКЛОНЕ БЕРЕГА, — ПЛОЩАДКА СРЕДИ КУСТОВ, ГДЕ В. А. ЖУКОВСКИЙ ЛЮБИЛ РАБОТАТЬ НАД СТИХАМИ; ВЫШЕ, НАД ПЛОЩАДКОЙ, СТОЯЛ ЕГО ДОМ.
СЕЛО МИШЕНСКОЕ. ВИДНА ЦЕРКОВЬ УСАДЬБЫ А. И. БУНИНА.
Рис. В. А. Жуковского.
Внизу ярко голубела отражавшая легкие летние облака Ока, по которой скользили несколько лодок. У противоположного берега, в тени нависших над водой кустов и трав плыла стая уток. По берегу в сторону Дуракова и Жабынской пустыни шла сухая глинистая Московская дорога. И дальше, озлащенные ярким солнцем, расстилались луга, поля — там желтела рожь и белела цветущая гречиха, — и так далеко тянулся этот простор, что Маше захотелось туда полететь.
Когда девочек увозили из Белёва, чаще всего к дяде Павлу Ивановичу Протасову в село Троицкое Мценского уезда, Жуковский очень грустил. Особенно — по старшей, Маше. «Что со мной происходит? — раздумывал он в своем дневнике. — Грусть, волнение в душе, какое-то неизвестное чувство, какое-то неясное желание!.. Третий день грустен, уныл. Отчего? Оттого, что она уехала… Это чувство родилось вдруг, отчего — не знаю: но желаю, чтобы оно сохранилось. Я им наполнен… Я был бы с нею счастлив конечно!
Она умна, чувствительна, она узнала бы цену семейственного счастия и не захотела бы светской рассеянности… Но родные? Может быть, они этому будут противиться?.. Неужели для пустых причин и противоречий гордости К. А. пожертвует моим и даже ее счастием, потому что она конечно была бы со мною счастлива».
К. А. — Екатерина (Катерина) Афанасьевна; Жуковский угадал ее будущее поведение.
И вот осень 1815-го: «Сердце ноет, когда подумаешь, чего и для чего меня лишили», — жалуется Жуковский Маше.
«На свете много прекрасного и без счастья», — повторяет Жуковский свою выстраданную мысль друзьям.
…Проходило лето, желтели и осыпались в парке листья, глубокий сон овладевал деревьями. Небо становилось прозрачнее, холоднее, и там — высоко — с кликами летели журавли, собирались хмурые облака, все чаще уходило в их дымную завесу солнце, шли дожди… А потом на замерзшую глину проселочных дорог, на пожухлую щетину сжатых нив, на лес, покрывающий Васькову гору, на крыши села Фатьянова, на осиротевшее Мишенское, на заросший сосенками холм Греева элегия, где стояла беседка Жуковского, падал первый снег, и всё вокруг устилали сугробы.
Ты сетуешь на наш климат печальный! И я с тобой готов его винить! Шесть месяцев в одежде погребальной Зима у нас привыкнула гостить! Так! Чересчур в дарах она богата! Но… и зимой фантазия крылата!.. Спасенье есть от хлада и мороза: Пушистый бобр, седой Камчатки дар, И камелек, откуда легкий жар На нас лиет трескучая береза. Кто запретит в медвежьих сапогах, Закутав нос в обширную винчуру.[12] По холодку на лыжах, на коньках Идти с певцом в пленительных мечтах На снежный холм, чтоб зимнюю натуру В ее красе весенней созерцать?…И — пошло, покатилось неудержимое время!
Но не только родина. Есть еще то огромное в жизни, что — как воздух — помогает дышать. Об этом он в 1815 году писал Киреевской: «Поэзия, идущая рядом с жизнью, товарищ несравненный!»
Родина и поэзия — всегда были с ним.
«Он и при дворе, — говорил о нем Вяземский, — всё еще был „Белёва мирный житель“.[13] От него все еще пахло, чтобы не сказать благоухало, сельскою элегией, которою начал он свое поэтическое поприще».
Поэтому, вернувшись из Павловска, чуть ли не всю ночь в грустном одиночестве сидел Жуковский, размышляя о своем недавнем прошлом, совсем недавнем: о вчерашнем дне. Поэтому мысленно ехал он на родину, поэтому мечтал он о каком-нибудь уголке в Тульской или Орловской губерниях — в краях своей молодости. «Вот-вот поеду», — думал он. И не просил Киреевскую высылать ему в Петербург его книги. Год тому назад — осенью 1814-го — прославленный автор «Певца во стане русских воинов», уже написавший почти все свои лучшие баллады, прислал друзьям в Петербург большое стихотворение «Императору Александру». Тургенев устроил чтение у себя.
Г. Р. ДЕРЖАВИН.
Гравюра И. Пожалостина с оригинала И. Боровиковского.
«Чем более читаю я твое послание, тем более красот открываю», — писал Тургенев Жуковскому об этом стихотворении. Батюшков был в восторге:
«Если бы я мог завидовать тебе, то вот прелестный случай! Так, мой милый, добрый мечтатель!.. Твое новое произведение прелестно… И откуда ты почерпнул столько прекрасных, новых и живописных выражений? Счастливец! Чародей! Прими же чувство моей благодарности за несколько сладостных минут в жизни моей: читать твои стихи — значит наслаждаться, — а в последних ты превзошел себя».
Вспоминались грустные строки Державина, словно шепот ветра в сухой осенней листве:
Тебе в наследие, Жуковский, Я ветху лиру отдаю; А я над бездной гроба скользкой Уж преклоня чело стою……В журнале «Сын Отечества» Дашков, Тургенев и Кавелин объявили о подписке на двухтомные сочинения Жуковского. До сих пор — с 1812 года — всюду в России пели «Певца во стане русских воинов», положенного на музыку Бортнянским. Послание «Императору Александру» читалось на торжественных собраниях, посвященных окончанию войны.
Он собирался приняться за эпическую поэму «Владимир», задуманную им за несколько лет до того. Мечтал о поездке в Крым и в Киев.
И между тем: «Въехал в Петербург с самым грустным, холодным настоящим и с самым пустым будущим в своем чемодане… Здесь беспрестанно кидает меня из одной противности в другую, из мертвого холода в убийственный огонь, из равнодушия в досаду». «У вас только, — пишет он Киреевской в Долбино, — буду иметь свободу оглядеться после того пожара, выбрать место, где бы поставить то, что от него уцелело, и вместе с вами держать наготове заливную трубу».
Пожар этот — вдруг запылавшие и обратившиеся в пепел надежды любви.
«Теперь страшная война на Парнасе, — писал Жуковский на родину, — около меня дерутся, а я молчу».
В беспощадной битве столкнулись два литературных лагеря — защитники старого и нового слога в русской литературе. Адмирал Шишков возглавлял «староверов», погрязших в церковнославянизмах «варяго-россов», которые старались ниспровергнуть новшества, введенные в русский литературный язык Карамзиным и поддержанные его соратниками, в особенности Жуковским. Недаром «варяго-росс» Шаховской сделал попытку залить пламенный романтизм Жуковского «Липецкими водами»… Но Жуковский не просто «молчал», предоставляя друзьям делать ответные выстрелы; он, едва явившись в Петербург, собрал их вокруг себя, создал из них литературное общество, которое стало быстро расти. Заседания «Арзамаса» пародировали торжественные собрания шишковской «Беседы любителей русского слова», а смех арзамасцев был убийственным.
Все, конечно, было не так определенно и просто — и у беседчиков не все было плохо, ведь среди них были и Державин, и Крылов, да и некоторые другие литераторы «Беседы» были не без таланта, а кроме того, заостренный патриотизм.
А. С. ШИШКОВ.
Литография П. Бореля с оригинала Д. Доу.
ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ СО СТОРОНЫ САДОВОЙ УЛИЦЫ.
Литография А. Мартынова.
«Беседы» благотворно повлиял на развитие поэзии декабристов; и у арзамасцев не все пошло гладко — некоторые из них оказались впоследствии охранителями официальных идей (Блудов, Уваров, Северин, Кавелин). И все-таки «Арзамас» во главе с Жуковским прокладывал главную дорогу: он открывал путь следующему поколению литераторов — Пушкину и его школе.
…Приехал в Петербург — ненадолго — вместе с Карамзиным Василий Львович Пушкин. С гордостью рассказал Жуковскому об экзамене в Царскосельском лицее, где отличился его племянник Александр: «Вот, — протянул он с добродушной важностью Жуковскому большой лист бумаги, — ода, которая довела чуть ли не до слез старика Державина, бывшего в январе на экзамене». Это были «Воспоминания в Царском Селе».
Но это не было новостью для Жуковского: ода была напечатана весной в журнале «Российский музеум». Жуковский и до того уже различил среди прочих юный, свежий голос: он запомнил «К другу стихотворцу», «Кольну», напечатанные в «Вестнике Европы», и почти всё, что успел напечатать талантливый лицеист в «Российском музеуме» и «Сыне Отечества».
А. С. ПУШКИН.
Гравюра Е. Гейтмана.
Он часто бывал в Царском Селе и видел там, в парке, нестройную колонну размахивающих руками, смеющихся и подталкивающих друг друга лицейских. Он глядел на дворцовый флигель, где помещался Лицей, со странным чувством грусти и каких-то неясных надежд, не всегда связывая это чувство с молодым стихотворцем Пушкиным: оно — росло. И когда посыпались при холодном ветре пожелтевшие листья с акаций и кленов, когда стало видно в царскосельском парке всё насквозь — чистая вода, отражающая синеву неба, статуи, колонны и поблекшие лужки, — Жуковский решительно вошел в подъезд флигеля.
… «Я сделал еще приятное знакомство! — написал Жуковский Вяземскому. — С нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Сарском Селе.[14] Милое, живое творенье! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности. Боюсь, только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не помешал себе созреть! Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет».
Вяземский, который тоже познакомился с молодым Пушкиным, писал Батюшкову: «Что скажете о сыне Сергея Львовича? Чудо и всё тут. Его „Воспоминания“[15] вскружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в выражении, какая твердая и мастерская кисть в картинах».
…Пушкину было шестнадцать лет. Жуковскому ровно вдвое больше.
Приезжая в Лицей, Жуковский приободрялся — его оживляли беседы с Пушкиным, которому он привозил из Петербурга книги и журналы, которому рассказывал о Карамзине, Андрее Тургеневе, о фельдмаршале Кутузове. Подарил ему только что изданный том своих стихотворений.
Они бродили по шуршащим лиственным прахом дорожкам вокруг почти совсем оголившихся куртин, прудов. Шутили. Пушкин очень смеялся, когда Жуковский по-актерски, в лицах, передал ему случившийся некогда в Москве литературный спор слезливого поэта-сентименталиста Шаликова с ученейшим, но прижимистым редактором «Вестника Европы» Каченовским: как чувствительный Шаликов, оправляя розу в петлице своего фрака, задумчиво бормотал «Вы злой… вы злой», а потом вдруг поднес к носу пожелтевшего от страха Каченовского волосатый кулак и сказал в ярости: «А вот этого ты не хочешь?» И — между прочим — Шаликов готов был избить чуть ли не всякого из знакомых, кто нечаянно не поклонился ему на улице. Весьма чувствительный поэт!
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО СОБРАНИЯ СТИХОТВОРЕНИИ В. А. ЖУКОВСКОГО.
…Шишков, Шихматов, Бобров и другие беседчики давно уже были предметом насмешек Пушкина. Еще в стихотворении «К другу стихотворцу»:
Творенья громкие Рифматова, Графова С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова; Никто не вспомнит их, не станет вздор читать, И Фебова на них проклятия печать.Угадывалось легко: Рифматов — это Шихматов, князь, нельзя сказать, чтобы совсем бездарный стихотворец, но погубивший свои громоздкие творения церковнославянизмами и дикими для слуха речениями, Шишков считал его гением; Графов — сам председатель «Беседы» Шишков, «Седовласый дед», как звали его арзамасцы; Бибрус — имя, произведенное от латинского глагола bibere (пить), — это поэт Бобров, автор длинных поэм, горький пьяница, ну а Глазунов — петербургский книгопродавец, у которого продавались сочинения беседчиков.
И сколько волнения в стихах Пушкина, обращенных к Жуковскому:
И ты, природою на песни обреченный! Не ты ль мне руку дал в завет любви священный? Могу ль забыть я час, когда перед тобой Безмолвный я стоял, и молнийной струей — Душа к возвышенной душе твоей летела…Думая о Пушкине, ни на минуту не забывая его ни в Павловске, ни у друзей, даже во время самых горьких размышлений, когда он словно хоронил свою жизнь («Роман моей жизни кончен», — говорил он), начинал понимать Жуковский, что совершился некий круг: если и будет какая другая, но од на его жизнь действительно замкнулась глухой дверью. До встречи с Пушкиным он тайно — даже от себя — думал о смерти: на высоте поэзии, с разбитой душой — умереть… Теперь — нет! Он успел увидеть во мраке ясный утренний луч.
…Медленно светлело. Жуковский смотрел на расчерченный рамой окна квадрат робко синеющего неба. Потом прошелся по комнате, мягко ступая в домашних туфлях. Остановился у письменного стола и навел порядок на нем: сюда — бумагу, сюда — дневник, чернильницу… А вот это — письма, на которые надо нынче же ответить… Словом — чтобы всё как «дома». Он ведь всегда любил порядок. Деловую обстановку.
Глава вторая
…ПОЛЯ, ХОЛМЫ РОДНЫЕ,
РОДНОГО НЕБА МИЛЫЙ СВЕТ,
ЗНАКОМЫЕ ПОТОКИ,
ЗЛАТЫЕ ИГРЫ ПЕРВЫХ ЛЕТ
И ПЕРВЫХ ЛЕТ УРОКИ,
ЧТО ВАШУ ПРЕЛЕСТЬ ЗАМЕНИТ?
О РОДИНА СВЯТАЯ,
КАКОЕ СЕРДЦЕ НЕ ДРОЖИТ,
ТЕБЯ БЛАГОСЛОВЛЯЯ?
В. А. ЖУКОВСКИЙ1
Армия Румянцева громила турок между Днестром и Дунаем. После битв у речек Ларга и Кагул великий визирь Оттоманской Порты перестал верить в победу над русскими. Плотно сомкнутые, ощетинившиеся штыками русские каре извергали свинец и неуклонно двигались вперед среди пестрого моря спагов — легкой турецкой конницы, кипящей яркими красками разноцветных одежд. Откатывались назад яростные толпы янычар — отборной пехоты султана, и крымские татары на косматых лошаденках.
Румянцев со своими генералами — Боуром, Потемкиным, Репниным — маневрировал смело, по-своему, а места для быстрых передвижений были трудные: сухая степь, речки и озера, болота, голые возвышенности и ущелья… К тому же — изматывающая жара и плохое снабжение: расстояния большие, край малолюдный, Россия — далеко.
Шла борьба за Черное море.
Земля гудела от катящихся кованых колес пушек и зарядных ящиков, от тяжелого шага полков. Вдруг неподалеку от какой-нибудь бессарабской деревеньки — кучка мазанок и плетеных сарайчиков для кукурузы — раскидывались белые палатки, зажигались костры, начинало булькать в котлах солдатское варево. В вечерней тьме из лагеря доносилась в деревню песня:
Как под Бёндером мы стояли, Трое суточек простояли. Мы не пивали и не едали, С добрых коней не слезали. Мы белу стену пробивали…После Кагула крепость за крепостью отдавали турки русским, ошеломленные их победами: Килию, Аккерман, Бендеры, Браилов, Измаил… «Виват, Екатерина!» — возглашали на биваках запыленные, но не утратившие энергии после трудных походов и битв русские офицеры, сойдясь за походными столами и поднимая чарки. Чувствуя окончание войны, приободрились, повеселели и солдаты: и рослые гренадеры, и маленькие, юркие егеря.
…Королевишну в полон взяли, К белым шатрам приводили, Пред Румянцова становили. Румянцов-князь дивовался. Красоте изумлялся: «Что это за девица. Белолица, круглолица, Черноглаза, черноброва, Хороша больно уродилась!»
…Чуть не утонул в Днестре Силантий Громов — крестьянин-маркитант — вместе со своей повозкой: пропала бы вся его богатая выручка. Спасибо, солдаты помогли, а то уж одно колесо вовсе повисло над водой и доска затрещала… На той стороне реки остались дымящиеся развалины Бендер со взорванными стенами.
— Держись, туляк! — крикнул огромного роста унтер, нажав плечом на край падающей повозки. — Помогай, ребята! Табачку разживемся… Наддай!
Силантий мигом слетел с облучка, схватил коня под уздцы, потащил весь в поту; конь захрапел, попятился, и тут раздался женский вскрик. В корытообразной телеге среди мешков и корзин сидели две женщины, так закутанные в шали, что и их можно было принять за кули. «Вай аллах!» — вскрикнула одна из них, когда телега чуть не опрокинулась в мутную воду, бурно бегущую под мостом. Другая что-то тихо сказала по-турецки.
А. И. БУНИН.
Миниатюра.
— Силантий! — сказал унтер. — Никак, бабы у тебя, турчанки, что ли?
— Барину в подарок везу, — охотно ответил маркитант, вытирая рукавом лоб. — Вот ейного мужа, — он кивнул на одну из женщин, — при штурме гренадер штыком запорол, а самою с ружьем поймали. А то — сестра ее. Дом их сгорел. Да больно много всех пленных в Бёндере скопилось — до одиннадцати тысяч! Майор Муфель молодых турских баб собирался отправить на Русь-матушку, будто для воспитания в нашу веру. Я к нему: ваше благородие, не извольте гневаться, а есть у меня просьба к вам нижайшая. Он говорить велел. Вот я и выпросил у него турчанку помоложе. У меня, говорю, телега крепкая, доставлю в целости, худа ей не сделаю. Барину, говорю, в подарок отвезу, Бунину Афанасию Ивановичу. «А, Бунину! — сказал Муфель. — Знаю. Служили вместе в Нарвском полку. Хорошо, я тебе бумагу напишу, вези Бунину турчанку, да не одну, а двух — не разлучать же мне сестер!» И засмеялся.
— Сам, что ли, надумал подарок такой?
— Какое! Прихожу я это к барину. «Отпусти, говорю, батюшка, с маркитантами, в Белёве компания собирается. Счастья хочу попытать, бог даст — избенку новую справлю». Барин наш милостивый: ни обид не чинит, ни добра не делает…
— Ха-ха-ха! — смеются солдаты, идущие рядом с повозкой полкового торговца.
— «А чем, говорит, ты торговать будешь на театре военных действий, что полезного для солдат повезешь?» — «Да что, отвечаю, солдату нужно, известно: гречи, каши сварить, табаку покурить, шильца да ниток, сальца да суконца на заплаты…»
— Водочки! — вставил кто-то.
— А как же солдату без нее? И водочки… Что все — то и я. Мы, белёвцы-туляки, испокон веку маркитанты. Наши где только не бывали, о-ё-ёй! А вот я — впервой насмелился, нужда одолела. «Ну, говорит, езжай. Лошадь-то у тебя есть?» — «Есть». — «Сбруя хорошая?» — «Какое, говорю, мочало рваное…»
— Ха-ха-ха!..
— «Дам я тебе сбрую». — «Батюшка Афанасий Иванович, — говорю я, — какой мне привезть тебе гостинец, если посчастливится торг мой?» Усмехнулся он, поглядел, нет ли кого на террасе, и отвечает: «Привези мне, брат, хорошенькую турчаночку, — видишь, жена моя совсем состарилась!»
Улыбаются солдаты, слушая маркитанта. Днестр остался позади. Дорога пыльная. Солнце палит.
— Вот эта — Сальха, а маленькая — Фатьма. Шестнадцать и двенадцать лет.
— Дурак ты, Силантий, — сказал унтер. — Барин-то твой пошутил, видать. Чай, не турок он, не салтан какой: у него супруга есть.
— Это нам невдомек. А турок не турок, но барина своего я знаю: уж это без шуток… Хватил я, братцы, здесь и страху того, а видать, удачливый. Теперь на Хотйн, там наши белёвцы друг друга поджидать будут, да и домой. Нако-те табачку, солдатики… А турчанки-то — красавицы, особенно Сальха!
Старшая, услышав свое имя, отвернула край темно-зеленой шали и вопросительно посмотрела на своего нового хозяина большими карими глазами, чуть-чуть раскосыми. Силантий добродушно махнул рукой: «Ничего, это мы так». Турчанка снова закрылась.
Так и ехали пленницы в далекую, страшную для них Россию.
Был 1770 год.
2
У Афанасия Ивановича Бунина и его жены Марьи Григорьевны, урожденной Безобразовой, было одиннадцать детей. Но к 1770 году, когда в имении Буниных селе Мишенском появились две молодых турчанки, детей в живых оставалось лишь пятеро: дочери Авдотья (родилась в 1754 году), Наталья (1756), Варвара (1768) и Екатерина — грудной младенец, а также сын Иван, родившийся в 1762 году.
Надворный советник Бунин был человек образованный и, как о нем отзывались окружающие, «честнейший и благороднейший». Свое помещичье хозяйство — села и деревни в Тульской, Орловской и Калужской губерниях — он содержал в образцовом порядке. Жил он в тульском селе Мишенском, находившемся в трех верстах от старинного городка Белёва, сверстника Москвы, бывшего когда-то центром удельного княжества.
В полуверсте от Киевского тракта, идущего с юга через Орел в Тулу и дальше в Москву, на двух соседних холмах — глядя друг на друга — расположились село Мишенское и усадьба Афанасия Ивановича, построенная его отцом — Иваном Андреевичем Буниным — не только с размахом, но и с артистическим вкусом. Там был дом с двумя террасами по сторонам большого, украшенного колоннами крыльца; дом с просторными комнатами, залами и аванзалами, где висели портреты воинственных предков Буниных — польских рыцарей Буникевских, выехавших на Русь «в дни великого князя Василья Васильевича всея России», — знатные мужи в плащах и тускло поблескивающих латах. Краски потемнели и потрескались, позолота на рамах облупилась. С широчайшего балкона видна была не только долина Выры, но и Ока, и весь город Белев, открытый как на блюде, — город красивый, по-русски затейливый. В хорошую погоду обитателям дома и их гостям не хотелось покидать этого балкона… Рядом с домом были два флигеля с крутыми кровлями и башенками-светелками, различные службы, цветники, парк, сад, старинная деревянная церковь,[16] пруды с рыбными сажалками и оранжереи — двухэтажные, с жилыми комнатами, и в этих оранжереях росли абрикосы и лимоны, шампиньоны и всякие экзотические цветы.
Афанасий Иванович любил свое родовое гнездо: тут были соседи-помещики, и город Тула был недалеко, а еще здесь можно было в любое время года великолепно охотиться, что составляло для Бунина не последнее занятие. От отца досталась ему и немалая французская библиотека, в которой он, однако, проводил только самые ненастные дни. По зимам он с семьей жил в Москве в собственном доме в приходе Неопалимой Купины, прилегавшем к Пречистенке. В усадьбе у него постоянно жили какие-нибудь его друзья, по большей части бывшие сослуживцы по полку.
Как дома обосновался в Мишенском беспоместный киевский дворянин Андрей Григорьевич Жуковский, человек тихий и приятный, который был большим любителем музыки: он играл на скрипке и устроил в бунинской церкви хор певчих, которым усердно руководил. Поселился он в одном из флигелей. В том же флигеле жил другой бедный дворянин — крещеный из католиков в православную веру поляк Дементий Голембиевский, который больше всего на свете любил донское игристое, псовую охоту и стрельбу из пистолетов, причем мишенями выбирались фатьяновские огурцы, — огороды села Фатьянова лежали внизу, на противоположной стороне долины. Голембиевский занимал в имении Бунина место управляющего.
СЕЛО МИШЕНСКОЕ НА ЭТОМ ХОЛМЕ НАХОДИЛАСЬ УСАДЬБА А. И. БУНИНА.
Марья Григорьевна Бунина была женщина по тем временам весьма образованная: она не знала ни одного иностранного языка, но выписывала из Москвы и Петербурга много печатавшихся тогда русских книг.[17] Афанасий Иванович с помощью Дементия Голембиевского вел хозяйство, а Марья Григорьевна не занималась ничем, кроме чтения книг и присмотра за своими кружевницами; зато кружевницы у нее были не простые — они знали секреты и тонкости выделки знаменитых в то время «белёвских кружев».
Сальху и Фатьму поселили в небольшом домике на господской усадьбе. Они считали себя невольницами этой барской семьи (так оно и было) и, конечно, тосковали, несмотря на общее доброе отношение к ним. Они называли Марью Григорьевну «ханйм-эфён-ди», а Афанасия Ивановича — «бей-эфенди», то есть «госпожа» и «господин» по-турецки. Они кланялись и на всё отвечали: «Пеки… япарим», то есть хорошо, мол, будет исполнено.
Они были тоненькие, с черными косами, гибкие, ловкие и всегда ходили вместе. Афанасий Иванович приказал пожилой домоправительнице Василисе показать им барский дом, все усадебное хозяйство и постепенно приучать их к домашней работе.
Зимой 1771 года случилось несчастье: Фатьма простудилась и, проболев с неделю, умерла. Сальха очень горевала и безвыходно сидела в своей комнате. Зима была морозная, снежная. По ночам гудели вьюги. Одиноко и страшно было Сальхе. Но скоро она пришла в себя и снова принялась за работу. Марья Григорьевна сделала ее нянькой Варвары и Екатерины.
Из имения Сальха не отлучалась и вообще несколько лет не спускалась с «господского» холма на луг, а уж тем более не бывала в селе Мишенском, расположенном на соседнем холме. Она привыкла к лесным и луговым далям, к густому церковному звону, ясно доносившемуся из Белёва, стоящего на широкой, спокойной Оке, так не похожей на мутный и быстрый Днестр… Она уже перестала думать о возвращении на родину: Турция и Россия сделали обмен пленными, но это коснулось только мужчин, о пленных женщинах забыли: они остались в России навсегда.
Сальха стала одеваться по-русски, привыкла к суровым зимам, а когда Афанасий Иванович уговорил ее креститься, она окончательно покорилась своей судьбе. Крестным отцом ее был Дементий Голем-Биевский. Имя ей дали Елизавета, отчество — по крестному отцу — Дементьевна, фамилию — по созвучию с ее происхождением — Турчанинова. Так пленная турчанка Сальха стала русской подданной и получила из Московского губернского правления бумагу под титлом «К свободному в России жительству».
Когда умерла старая домоправительница Василиса, Сальха заняла ее место и стала распоряжаться дворовыми. Они слушались ее охотно, так как она была добра и ласкова со всеми, даже с дурачком Варлашкой, который в людской был чем-то вроде шута и ходил в длинной ситцевой юбке. Подросшие дочери Буниных занимались с ней русским языком, учили ее читать и писать, но она научилась только правильно говорить, а чтения и письма так и не одолела.
Вскоре Марья Григорьевна обнаружила, что Афанасий Иванович проводит в домике домоправительницы ночи, и запретила дочерям заниматься с ней, а турчанке приказала являться в барский дом только за распоряжениями. Однако Афанасий Иванович и не думал скрывать своей связи, наоборот, он открыто перебрался жить из большого дома в избушку Елизаветы Дементьевны, которая по магометанским своим понятиям стала считать себя второй женой Бунина.
Трижды у Елизаветы Дементьевны рождались и умирали в младенчестве девочки.
Тем временем в семье Буниных происходили свои события. Старшие дочери вышли замуж: Авдотья — за Дмитрия Ивановича Алымова, Наталья — за Николая Ивановича Вельяминова. Вельяминовы уехали в Тулу, Алымовы — в Кяхту, куда ее муж назначен был начальником таможни; Авдотья Афанасьевна упросила родителей, чтобы с ней в Кяхту отпустили младшую сестру, Екатерину. А в 1781 году сын Буниных Иван, кончавший учение в Лейпцигском университете, умер от простуды.[18] С родителями осталась только тринадцатилетняя Варвара.
Афанасий Иванович часто покидал усадьбу, так как ему приходилось ездить в Белев и Тулу по долгу службы: он был белёвским градоначальником и предводителем дворянства в Белёвском уезде.
29 января 1783[19] года Елизавета Дементьевна Турчанинова родила сына. Афанасий Иванович попросил своего приятеля Андрея Григорьевича Жуковского быть восприемником мальчика при крещении и усыновить его, — конечно, формально, так как сам Бунин не имел права дать своему «незаконному» сыну свое имя. А так как Жуковский был дворянин, то и мальчик, названный при крещении Василием, получил дворянство.
Марья Григорьевна, конечно, не могла простить Афанасию Ивановичу его «грех», но по доброте своей разрешила дочери Варваре выступить в роли крестной матери.
Елизавета Дементьевна относилась к Марье Григорьевне с искренней любовью. Несмотря на свои магометанские понятия о браке, она чувствовала себя виноватой, а настоящий-то виновник — Бунин — пропадал в Туле, Москве и вообще делал вид, что ничего не произошло. Марья Григорьевна, потерявшая недавно сына, уже подумывала: как бы прибрать новорожденного младенца в свои руки; все же как-никак он братец покойному Ивану… И Сальха — Елизавета Дементьевна — словно угадала эти ее тайные желания: в один из весенних дней, когда покрылись молодыми листочками деревья парка, она вошла в дом и смиренно положила мальчика на пол, к ногам Марьи Григорьевны. Обе заплакали, обнялись, и Марья Григорьевна сказала:
— Как родного воспитаю.
СЕЛО МИШЕНСКОЕ.
3
Вася рос барчонком: Марья Григорьевна приставила к нему кормилицу и двух нянек и сама постоянно возилась с ним. Чуть унесут его куда, она уже беспокоится и спрашивает дочь:
— Варенька, где же твой крестник? Я уж соскучилась.
Но вот и Варвара вышла замуж — за Петра Николаевича Юшкова, и уехала сначала в Москву, а потом в Тулу. Мальчик остался один. Женщины — а их был полон дом — наперебой баловали его.
Он бегал по комнатам, прятался под кровати и в шкафы, играл на дворе с собаками, любил сидеть у кружевниц, слушая их песни и сказки. Тут же часто сидел с ним Андрей Григорьевич Жуковский, который рисовал для кружевниц узоры. Жуковский уводил мальчика гулять в парк и позволял ему там сколько угодно бегать и шуметь.
В 1785 году Афанасий Иванович записал двухлетнего Жуковского сержантом в Астраханский гусарский полк.
Вскоре у Васи в Мишенском появились подружки — две девочки. Одна — дочь скончавшейся в родах Натальи Афанасьевны Вельяминовой, другая — дочь Варвары Афанасьевны Юшковой, настолько слабая, что никто не верил в то, что она выживет. Марья Григорьевна взяла внучек, выходила их и оставила у себя. Обеих девочек звали Анютами.
Теперь дети росли втроем.
Летом — в Мишенском, зимой — в Москве, в доме Юшковых — в Пречистенской части, в приходе Успенья на Могильцах, — в 1812 году весь этот квартал выгорел и потом был застроен по другому плану. В Москву отправлялись, по обыкновению богатых бар того времени, с лакеями и поварами и с огромным обозом, везя все необходимое — всякие припасы, даже мебель. Назад возвращались по последнему санному пути. Елизавета Дементьевна тоже ездила с ними в Москву. Вася звал ее по имени-отчеству, а Марью Григорьевну — бабушкой, так же как звали ее Анюты.
ОБЕЛИСК НА МЕСТЕ ДОМА, ГДЕ РОДИЛСЯ В. А. ЖУКОВСКИЙ.
Одна из них — Анна Петровна Юшкова[20] — оставила в своих воспоминаниях такой портрет Жуковского-ребенка: «Он был строен и ловок; большие карие глаза блистали умом из-под длинных черных ресниц; черные брови были как нарисованы на возвышенном челе; белое его личико оживлялось свежим румянцем; густые, длинные черные волосы грациозно вились по плечам; улыбка его была приятна, выражение лица умно и добродушно».
Летом в Мишенском гостили и другие внучки Буниных — они приезжали со своими няньками и гувернантками. Появлялись и прочие родственники. В доме становилось весело. Вася командовал девочками, а они охотно ему подчинялись — все, от пяти до пятнадцати лет. Он строил их во фрунт, водил по парку, ставил на часы, бегал с ними в овраг за село, где над шумным родником Гремячим возвышалась деревянная часовня-беседка; здесь всегда было много крестьян, приходивших к источнику за особенно чистой, как считалось — целебной, водой. Дети — на луг, где косят сено, в поле, в дубовую рощу у страшной Васьковой горы — искать разбойничью пещеру, на речку Выру, которая шумит в прохладе ивняка, а за ними — няньки, гувернантки, Елизавета Дементьевна.
Когда Васе исполнилось шесть лет, Афанасий Иванович привез из Москвы учителя-немца, да, кажется, вышла при этом какая-то ошибка, так как немец при ближайшем рассмотрении оказался не учителем, а портным. Однако этот портной — его звали Еким Иванович — вышел из коляски с важным видом, высокомерно огляделся и спросил:
— Где будет мой комнат?
Его поселили вместе с учеником во флигеле, где жил и Андрей Григорьевич Жуковский. Вася должен был учиться немецкому языку и счету. Андрей Григорьевич журил Афанасия Ивановича:
— Ты, Афанасий, видишь ли… не подгулял ли в Москве-то, ведь ты кого привез? Гм… Вральмана! Ты посмотри на него; послушай, говорит-то как! А уж рожа-то, Афанасий, ох тупа!
Афанасий Иванович усмехался:
— Ну что ж, что Вральман… А баловаться не даст!
Все недоумевали: не подшутил ли над ними Бунин? Марья Григорьевна не делала ему — как всегда — никаких упреков, но ходила хмурая и скучала без мальчика, которым завладел немец.
Еким Иванович страстно увлекался стрекотом кузнечиков. В первые же дни своей жизни в Мишенском он сделал из цветной бумаги затейливые домики, наловил при помощи дворовых ребятишек кузнечиков и поселил их в эти домики, которые развесил по четырем окнам большой классной комнаты. Кузнечики наполняли комнату своей «музыкой» и шуршали бумагой, а немец-учитель стоял то у одного окна, то у другого, чуть-чуть улыбаясь узким ртом и иногда с удовлетворением произнося: «Гут». Занятия шли при неумолчном верещании несчастных насекомых.
Андрей Григорьевич жил за стеной классной комнаты и невольно слышал все, что там происходило. Кузнечики шумели, Еким Иванович ворчал на ученика, а иногда хлопал его линейкой по пальцам. Мальчик плакал, а немец ругался еще пуще.
СЕЛО МИШЕНСКОЕ. АЛЛЕЯ В ПАРКЕ.
СЫН В. А. ЖУКОВСКОГО ПАВЕЛ. «ПАВЕЛ ВЕСЬ Я — И ЛИЦОМ И ХАРАКТЕРОМ», — ПИСАЛ В. А. ЖУКОВСКИЙ.
Фотография конца 1840-х гг.
Однажды в классной комнате поднялся такой скандал, что Андрей Григорьевич не выдержал и открыл дверь. Немец был в неописуемом гневе, топал ногами и размахивал розгой, а его ученик, обливаясь слезами, стоял на полу — голыми коленями на горохе, держа в руках книгу.
— Что такое он сделал? — спросил Андрей Григорьевич.
— Он не учил свой урок и все глядя на мой кузнетчик, — ответил Еким Иванович.
— Простите его, Еким Иванович, он еще так мал, да и кузнечики ваши мешают ему хорошо заниматься. И не ставьте его на горох, у нас этого не водится.
— Да-да, мальчик не имел строгий наставник.
Немец положил розгу, велел Васе встать и сделал вид, что гнев его прошел. Но не успел Андрей Григорьевич выйти за двери, как все началось снова. Тогда Андрей Григорьевич позвал Марью Григорьевну. Она немедленно явилась в классную комнату, где застала своего любимца стоящим коленями на горохе и всего в слезах. Расспросив, в чем дело, она узнала, что, когда немец вышел, Вася забрался на подоконник и стал разглядывать бумажные домики. При этом один домик развалился и два кузнечика, сидевшие в нем, выпрыгнули в открытое окно. Вот что разгневало Екима Ивановича. Марья Григорьевна тут же увела мальчика с собой и рассказала обо всем Афанасию Ивановичу.
— Васенька еще слишком мал, чтобы выписывать для него учителей, — сказала она. — Вот Андрей Григорьевич сам берется учить его русской грамоте, счету и рисованию. А немца-то, батюшка, отправь, уж избавь нас от этого страшилища.
Бунин в тот же день отослал строгого учителя в Москву, а всех кузнечиков Вася с восторгом выпустил на волю. Долгое время в Мишенском со смехом вспоминали этот случай. Забавнее всего был самый конец учительской карьеры немца. Когда Бунин спросил его, куда должен его отвезти в Москве данный ему в провожатые человек, Еким Иванович ответил:
— К портному Пфеффелю на Зацепе.
И вдруг упал на колени и жалобно попросил:
— Господин, не откажите в ходатайстве перед мастером, чтобы он принял назад свой подмастерье.
— И подлинно Вральман, — проворчал Андрей Григорьевич.
Между тем военная служба Васи шла своим чередом. В июле 1789 года Афанасий Иванович привез из Тулы приятное известие: мальчик, ничего о том и не подозревавший, прошел все положенные ему солдатские чины и произведен в прапорщики с зачислением в штат генерал-поручика Михаилы Никитича Кречетникова, тульского наместника, младшим адъютантом. Так, по обыкновению екатерининского времени, еще не научившись читать, ребенок стал офицером русской армии. Теперь, справедливо прикинул Афанасий Иванович, Васе можно и в отставку выйти — теперь он дворянин по милости не только приемного отца, но и по офицерскому своему патенту. И подал за него прошение об отставке, которое и было удовлетворено в ноябре того же года.
…Вечерами, забравшись в вольтеровское кресло[21] с ногами, Вася слушал музыку. Варвара Афанасьевна, приезжавшая летом из Тулы, пела, нередко — свои любимые песни Моцарта. Андрей Григорьевич играл на скрипке. Петр Николаевич Юшков — на фортепиано. Поочередно читали вслух книги. Летом 1789 года Марья Григорьевна за несколько вечеров прочла прозаическое переложение поэмы Виланда «Оберон, царь волшебников»,[22] сделанное Василием Лёвшиным. Эта поэма, талантливое подражание «Неистовому Роланду» Ариосто,[23] с тех пор навсегда полюбилась Жуковскому: впоследствии он много раз перечитывал ее в оригинале и сделал несколько попыток ее перевести.
Играя в парке, он воображал себя могучим рыцарем Гюбном, который в поисках чудовищного гиппогрифа прибыл сначала в Иерусалим, а потом отправился в город Вавилон, побеждая по дороге нападавших на него магометан, великанов и чародеев. В Ливане встретил он рыцаря Шеразмина, состоявшего некогда в свите его отца, герцога Гвиенского. Шеразмин шестнадцать лет прожил в пещере среди пустыни, одетый в шкуры и вооруженный дубиной, «которой одного удара довольно было для поражения великого вола». В дальнейший путь они отправились вместе.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РУССКОГО ПЕРЕВОДА ПОЭМЫ ВИЛАНДА «ОБЕРОН».
Вася попросил у Дементия Голембиевского старый охотничий рог и погнутый металлический бокал.
— Вот, Гюон, — говорил он Анюте Юшковой, которая временно представляла рыцаря, — прими сей рог из рук моих. От малейшего дуновения испускает он сладостные слуху звоны, и хотя бы тьмы воинов с копьями и мечами на тебя вооружились, начнут от звуку сего плясать и не перестанут до тех пор, пока без памяти не попадают… Возьми и сей сосуд: источник, наполняющий его, вовеки не иссякнет.
Марья Григорьевна, поощрявшая эти игры, сделала мальчику красный плащ и отдала ему старинную треугольную шляпу. В таком наряде и еще с палкой в руке вел он девочек через парк и, спустившись с холма, через луг — в дубовый лес, поднимавшийся на Васькову гору. Об этой горе в Мишенском рассказывали страшные легенды: будто бы здесь в пещере жил в старину могучий разбойник Васька, который грабил на дороге богатых путников. Дети лезут вверх по склону, оплетенному корнями деревьев, сквозь кусты.
Вот и таинственный темный провал, густо заросший жесткой травой и колючками. Вася с бьющимся сердцем раздвигает заросли. Девочки визжат и закрывают руками глаза. Им вспоминается из «Оберона»: «Вдруг освещает его ясный луч, исходящий из отверстия пещеры; камни, составляющие оную, в смешении с обросшим кустарником, торчащим из расселин, представляют из темноты к огню странный вид глазам его; свет, проницающий листы, являет нового роду зеленый огонь. Рыцарь наш, оживленный любопытством, соединенным с ужасом, чает увидеть тут волшебника». А ну как выскочит, вращая глазами, душегуб Васька!
Что-то затрещало в кустах. Дети, не помня себя, бросились бежать.
На лугу их уже встречает Елизавета Дементьевна.
— Васенька, Вася, — говорит она, — нельзя ходить так далеко, нельзя девочек водить на луг, тут пастухи стадо пасут, а вдруг бык вас всех перебодает!
— А я не боюсь быка! — говорит Вася.
…Вася любил рисовать. Во время урока, когда Андрей Григорьевич рассеянно смотрит в окно, он чертит на аспидной доске мелом не буквы, а смешные физиономии. Андрей Григорьевич велит стереть рожицы и написать буквы. После урока он говорит Васе:
— Вот теперь можно и порисовать.
Андрей Григорьевич выдумывает для кружевниц узоры: сначала мелом на доске, потом на бумаге. Вася рисует везде — на доске, на полу, на столе… Однажды в девичьей поставили — в какой-то из церковных праздников — на стуле большую икону богоматери. Вася, увидев, что никого нет, устроился на полу и принялся за работу. А потом незаметно ушел.
Он сидел в кресле возле Марьи Григорьевны, когда пришла одна из девушек, бледная и возбужденная.
— Барыня, — сказала она срывающимся голосом, — чудо у нас!
— Чудо? У нас-то в Мишенском?
— В Мишенском, барыня. Образ нерукотворный объявился.
— Где?
— В девичьей.
Марья Григорьевна пошла. Вася — следом. Девушки толпились у дверей, не смея ступить на пол, где был нарисован мелом образ богородицы с младенцем.
Марья Григорьевна посмотрела на рисунок, потом на Васю, взяла его руку, повернула ладонью кверху:
— Так-так… Вот он, кудесник-то наш! Все пальцы в мелу… Палашка, хватит креститься, возьми тряпку да вытри пол. А ты, Васенька, рисуй лучше на бумаге.
4
В конце ноября 1790 года Афанасий Иванович должен был явиться на службу в Тулу. Там нанял он сроком на три года особняк, принадлежавший главному начальнику оружейного завода генерал-поручику Жукову. Вся семья, включая Васю с матерью, переехала туда. Двух Анют — Юшкову и Вельяминову — Марья Григорьевна тоже взяла с собой в этот дом, несмотря на то что у одной в Туле жили мать с отцом, а у другой вдовый отец. Обосновались на новом месте капитально, привезли из Мишенского все, что нужно для барской жизни.
Тула с 1777 года стала центром наместничества Тульского, Калужского и Рязанского, поэтому ее украшали и перестраивали. Расширялся ее знаменитый оружейный завод. Центральные улицы обстраивались барскими особняками. Дважды — в 1775 и 1787 годах — в Туле побывала Екатерина Вторая. К ее последнему посещению на башнях тульской крепости надстроили деревянные шатры с флюгерами на шпилях, их-то и увидел Вася, когда выбрался из возка в самом начале Киевской улицы.
Нанятый дом выходил фасадом на эту — главную в городе — улицу, в глубине были двор с хозяйственными строениями и сад. Дети, не раздеваясь, обежали все комнаты, выскочили в сад, заглянули в конюшню, в каретный сарай, осмотрели всё и остались довольны. Вечером съехались на новоселье родственники и знакомые — набился полный дом, до поздней ночи светились в нем заиндевевшие окна.
ТУЛА.
Рис. В. А. Жуковского.
Утром Андрей Григорьевич Жуковский повел детей гулять. По обе стороны приземистой старинной крепости — базар и торговые ряды; под зубчатыми стенами деревянные лавки — одна возле другой и чуть ли не друг на друге; Андрей Григорьевич принялся считать — насчитал более пятисот и сбился. Площадь тесная, народу много, едва можно протиснуться. Весело в Туле!
— Как в Москве! — сказал Андрей Григорьевич. — Недаром говорят: Тула-городок — Москвы уголок.
Вошли в ворота крепости. В середине — белокаменный Успенский собор, все остальное место занято четырьмя уличками: деревянные дома, деревянные тротуары, ворота, дворики, палисаднички… Вышли на Кривой мост через Упу. Река еще не замерзла, течет черная, холодная. Вдоль Упы слева, за плотиной, большой Демидовский пруд, строения оружейного завода, чистые домики Чулковой слободы. За рекой — Петровская слобода, славная постоялыми дворами.
Потом прошли по Киевской улице, которая тянется от крепости прямо на юг и кончается деревянными триумфальными воротами, оставшимися после посещения Тулы императрицей. Первые от центра четыре квартала — дворянские, остальные чиновничьи, к концу — дома победнее.
Вернулись домой в полдень.
На другой день Афанасий Иванович оделся в тульский чиновничий мундир красного цвета, накинул на плечи шубу, сел в санки и укатил в канцелярию наместника. Вернувшись к обеду, он объявил:
— Ну, барыня, — так звал он всегда Марью Григорьевну, — завтра повезу Василия в пансион Христофора Филипповича Роде; все уж обговорено. Он хоть и немец, но совсем не то, что Еким Иванович.
Для мальчика началась пора настоящего ученья.
Так как он жил от пансиона близко, его приняли полупансионером — каждое утро, еще затемно, его отвозили в пансион, а после занятий забирали домой. Полные пансионеры уезжали домой только на воскресенье. Вася оказался в пансионе самым маленьким, так как ему еще не исполнилось и семи лет, а там были дети от восьми до десяти. Васе было трудно справляться со всеми предметами, поэтому Афанасий Иванович пригласил для домашних занятий с ним одного из учителей Главного народного училища — Феофилакта Гавриловича Покровского.
Покровский, высокий и необыкновенно худой человек с впалыми щеками, был известным в Туле любителем литературы. В богатых домах, куда его приглашали для оживления вечеров умными разговорами, он с жаром рассуждал о Руссо,[24] со слезами на глазах восторгался «Наказом» Екатерины Второй,[25] называя его «человеколюбивым и нежным», проповедовал всеобщее просвещение, ибо, как он говорил, «корень всех человеческих преступлений есть невежество со всеми наперсниками своими»; декламировал оды Хераскова, стихи Михаила Муравьева, читал вслух повести мадам де Жанлис[26] из еженедельного журнала Карамзина и Петрова «Детское чтение для сердца и разума». Он и сам писал стихи и прозу. Некоторый успех имели его философские статьи, подписанные псевдонимом «Философ горы Алаунской», где он называет большие города «великолепными темницами» и считает, что только «в приятном уединении сёл не сокрушены еще жертвенники невинности и счастья».
С мальчиком, который казался ему не очень способным, ему было скучно заниматься, и он делал это единственно ради заработка.
Так прошла зима.
В марте 1791 года жестоко простудившийся Афанасий Иванович слег в постель. Наместник Михайло Никитич Кречетников, давний друг Бунина, прислал к нему своего врача. Были испробованы все доступные средства, но уже через несколько дней Бунин почувствовал, что умирает, и, позвав Андрея Григорьевича, попросил помочь ему составить духовное завещание. Он все свои имения поделил между дочерьми, предоставив супруге своей пользоваться всем, пока она жива, но без права продавать или закладывать что-либо. Васе с его матерью он не назначил ничего, но так сказал Марье Григорьевне:
— Барыня! Для этих несчастных я не сделал ничего, но поручаю их тебе и детям моим.
Марья Григорьевна отвечала:
— Будь совершенно спокоен. С Лизаветой я никогда не расстанусь, а Васенька будет моим сыном.
Бунин был похоронен в часовне на кладбище села Мишенского.
Однако и у Марьи Григорьевны не было ничего, чем она могла бы обеспечить «несчастных», и она попросила четырех своих дочерей каждую выделить для Васи по две с половиной тысячи рублей, что они и выполнили. Село Мишенское, где родился Вася, отошло по завещанию к Варваре Афанасьевне Юшковой и ее мужу, Петру Николаевичу, который ничего не стал там менять, не желая тревожить Марью Григорьевну, но взял управление хозяйством в свои руки. Дементий Голембиевский, лишившийся места управляющего, куда-то уехал.
Летом в Мишенском все было по-прежнему: Вася, Елизавета Дементьевна и Андрей Григорьевич Жуковский с супругой Ольгой Яковлевной устроились во флигеле. В большом доме и во втором флигеле разместились Юшковы, Вельяминовы, их дети и родственники и только что вернувшиеся из Кяхты сводные сестры Васи — Авдотья и Екатерина Афанасьевны. Маленьких девочек — внучек Марьи Григорьевны — было семь. К ним часто присоединялись дети соседних помещиков — Черкасовых и Вендрихов. Несмотря на траур, в исполнение которого Марья Григорьевна каждый день водила все семейство в церковь к обедне, дети провели лето в шумных играх.
Осенью 1791 года Марья Григорьевна возвратилась в Тулу, в нанятый Буниным дом. Васю отдали в пансион полным пансионером: его привозили домой в субботу после обеда, а отвозили ранним утром в понедельник. Анюта Юшкова по-прежнему жила у Буниной и воскресенья проводила вместе с Васей.
Каждую субботу Марья Григорьевна давала детям по десять копеек медью, они их сберегали, и, когда накапливалось восемьдесят копеек, Вася устраивал праздник: он покупал грецкие орехи и церковные свечки, искусно разнимал ножичком скорлупу, наливал половинки ее воском и вставлял фитильки. Этими плошечками дети освещали детскую комнату, а всю игрушечную посуду Анюты Елизавета Дементьевна наполняла разным вареньем. На эти воскресные праздники Вася приглашал своих приятелей из пансиона. Слава об этих праздниках разнеслась между всеми ребятишками, многие хотели быть приглашенными.
Однажды пришли два очень шумных мальчика — братья Игнатьевы. Они подняли крик и беготню, один из них налетел нечаянно на Анюту, робко стоявшую у дверей, и сказал:
— Зачем эта девчонка здесь? Вон ее! Другой закричал:
— Прибьем ее!
Вася посадил Анюту на бабушкину кровать, взял длинную линейку и сказал:
— Не дам бить Анюту.
— Так пусть эта кровать будет крепостью, — закричали мальчики, — мы возьмем ее приступом!
— Васенька, они и тебя побьют! — пищала Анюта за пологом. Начался штурм. Вася ловко отбивался линейкой, и крепость так и не пала, может быть, еще и потому, что на шум пришла Елизавета Дементьевна.
…Когда вышел срок найма, Марья Григорьевна совсем оставила особняк на Киевской улице и перевезла все в Мишенское.
Летом в Мишенское Юшковы приехали с Феофилактом Гавриловичем Покровским — его все звали Филатом Гавриловичем; он должен был заниматься с девочками и с Васей. Вася готовился к поступлению в Главное народное училище в Туле, так как пансион Роде закрылся. Покровский считал мальчика шалуном и лентяем, а тот и правда скучал на его уроках и всегда стремился убежать в парк, нарядиться в плащ рыцаря Гюона и сражаться с чудовищами и великанами.
Осенью Юшковы взяли Васю с собой в Тулу. Он жил у них и учился в Главном народном училище, но очень недолго он там проучился: Покровский, который сделался в училище главным наставником, исключил его «за неспособность». Но в доме Юшковых была своя «школа» — здесь давались домашние уроки многочисленным детям: четырем дочерям Юшковых, воспитаннице француженки-гувернантки, одной дальней родственнице Буниных, жившей в доме бедной дворянской девице Сергеевой, а две девочки приходили на занятия в дом Юшковых — дочь какого-то чиновника Павлова и дочь тульского полицмейстера Голубкова. Кроме того, пожелали заниматься вместе с детьми три взрослые девицы лет по семнадцать, а также мальчик — сын домашнего доктора Юшковых Риккера. Учеников набралось шестнадцать человек. В дом ходил целый штат учителей, а с ними… все тот же Феофилакт Гаврилович Покровский. Он с неудовольствием смотрел на Васю, а тот смущался и вовсе терял память и соображение, чувствуя на себе осуждающий взгляд строгого преподавателя.
Изредка в Тулу приезжала к дочери Марья Григорьевна, а с ней к сыну — Елизавета Дементьевна. Пока они выбирались из возка, Вася выбегал на крыльцо. Осыпанные снегом лошади мотали головами, ветер задувал фонарь в руке спешащего к саням лакея, наконец, кто в чем, сбегали с крыльца взрослые, поднимался шум. Увидев раздетого сына, Елизавета Дементьевна вскрикивала и тотчас набрасывала на него полу своей морозной шубы.
5
Жуковский впоследствии вспоминал о своей сводной сестре Варваре Афанасьевне Юшковой: «В ней было много поэтического. Всё, выходящее из низшего порядка жизни, ее интересовало. В ней таилось много неразвитых талантов. Это меня поражало тогда при всей моей необразованности».
Петр Николаевич Юшков служил в Тульской Казенной палате советником. Он знал языки, изучал русскую историю, интересовался философией. В его московском доме бывали известные деятели русского просвещения Н. И. Новиков, И. П. Тургенев, М. М. Херасков. В своем тульском доме он стал устраивать музыкальные и литературные вечера — тут читались новые произведения руссдих писателей, в особенности Карамзина и Дмитриева. Юшковы получали несколько русских и иностранных журналов.
Варвара Афанасьевна по просьбе дирекции Тульского общественного театра выбирала пьесы для постановки, руководила репетициями, которые нередко проходили в ее доме: она выбрала и поставила «Цинну» Корнеля, «Британика» Расина и «Магомета» Вольтера.
Когда приходили актеры, Вася пробирался в гостиную и затаивался в уголке: ничего не было интереснее этих репетиций. Актеры ходили взад-вперед, декламацию начинали с шепота и доходили в некоторых местах до громогласных воплей: они хватались за голову, воздевали руки к потолку, протягивали их с мольбой к партнеру, рыдали и хохотали как безумные… А Варвара Афанасьевна нет-нет да и прервет актеров и сделает замечание.
Детей брали в театр. Они сидели в ложе совсем близко от сцены. Играл оркестр. Взвивался занавес, и появлялись те же актеры, которых они видели дома, но их трудно было узнать: они были одеты в туники и шлемы с перьями, за плечами у них развевались плащи, а в руках было оружие — мечи, копья… Декорации изображали горы, белый храм с колоннами, синее небо… И снова актеры хватались за головы и воздевали руки, яростно выхватывали мечи и произносили клятвы.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РУССКОГО ПЕРЕВОДА «СРАВНИТЕЛЬНЫХ ЖИЗНЕОПИСАНИИ» ПЛУТАРХА.
…Однажды Петр Николаевич Юшков читал в гостиной вслух драматические сцены Августа Мейснера[27] «Публий Сципион после сражения при Каннах», напечатанные в журнале, Вася сидел в уголке.
«Сципион. …называйте Канны Аллиею, именуйте Ганнибала Бренном! Пусть он свирепствует до стен римских… Но разве нет у отечества нашего Камиллов? Разве мы не внуки оных героев? Не равны с ними в мужестве, добродетели и патриотизме?
Все. Равны, равны!
Один голос. Будь ты Камиллом.
Все. Будь нашим Камиллом! Повелевай! Веди нас куда угодно!»
— Камилл! — воскликнул Вася, к удивлению взрослых, и выбежал из гостиной.
В библиотеке он достал из шкафа большую квадратную книгу: «Житие славных в древности мужей, писанное Плутархом. С французского на российский язык перевел Сергей Глебов. В Санкт-Петербурге. 1765 года», — два тома в одном переплете. Во втором томе нашел недавно прочитанную им главу «Фурий Камилл».
Погрузился в чтение, понес книгу на стол: там всегда были бумага и перья. Вася взял перо и лист бумаги.
Его захватила мысль написать пьесу о Камилле и разыграть ее в день приезда Марьи Григорьевны и Елизаветы Дементьевны. Это было как взрыв: ему захотелось написать пьесу немедленно, в один присест…
Но оказалось, что и самые первые слова вывести нелегко. Вася вчитывался б строки Плутарха, вспоминал виденные в театре трагедии, сжимал голову обеими руками и вздыхал. Наконец — начал писать.
БЕРНАРДЕН ДЕ СЕН-ПЬЕР.
Гравюра.
В пятом веке до нашей эры Рим воевал с этрусским городом Вейями. Вдруг из-за Альп нагрянула третья сила — галлы, которые покорили этрусков и, разбив римлян на реке Аллии, двинулись к Риму. Они захватили его ночью, врасплох, но самая важная часть города — Капитолий — была спасена: «священные» гуси, жившие в храме Юноны, услышали шорох, закричали и разбудили римских воинов… О захвате Рима узнал полководец Марк Фурий Камилл, бывший в изгнании. Он попросил у царицы рутулов Олимпии помощи для освобождения родного города. И пока римляне совещались — заплатить или не заплатить дань вождю галлов, Камилл разбил врага. Олимпия, тоже принявшая участие в битве, была ранена и скончалась у него на руках.
Вася уже видел себя в роли Камилла — в золотом шлеме, в красном плаще, с мечом в руках, с луком и стрелами за спиной… Он писал до самого вечера и на другой день снова прибежал в библиотеку. Все уже знали, что он пишет пьесу. Феофилакт Гаврилович Покровский, которому об этом сказала Варвара Афанасьевна, удивленно поднял брови, потом смутился: он вероятно, понял, что в чем-то ошибся, составляя себе мнение об этом мальчике.
Наконец пьеса была закончена. Девочки переписали ее, и Варвара Афанасьевна стала помогать им ставить ее. Это была трагедия «Камилл, или Освобожденный Рим».
Вася склеил себе из золотой бумаги шлем, а Варвара Афанасьевна дала ему для украшения этого шлема два страусовых пера. Остальной его наряд составляли плащ, панцирь из серебряной бумаги, деревянный меч, пика, обвитая цветной лентой, лук и колчан со стрелами. Варвара Афанасьевна, одевавшая его к выходу на сцену, никак не хотела прятать под шлем его длинные черные кудри, которые ей очень нравились, и Камилл вышел на сцену длинноволосым.
Анюта Юшкова была консулом Люцием Мнестором, ее сестра Маша — вестником Лентулом, семнадцатилетняя — очень полная — девица Бунина играла ардейскую царицу Олимпию, остальные девочки — сенаторов, совещающихся в Капитолии, воинов и слуг.
Сцена была устроена в большой гостиной при помощи ширм и стульев. Из настоящих восковых свечей была сделана рампа. С каждого зрителя, исключая прислугу, которая допускалась свободно, взималось по десять копеек на устройство следующей постановки. Занавеса не было.
Когда все собрались, прозвенел колокольчик, и спектакль начался. Сенаторы, ноги которых не доставали до полу, совещались, сидя в креслах, — платить или не платить дань Бренну… Люций Мнестор тонким голосом произнес речь. Не успел он ее закончить, как на сцену влетел в сиянии доспехов Фурий Камилл… Зрители дружно захлопали. Камилл поднял меч и сказал, что не соглашается ни на какие постыдные для Рима условия и сейчас же идет сражаться с галлами. Едва он ушел, явился вестник Лентул и объявил, что галлы разбиты и бегут, а Рим спасен. Камилл тотчас вернулся и красноречиво описал побоище, которое устроил врагам. Сенаторы, одетые в бумажные шапочки, длинные белые рубахи и разноцветные шали, собрались было радоваться, но тут две прислужницы, которых играли девицы Рикка и Сергеева, привели ардейскую царицу, наряженную поверх розового платья в белую рубаху с перевязью через плечо, распущенной красной шалью вместо мантии и с золотой бумажной короной на растрепанных волосах.
— Познай во мне Олимпию, ардейскую царицу, принесшую жизнь в жертву Риму! — произнесла она слабым голосом и стала медленно падать.
Камилл, который был почти вдвое меньше нее, бросился ее поддерживать и вскричал:
— О боги! Олимпия, что сделала ты?!
— За Рим! — простонала царица и рухнула на пол. По белой ее рубахе расплылся клюквенный сок.
Пьеса имела такой большой успех у зрителей, что Вася немедленно принялся за сочинение второй. Новая драма называлась «Госпожа де ла Тур» — сюжет ее был взят из романа Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния»,[28] о котором в доме Юшковых тогда много говорили. Это была одна из любимейших книг поклонников сентименталистского направления в литературе. Сен-Пьер, один из главных последователей Руссо, был сторонником «естественной» жизни людей среди природы и противником предрассудков цивилизованного общества.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РУССКОГО ПЕРЕВОДА ПОВЕСТИ Б. ДЕ-СЕН-ПЬЕРА «ПОЛЬ И ВИРГИНИЯ»
На этот раз сцена должна была представить экзотический остров Иль-де-Франс, где одна молодая француженка, у которой умер муж, вынуждена была сама взяться за работу, так как ей нельзя было вернуться во Францию к богатым родственникам, осуждавшим ее замужество. Это-то и была госпожа де ла Тур. Она встретила на острове другую несчастную женщину, госпожу Маргариту, которая была примерно в таком же положении, как она. Они поселились рядом на берегу океана, где поставили две хижины. У них были черные слуги: у госпожи де ла Тур женщина, у Маргариты — мужчина. У госпожи де ла Тур была дочь Виргиния, а у Маргариты — сын Поль. Дети росли среди пышной и дикой природы тропиков, не зная никакой цивилизации. Незаметно они полюбили друг друга.
«Они считали, что весь свет оканчивается их островом, и думали, что ничего нет приятного там, где их нет», — пишет автор романа. Поль сажал деревья — бананы, груши, алоэ, кокосы. Виргиния пасла коз, делала сыр и стирала белье в источнике.
Эта история заканчивалась трагически: Виргиния, которую тайно от Поля увезли в Париж, наконец возвратилась, но корабль не смог пристать к берегу из-за поднявшегося шторма и разбился об утесы. Виргиния погибла на глазах у Поля. Через два месяца умер и одичавший от горя Поль, который бесцельно бродил по острову. Еще через месяц скончалась одинокая госпожа де ла Тур.
В первой сцене Васиной пьесы обитатели хижин завтракали, и в это время к ним пришел из городка Порт-Луи губернатор острова господин де ла Бурдоне. Он удивился чистоте, которая царила в хижинах. Его пригласили к столу. Виргиния подала кофе, молоко в калебасах, сделанных из тыкв, и пшенные пироги на банановых листьях.
— У вас, сударыня, — сказал губернатор госпоже де ла Тур, — есть в Париже богатая и знатная тетка, которая вас ожидает, чтобы отдать вам свое имение.
— Слабость здоровья не позволяет мне предпринять столь далекое путешествие, — уклончиво ответила та.
— В таком случае вы обязаны послать свою дочь. Я имею власть и силой отправить ее в Париж, но будьте благоразумны.
Он положил на стол мешок с пиастрами:
— Вот деньги, данные тетушкой на путь.
Жуковский назвал свою пьесу не «Поль и Виргиния», как Сен-Пьер назвал свой роман, а «Госпожа де ла Тур»: его привлекла не трагическая история Поля и Виргинии, а жизнь матери, отвергнутой «цивилизованным» обществом. Поэтому он поручил роль Поля сыну домашнего доктора Юшковых, а сам решил играть губернатора, доброго и справедливого, но запутавшегося в условностях все той же цивилизации.
Новую пьесу решили поставить в столовой. Зеленые листья пальм, вырезанные из толстой бумаги, качались над ширмами. Сцену уставили цветами, снесенными сюда со всего дома. Госпожа де ла Тур, мадам Маргарита, Поль, Виргиния и черные слуги — Доминго и Мария — собрались скромно позавтракать. И тут Варвара Афанасьевна сделала досадную оплошность: когда надо было подать актерам завтрак, она послала на сцену большой торт и мороженое.
Случилось непредвиденное: все актеры, которые в завтраке не должны были участвовать, высыпали из-за кулис и бросились на угощение. Обитатели хижины тоже не желали упустить своего, — начались толкотня, визг, все ели и не слушали губернатора, который сначала пытался их урезонить, а потом сам принялся за мороженое. Так, на первой сцене, представление и закончилось. Но зрители были в восторге от нечаянно разыгравшейся комедии.
Вася, разочарованный в своей труппе, решил бросить сочинение пьес, хотя еще не был осуществлен самый главный его замысел — драма о царе волшебников Обероне и рыцаре Гюоне.
В этом же году судьба мальчика чуть-чуть не переменилась, и довольно круто. Некто Дмитрий Гаврилович Постников, майор, служивший когда-то вместе с Буниным в Нарвском полку, собирался ехать к месту своей службы в Кексгольм,[29] где этот полк стоял. Он убедил Марью Григорьевну, что для Васи ничего не будет лучше, как начать военную службу своим чином прапорщика в месте, где помнят его отца и где он быстро двинется вперед и приобретет себе блестящее положение. А пока он молод, ему будут давать длительные отпуска и он сможет учиться. Марья Григорьевна сочла совет разумным. Вася, когда ему это объявили, пришел в восторг. Ему сшили мундир по форме полка. В ожидании отъезда двенадцатилетний прапорщик не расставался с треуголкой, сапогами и шпагой, расхаживая по дому во всем параде. Длинные волосы ему пришлось остричь, о чем больше всех сокрушалась Варвара Афанасьевна.
В ноябре 1795 года Жуковский оказался в Петербурге, где Постников возил его по городу, показывая ему великолепные дворцы и особняки, широчайшие улицы, мосты и каналы. Они побывали в Летнем саду, в Петропавловской крепости, у Адмиралтейства, которое было тогда окружено каналом, на верфи, на стрелке Васильевского острова, где тогда еще не стояла Томоновская Биржа и лучшими зданиями на огромной и грязной площади были Кунсткамера и Двенадцать коллегий.
В Кексгольме, маленьком городе, расположенном на плоском острове в устье реки Вокши, Вася, в ожидании разрешения вступить в полк на действительную службу, прожил почти два месяца. Он бывал в крепости, занимавшей скалистый островок: много раз она в прошлом переходила от русских к шведам, а теперь окончательно стала русской. Из крепости деревянный мост вел через протоку в шлот — круглое укрепление с башней, находящееся на каменном островке. Ворота крепости со стороны моста и ворота шлота были обиты старинными шведскими латами. В шлоте содержались крупные государственные преступники. Майор Постников рассказал Васе, что здесь вот уже скоро двадцать пять лет сидит некто Безымянный, имя которого тщательно скрывается властями, но ходят слухи, что это кто-то из рода русских царей. Однажды на улице Кексгольма Постников указал Васе на двух пожилых крестьянок — это были сестры Емельяна Пугачева, недавно выпущенные из шлота на безвыездное житье в городе.
Ладожское озеро постепенно замерзало. Шел мокрый снег. Запахнувшись в шубу, Вася смотрел, как под звуки барабанов и флейт на плацу происходит развод караульных. Вечером в каком-нибудь из русских домов города освещались окна: там давали бал или даже бал-маскарад — офицеры не хотели скучать. Основная же часть жителей — финны — жила тихо и без всяких развлечений.
Вася писал домой: «Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна!.. Здесь я со многими офицерами свел знакомство и много обязан их ласкам. Всякую субботу я смотрю развод, за которым следую в крепость. В прошедшую субботу, шодши таким образом за разводом, на подъемном мосту ветром сорвало с меня шляпу и снесло прямо в воду, потому что крепость окружена водою, однако по дружбе одного из офицеров ее достали. Еще скажу вам, что я перевожу с немецкого и учусь ружьем».
И уже перед Новым годом: «Милостивая государыня матушка Елизавета Дементьевна! Имею честь вас поздравить с праздником… О себе имею честь донести, что я слава богу здоров. Недавно у нас был граф Суворов, которого встречали пушечною пальбою со всех бастионов крепости».
Но вступить в полк молодому прапорщику не удалось: Екатерина Вторая скончалась и на российский трон сел Павел Первый, который запретил прием малолетних на военную службу.
Вася возвратился в Тулу, снял мундир и еще целый год прожил у Юшковых.
Глава третья
МОЕ МЛАДЕНЧЕСТВО СОКРЫЛОСЬ…
В. А. ЖУКОВСКИЙВ январе 1797 года Марья Григорьевна Бунина повезла четырнадцатилетнего Жуковского в Москву, чтобы поместить его в Университетский благородный пансион. Они остановились в доме Петра Николаевича Юшкова в одном из переулков возле Пречистенки.[30] Это был один из самых аристократических районов Москвы. По Ленивке[31] лошади промчались быстро, а от Пречистенских ворот пошли шагом, так как здесь был тогда крутой подъем. Улица была тиха и пустынна. Вася увидел невысокие особняки с фронтонами или самой непритязательной архитектуры, среди них были и деревянные дома; ограды садов, заиндевевшие деревья под окнами… Если поехать дальше, прямо, то Пречистенка перейдет в Царицынскую дорогу, справа от нее будет Поддевиченская слобода, слева — огромное Девичье поле, впереди — Новодевичий монастырь, потом деревня Лужники на большом лугу, Москва-река, а за ней — покрытые снегом Воробьевы горы.
МОСКВА. УЛИЦА ПРЕЧИСТЕНКА
Масло.
Москва тревожно готовилась к празднеству — к коронации нового, впрочем уже почти год царствовавшего императора. В марте он собирался торжественно въехать в древнюю столицу и проследовать в Кремль. С самого лета городские — военные и гражданские — власти занимались внешним благоустройством «отставной столицы». Солдаты здешних полков не знали ни минуты роздыху, их без конца выводили на плац, муштровали — словом, терзали больше обычного, так как всем было известно, что армия — главный интерес Павла.
Марья Григорьевна решила дожидаться в Москве коронации.
В начале февраля она повезла мальчика к инспектору Университетского благородного пансиона, находившегося бок о бок с университетом, — он располагался в бывшем здании Межевой канцелярии между Долгоруковским и Вражским переулками.[32] Инспектор пансиона, университетский профессор Антон Антонович Прокопович-Антонский, принял Бунину у себя на квартире в побеленном одноэтажном флигеле у въездных ворот во дворе пансиона.
Антонский, сын бедного малороссийского дворянина, окончив Киевскую семинарию, приехал в Мрскву, учился в университете на средства учрежденного Н. И. Новиковым Дружеского ученого общества, окончил медицинский и философский факультеты и с 1788 года занял в университете кафедру натуральной истории и энциклопедии. С 1791 года, оставаясь университетским профессором, он сделался инспектором пансиона, учрежденного в 1779 году куратором университета писателем Михаилом Матвеевичем Херасковым.
Инспектор пансиона оказался невысоким человеком лет тридцати, худощавым и немного сгорбленным, с нерешительными движениями и добрым выражением выпуклых глаз водянисто-голубого цвета. При разговоре он немного заикался.
Он расспросил Марью Григорьевну обо всем, что касалось допансионского воспитания Жуковского, осведомился, знает ли мальчик иностранные языки: пансионеры обязаны были говорить между собой по-французски и по-немецки, а русский язык разрешалось употреблять только в неучебные дни. Это нужно было, как объяснил Антонский, для лучшей практики в языках. Оказалось, что Жуковский хорошо знает французский и отчасти немецкий.
ВИД СТАРОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ.
Гравюра по рис. Ж. Делабарта.
А. А. ПРОКОПОВИЧ-АНТОНСКИЙ.
Масло.
— Прекрасно, прекрасно! — воскликнул Антонский. — А любишь ли ты, Василий, книги-та читать?
— Люблю, — смущаясь, ответил Жуковский.
— Ну, а что же ты прочитал?
— Многое. Плутарха, Сен-Пьера, «Оберона» Виланда…
— Хорошо, хорошо! А русских-та писателей жалуешь ли каких?
Жуковский подумал, вспомнил «Бедную Лизу» и сказал:
— Карамзина.
Антонский походил взад-вперед, с удовольствием поглядывая — немного искоса — на высокого и сутуловатого подростка, одетого в зеленую бархатную куртку.
— Карамзина? Это ты молодец. Ну, приезжай в пансион. Учись хорошо, веди себя примерно. Я тебе и книги давать буду, а уж других-та не читай, у нас этого нельзя! Мы тебе тут что надо — то всё и дадим. Вот тебе первое чтение: выучи, вникни, хорошо исполняй, будешь первый ученик у меня.
И подал брошюрку.
Жуковский прочитал заголовок: «Взрослому воспитаннику Благородного при Университете Пансиона для всегдашнего памятования». И дальше: «Цель воспитания. Главная цель истинного воспитания есть та, чтоб младые отрасли человечества, возрастая в цветущем здравии и силах телесных, получали необходимое просвещение и приобретали навыки к добродетели, дабы, достигши зрелости, принесть отечеству, родителям и себе драгоценные плоды правды, честности, благотворении и неотъемлемого счастия».
— Возьми, дома дочитаешь, — сказал Антонский.
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ БЛАГОРОДНЫЙ ПАНСИОН.
Гравюра.
…Марья Григорьевна отдала Жуковского в ученье полным пансионером — он должен был учиться и жить в здании пансиона. За все это полагалось платить в год 275 рублей, не считая особых взносов — серебряного прибора в столовую и платы за прислугу. В шести классах пансиона училось около четырехсот мальчиков от девяти до пятнадцати лет. Жуковский соответственно возрасту и знаниям был принят в первый средний класс. Пансион давал образование, позволяющее выпускнику поступить на государственную или военную службу, а кто хотел, мог стать студентом университета и продолжать учение. Пансионеры жили по нескольку человек, спали на деревянных кроватях, на двоих был один столик. В каждой комнате жил «комнатный» надзиратель, который с утра до вечера следил за поведением учеников, о всякой малости ежедневно докладывая Антонскому.
Жуковский надел синий форменный фрак и перешел на казарменное положение. С понедельника до субботы он жил по строгому расписанию: в пять часов утра по коридорам бегает служитель с колокольчиком — надо вставать. В шесть часов опять колокольчик: час приготовления уроков. В семь надзиратели строят пансионеров попарно и ведут в столовую: там сначала общая молитва, потом чтение вслух небольшого отрывка из Библии, затем чай. До восьми — досуг. От восьми до двенадцати — классы. Потом обед. Во время обеда отличники сидят посредине зала за круглым столом, прочие — за длинными столами вдоль стен. Кушанье разносят надзиратели. Перед столовой, в коридорчике, — небольшой стол для провинившихся, над которым на стене вывеска: «Ослиный стол». После обеда — с часу до двух — досуг: во дворе, перед окнами домика Антонского, начинаются кегли, свайка, чехарда, а кто сидит в спальных покоях, учится играть на флейте, читает, письма пишет.
С двух до шести опять классы. В шесть — полдник. В семь — повторение уроков. В восемь ужин. После ужина — вечерняя молитва и чтение отрывка из Библии, который читают вслух только отличники. В девять колокольчик служителя дает отбой, все должны спать. Наступает тишина. Только по коридорам, колебля пламя ночников, ходят дежурные надзиратели. В субботу после классов те, у кого есть куда отправиться, просят увольнительные записки: едут к родным, знакомым. Остающиеся в пансионе устраивают концерты или даже балы с приглашением благородных девиц, иногда — театральные представления.
Жуковский по субботам отправлялся к Юшковым.
Учились по четырехбалльной системе. Предметов в программе было много, но изучались они, как тогда говорилось, «без педантизма». Для учеников допускался выбор нескольких предметов, в которые они вникали с особенным усердием, знакомясь с другими только поверхностно. Охватить всю программу ученик и не мог, так как она заключала в себе около тридцати пунктов, это были история, логика, математика, механика, артиллерия, фортификация, архитектура, физика, естественная история, русская и всемирная история, статистика, география, мифология, право, русский язык и словесность, латинский, французский, немецкий, английский и итальянский языки, иностранная словесность, рисование, танцы, фехтование, верховая езда, военные движения и действия ружьем.
Учеба продолжалась одиннадцать месяцев в году, для «роздыху» был отведен только один месяц — июль.
Прокопович-Антонский присматривался к ученикам и старался понять наклонности и способности каждого, давая потом им возможность изучать то, что им понятнее и ближе.
— Ум молодых людей, — говорил он, — должно преимущественно обогащать теми знаниями, кои больше имеют отношения к будущему их состоянию.
Антонский частенько заглядывал в большую пансионскую аудиторию, где читал свои лекции молодой преподаватель русской словесности Михаил Никитич Баккаревич.
Столики и скамьи ярусами возвышаются перед кафедрой. Задний ряд — по-пансионскому «Парнас» — занимают нерадивые ученики. Антонский умеет входить так, что его как будто никто и не видит, и он делает вид, что ничего вокруг не замечает.
В первом ряду, прямо перед кафедрой, сидят в одно время поступившие в пансион и уже подружившиеся Василий Жуковский и Александр Тургенев — сын директора университета, полупансионер; оба они усердно пишут. Жуковский — черноволосый, смуглый, высокий, Тургенев — с русыми волосами, роста небольшого.
Баккаревич говорит о поэзии, что она — «есть одна из приятнейших наук; ее называют наперсницею богов, усладительницею жизни человеческой», что «рифмы почитаются от некоторых пустыми гремушками, и это сущая правда, когда в стихах только и достоинства, что рифмы, когда в них нет ни огня, ни живости, ни силы, ни смелых вымыслов, составляющих душу поэзии, одним словом — когда в стихотворце нет дара».
— Есть много сочинений, — продолжает Баккаревич, — которые писаны без рифм и даже без стоп, то есть прозою. Тем не менее их можно считать поэтическими. Напротив, есть много стихотворений, которые, несмотря на стройный размер и на самые богатые рифмы, суть не что иное, как проза, и притом бедная.
Баккаревич говорит о Ломоносове и называет его бессмертным, а лиру его — златострунной. Он читает оду Ломоносова и как бы любуется каждым словом.
Державина он называет «достойным вечной славы философо-пиитом». В Державине ищет он яркие краски ломоносовской кисти и — находит.
— Русская просодия[33] создана Ломоносовым и подкреплена Державиным, — утверждает он.
И еще два имени называет Баккаревич — Ивана Дмитриева и Николая Карамзина. Он раскрывает книжку журнала «Приятное и полезное препровождение времени»[34] и, отшатнувшись, словно от внезапного сияния, брызнувшего со страниц журнала, некоторое время восхищенно молчит. Потом лицо его принимает меланхолическое выражение, и он начинает декламировать, протягивая книжку к слушателям:
Что человек? парит ли к солнцу, Смиренно ль идет по земле, Увы! там ум его блуждает…Баккаревич указывает книжкой в потолок, потом — в пол:
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ М. Н. БАККАРЕВИЧА «РУССКАЯ ПРОСОДИЯ».
…А здесь стопы его скользят. Под мраком, в океане жизни, Пловец на утлой ладие, Отдавши руль слепому року, Он спит и мчится на скалу.Стихотворение Дмитриева поразило Жуковского своей мрачной картинностью: кажется, как просто написано, даже и рифм нет, а слова идут мерно и сильно, как волны на скалу, на ту скалу, о которую вот-вот разобьется утлая ладья… Жуковский выучил это стихотворение наизусть: это был перевод из Гете — «Размышление по случаю грома».
Свободные от занятий часы он вместе с Александром Тургеневым проводил в пансионской читальне. Они читали и перечитывали громогласные и живописные оды Ломоносова и Державина, Хераскова и Петрова, басни Хемницера и Сумарокова, лирические стихи Михаила Муравьева, с любопытством проглядывали старые номера «Приятного и полезного препровождения времени», — его редактор, литератор-сентименталист Василий Подшивалов, уже в первом номере выразил желание, чтобы «перо его электризовали тихие колебания сердца». В одной из своих статей Подшивалов называет Карамзина «чувствительным, нежным, любезным и привлекательным нашим Стерном».[35] Журнал этот печатал не только сочинения современных русских литераторов, но и переводы с главных европейских языков; он проповедовал сочувствие к страждущему человечеству, любовь к уединенным добродетельным размышлениям, призывая читателя к нравственному самосовершенствованию.
ЛОРЕНС СТЕРН.
Гравюра с оригинала Д. Рейнольдса.
ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ.
Худ. Д. Доу.
Все это бродило в Жуковском, медленно им осознавалось, складываясь в картину пока еще не очень ясную, но туманно-привлекательную. Дух чувствительности нравился ему больше всего, поэтому Карамзин стал самым любимым его писателем. Жуковский перечитал «Бедную Лизу», много вечеров провел над «Письмами русского путешественника» — они будили мысль, поражали новизной, призывали к добру.
…От Карамзина — снова к Ломоносову и Державину… Жуковскому хотелось писать и торжественные оды и чувствительные философские стихи. Однажды он решился и написал нечто похожее на запомнившийся ему перевод Дмитриева из Гете. Он несколько раз переделал стихотворение, а потом разорвал его в клочки.
«Нет, не так надобно, — думал он. — А как?» И в ушах его возникал теноровый голос Баккаревича: «Стихотворный язык есть музыка. Иногда одна нота, нестройно, неправильно взятая, портит всю симфонию. Что ж, если много сделать таких неправильностей?.. Молодые стихотворцы! Заметьте это и старайтесь, чтобы слог ваш был чист, текущ, ровен и всегда сообразен предлагаемой материи; весьте всякую мысль, всякое слово; не гоняйтесь за странностями и строго наблюдайте, чтобы рифма покорялась рассудку, как своему царю».
По ночам, когда все спали, когда на кровати у дверей тихо посапывал немец-надзиратель Иван Иванович Леман, Жуковский смотрел во тьму под потолком и думал обо всем, что нахлынуло на него в пансионе: об энергичном, восторженном Баккаревиче, о новых товарищах, об Антонском… Вдруг вставали в его воображении суровые воины поэм Оссиана,[36] возникали пустынные и дикие скалы северных стран, заносимые снежным прахом; появлялся безутешный и мрачный поэт Юнг[37] на освещенном луной кладбище… Вася думал о Руссо, Сен-Пьере, которые восхваляли уединенную сельскую жизнь, и ему виделись лесные и луговые дали в Мишенском, дикая дубрава у Васьковой горы… Он ворочался с боку на бок и вздыхал. Этот хаос, этот многообразный мир стихов и прозы сладко окутывал его и тревожил. Под утро печи остывали, становилось прохладно. Он натягивал на голову суконное одеяло и засыпал.
Ему страстно захотелось сделаться известным литератором и жить в «шалаше убогом»… И тогда было бы так, мечтал он, как написал Карамзин в стихотворении «Дарования»:
Потомство скажет: «Здесь на лире, На сладкой арфе, в сладком мире Играл любезнейший поэт; В сей хижине, для нас священной, Вел жизнь любимец муз почтенный; Здесь он собою красил свет; Здесь будем утром наслаждаться, Здесь будем солнце провожать, Читать поэта, восхищаться И дар его благословлять».…Александр Тургенев каждый день после шести часов шел домой — квартира его отца находилась на Моховой в здании университета, в двух шагах от пансиона. В эту зиму старший брат Александра Андрей стал студентом университета. У них были еще два брата — Николай и Сергей, восьми и пяти лет. Николаю уже давали уроки студенты, друзья Андрея.
С 1780-х годов Иван Петрович Тургенев был одним из просвещеннейших покровителей молодых русских литераторов. Так, встретив в Симбирске Карамзина, тогда почти не думавшего о своем будущем светского молодого человека, блиставшего в симбирских гостиных, он убедил его вернуться с ним в Москву, ввел его в кружок Новикова и помог начать литературную деятельность.
Ивана Петровича Жуковский увидел в первый же месяц своего учения. Тургенев пришел вместе с Антонским в класс Баккаревича: он был высок и тучен, полное его лицо и голубые небольшие глаза светились добротой. Он прослушал часть лекции и отправился в другой класс. За ним, погрозив пальцем «Парнасу», вышел и Антонский.
И. П. ТУРГЕНЕВ.
Масло.
По субботам за Жуковским заезжала в пансион Варвара Афанасьевна Юшкова — она ждала его у Антонского. По дороге расспрашивала обо всем, что произошло за неделю. Жуковский рассказывал ей о Баккаревиче, о «танцевальном мастере» Морелли, с которым он не ладил, потому что был несколько неуклюж, об учителе немецкого языка Гейме, который на уроках будил сонливого Александра Тургенева легким ударом деревянной указки по голове, о смешных уроках военного строя, когда ученики шагают и поворачиваются вразнобой и задевают друг друга бутафорскими ружьями, а престарелый, но суетливо-бойкий унтер-офицер командует фальцетом: «Стройсь!.. От но-ги!.. Марш!.. На плечо!.. Лево-право… раз-два… Стреляй!»
В марте приехал в Москву Павел Первый, но торжественного въезда и коронации не было еще дня три. Он жил в Петровском дворце и неофициально разъезжал по городу, появляясь в самых неожиданных местах. Полицмейстер Эртель сбился с ног, наводя в Москве порядок.
Однажды в пансионе во время обеда распахнулись двери столовой, вбежал старший надзиратель и крикнул не своим голосом: «Встать!» Недоумевающие ученики с шумом поднялись. Вошли трое военных в треуголках и походных мундирах. Один из них — небольшого роста, курносый, с холодным и строгим лицом — прошел между столов, близко глядя в лица воспитанников, потом надвинул шляпу на глаза и вышел, сильно стуча ботфортами. Офицеры и надзиратели побежали за ним. Двери закрылись. Это был новый император. Его посещение продлилось всего несколько секунд.
…Пансионеры с нетерпением ожидали конца июня, когда можно было поехать домой. Жуковский готовился к отъезду в Мишенское, куда собирались и Юшковы.
Был май. Погода стояла на редкость теплая, ясная, деревья уже зазеленели.
В один из погожих дней Варвара Афанасьевна повезла Жуковского к Симонову монастырю, возле которого находился тот знаменитый пруд, где утопилась героиня повести Карамзина «Бедная Лиза». Взяли с собой и книгу, изданную в 1796 году. Жуковский раскрыл ее по дороге и перечитал под гравюрой, изображающей монастырь и пруд, уже знакомую подпись: «В нескольких саженях от стен Симонова монастыря, по Кожуховской дороге, есть старинный пруд, окруженный деревами. Пылкое воображение читателей видит утопающую в нем бедную Лизу; и на каждом почти из оных дерев любопытные посетители на разных языках изобразили чувства своего сострадания к несчастной красавице и уважения к сочинителю ее повести».
С тех пор как «Бедная Лиза» была впервые напечатана в «Московском журнале» за 1792 год, Симонов монастырь стал для москвичей излюбленным местом прогулок. Их привлекала сюда героиня литературного произведения и мало кто из гуляющих здесь помнил тогда, что в полуверсте от монастыря — в Старом Симонове, — в церкви Рождества Богородицы, покоятся останки исторических лиц, героев Куликовской битвы Александра Пересвета и Родиона Осляби.
МОСКВА. СИМОНОВ МОНАСТЫРЬ.
Гравюра Г. Берга.
Карамзин в своей повести изобразил пейзаж, открывающийся от монастырских стен: «Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада… Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим».
СИМОНОВ МОНАСТЫРЬ. ВИД ЛИЗИНА ПРУДА.
Рис. В. А. Жуковского.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ПОВЕСТИ Н. М. КАРАМЗИНА «БЕДНАЯ ЛИЗА».
Поднявшись к стенам монастыря, Жуковский действительно увидел справа, верстах в двух, почти всю Москву. Вблизи, в дубовой роще, бродили коровы. Пела малиновка. Маленький круглый пруд по берегам был сильно заболочен. Жуковский прислонился к дереву и долго с восхищением любовался Москвой: такая панорама открылась перед ним впервые.
…Вечером Вася принялся сочинять стихотворение. Он вывел крупными буквами название — «Майское утро» и задумался…
Стихотворение получилось ученически-робким, но все же в нем отразились и радостное впечатление от весенней прогулки, и горестные размышления о гибели героини литературного произведения. В нем, невольно подражая слогу Державина, сделал он вариацию на тему стихотворения Дмитриева «Прохожий и горлица», которое неоднократно цитировал на уроках Баккаревич. Юный поэт попытался в этом стихотворении высказать и то новое и мрачно-тревожное, что вычитал он из русских переделок Юнга — философию отрицания жизни, отрадного покоя смерти. Стихотворение, как это часто бывало у сентименталистов, сделал он безрифменным.
Жизнь неожиданно подкрепила это грустное, хотя и напускное в какой-то степени, расположение духа четырнадцатилетнего стихотворца: вскоре после поездки к Симонову монастырю скончалась Варвара Афанасьевна Юшкова, которая с молодых лет страдала туберкулезом легких. Жуковский всю жизнь вспоминал ее с благодарностью и спустя более чем полвека писал: «Когда оглянешься на жизнь тех, которые были наши спутники и хранители в нашем детстве, как много трагического напомнится нам в судьбе их!.. Ей было только 28 лет, когда она кончила жизнь свою; она имела много гениальности; и как много вытерпела в эти немногие годы жизни. Я был ничтожный 14-летний мальчишка, когда ее не стало. И часто, когда думаю об ней, мне становится жаль, что мы не пожили друг с другом».
В грустном настроении приехал Жуковский в Мишенское на первые свои каникулы. Невеселы были и девочки — дочери Юшковой. Овдовевший Петр Николаевич редко садился за фортепьяно — он придумывал себе дела и все ездил в дальние имения, в Белев, Тулу.
Жуковский стал жить во флигеле, в бывшей классной комнате. Он попросил Марью Григорьевну сделать здесь простые сосновые полки: решил составлять свою библиотеку, которой положил начало несколькими привезенными из Москвы книгами — две-три подарил Антонский, кое-что купила Васе Варвара Афанасьевна. Главное, у него были двухтомные «Ночи» Юнга, изданные Типографической компанией Новикова. Поэма была переведена прозой литератором А. М. Кутузовым.[38]
ЭДВАРД ЮНГ.
Худ. Д. Хаймор.
«Ночи» — так кратко называли прославившуюся во всей Европе поэму Юнга, состоящую из девяти частей и содержащую пространные рассуждения о непрочности, мимолетности земного существования человека и о бессмертии души, которое, по мнению поэта, одно лишь и оправдывает жизнь страданий и скорбей. По сути дела, это было нечто вроде длинной, в десять тысяч строк, проповеди, но Юнг был талантливый поэт: его стихи полны глубокого лиризма и мрачной страсти. Поэма Юнга долгое время была любимым чтением образованных людей Европы, так как он во время господства в поэзии сухой рассудочности стал говорить из глубины своего сердца, естественно и человечно.
Юнг положил начало и так много повлиявшей на развитие лирической поэзии теме «прогулок на кладбище», ставшей излюбленной и у русских сентименталистов, которые много раз переводили и переделывали творение Юнга и целиком, и в отрывках. Эта тема, сама по себе печальная, давала все-таки простор размышлениям о смысле человеческой жизни, направляла читателя на добрые чувства.
Тема «размышлений на кладбище» в русской поэзии пересеклась с двумя другими: мрачными и возвышенными фантасмагориями Джеймса Макферсона — его «Поэмами Оссиана» с битвами, ночными дикими пейзажами, привидениями, скальдами, поющими о былом, — и с философией Жан-Жака Руссо, отрицающей лживую цивилизацию богатых и восхваляющей «естественного» человека, живущего среди природы. С шестидесятых годов XVIII века эта тройственная тема медленно входила в русскую поэзию и способствовала рождению романтической лирики. Она влияла на Хераскова и Державина, а Карамзин уже почти целиком верен ей в стихах и прозе. Вокруг Карамзина — целый сонм подражателей, но они прогрессивную в своей основе тему разрабатывают по большей части поверхностно, неоригинально, напирая главным образом на «чувствительность».
Жуковский перечитывал прозаический перевод Юнга, стараясь угадать поэзию подлинника. В библиотеке Буниных он нашел французский — тоже прозаический — перевод поэмы Юнга, сделанный Пьером Летурнёром в 1769 году. Из предисловия Летурнера к этому переводу Жуковский узнал, что побуждением к написанию мрачных «Ночей» было для Юнга горе, поразившее его в 1741 году: в короткое время у него умерли жена, дочь Нарцисса и его молодой друг — жених его дочери.
…Солнце садилось в дымно-фиолетовое облако, по небу веером разлетелись тлеющие, словно угли под пеплом, мелкие барашки. Из села доносились громкие голоса крестьянок, загоняющих во дворы коров. В большом барском доме одно за другим гасли окна. Вася быстро побежал по дорожкам цветника, спустился немного по склону холма и оказался на кладбище возле часовни, где в мае была похоронена Варвара Афанасьевна. Часовня — фамильный бунинский склеп — была сложена из твердых как камень дубовых стволов.
Внизу, на запруде, журчала речка Семьюнка.
Васе не было страшно, но впечатления были необычные. Он с волнением подошел к часовне и заставил себя потрогать железный засов. Листва тихо шуршала на легком ветру. Бесшумно пролетела большая птица… Стало холодно. Вася поежился и побежал домой, довольный своей храбростью. Тихо прошел в комнату, сел у окна и посмотрел на небо: темные струи облаков набегали друг на друга, в просветах поблескивали неяркие звезды. «Не буду спать, — решил он. — Стану писать». И сел к столу. «Мысли при гробнице», — начертал он заглавие.
Он вообразил себе не часовню на кладбище Мишенского, а нечто более возвышенное: древнюю полуразвалившуюся гробницу где-то у озера, окруженного мощными дубами. «Череп иссечен вверху, и еще приметны некоторые остатки изглаженной надписи»: «Друг ли человечества спит здесь сном беспробудным, или изверг естества, притеснитель себе подобных?» Вася невольно стал сочинять не стихотворение, а нечто вроде кутузовского перевода в прозе из Юнга. Такие вещицы, в таком вот странном жанре поэтической прозы, писали тогда многие — они встречались в журналах и даже у Карамзина. И Баккаревич нередко говорил на уроках о такой прозаической поэзии.
На другой день Жуковский не удержался и прочитал свое сочинение Анюте Юшковой. Они ушли в парк, в тишину огромных лип и елей, в земляничные и грибные запахи. Сели прямо на траву. Описание ночи звучало днем немного странно — сочинение потеряло изрядную долю таинственности, но Анюту трогали его меланхолические фразы.
«Всё тихо, — читал Вася, — все молчит в пространной области творения; не слышно работы кузнечика, и трели соловья не раздаются уже по роще. Спит оратай, спит вол, верный товарищ трудов его, спит вся натура. Один я не могу сомкнуть глаз своих, одному мне чуждо всеобщее успокоение. Встану и пойду… Как величественно это небо, распростертое над нашим шатром и украшенное мириадами звезд! а луна?., как приятно на нее смотреть! бледномерцающий свет ее производит в душе какое-то сладкое уныние и настраивает ее к задумчивости».
Вася посмотрел на слушательницу. Она прикрыла лицо от солнца полями широкой шляпы и задумчиво покусывала травинку.
— Ты слушаешь?
— Слушаю, Вася. Продолжай, пожалуйста.
«Живо почувствовал я тут ничтожность всего подлунного, и вселенная представилась мне гробом. „Смерть, лютая смерть! — сказал я, прислонившись к иссохшему дубу, — когда утомится рука твоя, когда притупится лезвие страшной косы твоей, и когда, когда престанешь ты посекать всё живущее, как злаки дубравные?.. Ты спешишь далее, смерть грозная, и всё — от хижины до чертогов, от плуга до скипетра — всё гибнет под сокрушительными ударами косы твоей. И я, и я буду некогда жертвою ненасытной твоей алчности! и кто знает, как скоро? Завтра взойдет солнце — и, может быть, глаза мои, сомкнутые хладною твоею рукою, не увидят его. Оно взойдет еще — и ветры прах мой развеют“».
Анюта заплакала, всё так же кусая травинку. Вася, польщенный успехом своего грустного произведения, сложил листок и спрятал в карман. Дома Анюта сказала Марье Григорьевне, что Вася сочинил нечто очень замечательное, хотя и до слёз печальное. Ему пришлось плсле обеда прочесть «Мысли при гробнице» перед всеми обитателями дома. Эффект был тот же: слёзы… А горничная, так та при последних словах зарыдала в голос.
Все вспомнили Варвару Афанасьевну.
Юнговское настроение у Жуковского и Анюты Юшковой вечером вдруг развеял дурак Варлашка, который, путаясь в своей рваной юбке, полез на сеновал, останавливался на каждой перекладине лестницы и кричал:
— Ой, боюсь! Ух! Никто меня, девицу, не жалеет! Ой, боюсь!
Анюта звонко расхохоталась. Вася тоже засмеялся.
…Он просыпался рано, до завтрака шел гулять — в парк, к пруду, в дубовую рощу у Васьковой горы, по проселку к Выре — на бунинскую мельницу… За лето он так вырос, что ему можно было дать все шестнадцать лет. Высокий, немного сутулый, с отросшими, чуть вьющимися волосами, он неустанно бродил в окрестностях Мишенского. Иногда брал с собой девочек, которые по-прежнему — или даже больше — души в нем не чаяли. Марья Григорьевна и Елизавета Дементьевна старались получше накормить его, приготовить к трудной зиме в пансионе.
В августе все пошло по уже знакомому порядку: утренний колокольчик надзирателя, молитва, завтрак, классы… С Александром Тургеневым встретились радостно, тот был вместе с братьями в родной симбирской деревне. Александр — живой, веселый, хохочет заливисто, хватаясь за бока… Жуковский прочитал ему стихотворение «Майское утро» и прозаический отрывок «Мысли при гробнице»; Тургенев восхитился.
— Давай покажем Баккаревичу! — предложил он.
Баккаревич одобрил то и другое и отдал эти сочинения редактору «Приятного и полезного препровождения времени», который и напечатал их в 16-й части журнала. В том же номере было помещено прозаическое сочинение самого Баккаревича — тоже в юнговском, сентиментальном духе — «Надгробный памятник». Жуковский, обнаружив это, опешил от изумления: даже темы совпали! «Мысли при гробнице» были сопровождены в журнале подписью: «Сочинил Благородного университетского пансиона воспитанник Василий Жуковский».
Однажды в библиотеке подошел к Жуковскому и Тургеневу, сидевшим вместе за чтением, Антон Антонович, инспектор пансиона.
— Читал я твои сочинения, Василий, — сказал он, удерживая воспитанников за плечи, чтобы не вставали, — молодец. Чувство есть, слог хорош. Зайди-ка после обеда ко мне на квартиру.
В первом часу Жуковский вошел во флигель у ворот, прилепившийся к каменному забору по Вражскому переулку. Антонский усадил его на стул возле письменного стола. За окном — во дворе — галдели пансионеры. Антонский, для которого этот шум был привычен, кивнул на окно:
— Вот воробьи-та… А ты в чехарду не играешь? Ну-ну, не красней. Я о другом скажу. Напиши, Василий, оду по всем правилам — в честь самодержца Павла Петровича. Прочтешь на акте в декабре месяце. Ты у нас из первых учениковю Будет публика. Херасков пожалует.
Жуковский побледнел.
— Ничего! Прочтешь! — бодро воскликнул Антонский, хлопнув Жуковского ладонью по колену. — Прочтешь! Ну, теперь ступай.
Тургенев обрадовался этой вести. Жуковский немедленно принялся за оду. Ему было страшновато становиться в блистательный строй российских одописцев… И все же он исполнил поручение инспектора. Ода «Благоденствие России, устрояемое великим ее самодержцем Павлом Первым» — традиционное изображение не настоящего, реально существующего, а некоего отвлеченного, идеального — милостивого, мудрого и просвещенного монарха. Сочиняя оду, Жуковский ни разу не вспомнил того офицера в походном мундире, который прошел между столов, маленького с выпуклыми холодными глазами, сильно стучащего большими ботфортами… Но он от души желал, чтобы новый царь оказался «хорошим».
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА «ПРИЯТНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ПРЕПРОВОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ».
Однако Павел оказался тираном, который установил в России военно-полицейский режим. Напуганный революционными событиями во Франции, он запретил своим подданным выезд за границу, пресек ввоз в Россию книг на иностранных языках, что стало заметным лишением для русской культуры, — магазины иностранных книг в Москве довольствовались распродажей завезенного еще при Екатерине.
ПЕРВОЕ ПЕЧАТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ В. А ЖУКОВСКОГО (ЖУРНАЛ «ПРИЯТНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ПРЕПРОВОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ», 1797 г., ЧАСТЬ XVI).
Запрещено было посылать студентов для учения в иностранные университеты. В связи с этим всемерно поощрялся казенный патриотизм, дух которого хорошо выразился в одной из речей Прокоповича-Антонского перед воспитанниками пансиона.
— И чего искать нам в странах чуждых? — говорил он. — Богатства природы? Россия преизбыточествует ее сокровищами. Произведений ума и рук человеческих? Россия в недрах своих имеет многочисленные тому памятники… Чему удивляться нам за пределами своего отечества? Могущество и слава России поставляют ее наряду с первыми государствами. Благоденствию народов? Из отдаленных стран текут искать его под сению державы российской. Чему учиться нам у иноплеменных? Любви к отечеству, преданности к государям, приверженности к законам? Века свидетельствуют, что сие всегда было отличительною чертою великодушных россиян.
МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.
Худ. Ф. Алексеев.
Однако за разговоры в учебные дни по-русски Антонский строго наказывал пансионеров.
Жуковский, пропуская мимо ушей фразы о «преданности к государям», «приверженности к законам», принимал любовь к отечеству и всему российскому: к народу, к природе, к Москве…
Старших учеников иногда выстраивали в колонну и вели гулять.
Для Жуковского это всегда было радостью. С ними шли Антонский, Баккаревич и еще два-три надзирателя. Они проходили по Тверской, затем, минуя полосатую будку с красной крышей, переходили Неглинный мост, мимо Иверской часовни — в Воскресенские ворота, два проема которых вели на Красную площадь. Пансионеры медленно бредут по площади сквозь пешую и конную толпу среди многочисленных торговых палаток и столов, мимо многоарочных торговых рядов и храма Василия Блаженного, который тогда был весь выбелен и много потерял из своей сказочной затейливости, мимо Кофейного дома и книжных лавок Спасского моста, перекинутого через ров.
Из Кремля открывается им пестрый и широкий вид на Замоскворечье, блистающее разноцветными маковками церквей. По Москве-реке плывут лодки, плоты строительного леса, а на Замоскворецкой стороне поят лошадей, сведя их к самой воде; там прачки стирают на хлюпающих мостках белье, и мужики сидят у чадящего костра. Вправо — Каменный мост, дальше — на том берегу — плавно поднимаются в гору сады Голицынской больницы, белеет дворец графа Орлова-Чесменского, еще далее виден массивный Васильевский замок, за которым мягко круглятся Воробьевы горы.
ВИД НА МОСКВУ С ВОРОБЬЕВЫХ ГОР.
Литография Г. Дерена по рис. А. Кадоля.
Иногда в погожий осенний денек их вели к Донскому монастырю, окруженному густой рощей. В этом монастыре архимандритом был родной брат Прокоповича-Антонского. В другой раз Антонский нанимал две-три барки и от Каменного моста вез воспитанников на Воробьевы горы, покрытые березовым лесом. Ученики весело поднимались по усыпанным золотыми осенними листьями кручам, подавая друг другу руки, перекликаясь… Наверху — деревня Воробьевка. Там кто хотел покупал молока, черного хлеба и закусывал, восторженно оглядывая раскинувшийся за Москвой-рекой город, — многочисленные крыши, колокольни, сады, отдаленный Кремль, близкий Новодевичий монастырь… Возвращались в пансион оживленные, румяные, усталые.
…Прокопович-Антонский приказал читать вслух на уроках философии три сочинения, которые он считал полезными: «Утренние и вечерние размышления на каждый день года» немецкого писателя Христофа-Христиана Штурма, «Беседы с богом» немецкого же проповедника Карла Тиде и переведенную Василием Подшиваловым «Книгу премудрости и добродетели, или Состояние человеческой жизни; индейское нравоучение» Додслея, который долгое время выдавал свое сочинение за «древнеиндейскую рукопись, найденную в Китае».
«Беседы с богом», книга исключительно богословского содержания, была попросту скучна. Любимая Антонским «Книга премудрости» изобиловала афоризмами и поучениями, прославляющими порабощение слабых людей сильными. Автор так, например, обращается к притесненному:
«Рабство есть определение божие и имеет многие выгоды; оно устраняет от тебя заботы и прискорбия жизни… Честь раба есть его верность, отличные добродетели его суть — покорность и послушание». Над подобными рассуждениями Жуковский и Тургенев втайне посмеивались.
Но многотомное произведение Штурма, выпускавшееся периодически — подобно журналу — Типографической компанией Новикова в 1780-е годы, в котором в качестве переводчика принимал большое участие и Карамзин, имело литературные достоинства. Штурм открыто выражал симпатию к беднякам и отвращение к праздным аристократам, а кроме того, он хорошо знал природу и — вместе занимательно и поэтично — описывал растительный и животный мир. Он рассказывал о гусеницах, муравьях, «обыденной мухе», о грозе и граде, горах и море и из всего стремился извлечь какой-нибудь нравственный урок для читателя.
«Теперь смотрю я, — писал Штурм, — сквозь малый лес колеблющейся травы. Сколь много блещет разновидная зеленость от солнца! Нежные травы вьются по былию гибкими своими ветвями и разными листьями; или, выходя из жирной земли, стоят выше других на высоких сочных стеблях и приносят цветы без всякого запаху; между тем малая низкая фиалка в скромном блеске стоит на сухом холму и около простирает свое приятное благовоние. Подобным образом иной добродетельный человек, живучи в недостатке и низком состоянии, приносит многим пользу; напротив — знаменитые и богатые часто пожирают токмо плоды земли, одеваются великолепно, пребывая в праздности».
С этих пор полевая фиалка — «маткина душка», как называли ее в Мишенском — навсегда осталась любимым цветком Жуковского, символом скромной и полезной жизни: «маткина душка» и «фиалка» часто будут потом встречаться в сочинениях Жуковского.
Штурм оставил заметный след в душе Жуковского: укрепил его уважение к людям «низкого состояния», любовь к жизни деятельной, полезной для других. Штурм встал в ряд его любимых писателей.
У Петра Николаевича Юшкова, в доме которого Жуковский проводил воскресные дни, была библиотека — много французских и немецких книг и журналов. Жуковский выбирал небольшие сочинения Флориана, Сен-Пьера, Коцебу[39] и других авторов — басни, прозаические отрывки, драматические сцены — и пробовал переводить. Тем же стал, глядя на товарища, заниматься и Александр Тургенев. Случалось, что в воскресенье Тургенев прибегал к Юшковым повидаться с другом и обсудить какую-нибудь свою новую работу. Однажды он сказал:
— Ты ведь еще у нас не бывал. Брат Андрей хочет с тобой познакомиться, велел тебя привести.
Жуковский оробел, но Тургенев его уговорил, и они пошли: по Пречистенке, потом через Ленивку на Моховую. Вот и дом Пашкова на холме, «волшебный замок», — как его прозвали московские дети, — красивый, легкий, приводящий на память храмы Древней Греции, с флигелями, белокаменной террасой и садом, спускающимся к улице; летом в саду журчат фонтаны, в пруду плавают белые и черные лебеди, по дорожкам ходят заморские птицы с яркими длинными хвостами, в праздники играет музыка… У решетки толпятся дети. Да и взрослые невольно останавливаются полюбоваться сказочным жилищем винного откупщика.
На улице по накатанному снегу то верховой на заиндевевшей лошади проскачет, то одноконные санки просвистят. А если шестерней или четверней — то значит едет истинный богач, не меньше; парой — это уже езда «мещанская». Фонарщик, неуклюжий, в шинели, повязанный по ушам платком, взгромоздился на лестницу.
Наконец пришли. Разделись, оттерли застывшие щеки, отдышались. В прихожую вышел Андрей — в студенческом сюртуке с малиновым воротником, худой, коротко остриженный, с рыжеватыми бачками. Улыбнулся, протянул широкую ладонь.
— Будем друзьями.
Ему шестнадцать лет, он кажется Жуковскому совсем взрослым.
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ТУРГЕНЕВ.
Рисунок.
Взгляд Андрея умный, немного грустный. Он быстро втянул Жуковского в разговор. Незаметно прошли два часа. К концу беседы они уже стали говорить друг другу «ты», и скованность Жуковского почти исчезла. Никогда, даже с Александром, ему не приходилось так серьезно и много говорить. Домой шел уже в сумерках, очарованный Андреем, словно повзрослевший за один вечер.
Андрей Тургенев тоже мечтал стать писателем — он уже кое-что сочинил, перевел и даже напечатал. Иван Петрович, отец его, поручал ему переводить с немецкого философские брошюры, необходимые для студенческого чтения. Вместе со своим университетским товарищем Журавлевым Андрей начал переводить драмы Августа Коцебу, мечтал перевести и издать все его повести. Но вот что главное — Андрей Тургенев открыл глаза Жуковскому на истинную немецкую литературу, назвал свои любимые имена: Гете, Шиллера, Виланда. Андрея увлекали «Ода к радости», трагедии «Коварство и любовь», «Разбойники» и «Дон Карлос» Шиллера, роман «Страдания молодого Вертера» и драма «Эгмонт» Гете, роман Виланда «Агатон» и его поэма «Оберон».
«Вертера» не однажды переводили на русский язык, но переводили плохо, вяло; Андрей Тургенев подумывал о том, чтобы сделать новый перевод этого романа. Он начал также и перевод «Оды к радости» Шиллера, которую просто обожал.
— Правду говорит мой Шиллер, — сказал он Жуковскому, — что есть минуты, в которые мы равно расположены прижать к груди своей и всякую маленькую былинку, и всякую отдаленную звезду, и маленького червя, и все обширное творение! Вот грандиозная «чувствительность»! Обнять весь мир! «Обнимитесь, миллионы!»
У Жуковского дух захватило.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РУССКОГО ПЕРЕВОДА ТРАГЕДИИ ШИЛЛЕРА «РАЗБОЙНИКИ».
— Подлинные страсти недоступны нашему спокойно-чувствительному Карамзину, — говорил Андрей Тургенев. — Карл Моор! Мятущаяся, бурная душа… Иным кажется, что Шиллер создал неестественного героя. Но ведь и автор не обыкновенного, дюжинного человека хотел показать в нем. Я представляю себе, например, одного из наших студентов — Погорельского, — осмеливаюсь думать, что он в состоянии был бы стать Карлом Моором… Конечно, в его обстоятельствах. Карамзин говорит, что этот сюжет отвратителен. Пустое! То, что может нас так сильно трогать, ввергать в ужас и сожаление, может ли быть отвергнуто? Ты читал «Разбойников»?
— Нет, — признался Жуковский.
— Прекрасный сюжет. Молодой человек, пылкий, волнуемый сильными чувствами, во всем жару негодования на несправедливость людей, дает безумную клятву своим друзьям быть их атаманом, но при всем том он никогда не унижается до подлых, варварских чувств обыкновенного разбойника. Его можно назвать незаконным мстителем законно притесняемой невинности…
— Эгмонт! — восклицал Тургенев. — Гете изобразил его так, что он кажется живым, я как будто знал его, наслаждался его обхождением, жил с ним… Нет, это не французские трагедии, где всегда действуют государи, которые не могут быть нам близки.
Жуковский не читал и «Эгмонта».
В комнату вошел Иван Петрович — тучный, добродушный, в широком синем фраке. Андрей представил ему Жуковского.
— Ну что, братцы, — сказал Иван Петрович, — о Шиллере толкуете? Я слышу, ты, Андрей, все Карамзина Шиллером умаляешь. А ведь это он подал тебе Шиллера, вспомни-ка его «Песнь мира»:
ФРИДРИХ ШИЛЛЕР.
Миллионы, веселитесь, Миллионы, обнимитесь, Как объемлет брата брат! Лобызайтесь все стократ!Не ты ли выучил ее наизусть и плакал над ней? Ведь эта песнь вся от «Оды к радости», — добавил Иван Петрович.
— Нет, — воскликнул Андрей, — я люблю Карамзина, всегда буду ему верен как почитатель и друг, но, если сказать правду, в нем и не было настоящей-то силы чувства, а уж теперь и не будет… Он и «Разбойников» любил когда-то, а теперь переменился и хулит их… Он не дает поэзии быстрого движения вперед.
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.
Гравюра.
— Кто ж сделал больше него?
— Мало! Все равно мало! Он гений — пусть много и делает.
— А горяч ты, мой друг, — развел руками Иван Петрович.
Жуковскому эти разговоры всю душу перевернули. Он привык почитать Карамзина безоговорочно. В словах Андрея Тургенева чувствовалась какая-то правда… Но — как согласиться с ним?
Андрей попросил Жуковского приносить ему всё, что напишет, крепко пожал ему руку, глядя в глаза.
— Будем друзьями, — сказал он те же слова, что и при встрече…
О многом они говорили. Идя домой, Жуковский вспомнил, что Андрей похвалил «Оберона»: он сказал, что «Оберон» и другие поэмы Виланда делают душу благороднее, чище, изящнее, способнее к чувствованию поэзии не только в стихах, но и во всем, что есть поэтического в жизни. И затем Андрей спросил — словно самого себя:
«И если это смешать с тем, что может внушить Шиллер, что бы вышло?»
«Вышла бы поэзия, которая потрясала бы сердца подобно буре!» — ответил он сам себе.
Это были мысли о различных степенях чувства. Чем сильнее чувство, говорил Андрей, тем достовернее и поэтичнее слово. Он считал, что существует такое особенное «разбойническое» чувство, которое, как он думал, состоит из чувства раскаяния, вернее — из чувства несчастья, смешанного с чем-то «усладительным»: вот, например, когда Моор любуется заходящим солнцем в те минуты, когда фурии терзают его сердце, когда он знает, что счастье его пропало безвозвратно! Смесь наслаждения и горя… И эта мысль Андрея, как и другие, глубоко отозвалась в сердце Жуковского, навсегда осталась в нем.
Скоро Жуковскому стало казаться, что он и жить не может без Андрея. В пансионе он постоянно расспрашивал о нем Александра, который боготворил своего брата. В воскресенье Жуковский просыпался с мыслью, что вот он сейчас побежит на Моховую к Тургеневым… И если не заставал Андрея дома, то мрачнел, вяло беседовал с Александром и прислушивался — не идет ли кто… Андрей теперь читал и поправлял все, что ни сочинял или переводил Жуковский, и даже стал выбирать ему сочинения для перевода.
МОСКВА. ТВЕРСКАЯ УЛИЦА.
Литография с оригинала А. Кадоля.
Раза два встретил Жуковский у Тургеневых Алексея Мерзлякова, университетского товарища Андрея: Мерзляков давал уроки русского языка и древней классической литературы восьмилетнему Николаю Тургеневу. Мерзлякову было девятнадцать лет, он уже был бакалавр, знал древнегреческий и латынь, французский, немецкий и итальянский языки, писал стихи и некоторые сочинения свои напечатал, но и для него главным авторитетом в литературных вопросах был Андрей Тургенев.
И. В. ЛОПУХИН.
…Быстро шли пансионские годы. Трижды были весенние экзамены и трижды «публичные акты» — экзамены при стечении гостей. В большом пансионском зале появлялись преподаватели пансиона, надзиратели, профессора университета; важные персоны — директор университета и пансиона Иван Петрович Тургенев, кураторы университета — Михаил Матвеевич Херасков, знаменитый поэт, «староста российской литературы», как его называли, и Павел Иванович Голенищев-Кутузов, тоже поэт. Они рассаживались за длинным зеленым столом под портретами прежних кураторов университета — И. И. Шувалова и И. И. Мелиссино.
Среди гостей были знатнейшие московские дворяне, для которых пансионский акт был вроде занимательного спектакля. Ученики были тщательно одеты, причесаны и бледны от волнения. Родители и родственники пансионеров, сидевшие в зале, тоже волновались. Надзиратели и дядьки бегали по коридорам, высматривая, все ли в порядке. К подъезду, выходящему в Долгоруковский переулок, подкатывали кареты.
На акте 19 декабря 1797 года Жуковский впервые услышал традиционную речь Антонского, который старался как можно осанистее выпрямить свою сутулую фигуру, но говорил тихим голосом. Закончил он так:
— Ах! Время, время почувствовать, что просвещение без чистой нравственности и утончение ума без исправления сердца есть злейшая язва, истребляющая благоденствие не одних семейств, но и целых наций!
Речь была не только торжественной, но и — в духе времени — чувствительной.
Оркестр, составленный из воспитанников, исполнил маленькую итальянскую симфонию. Потом ученики произносили речи на заранее заданные темы. После этого преподаватель Захар Аникеевич Горюшкин устроил настоящий театр — «судебное действо», то есть экзамен по классу практического российского законоискусства, разыгранный учениками в драматическом виде: один из них истец, другой ответчик, те — свидетели, другие — писцы, протоколисты… Затем хор воспитанников пропел гимн, сочиненный Баккаревичем. Гостям показывали рисунки и картины, сделанные учениками и основательно поправленные учителями рисования. Потом воспитанники фехтовали, танцевали, декламировали стихи собственного сочинения — на темы, заданные Антонским.
Александр Чемезов прочитал стихотворение «К счастливой юности». Василий Жуковский — оду «Благоденствие России, устрояемое великим ее самодержцем Павлом Первым». Читал он от большого смущения невнятно и награжден был равнодушными хлопками. Херасков делал вид, что слушает, но все его силы уходили на борьбу со старческой дремотой.
Экзамен кончился раздачей наград. Александр Чемезов получил из рук Хераскова золотую медаль и флейту; Аким Нахимов — золотую медаль и одобрительный лист; Сергей Костомаров, Константин Кириченко-Остромов и Василий Жуковский — по серебряной медали с одобрительным листом и по книге.
На акте в декабре следующего года Жуковский декламировал стихотворение «Добродетель». Ободренный тишиной, стоящей в зале, Жуковский возвысил голос:
Иной гордыни чтит законы. Идет неправды по стезям; Иной коварству зиждет троны И дышит лестию к царям; Иной за славою стремится; Тот злата алчностью томится, Тот ратует с врагом своим…И, обратившись к товарищам-пансионерам:
Стремитесь мудрых по стезям!На этом же акте Жуковский произнес речь, темой которой тоже была «добродетель» — в смысле добрых дел. В этой речи Жуковский рассказал об Иване Владимировиче Лопухине — друге Н. И. Новикова и И. П. Тургенева. Лопухин ежедневно посещал самые бедные уголки Москвы, где его уже знали, — большую часть своих средств он раздавал там несчастным и голодным. Среди публики послышался шепот некоторого изумления, когда Жуковский, продолжая речь, воскликнул: «Пускай напыщенный богач ступает по златошвейным коврам персидским; пускай стены чертогов его сияют в злате: злато сие, многоценные исткания сии — они помрачены вздохом угнетенного, кровию измученного раба… Нет: с чистым сердцем, с тихою совестью, предпочту я тенистый лес мраморному дворцу, где всякий камень, представляющийся глазам моим, возмутит мою душу».
Херасков на этот раз не дремал, он слушал и даже одобрительно кивал лобастой головой в парике. Антонский, поглядев на Хераскова, покраснел, улыбнулся, кивнул тоже, и все зааплодировали, приговаривая: «Rousseau!.. Caramzine!.. Charmant… ex eel lenient…»[40]
На этом акте Жуковский получил золотую медаль с одобрительным листом. Он вышел в первые ученики пансиона. Никаких поблажек ему никто не делал, никто ему не покровительствовал, он не был ни богат, ни знатен, к тому же он был «побочный» помещичий сын. Ему надо было всего добиваться своим трудом. И он добивался. Среди учеников пансиона он выделялся своей разнообразной одаренностью — он рисовал, писал картины масляными красками, пел, играл на фортепьяно, сочинял стихи. Стихи писали и даже печатали в журналах и другие ученики — например, Семен Родзянко, Михаил Костогоров, Григорий Гагарин, Аким Нахимов, но их литературные опыты значительно уступали сочинениям Жуковского.
…Когда-то, будучи студентом университета, Антон Антонович Прокопович-Антонский председательствовал в Собрании университетских питомцев — литературном обществе, труды членов которого печатались в журналах известного просветителя Новикова. Теперь он решил создать такое общество в пансионе. В начале 1799 года он учредил Собрание воспитанников Университетского благородного пансиона под постоянным председательством Жуковского, который должен был открывать заседания, происходившие по средам с шести до десяти часов вечера, назначать ораторов, наблюдать за порядком и вообще вести все дело.
На заседаниях общества пансионеры должны были вести себя благонравно. Антонский и Баккаревич лично следили за тем, чтобы все здесь происходило с должной основательностью — будто у взрослых. Это общество как бы входило в систему поощрения отличников, поэтому второй пункт его программы и говорил: «Члены его должны быть из тех только воспитанников, кои отличили себя примерным поведением, тихостию нравов, послушанием, прилежностью к наукам, и вообще кои показали уже на опыте и способности свои и любовь свою к отеческому языку».
Жуковский усердно исполнял свои обязанности, но с ужасом чувствовал, что энтузиазм его иссякает: тягостна была тишина, скучен механический порядок.
Антонский и Баккаревич начали готовить к изданию сборник сочинений воспитанников пансиона — альманах «Утренняя заря». Первый его выпуск был напечатан в 1800 году, когда Жуковский уже окончил пансион; там были помещены его стихи «Могущество, слава и благоденствие России», «К Тибуллу. На прошедший век» и прозаические отрывки «К надежде», «Мысли на кладбище» и «Истинный герой».
Иван Петрович Тургенев отобрал лучшие произведения Жуковского и Родзянко и послал их в Петербург Державину. Маститый поэт длинным письмом благодарил его за эту присылку. Вскоре Жуковский и Родзянко вместе сделали перевод на французский язык оды Державина «Бог», который послали ему. Державин откликнулся стихотворением:
Не мне, друзья! идите вслед; Ищите лучшего примеру…В декабре 1799 года в Москву из Петербурга приехал поэт Иван Дмитриев, который немедленно возобновил свое знакомство с Тургеневыми. Он купил деревянный дом с садом в Огородной слободе у Красных ворот, стал ежедневно видеться с Карамзиным, ездить по окрестностям. Примерно в это же время вернулся в Москву, прослужив несколько лет в Петербурге — в Измайловском полку, — стихотворец Василий Пушкин, который поселился у брата Сергея на Немецкой улице. Появился в Москве и бывший командир гусарского эскадрона, усмирявшего крестьянские бунты в Калужской и Тульской губерниях, князь Петр Шаликов — тоже стихотворец. Антонский иногда приглашал кого-нибудь из этих литераторов на заседания Собрания воспитанников.
Жуковский смотрел на Дмитриева — высокого, сильно облысевшего, с холодно-насмешливыми, чуть косящими глазами, и душа его замирала: перед ним был прославленный автор песни «Стонет сизый голубочек…» и других, блестящих сатир «Модная жена», «Чужой толк», патриотических стихотворений «Освобождение Москвы» и «Ермак», философского «Размышления по случаю грома», столь памятного Жуковскому. Антонский робел и краснел перед Дмитриевым, пансионеры тоже смущались, но знаменитый поэт, не замечая этого, слушал молча и строго.
Однажды на заседание пришел Карамзин. Жуковскому поручено было приветствовать его похвальной речью. В ней отметил Жуковский все, что составляло славу Карамзина. В заключение продекламировал его стихотворение «Песнь мира». Но и Карамзин был холодно-вежлив. Собрание оставило его равнодушным.
…Весной 1799 года Андрей Тургенев кончил курс в университете и, получив «университетский градус», поступил на службу в Главный архив Коллегии иностранных дел, располагавшийся тогда в Петроверигском переулке на Маросейке, в древних каменных палатах. На службу он являлся редко, ему случалось не бывать там недели по две, зато он продолжал посещать университетские лекции.
По воскресеньям у Тургеневых собирались Андрей Кайсаров, Алексей Мерзляков и Жуковский. Мерзляков с Андреем Тургеневым начали переводить драмы Шиллера «Коварство и любовь», «Разбойники» и «Дон Карлос». К переводу «Дон Карлоса» они привлекли Жуковского. В этом же году Андрей Тургенев начал перевод «Страданий молодого Вертера», они и это стали переводить втроем.
МОСКВА. ВИД КРЕМЛЯ У КАМЕННОГО МОСТА
Худ. Ф. Алексеев.
— В деятельности буде, м искать себе веселья, счастья! — восклицал Андрей Тургенев. — Будем полезны сколько можем!
Вот где возникал тот литературный союз, то творческое общество, которое действительно было нужно Жуковскому! Союз свободный, вдохновенный, с многообразными интересами.
В сюртуках и шляпах а ля Нельсон (больших треуголках с позументом) они бродили по всей Москве, бывали у Симонова монастыря, в Марьиной роще, взбирались на Мытищинский водовод, сиживали в кофейне Муранта на Ильинке, где собирались актеры, студенты и профессора университета.
Потом наступили для Жуковского последние каникулы: он уехал в конце июня в Мишенское, увозя с собой «Дон Карлоса» и «Вертера», чтобы переводить свою долю. Андрей Тургенев договаривался с издателями. «Жуковский! — писал он в Мишенское. — Переводи прилежнее, чтобы поспеть к сроку». Сам он занимался еще и окончательной доработкой перевода драмы Шиллера «Коварство и любовь», которую собирался отдать в театр.
Осенью все они съехались в Москве: Тургеневы прибыли из симбирской деревни, Мерзляков из городка Далматова Пермской губернии, куда ездил к родителям — отец его был купцом, — Жуковский из Мишенского, а Кайсаров из деревни на Воробьевых горах, где нанимал летом избушку вместе с Семеном Родзянко.
Этой осенью Андрей Тургенев познакомился с бывшим воспитанником Университетского благородного пансиона конногвардейцем Александром Воейковым. Воейков был говорлив, любил выпить чего-нибудь крепкого, но он понравился Андрею открытостью характера и, главное, он сочинял стихи — в основном переводил с французского. Он ополчался на тиранов, шумно спорил о политике и звал друзей к себе — у него был дом на Девичьем поле, ветхий деревянный особняк с садом. Жуковский в 1799 году не бывал у него, но Андрей Тургенев и Мерзляков несколько раз гостили у Воейкова и рассказывали потом, что он славный парень и хорошие пирушки им задавал.
В июне 1800 года в пансионе был выпускной экзамен. Жуковский получил именную серебряную медаль, был признан лучшим учеником, и решено было имя его поместить на мраморной доске в списке отлично кончивших пансион в разные годы, — доска висела в вестибюле главного входа.
Окончил учение вместе с Жуковским и Александр Тургенев, который вступил юнкером в Главный архив Коллегии иностранных дел, где служил его брат. Этот архив был местом привилегированным и попасть туда было трудно: служба в нем открывала молодым людям хорошие перспективы: они со временем могли стать дипломатами, поехать в чужие страны… Но у Жуковского не было никакой протекции, поэтому он не смог получить ничего лучшего, как место приказного в бухгалтерском столе Главной Соляной конторы: уже с 21 февраля 1800 года он числится служащим этого учреждения.
Он встретил это назначение невесело. «Что ж, — пытался он утешиться, — надобно же где-нибудь служить и быть полезным отечеству! А как только будет возможно, я брошу контору и стану литератором. Буду издавать журнал, заработаю этим денег и, как Карамзин, поеду в чужие края по своей воле — учиться, видеть знаменитых людей, города и страны!»
Глава четвертая
ДРУЗЬЯ НЕБЕСНЫХ МУЗ!
ПЛЕНИМСЯ ЛЬ СУЕТОЙ?
ПРЕЗРЕВ МИНУТНЫЕ УСПЕХИ,
НИЧТОЖНЫЙ ГЛАС ПОХВАЛ,
КИМВАЛЬНЫП ЗВОН ПУСТОЙ -
ПРЕЗРЕВШИ РОСКОШИ УТЕХИ.
ПОЙДЕМ ВЕЛИКИХ ПО СЛЬДАМ!
В. А. ЖУКОВСКИЙ1
Жуковскому исполнилось семнадцать лет. Он оставил пансион — правда, не совсем еще: в декабре 1800 года он должен будет явиться на публичный торжественный акт для произнесения речи и декламации своих стихов. Жил он в доме Юшкова. Марья Григорьевна Бунина прислала ему для услуг — и вообще «закрепила» за ним — одного из своих молодых лакеев, Максима Акулова, парня лет двадцати, неразговорчивого, но ловкого. Жуковский, получивший звание городового секретаря, должен был во все дни недели, кроме воскресенья, ходить в присутствие.
По пансионской привычке он вставал в пять часов утра, одевался, пил чай и два-три часа работал за бюро: он переводил по заказу книгопродавца Зеленникова роман Августа Коцебу «Мальчик у ручья, или Постоянная любовь»,[41] — это была трудоемкая и долгая работа. В предыдущем году Александру Тургеневу удалось устроить на сцену театра Медокса свой перевод комедии Коцебу «Несчастные». Теперь пришел черед Жуковского — дирекция московских театров приняла переведенную им комедию Коцебу «Ложный стыд»; она выдержала несколько постановок. Эту пьесу он закончил общей песнью персонажей, заставив их произносить слова Шиллерова гимна:
АВГУСТ КОЦЕБУ
Гравюра.
Радость кроткая, благая, Радость, дщерь небес святая! С чистой, пламенной душой Мы в чертог вступаем твой!Он распахивал окно, выходящее в небольшой зеленый дворик; там, с полуобвалившейся кирпичной ограды, свешивались темные плети перепутанного вьюна. В утренней солнечной тишине раздавался петушиный крик. Приятно посвистывали синицы. Хмурился: пора убирать черновики, отправляться в контору… И все равно, надев шляпу и натянув перчатки, он с удовольствием шел по Пречистенке и через Ленивку на Моховую, а там через Неглинный мост на Ильинку: Соляная контора находилась на углу Ильинки и Юшкова переулка.
Высокий, тонкий, незаметно для самого себя улыбающийся, он бодро шагал по улицам. Но как только он входил в мутную атмосферу конторы, его охватывало отвращение: ободранные столы и конторки, треснувшие и покоробившиеся шкафы чуть ли не времен Петра — все полно серых и синих бумаг и папок, закапанных клеем и свечным воском. Главный директор — Николай Ефимович Мясоедов — взял новичка на особенную заметку и часто, даже слишком часто, приходил о нем справляться. Он рассматривал бумаги, переписанные Жуковским, вглядывался в них, далеко отставя руку с листом, и, брезгливо щуря глаза, качал головой. Жуковскому кланялся сухо, почти незаметно.
Жуковский сидел тут как молодой скворец среди старых и грязных ворон… Конторские чиновники были все в годах. И какие только лица не увидел он здесь, какие комические и трагические маски…
Нет, он не испугался такого поворота судьбы, — надежда на лучшее не покидала его. Надежда! Тут, среди говора и шарканья, прелых запахов и чернильных пятен, Жуковский, положив лист бумаги на груду шнуровых книг, писал: «Надежда, кроткая посланница небес! тебя хочу я воспеть в восторге души своей. Услышь меня, подруга радости! и ангельская улыбка твоя да будет мне наградою. Тобою — все живут и дышат, о божественная! От венценосца до пастуха, от первого счастливца до последнего бедняка… О надежда, усладительница наших горестей! Сопутствуй мне на мрачном пути сей жизни».
Жуковский не признавался друзьям в том, как недоволен он своей службой. Но однажды, отвечая на письмо Мерзлякова, написал: «Тот бедный человек, кто живет на свете без надежды; пускай будут они пустые, но они всё надежды… Я пишу всё это в гнилой конторе, на куче больших бухгалтерских книг; вокруг меня раздаются голоса толстопузых, запачканных и разряженных крючко-подьячих; перья скрипят, дребезжат в руках этих соляных анчоусов и оставляют чернильные следы на бумаге; вокруг меня хаос приказных; я только одна планета, которая, плавая над безобразною структурою мундирной сволочи, мыслит audessus du vulgaire,[42] и — пишет тебе письмо».
Мерзляков жаловался на усталость, сетовал на то, что жизнь, долженствующая быть благоуханной розой, светлым даром небес, поэзией, оборачивается к нему другим своим ликом — усталым, озабоченным, прозаически-повседневным… Бесконечные, разнообразные желания раздирают сердце человека, этого феномена природы, который в конце концов сам не знает, чего он хочет… «Что делать? — восклицал он. — Часы заведены и идут… Удар за ударом они приближают нас к концу».
МОСКВА. ИЛЬИНКА.
Акварель мастерской Ф. Алексеева.
Жуковский, обложившись штабелями папок, поглядывая из-за них на «соляных анчоусов», снующих между столами, склоненных над работой, отвечал другу: «Хороший же ты часовщик, когда не умеешь перестроить этих проклятых часов, которые бьют в твоем сердце и унылым своим стуком нагоняют на тебя тоску и горесть… Так, брат, один бог знает, что такое человек, эта вечная загадка, которую природа задала ему и которую он с минуты рождения по самую минуту смерти разгадывает и разгадать не может… Но скажи мне, что бы была жизнь наша без сих желаний или — что почти все равно — надежд, которые господа Головоломы или философы называют суетами? Холодною, однообразною жизнью, лишенною всех прелестей и удовольствий… Нет, нет, друг мой, если жизнь наша только роза, только блестящая роза, то за что мне благодарить природу? А я благодарю ее, благодарю с трепещущим сердцем, с пылающею душою».
«Надо учиться делать добро! — восклицал Мерзляков, как бы продолжая дружеские разговоры, которые часто сводились к этой теме. — Добро людям, добро обществу, добро друг другу… Для этого надо много знать, мы — друзья — должны все вместе совершенствовать себя, оставаясь друзьями до гроба. Да здравствуют Дружба и Добродетель!»
«Мысль твоя прекрасна, — отвечал Жуковский. — Быть друзьями, друзьями людей и муз, учиться для того, чтобы знать цену дружбы и добродетели, чтобы делать общими силами добро. Так, друг мой, это прямая дорога к счастию».
Выйдя из пансиона, Жуковский принялся за самообразование.
ЖОРЖ-ЛУИ ЛЕКЛЕРК, ГРАФ БЮФФОН.
Гравюра.
Начал читать многотомную «Естественную историю» Бюффона[43] на французском языке. Часто обращался к большой французской энциклопедии Дидро, все тридцать пять томов которой, включая два тома указателей, подарила ему Марья Григорьевна Бунина в честь окончания пансиона. Он купил также несколько исторических сочинений на французском и немецком языках, переводы греческих и латинских классиков, полного Лессинга. Библиотека его росла. По совету Андрея Тургенева он приобрел пятитомные «Принципы литературы» Шарля Баттё,[44] изданные в 1777 году в Париже; Андрей целый ряд отрывков из этого труда по теории классицизма перевел и напечатал в журналах. Адам Смит, Шарль Бонне, Несторова летопись, изданная в Петербурге в 1767 году, философские труды лорда Шефтсбери — книга за книгой становились на его полки, прочитанные, с многочисленными пометками и закладками. На форзаце или титульном листе каждой книги он делал надпись: Basile de Joukowsky.
«Роза не может быть эмблемой моей жизни, — писал он Мерзлякову, — она благоухает только тогда, когда цветет под ясным небом; листья ее разлетаются от малейшего ветра — дуб же стоит и тогда, когда бунтуют бури и вихри; дуб стоит и тогда, когда зима и дряхлость иссосали жизнь из его сердца».
Жуковский набирался душевной крепости — он с первых шагов своей самостоятельной жизни понял, что судьба его будет не из легких.
2
Херасков — высшее университетское начальство, старейший московский поэт («забавный старичок» — по выражению Андрея Тургенева) — выпустил брошюрой поэму «Царь», где благоговейно превозносил святость власти. Андрей Тургенев, хлеща книжкой по краю стола, чуть не кричал, обращаясь к Жуковскому, который смотрел на него с ужасом и восторгом.
— Седой старик не постыдился осрамить седин своих подлейшими ласкательствами, и притом без всякой нужды! Какой надобно иметь дух, чтобы так нагло, подло, бесстыдно писать: «Законов выше княжьи троны»! И ему семьдесят лет… И он же после будет говорить, что проповедовал истину, исправлял людей, был гоним за правду. Не прощать! Не забывать ему этого!
И Иван Петрович слышал это: он только покраснел немного, словно стыдясь за Хераскова, старого своего товарища. Андрей выжидающе обернулся к нему.
— Что ж, мой друг, — тихо сказал Иван Петрович после долгого молчания, — никто из нас не в силах пройти всех градусов совершенствования… Великое таинство может получить только тот, кто станет нравственно столь чист, сколько человеку возможно… Ну, а все-таки монархи не выше человеческих законов. Михайло Матвеевич неправ.
Жуковский был счастлив: какие люди! Жизнь за них отдать…
Стихи, которые писал Андрей Тургенев, тоже звучали грозно:
…Но счастья не ищи — его здесь нет для нас, В сем мире, где злодей, страх божий забывая, Во злодеяниях найти блаженство мнит. Рукою дерзкою сирот и вдов теснит, Слезам, отчаянью, проклятьям не внимая.Как-то, возвратясь из одного бедного дома в Огородной слободе, не снимая намокшего от дождя сюртука, Андрей долго сидел перед зажженной свечой, сжав ладонями виски и не вытирая капающих на стол слез… Жуковский этого не видел. И если бы мог он прочитать то, что записал Андрей в этот вечер в своем дневнике! Хотя нельзя поручиться, что он не слышал от старшего друга слов, подобных следующим: «Россия, Россия, дражайшее мое отечество, слезами кровавыми оплакиваю тебя; тридцать миллионов по тебе рыдают! Но пусть они рыдают и терзаются! От этого услаждаются два человека, их утучняет кровавый пот их; их утучняют горькие слезы их; они услаждаются; на что им заботиться! Но если этот бесчисленный угнетенный народ, над которым вы так дерзко, так бесстыдно, так бесчеловечно ругаетесь, если он будет действовать так, как он мыслит и чувствует, вы, ты и бесчеловечная, сладострастная жена твоя, вы будете первыми жертвами».
М. М. ХЕРАСКОВ.
Литография.
Самодурство императора Павла неожиданно коснулось литературных симпатий молодого тургеневского кружка: Август Коцебу, немецкий писатель, которого все они почитали, усердно переводили, в начале 1800 года приехал из Вены в Россию, но был неожиданно схвачен на границе и без всяких объяснений сослан в Тобольск. В июле так же неожиданно Павел его освободил и… назначил директором немецкого театра в Петербурге. А за что пострадал человек, осталось неизвестным. Андрей, узнав об этом, возмущался:
— Россия опозорена! Беззаконие — вот российские законы!
…Однажды осенью 1800 года Андрей Тургенев позвал Жуковского к Воейкову:
— Он будет наш друг. Пойдем, Василий, не пожалеешь! Пришли еще засветло. Прошлепали по размокшей дорожке, толкнули полуоторванную калитку. Засыпанная листьями тропа вела к дому, который чернел мокрыми бревнами из-за ветвей полуоблетевших лип и берез. Цветочные клумбы расползлись и были едва приметны. Друзья поднялись на террасу.
— Осторожнее, — предупредил Андрей.
В полу террасы темнели дыры, оттуда высовывались пожелтевшие стебли бурьяна. Стекла во входной двери были разбиты: оставалось лишь несколько цветных осколков.
Андрей потащил изумленного Жуковского в комнаты. В одной из них, обставленной диванами из красного сафьяна и кожаными креслами в ситцевых чехлах, сидели за круглым столом Воейков, Кайсаров и Мерзляков… Воейков радостно вскочил, сверкнув узкими калмыцкими глазами, обнял Андрея и одновременно протянул руку Жуковскому:
— Привел-таки скромника! Воейков…
У него было мясистое лицо с утиным толстым носом и размашистые манеры.
— Это ваш дом! — говорил он. — Приходите сюда когда захотите, а как надоест ходить — я продам его на дрова… И пойду пилигримом во святый Киев-град…
— Да ты уж, пилигрим, никак пьян! — добродушно заметил Андрей.
— Пьян от любви к друзьям! — обнял Воейков одной рукой Кайсарова, другой Мерзлякова, которые смущенно улыбались, так как и их Воейков заставил хватить по стаканчику-другому.
Тем не менее все пошло всерьез. Андрей Тургенев прочитал только что переведенную им драму Коцебу «Негры в неволе». Немедленно вспыхнул разговор о тиранстве. Воейков кричал больше всех. Потом Андрей заставил его прочесть вслух поэму «Святослав», напечатанную этой осенью в «Иппокрене», — Воейков подражал в ней «Фингалу» Оссиана-Макферсона и — неожиданно — Юнгу… Святослав получился у него чувствительным богатырем… Кончив читать, Воейков взял гитару и запел:
Всех цветочков боле Розу я любил…Андрей неожиданно и весело подхватил:
Ею только в поле Взор мой веселил!Не переставая петь, все шумно поднялись и вышли в сад — на другую сторону дома. Там было темно, ветер качал мокрые деревья. Молодые люди с хохотом вломились в кустарник, увязли в грязи, но старались перекричать друг друга:
Роза не увяла — Тот же самый цвет; Но не та уж стала: Аромата нет!…На другой день вечером Мерзляков пришел к Жуковскому, походил по комнате, сел. Угрюмо спросил, более чем обычно напирая на «о»:
— Понравился тебе Воейков?
— Славный.
— Так и есть. Но все как-то не наш вроде… Я, ты да Андрей Тургенев — наша дружественная триада. Я вот что придумал: составим-ка книгу из наших стихотворений, одну на троих. Соберем всё лучшее, кое-что напишем заново и выдадим в свет под буквами М.Ж.Т.! То есть Мерзляков-Жуковский-Тургенев… То-то будет дань нашей дружбе!
Широкое лицо Мерзлякова, по-мужицки простоватое, краснощекое, вдруг осветилось детски радостной улыбкой.
— Великая мысль! — воскликнул Жуковский. — Идем к Андрею…
У Андрея просидели до полуночи, пока сторожа не застучали в колотушки. Составили список сочинений. Жуковский предложил «Майское утро», две «Добродетели», оду «Могущество, слава и благоденствие России», «Стихи на новый 1800 год» и еще ряд собственных и переводных стихотворений. Андрей — послания к Карамзину, Кайсарову, «Надпись к портрету Гёте», эпиграммы и другое. Мерзляков — «Истинного героя», «Ночь», «Ратное поле», «Росса», «К Уралу», а главное — «Славу», в которой он подражал Шиллеровой оде «К Радости», и — «Гения дружества». Последнее стихотворение все трое знали наизусть: оно стало для них как бы гимном. И тут они, не сговариваясь, а только взглянув друг на друга, громким шепотом продекламировали:
Да будет дружество священно! И, добродетели лучом Небесным, чистым озаренно, Да будет славно в мире сём!Жуковский и Мерзляков уже вышли на улицу, когда раздался оклик Андрея:
— Жуковский! Постой. Знаешь ли ты, что Антонский продает Сергея? Я не ожидал этого, право…
Сергей — слуга Антонского — был честный и грамотный парень. Сообщение Андрея поразило Жуковского: уж и университетский профессор, инспектор лучшего в России благородного пансиона, — крепостник…
3
Кончался восемнадцатый век. «Сокрушен корабль, надежды несущий», — сказал о нем Радищев. Да и Карамзин невесело провожал его: «Осьмойнадесять век кончается, и несчастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в ней с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки!»
В стихотворении «К Тибуллу. На прошедший век» так сказал о прошедшем столетии семнадцатилетний Жуковский:
Он совершил свое теченье, И в бездне вечности исчез… Могилы, пепел, разрушенье. Пучина бедствий, крови, слез — Вот путь его и обелиски!Всякое вольнодумство преследовалось. Даже Карамзин был у Павла на подозрении. Но «сентиментальничать» в духе Ричардсона или Стерна, оплакивать «юдоль» скорби — земную жизнь — разрешалось сколько угодно.
На Тверском бульваре толпа восторженно и почтительно глазела на горбоносого худого человека в зеленых очках, причесанного и одетого весьма модно, с розой в петлице фрака и с толстой тростью в руках, который задумчиво прохаживался взад и вперед. Это был князь Шаликов, обрусевший грузин, самый сентиментальный московский стихотворец-сентименталист.
Василий же Львович Пушкин, наоборот, терпеть не мог сюсюканья в стихах. Он подражал Дмитриеву, но не тем его стихам, в которых он похож на друга своего — на Карамзина, а его острым сатирам, тонко-наблюдательным «сказкам» из московского быта.
…Все наши стиходеи Слезливой лирою прославиться хотят; Всё голубки у них к красавицам летят. Всё вьются ласточки, и всё одни затеи; Все хнычут и ревут… —писал Пушкин. Но с Шаликовым он был дружен. Оба они были модники, чудаки, оба хотели во что бы то ни стало заставить о себе говорить.
П. И. ШАЛИКОВ.
Рисунок.
Нет, не было авторитетов для молодых друзей на русском Парнасе: Мерзляков места себе не находил, мучительно думал — как бы найти, достичь… Но — чего? Как нужно писать, о чем? «Когда кончится это шальное время, когда попаду я на путь истинный? — говорит он Жуковскому и Тургеневу. — Хочу делать и не делаю; хожу, задумавшись, из одного угла в другой, бегаю как бешеный по улицам… Сумасшествие! Не так ли? Кризис для меня, решительная лихорадка для моих муз!»
Жуковский не упускал случая послушать лекцию, которую Мерзляков читал Николаю, младшему брату Андрея. Перед Мерзляковым оказывалась небольшая аудитория из нескольких взрослых человек и одного маленького мальчика. Мерзляков не приносил с собой книг, не делал записей — он импровизировал, и это было необыкновенно интересно. Вскоре он поступил преподавателем в университетский пансион.
…20 декабря 1800 года друзья собрались у Тургенева.
— Будет ли следующий век более обилен писателями? — начал разговор Жуковский. — Будут ли великие?
— Писателей будет больше, — отозвался Андрей. — Но, может быть, все это будут писатели мелочей, пусть даже превосходных: отрывков, стишков, посланий…
— Почему? — спросил Жуковский.
— Карамзин, наш любимый Карамзин, готовит это.
— Карамзин приучил всех писать изящные мелочи, — поддержал Андрея Мерзляков.
— Ему надо было явиться веком или двумя позже, когда в России уже выросла бы и окрепла серьезная литература, — продолжал Андрей. — Тогда пусть бы он в лавры и дубы вплетал свои цветочки.
— Он сделал эпоху в русской литературе, — сказал Жуковский.
— Вопреки русскому характеру, климату и прочим условиям, он слишком склонил нас к мягкости и нежности… Почему не сказать этого? Я и сам не желал бы себе написать ничего лучшего, чем он, но — надо начинать с эпических поэм!
— «Россиада»? — усмехнулся Жуковский.
— «Россиада» написана не поэтом, а варваром; она пуста, как и все поэмы Хераскова, — возвысил голос Андрей, — но что ж, если Карамзины не пишут эпических поэм? Потому-то Карамзин более вреден литературе нашей, чем Херасков… Вреден — потому что хорошо пишет!
— О! — воскликнул в изумлении Жуковский и не нашелся что сказать.
Н. М. КАРАМЗИН
Миниатюра.
— Пусть бы русские продолжали писать плохо, но пускай бы они продвигались вперед в важнейших родах литературы, — продолжал Андрей. — Плохое со временем очистилось бы. Если смотреть с этой точки зрения, Херасков сделал для нас больше, чем Карамзин.
Андрей с жаром принялся развивать свою мысль.
— Многие ли решатся в жизни, — говорил он, — отбросить прелестный цветок, чтобы по смерти получить лавр? Найдется ли вообще такой, который отказался бы и от того и от другого и, будучи неприметен, содействовал бы благу отечественной словесности? Те, которые и делали это, сами о том не знали… Важный род — трагедия, но Сумароков испортил его, заставив говорить Олегов, Святополков и прочих русских героев изнеженным языком Расиновых галлогреческих драм. Как же это исправить? Удариться в подражание немецкому театру? Нет. Зло будет все то же, но уж с другой стороны. Это две кривые дороги: прямая, настоящая, не пробита!
— Так что ж, Карамзин-то в чем виноват? — спросил Жуковский.
— Он не виноват, — ответил Андрей. — Виноват случай, произведший его слишком рано. Он пишет так, как велит его натура. Мы любим его — и мы правы в этом! Но пусть бы сегодня писали хуже, медленно учась; чем медленнее ход успехов — тем они вернее.
— Надобно ожидать второго Ломоносова, — сказал Мерзляков.
— Подобного ему! — подтвердил Андрей. — Теперь надо ожидать такого писателя, напитанного оригинальным русским духом, с великим и обширным разумом, который бы дал другой оборот русской литературе! Иначе — дерево увянет.
Жуковский не знал, прав ли Андрей, но рассуждения друга глубоко волновали его, он слушал их с восторгом. Ему не казалось «мелочами» то, что пишет Карамзин, и все же он сделал предположение:
— Может быть, Карамзин переменится? Ведь начал же он «Илью Муромца»… Ты сам говоришь, что он сейчас все больше занимается русской историей, читает летописи; не значит ли это, что в нем что-то зреет?
И. И. ДМИТРИЕВ.
Масло.
— Как он сказал о себе: «По уши влез в русскую историю, сплю и вижу Никона с Нестором», — ответил Андрей. — Нет, он пока и сам не знает, что из этого выйдет.
Андрей иногда бывал у Карамзина. В один из последних декабрьских дней 1800 года Андрей привел к Карамзину Жуковского. Идти было недалеко: Карамзин жил на Никольской в доме купца Шмидта. Вошли, сняли шубы. Слуга проводил их в комнаты первого этажа, где писатель жил по-холостяцки. Им повезло — у Карамзина сидел Дмитриев. Карамзин пошел навстречу: он был по-домашнему — в белом байковом сюртуке, расстегнутой рубахе и больших медвежьих сапогах; растрепанные волосы его были подвязаны косынкой. Испытующе взглянул черными глазами на Жуковского, подал ему руку. Дмитриев, чуть привстав, наклонил голову: он — весь в темном, только шейный платок бел.
Когда друзья уселись на низенький диванчик, хозяин дома тут же возобновил прерванную ими беседу с Дмитриевым. Они рассуждали о пятой и шестой частях отдельного издания «Писем русского путешественника», отосланных Карамзиным в петербургскую цензуру, так как московская не пропускала в печать 5-й части из-за того, что там описаны события французской революции. Потом Карамзин спросил Андрея, перевел ли он переписку Юнга с Фонтенелем, что поручил ему Иван Петрович. Андрей ответил, что перевел, но что это было скучно, — только ради отца и работал.
— Фонтенель и мне не по сердцу, — сказал Карамзин. — Опровергая мнения других, сам не говорит ничего путного. Ожидаешь многого, а получаешь вздор… Нет плавкости в штиле, нет зернистых мыслей, ничем не брильирует…
Карамзин в разговоре применял много переиначенных на русский лад французских слов. От Дмитриева же нельзя было услышать почти ни единого французского слова, хотя он отлично знал этот язык.
Жуковский от смущения больше молчал. Чего он только не наслушался в этот вечер! Карамзин перескакивал с одного на другое, рассуждал беспорядочно, но послушать было что. Так, услышал от него Жуковский, что русский язык мало приспособлен для поэзии, особенно — для поэзии с рифмами, что русскому стихотворцу никак не обойтись без глагольных рифм, которые ослабляют экспрессию стиха, а что поэтому стихи с рифмами можно обозначить справедливым именем Побежденной Трудности — Tour de force![45]
— Мне нравятся белые стихи, — сказал Карамзин, — но если я перейду на них, то все бросят рифмы.
Карамзин говорил быстро, с жаром, даже румянец по его лицу шел пятнами. Дмитриев по большей части спокойно, с умным и чуть ироническим выражением лица возражал ему.
— Сколько цензура меня режет! — говорил Карамзин. — А ведь сочинения — моя деревенька, других доходов не имею.
— Сам виноват, — усмехался Дмитриев. — Почто «Тацита» написал? «В сем Риме, некогда геройством знаменитом, кроме убийц и жертв не вижу ничего…» А? А Брута тебе Екатерина не прощала, не простит и Павел: «Глубокое чувство издыхающей вольности и пагубное положение времен наших, — говорит твой антидеспот, — есть результат тиранства…» А? Вот и цензура. Теперь и сентименты твои будет стричь.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ПЕРВАЯ СТРАНИЦА С ЗАСТАВКОЙ РОМАНА А. КОЦЕБУ «МАЛЬЧИК У РУЧЬЯ» В ПЕРЕВОДЕ В. А. ЖУКОВСКОГО.
На стенах комнаты много портретов: Тассо, Метастазио, Шиллера, Гете, Руссо — всё гравюры, привезенные из путешествия. Большой стол — не письменный — в беспорядке: несколько книг раскрыто, одна даже на полу.
Дмитриев хвалил Фонвизина и Богдановича — Карамзин возражал ему. Карамзин называл Вольтера дерзостным эгоистом — Дмитриев отрицательно качал головой. Это у них была как бы игра, им нравилось спорить, они любили такие беспорядочные дружеские беседы, полные неожиданности и остроты.
…Сидя в своей Соляной конторе, Жуковский вспоминал это посещение — нет, Карамзин был ему положительно по душе. «Не слишком ли резок Андрей на его счет, — думал он. — Да ведь он еще далеко не стар, он трудится!» И ему вспомнились строки Василия Пушкина:
…милый, нежный Карамзин В храм вкуса проложил дорогу.4
Перевод сентиментального романа Коцебу «Мальчик у ручья, или Постоянная любовь» вышел в 1801 году в четырех небольших томах. Литератор М. А. Дмитриев — племянник поэта Ивана Дмитриева, — рассказывая о том, что читали у них в доме в те времена, не забыл этой книги: «Вся семья по вечерам садилась в кружок, кто-нибудь читал, другие слушали… „Страдания Ортенберговой фамилии“ и „Мальчик у ручья“ Коцебу — решительно извлекали слезы!»
Книгопродавец Зеленников попросил Жуковского перевести для него что-нибудь еще из Коцебу. Жуковский выбрал повесть «Королева Ильдигерда».
Ильдигерда — молодая норвежская воительница, богатырка, которую полюбил сын королевы Торы Свенд. Однажды в Норвегию приехал шведский король, и Ильдигерда вызвала его на турнирный поединок. Очарованный ее красотой и ловкостью, король предложил ей стать его наложницей. Она отказалась. Тем временем королева Тора умерла, и Свенд, занявший престол, решил жениться на Ильдигерде. Узнав об этом, шведский король двинул в Норвегию войско и разбил Свенда, который и сам пал в битве. «Сюда, барды! — воскликнула узнавшая об этом Ильдигерда. — Настройте военные звуки!» Один старый рыцарь надел ей на голову шлем убитого Свенда. Она собрала армию из норвежских женщин… И так далее — словом, это была красивая псевдоисторическая рыцарская повесть, в которой своеобразно отразились и мрачно-мужественный дух песен Оссиана и чувствительность Ричардсона.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОВЕСТИ А. КОЦЕБУ «КОРОЛЕВА ИЛЬДИГЕРДА» В ПЕРЕВОДЕ В. А. ЖУКОВСКОГО.
Исполнив эту работу, Жуковский начал перевод — тоже для Зеленникова — двух повестей Флориана:[46] «Вильгельм Телль» и «Розальба». Романы Флориана — дальнего родственника Вольтера — Жуковскому были знакомы с детства: у Юшковых, еще в Туле, читал он его «Нуму Помпилия», «Гонзальва Кордуанского», переделку романа Сервантеса «Галатея». Флориан писал еще пьесы и стихи; басни его — наряду с баснями Лафонтена — с успехом переводил на русский язык Иван Дмитриев. Почти все, что создал Флориан, было переведено в конце восемнадцатого — начале девятнадцатого века на русский язык.
В 1801 году двоюродный брат поэта Дмитриева Платон Бекетов — просвещенный аристократ, собиратель книг и гравюр[47] — завел в своем роскошном доме на Кузнецком мосту типографию и книжную лавку с типографщиками и книгопродавцами из числа собственных крепостных, чтобы по примеру Новикова содействовать развитию отечественной словесности. Но отечественных произведений было мало, а талантливых и того меньше, и Бекетов, вложивший в это предприятие значительную часть своего состояния, стал искать хороших переводчиков. Дмитриев указал ему на Жуковского. Бекетов обратился к Жуковскому и предоставил ему самому выбрать оригинал для перевода. Дома, раздумывая об этом, Жуковский взглянул на книжные полки и подскочил от радости: да вот оно — шесть томиков «Дон Кишота» Михаилы Серванта во французской переделке Флориана!
П. П. БЕКЕТОВ.
Гравюра.
Бекетов одобрил выбор. Он задумал издать это произведение с гравюрами и портретами.
В один вечер Жуковский перевел «Предисловие» Флориана, где сказано, что «Дон Кишот — сумасшедший делами, мудрец мыслями. Он добр; его любят; смеются ему и всюду охотно за ним следуют». Потом принялся за статью Флориана «Жизнь и сочинения Серванта», которая следовала за предисловием. Эта работа Жуковского растянулась на несколько лет: первый том «Дон Кишота» был набран в 1803-м, а вышел в 1804 году. Последний — 6-й — отпечатан был в 1806-м. В 1815 году Бекетов выпустил «Дон Кишота» вторым изданием.
ЖАН-ПЬЕР ФЛОРИАН.
Литография.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОВЕСТИ ФЛОРИАНА «ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ» В ПЕРЕВОДЕ В. А. ЖУКОВСКОГО.
А ведь надо было служить: Мясоедов спуску не давал. И Жуковский изо дня в день ходил в ненавистную Соляную контору. Ему до отчаяния хотелось покинуть ее, он готов был жить как угодно скромно, чтобы только не видеть брезгливой физиономии «пресмыкающегося животного», как называли в Москве Мясоедова — подлеца или холуя, смотря по обстоятельствам.
Жуковский мечтал уехать в Петербург, найти там службу получше. Даже написал об этом в Мишенское. Елизавета Дементьевна ответила ему (она продиктовала письмо одной из сестер Юшковых): «Отъезд твой в Петербург не принес бы мне утешения: ты, мой друг, уже не маленький. Я желала бы, если бы ты в Москве старался себя основать хорошенько, в нынешнем месте твоем найтить линию к дальнейшему счастию. Мне кажется, зависит больше от искания; можно, мой друг, в необходимом случае иногда и гибкость употребить: ты видишь, что и знатней тебя не отвергают сего средства».
У Жуковского сердце сжималось от жалости к матери: пленница, турчанка, рабыня… Нехитрая, добрая женщина. С детства научена покоряться силе. Да и сейчас-то что она? Не служанка и не барыня… Вся в зависимости от Марьи Григорьевны Буниной. А плохо зависеть — даже и от доброго, порядочного человека!
Нет, Жуковский не собирался «гибкость употреблять».
Посмотрел на подпись: «Лисавета Жуковская»… Подумал: «Не хочет писаться Турчаниновой, моею фамилией пишется… Ах, бедная!»
Письмо матери было ворчливое: всё о деньгах: «Посылаю при сём с Максимом денег 50 р., из коих я приказывала купить мне мех зайчий и ножичек, а оставшие тебе; да при отъезде моем оставила я тебе 15 р. и у тебя было еще столько же, почему и полагаю я достаточно для тебя будет для исправления своих нужд. А советую и прошу тебя, друг мой, оставить мундир свой делать до приезда нашего. Это прихоть, Васинька, не согласующаяся с твоим состоянием… Не мотай, пожалуйста». Но «мундир», то есть фрак и панталоны по моде, Жуковскому был необходим, — звали на балы, в пансион на концерты приглашали, а еще он с Тургеневыми навещал своего пансионского товарища Сережу Соковнина, жившего на углу Пречистенки и Девичьего поля: у Сережи были сестры-красавицы — Анна, Катерина и Варвара. Все вместе они ходили в театр, на гулянья… А сшить одни панталоны стоило двадцать рублей! А башмаки, шляпа, рубашки… Много денег уходило на книги: «Вы, конечно, меня в том простите, — писал он матери, — я уверен в этом совершенно, ибо, учивши меня столько времени тому-сему, вы не захотите, чтоб я это забыл и все деньги, которые вы за меня платили в пансион, были брошены понапрасну».
Жуковский жаловался матери на свою службу и говорил, что хочет оставить контору. «Ибо я хотя и пустился в статские скрипоперы, — писал он, — но ничего такого написать не умею».
…И снова: «А ты, мой друг, все еще не перестаешь мотать. Вспомни, как ты, рассчитывая оставленные у тебя деньги, полагал, что будет довольно и на книги. А ныне принялся за новую трату». Жуковский вздыхал и откладывал письмо. Мать боялась нужды. Он понимал ее.
5
Сборник стихотворений под буквами «М.Ж.Т.» так и не был составлен — слишком много возникло между друзьями споров, но товарищеские сходки в доме Тургеневых, у Жуковского или у Воейкова получили закономерное развитие: создалось литературное общество.
Первый разговор об этом произошел между Мерзляковым и Андреем Тургеневым. Все ожили, загорелись: идея показалась увлекательной! Но не втроем же быть его членами. Наметили других: Андрея Кайсарова, Александра Тургенева, Александра Воейкова. Кайсаров предложил в состав общества своих братьев, Михаила и Паисия. Мерзляков набросал черновик «Законов Дружеского литературного общества», принялся обсуждать его с товарищами.
12 января в доме Воейкова было учредительное собрание. Воейков был счастлив. Он приказал расчистить засыпанную снегом аллею, хорошо натопить комнаты, в одной расставить кресла вокруг большого стола, в другой — приготовить ужин. Жуковский пришел пешком, уже в сумерках, когда за домом расплылись во тьме очертания башен Новодевичьего монастыря.
Председателем на этот вечер выбран был Мерзляков. Когда все расположились в креслах, он стремительно поднялся, обвел всех сияющими глазами и воскликнул:
— Друзья мои! Что соединяет нас всех в одно — это дух дружества, сердечная привязанность к своему брату, нежная доброжелательность к пользам другого! Что значим мы каждый сам по себе? Почти ничего. Вместе преодолеем мы ужаснейшие трудности и достигнем цели. Вот рождение общества! Вот каким образом один человек, ощутив пламя в своем сердце, дает другому руку и, показывая в отдаленность, говорит: там цель наша! Пойдем, возьмем и разделим тот венец, которого ни ты, ни я один взять не в силах! В нашем обществе, в этом дружественном училище, получим мы лучшее и скорейшее образование, нежели в иной академии.
У Жуковского сильно забилось сердце. Он взял руку Андрея Тургенева и пожал ее.
Мерзляков разложил перед собой листы. С самой высокой торжественностью, хотя и заикаясь иногда по своему обыкновению, прочитывал он статьи Законов общества.
— Цель общества — образовать в себе бесценный талант трогать и убеждать словесностью: да будет же сие образование в честь и славу Добродетели и Истины целью всех наших упражнений. Что должно быть предметом наших упражнений? Очищать вкус, развивать и определять понятия обо всем, что изящно и превосходно. Для лучшего успеха в таких упражнениях надобно: первое — заниматься теорией изящных наук… Второе — разбирать критически переводы и сочинения на нашем языке. Третье — иногда прочитывать какие-нибудь полезные книги и об них давать свой суд. Четвертое — трудиться над собственными сочинениями, обрабатывая их со всевозможным рачением. Если не всякий из нас, — говорил Мерзляков, — одарен тонким вкусом к изящному, если не всякий может судить совершенно правильно о переводе или о сочинении, то, по крайней мере, мы не будем сомневаться в добром сердце сказывающего наши погрешности.
Решено было собираться по субботам в шесть часов вечера. Принят был такой распорядок: заседание открывает очередной оратор речью на какую-нибудь «нравственную» тему; сочинения членов читает секретарь, не объявляя имени сочинителя, а иногда читает и сам автор, сначала философские и политические сочинения и переводы, потом сочинения и переводы беллетристические; затем критика, разные предложения и — чтение вслух образцовых сочинений русских и иностранных авторов. Важнейшие сочинения членов общества решено было отдавать желающим — для лучшего их рассмотрения — на дом.
— Гений умирает, — продолжал Мерзляков свою речь, — под кровлею бедной хижины, на лоне нищеты и бедности; врожденное чувство к великому, к изящному погасает в буре страстей, в юдоли скорби и печали; пламя патриотизма потухнет в уединенном сердце земного страдальца, и мир не увидит восходящей зари великого. Какие же великолепные палаты, какие гордые стены, какое золото возвращает миру его честь, его украшение — великих? С небесною улыбкою на глазах, с животворящею фиалою в руке низлетающее божество, единым взглядом озаряющее сию мрачную юдоль скорби и печали, бедствий и отчаяния, — это дружество! Будем иметь доверенность друг к другу. Напомню вам только одно имя, одно любезнейшее имя, которое составляет девиз нашего дружества: Отечество!
Все бросились обнимать Мерзлякова, у всех были слезы на глазах. Перешли в другую комнату, заговорили все разом; хлопнули пробки — одна, другая… Воейков сам наполнял бокалы.
Через неделю собрались снова. Мерзлякову опять поручено было говорить речь — приветствие уже родившемуся содружеству.
А. Ф. МЕРЗЛЯКОВ.
Рис. К. Афанасьева.
— Так! — воскликнул он. — Красота небес, вечно юная благодатная радость! Так! Мы вступили в священный храм твой! Мы пьем животворный елей твой из полной чаши! Друзья! Мы точно — в храме радости! Исполнилось одно из лучших наших желаний: мы начали, может быть, главнейшее дело в нашей жизни… Каждый из нас есть питомец муз, каждый из нас — человек-гражданин, каждый из нас — сын отечества… Здесь, в нашем обществе, пусть царствует правда. Пусть каждый из нас старается быть истинным человеком.
Мерзляков самозабвенно декламировал: он размахивал руками, волосы у него прилипли к взмокшему лбу.
— Мудрецы самых отдаленных веков, — продолжал он, — придут беседовать с нами. Теперь-то я надеюсь вознаградить потерю многих лет, в которые, подобно несчастному Танталу, жаждал источника истины и не находил его, любил учиться и не умел! Теперь-то, надеюсь, раздернется завеса на моих глазах: я увижу это таинственное, неизвестное божество, любимое всеми, но не многими знаемое — вкус, — потому что он любит мирные беседы друзей. Общество наше есть скромная жертва отечеству! Всякий миг, всякое дело наше посвящено ему! В тишине мирной дружественным гласом призовем мы великие тени древних и новых героев, граждан, сынов отечества, станем слушать их наставления! Их слова как огненный дождь посыплются в сердца наши и возжгут в нас энтузиазм к чистой, благословенной славе. Пред нами открыта дорога… О ты, небесная Радость!
На следующих заседаниях Мерзляков произнес еще несколько речей: «О деятельности», «О трудностях учения». Александр Тургенев выступил с «Похвальным словом Ивану Владимировичу Лопухину», Андрей Кайсаров — с речами «О кротости», «О том, что мизантропов несправедливо почитают бесчеловечными», Михаил Кайсаров — «О самолюбии», Воейков — «О предприимчивости», Жуковский — «О дружбе», «О страстях» и «О счастии». Блестящие речи о поэзии и русской литературе произнес Андрей Тургенев.[48] Он говорил с не меньшим жаром, чем Мерзляков:
— Русская литература! Можем ли мы употреблять это слово? Не одно ли это пустое название, тогда как вещи в самом деле не существует? Есть литература французская, немецкая, английская, но есть ли русская? Читай английских поэтов, и ты увидишь дух англичан; то же и с французскими и немецкими — по произведениям их можно судить о характере их наций. Но что можешь ты узнать о русском народе, читая Ломоносова, Сумарокова, Державина, Хераскова и Карамзина? В одном только Державине найдешь очень малые оттенки русского, в прекрасной поэме Карамзина «Илья Муромец» также увидишь русское название, русские слова, но больше — ничего!
Поднимались споры. В принципе соглашаясь с Тургеневым, ему возражали Андрей Кайсаров и Жуковский, которые защищали Карамзина, говоря, что он явился своевременно, что это многочисленные Шаликовы, его подражатели, компрометируют его. Русская литература только начинается. Нельзя сразу сделать ее оригинальной. Нужно смело заимствовать — форму, дух, мысли! Учиться! Не так ли возрастали и другие литературы — те же французская, немецкая, английская? Нужно смело вливаться в это огромное Дружеское общество — в Человечество! Не надо ожидать «второго Ломоносова» сложа руки… Надо каждому стараться сделаться им по мере своих сил. Надо работать!
— Кто научил французов и немцев писать романы? У кого учился Руссо? У англичанина Ричардсона! — говорил Жуковский. — Ричардсон был для Руссо Гомером. Руссо зачитал до дыр «Времена года» Томсона — и вот вам «Новая Элоиза», которой подражают во всех странах… Англии многим и многим обязан Вольтер… А влияние древних! А Тассо, Ариосто! Они помогли быть другим — ученикам своим из иных стран — своеобразными… Бард Оссиан! Ему подражали все в Европе… Нужно узнать всё, сделать это все своим, родным; дух человечества — общий, чувства — одни! Тогда и выступим мы как русские, как равные в братстве.
— Мы идем слишком медленно, — возражал ему Мерзляков. — И это, я думаю, потому, что самая просвещенная часть нашего общества узнаёт свой родной язык слишком поздно: все с детства говорят по-французски, по-немецки; по-русски — только с лакеями… Надо разрабатывать русский язык.
— Но это — дело долгое, — продолжал Жуковский. — Чужие языки знать необходимо: на русском нет почти ничего — ни литературы, ни истории. Потому-то нас и учат с детства иностранным языкам, чтобы мы могли приобрести образование. А ведь и чужие языки не шутка, если всерьез — так и там целая жизнь нужна для того, чтоб постичь.
— Ломоносов! — восклицал Воейков. — Не надобно второго Ломоносова. Он хоть и гений, да что написал?
— Он истощил свои дарования на похвалы монархам, — грустно сказал Андрей Тургенев, грустно потому, что Ломоносов был его любимейшим поэтом. — И много потерял из-за этого для своей славы. Почти все оды его писаны на восшествие, на день рождения и тому подобное… Но если бы второй Ломоносов и предметы всегда брал для стихов бессмертные!
После чтения стихов опять поднимались споры, доходившие иногда до резкостей. Принимались петь русские песни. Все закуривали трубки, и потолок скрывался в клубах дыма… Морозный ветер гремел на крыше полуоторванным железным листом, под окнами поскрипывали толстые березы. «Кто мог любить так страстно, как я любил тебя?» — запевал Жуковский любимую тогда в Москве песню Карамзина, и все подхватывали: «Но я вздыхал напрасно, томил, крушил себя!» Потом пели «Стонет сизый голубочек…» Дмитриева, «Пятнадцать мне минуло лет…» Богдановича. Им хорошо было вместе.
6
11 марта 1801 года был убит император Павел I. Не ветер, а вихрь перемен пронесся по России, радость охватила всех, словно в душную тюрьму вдруг хлынул свежий воздух. «Умолк рёв Норда сиповатый», — образно сказал Державин.
Москва почти открыто праздновала погибель ненавистного ей тирана. Ждали новых указов. И они появились. Уже 13 марта все исключенные Павлом из гражданской и военной службы получили свои места обратно или ушли в достойную отставку; 14 марта снято было запрещение на вывоз из России различных товаров; 15 марта освобождены были политические заключенные; 16 марта снят был запрет на ввоз в Россию разных товаров; 19 марта издан был указ о том, чтобы полиция не чинила никому обид и притеснений. Уничтожены букли у солдат… Запрещены пытки… и так далее! Указы сыпались, как из рога изобилия. Не мудрено было вскружиться жаждущим гражданских свобод головам.
Члены Дружеского литературного общества восприняли это время как некую многообещающую утреннюю зарю, они ожидали — никак не менее! — возрождения России и окончательной погибели мрака. Они радовались — бурно, по-юношески…
ПАВЕЛ I
Гравюра.
Андрей Тургенев на одном из мартовских заседаний возмущался тем, что стихотворцы, славословившие так недавно Павла, теперь льют елей Александру.
— Херасковы! Державины! — говорил он. — Вы хотите прославлять его, вы говорите в слабых стихах то, что давно миллионы сердец красноречивее вас выразили немым восхищением, — но вы то же говорили о тиранах, вы показывали те же восторги! Мы вам не верим.
Не прощал Андрей фальшивых нот даже такому гению, как Державин.
На том же заседании Мерзляков прочитал свой стихотворный отклик на убийство Павла — «Оду на разрушение Вавилона», поэтическое иносказание, где говорил: «Тиран погиб тиранства жертвой», где радовался, что исчез наконец «Своей земли опустошитель, народа своего гонитель».
Жуковский, вдохновленный общей бодростью, продекламировал перед товарищами стихотворение «Человек», в котором попытался повернуть мрачную юнговскую тему жизни как трудного испытания по-новому:
Гебе послушно всё — ты смелою рукою На бурный океан оковы наложил. Пронзил утесов грудь, перуны потушил; Подоблачны скалы валятся пред тобою; Твое веление — закон!Жуковский изобразил человека гигантом:
Ой дерзостный утес, гранитными плечами Подперши небеса, и вихрям и громам Смеется, и один противится векам, У ног его клубит ревущими волнами Угрюмый, грозный океан.АЛЕКСАНДР I.
Масло.
…Высокий, сутулый, шел он поутру в Соляную контору. Снег уже почти растаял, солнце вспыхивало на главах церквей; сверкали сосульки на карнизах… В темной воде Неглинки отражались деревья Александровского сада, башни Кремля, голубое небо. Камни мостовой дымились, высыхая. «О, весна, — думал он. — О, радость! Всё идет к лучшему».
Глава пятая
НАДОБНО СДЕЛАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ, НАДОБНО ПРОЖИТЬ НЕ ДАРОМ, С ПОЛЬЗОЮ, КАК МОЖНО ЛУЧШЕ. ЭТА МЫСЛЬ МЕНЯ ОЖИВЛЯЕТ, БРАТ! Я НЫНЧЕ ГОРАЗДО СИЛЬНЕЕ ЧУВСТВУЮ, ЧТО Я НЕ ДОЛЖЕН ПРЕСМЫКАТЬСЯ В ЭТОЙ ЖИЗНИ; ЧТО ДОЛЖЕН ВОЗВЫСИТЬ, ОБРАЗОВАТЬ СВОЮ ДУШУ И СДЕЛАТЬ ВСЕ. ЧТО МОГУ, ДЛЯ ДРУГИХ.
В. А. ЖУКОВСКИЙ (ИЗ ПИСЬМА К АЛ. ИВ. ТУРГЕНЕВУ)1
В конце мая 1802 года Жуковский выехал из Москвы. Впереди лежало — через Малый Ярославец, Калугу, Перемышль и Козельск — 279 верст, и последняя верста кончалась у Белёвской почтовой станции. Ему так не терпелось вырваться из «первопрестольной», что он даже надвинул на глаза картуз, когда на заставе раздалась команда «Подвысь!» и полосатое бревно шлагбаума взлетело, пропуская экипаж. Москва провожала его привычно-приятным колокольным звоном: звонили к обедне.
Дул прохладный ветер. Жуковский чувствовал и облегчение и какую-то тоску: из конторы он все же вырвался, но сколько хорошего оставил он с Москвой! Усевшись поглубже, он не то задумался, не то задремал. Повозку изрядно потряхивало.
…Прошлым летом среди членов Дружеского литературного общества пронесся слух, что Карамзин собирается издавать новый журнал под названием «Вестник Европы»; редактировать этот журнал предложил ему содержатель университетской типографии книготорговец Иван Васильевич Попов. Жуковский вспомнил этого Попова — краснолицего, в седом парике купца-чудака, вечно оживленного, говорливого и даже писавшего стихи… Попов обязался платить Карамзину три тысячи рублей в год. Вот это была новость! До этих пор редакторы были сами и издателями: доходы-расходы — как получалось… А Попов знал, что делал, он помнил успех карамзинских периодических изданий.
Карамзин стал разрабатывать планы, делать переводы, просить друзей доставлять ему сочинения. Он договаривался об этом среди прочих и с молодежью — Андреем Тургеневым, Мерзляковым, Жуковским. Тираж журнала намечен был небольшой — шестьсот экземпляров, но уже после первых номеров поднялся вдвое: книжки «Вестника», выходившего раз в две недели, зачитывались до лоскутков. Многие литераторы — Державин, Херасков, Нелединский-Мелецкий, Дмитриев, Пушкин и другие — оказывали Карамзину поддержку.
Карамзин был уже женат — на Елизавете Ивановне Протасовой; жили они всё в том же доме Шмидта на Никольской, где бывал Жуковский. Весной переехали в Свирлово,[49] невдалеке от Останкина, где поселились на летние месяцы во флигеле усадьбы помещика Высоцкого.
Жуковский сделал перевод элегии Томаса Грея «Сельское кладбище» и повез его Карамзину в надежде, что он примет его для журнала. Карамзин повел его гулять к Останкину, которое граф Петр Шереметев только что отстроил. Они прошли поле, миновали дубовую рощу и остановились на опушке: впереди раскинулся огромный пруд, осененный липами и вязами, ровный как стекло. Тут сели они на поваленное дерево, и Карамзин стал объяснять Жуковскому, чем перевод плох. «Однако, — сказал он, — у вас может получиться великолепная вещь». Он указал удавшиеся строки и вообще говорил так мягко и с таким вниманием к молодому стихотворцу, что тот ушел с твердым желанием продолжать работу над переводом элегии.
…Какое несчастье вдруг свалилось на Карамзина! В марте 1802 года жена родила дочь, которую назвали Софьей, но сама заболела и в апреле скончалась. Через всю Москву шел Карамзин к месту ее погребения — в Донской монастырь, — положив руку на крышку гроба… Но взяты были обязательства — нужно было работать: в эти-то горестные дни он писал и переводил, начал историческую повесть «Марфа Посадница».
Андрей Тургенев в ноябре 1801 года был переведен по службе в Петербург; 12-го числа Жуковский вместе со всеми Тургеневыми провожал его до станции Черная Грязь двадцать шесть верст, считая от Триумфальных ворот. Обнимая Андрея при прощании, Жуковский прослезился. Они дали друг другу слово переписываться.
С его отъездом Жуковский почувствовал себя одиноким: с Александром Тургеневым и с Мерзляковым у него не было такой глубокой откровенности.
И еще — друг не друг, но мелькнуло одно лицо: во время коронации Александра Первого в Москве Жуковский подружился с молодым человеком — Дмитрием Блудовым:[50] они оба были дежурными у Воскресенских ворот — проверяли пропуска на Красную площадь. Блудов, некрасивый, напоминавший курносого и лобастого Сократа, щегольски одевался, служил в Архиве и был уже коллежским асессором. Он знал французский, немецкий и итальянский языки, был широко начитан, а ни в каких заведениях не учился — его мать лучших московских профессоров приглашала на дом. Он обожал театр, знал наизусть целые трагедии Расина.
Блудов и Жуковский сочинили вдвоем комическое стихотворение «Объяснение портного в любви», высмеяли в нем одного молодого, спесивого чиновника из немцев, у которого отец был портным.
О ты, которая пришила Меня к себе красы иглой И страсть любовну закрепила. Как самый лучший шов двойной…Они хохотали до упаду, декламируя эти юмористические строфы… Как будто начиналась веселая юношеская дружба. Но в январе 1802 года и Блудов уехал в Петербург.
Андрей Тургенев сдержал слово, он часто писал Жуковскому. В феврале 1802 года Иван Петрович Тургенев со всей семьей отправился в Петербург добиваться разрешения для Александра учиться за границей — в Париже или Геттингене; вернулись в Москву в апреле.
Без Андрея не стало в Дружеском литературном обществе настоящего единства — пошли слишком резкие споры. Из-за этого Жуковский перестал посещать собрания. Потом уехали в Петербург Кайсаровы. Мерзляков стал приводить к Воейкову каких-то новых людей… Андрей огорчался всем этим и писал Жуковскому: «Все, видно, отстраняются, брат, от Собрания. Теперь и Кайсаровы против, и все, и ты… Всё разрушается… Как скоро прошло всё это!»
…С самого начала года Жуковский готовился к отъезду в Мишенское: укладывал и опять распаковывал книги, прибирал рукописи, не раз уже твердо намеревался подать в отставку… Но трудно было решиться ехать в Мишенское без разрешения на то Марьи Григорьевны. Она в письмах не одобряла его планов об оставлении службы. Помог случай. Мясоедов сделал Жуковскому очередной несправедливый выговор. Жуковский — впервые в жизни — вспылил, сказал что-то резкое, повернулся и — покинул контору. Дома написал он Буниной отчаянное письмо. 4 мая 1802 года Бунина отвечала: «Нечего, мой друг, сказать, а только скажу, что мне очень грустно… Теперь только осталось тебе просить отставки хорошей и ко мне приехать… Всякая служба требует терпения, а ты его не имеешь. Теперь осталось тебе ехать ко мне и ранжировать свои дела с господами книжниками».
…На станции увидел книжку «Вестника Европы», кем-то забытую. Вышел с нею во двор — там ямщик у колоды поил коней, подливая воду деревянным ведром. Небо было мирное, тихое. В книжке Жуковский нашел то, что уже знал наизусть, — стихотворение Карамзина «Меланхолия». Удивился совпадению стихов с теперешним своим настроением:
О Меланхолия! нежнейший перелив От скорби и тоски к утехам наслажденья Веселья нет еще, и нет уже мученья; Отчаянье прошло… Но, слезы осушив. Ты радостно на свет взглянуть еще не смеешь..Д. Н. БЛУДОВ.
Литография.
2
…Вот и прошел первый день в родном Мишенском…
Он выскочил из экипажа у ворот усадьбы, пробежал по дорожкам цветника, навстречу ему радостно кинулась дворняжка Розка широкогрудая, приземистая, вся черная, с большим белым пятном на морде. Он погладил ее, взбежал на террасу — никого! И вдруг в гостиной — Марья Григорьевна и Елизавета Дементьевна.
— Титулярный советник Жуковский! — шутливо расшаркался он. — Покорнейше прошу даровать мне ваше благоволение…
— Здравствуй, здравствуй, друг милый, — сказала Марья Григорьевна. — Приехал! Вот и прекрасно. Как вышло — так и ладно. Мы и комнату тебе с Лизаветой приготовили — твою, где тебя немец на горох ставил.
— Здравствуй, Васенька, — тихо сказала Елизавета Дементьевна. — Хорошо ли доехал? Здоров ли?
Она — сухая, легкая, смуглолицая и еще не старая, ей сорок восемь лет. Она подняла руку. Жуковский немного наклонился, зная, что она хочет погладить его по голове. Взял ее руку, поцеловал. Глаза его наполнились слезами. Он кашлянул.
А Елизавета Дементьевна уже скорбно поджала губы и отошла в сторонку, уступая место Марье Григорьевне. — А где все наши? — спросил Жуковский.
Оказалось, что все — то есть четыре девицы Юшковы, мадемуазель Жолй, их воспитательница, и еще две девицы Вельяминовы — гуляют в парке, а Петр Николаевич Юшков с Андреем Григорьевичем Жуковским — в Белёве.
Был полдень. Жуковский вошел во флигель, распахнул двери прохладной комнаты: там все вымыто, выскоблено, и — о радость! — новые шкафы для книг сделаны — Марья Григорьевна позаботилась. В углу составлены четыре больших нераскрытых ящика с книгами, которые Жуковский переслал сюда из Москвы еще по санному пути. На деревянном гвозде летняя шляпа.
«Вот где я начну полную трудов уединенную жизнь! — подумал Жуковский. — Здесь — свобода! Деятельность и свобода. Хорошо сказал про это Андрей Тургенев: деятельность кажется выше самой свободы, ибо что такое свобода? Деятельность придает ей всю цену».
ЕЛИЗАВЕТА ДЕМЕНТЬЕВНА ТУРЧАНИНОВА (САЛЬХА) МАТЬ В. А. ЖУКОВСКОГО.
Рис. В. А. Жуковского.
Переоделся. В летней шляпе и с простой липовой палкой в руке пошел в парк. Какие толстые, дремучие ели! Не времен ли царя Алексея Михайловича? Ведь поместье старинное, на кладбище есть могильные плиты столь древние, что и Бунины не знают, кто под ними.
Вот и девицы — все в белом, с зонтами: две Анны, две Авдотьи, Екатерина и Марья. Посредине — мадемуазель Жоли в желтом русском сарафане, румянощекая, черноглазая. Анюта Юшкова мигом повисла на шее у Жуковского.
— Ой, я знаю, вы не любите, когда вас целуют, — затрещала она. — Но я не могу! Вот, вот, вот…
— Ah! quel bonjour… Enfin! — присела мадемуазель Жоли. — Bonjour, monsieur de Joukowsky! Bonjour, mademoiselle.[51]
— Надолго ли? — спрашивали девицы.
— Хотелось бы навсегда, — отвечал он.
После обеда он отправился бродить один; сошел к нижнему пруду, постоял там, легко вздыхая всей грудью, весело глядя то на домики Мишенского среди садов и огородов, спускающихся с холма, то на сияющий купол усадебной церкви и на темный парк, раскинувшийся за ней, то на село Фатьяново, широко разбежавшееся в низине по реке Выре, на холмы и клубящиеся облака за рекой.
СЕЛО МИШЕНСКОЕ. ЧАСОВНЯ НАД РОДНИКОМ ГРЕМЯЧИМ.
Рис. В. А. Жуковского.
ДЕРЕВНЯ ФАТЬЯНОВО СО СТОРОНЫ СЕЛА МИШЕНСКОГО
Рис. В. А. Жуковского.
Потом через Фатьяново — по проселку — пошел в Белев, скрытый за холмом, а там — мимо Красной часовни — по Берестовой улице вышел к Оке. Высоким берегом брело стадо коров, белобры сый пастушок лет десяти лениво тащился сзади, волоча длинный плетеный кнут. За Окой — луга. Слева — совсем рядом — сказочно-живописные башни и купола Белёва, крепостной вал, городские дома и сады на круче.
Телега за телегой по мосту прогромыхал обоз; встряхивая вожжи, прошагали возчики в рубахах навыпуск, в поддевках, потянулись вверх по Козельской улице… В огород на самом обрыве вышла баба, сложила трубой ладони у рта и протяжно крикнула куда-то вниз:
— Микентий! Мике-е-ентий!
«Что за странное имя», — подумал Жуковский.
— Микентий!
СЕЛО МИШЕНСКОЕ. ЧАСОВНЯ НАД РОДНИКОМ ГРЕМЯЧИМ (ПОЗДНЕЙШИЙ ВИД).
Рис. В. А. Жуковского.
Жуковский спустился к воде, сел под куст и стал смотреть на журчащие, перевивающиеся золотисто-палевые струи. «Какая отрада, сколько счастливой меланхолии в этом неумолчном ропоте, — думалось ему. — Река говорит, ее можно понять, не разумом — чувством… Она образ времени, преходящего и вечного… Это невнятное бормотание струй просвещает душу больше, чем жизнь в городах среди ученых людей… Родина, отечество! Веками пахари выходили на эти поля, веками ловили рыбу в Оке, смотрели на солнце и на шезды, боролись с голодом и недугами; вдруг — набат в крепости, все хватают кто меч, кто рогатину или топор, а в лугах уже темная масса всадников, нарастают дикие клики — азиаты! И вот уже пылает посад, валятся обугленные деревянные башни крепости… 4 потом — ливонцы, войска Самозванца… Да и друг друга жгли белёвские и одоевские князья… А река журчит, унесши кровь и пепел. Стоит город Белев — тихий, словно неживой. И опять поля зеленеют!»
— Мике-е-ентий!
— Чего? — недовольно откликнулся наконец человек из-за куста, в двух тагах от Жуковского.
— Теленка поил?
— Поил.
Жуковский долго сидел над рекой, до тех пор, пока не ударил большой колокол в Спасопреображенском монастыре, а за ним не зазвенели большие и малые. Однако звон этот — слышный с белёвской кручи на десятки верст — не нарушил величественной тишины заокских просторов: там земля кажется воистину плоской — всё луга, луга, пашни, дороги, островки рощ, снова пашни и рощи, и совсем далеко — лес… И видны в этом чистом пространстве сразу несколько монастырей и деревень.
«Навсегда… навсегда… — повторял Жуковский про себя, и ему хотелось заплакать от грустного чувства, охватившего его. — Без этого я — ничто! С этим — человек…» — думал он, оглядывая поля на обратном пути.
БЕЛЕВ. ВИД ИЗ-ЗА ОКИ.
Рис. В. А. Жуковского.
Вдруг застучали колеса, затопотали и задышали кони, забрякала сбруя, и над самым его ухом раздался голос Андрея Григорьевича:
— Ба! Василий!
И другой голос — Петра Николаевича:
— Садись!
Жуковский прыгнул в коляску и попал в объятия своего крестного отца:
— Надолго ли к нам? На лето?
— Навсегда!
— Навсегда? — изумился Андрей Григорьевич. — А службишка?
— Бросил.
Андрей Григорьевич слегка хлестнул по лошадиным крупам, покачал головой. Коляска гремела; восемь лошадиных ног, подпрыгивающая сбруя и гривы — все это плясало перед глазами Жуковского, быстро приближалась дубовая роща Васьковой горы, разворачивался за ней парк Мишенского, вырастала церковь…
— Ничего! Проживем! — крикнул Андрей Григорьевич, осаживая лошадей у ворот усадьбы.
Петр Николаевич неопределенно молчал.
П. Н. ЮШКОВ.
Масло.
…Вечером Андрей Григорьевич рассказал Жуковскому о грандиозном пожаре, который был в Белёве прошлым летом: половина улиц обратилась в пепел; в Спасопреображенском монастыре выгорели кровли и стропила храмов, на большой колокольне семь колоколов растопилось — вышел сплав меди в 296 пудов! Два дня бушевало пламя. Ока шипела от головешек и горячего пепла. Ну прямо ливонская осада! — говорил Андрей Григорьевич. — А теперь — изволишь видеть: краше прежнего отстроились. Да не как-нибудь, а по высочайше утвержденному генеральному плану, с фасадами чуть ли не столичными… К зиме пожара уж и следов не осталось. Каков магистрат новый! А купчишки-лабазники теперь в таких домах живут — истинно замки! И колокола заново отлили…
БЕЛЕВ.
Рис. В. А. Жуковского.
БЕЛЕВ.
Рис. В. А. Жуковского.
Жуковский слушал, а в душе его какой-то печально-радостный голос повторял: «Навсегда… навсегда…»
Долго разбирал вечером книги. Разложил рукописи, развесил гравированные портреты Грея, Юнга, Флориана и Карамзина. Распахнул окно: луна вышла из-за темного гребня листвы, пепельные облачка невесомым флером перетягивались через нее. Так прошел его первый день в родном Мишенском.
3
Жуковский не спеша переводил «Дон Кишота», занимался самообразованием. Сшив тетрадь из больших синих листов, он надписал на обложке: «Историческая часть изящных искусств. I. Археология, литература и изящные художества у греков и римлян». Принялся делать выписки из книг. Завел тетради для выписок по философии и для занятий немецким языком, который знал пока еще недостаточно глубоко. В черновике — альбоме с застежками — делал планы будущих стихотворений, намечал что перевести.
Вскоре из Москвы прислана была ему изданная Поповым книжка: «Четыре времени года. Музыка сочинения г. Гайдена». Здесь было напечатано переведенное Жуковским либретто немецкого писателя Ван-Свитена для оратории Гайдна, сделанное по мотивам поэмы Томсона «Времена года».[52] И Томсон и Гайдн горячо любимы были в молодом тургеневском кружке. Андрей Тургенев писал друзьям из Вены, что ему посчастливилось видеть Гайдна, который дирижировал в концерте своими произведениями: «Я с величайшим наслаждением слушал, чувствовал и понимал всё, что выражала музыка».
Андрей прислал Жуковскому и Мерзлякову портреты Шиллера и Шекспира. Александр Иванович Тургенев, уехавший учиться в Геттингенский университет, послал брату Андрею «для раздачи друзьям» Шиллерову «Орлеанскую деву». Жуковскому Александр писал: «Всегда, идучи с профессорской лекции, пожалею, что нет со мной любезнейшего Василья Андреевича. Какое бы удовольствие было для тебя слушать у Бутервека эстетику или историю у Шлёцера! Нельзя ли тебе приехать сюда? Право, славно бы зажили!» Мерзляков звал Жуковского в Москву, жалуясь, что они с Воейковым остались одни.
Андрей Тургенев слал друзьям свои стихи, которые восхищали их совершенством формы, мрачной силой мысли.
Свободы ты постиг блаженство, Но цепи на тебе гремят; Любви постигнул совершенства И пьешь с любовью вместе яд. И ты терзаешься тоскою. Когда другого в гроб кладешь! Лей слезы над самим собою, Рыдай, рыдай, что ты живешь!ДЖЕЙМС ТОМСОН.
Гравюра Д. Басайра.
«Это будет великий поэт, — думал Жуковский, читая стихи Андрея, — ему открылось что-то такое, что еще никому не ведомо».
В июле 1802 года в тринадцатой книжке «Вестника Европы» Жуковский нашел «Элегию» Андрея Тургенева с примечанием Карамзина: «Это сочинение молодого человека с удовольствием помещаю в „Вестнике“. Он имеет вкус и знает, что такое пиитический слог». Жуковский был так очарован стихотворением своего друга, что вытвердил его наизусть.
Уже первые строки поражали:
Угрюмой Осени мертвящая рука Уныние и мрак повсюду разливает…Обе строки начинаются с «у» — воют, как осенний ветер. И «мертвящая рука» Осени хотя и напоминала «зари багряную руку» Ломоносова, но более впечатляла. В стихотворении чувствовался дух Юнга и Грея, особенно — стихотворения Грея «Элегия, написанная на сельском кладбище», которое не совсем удачно перевел Жуковский. Вот, вот оно, Греево настроение у Тургенева:
Поблекшие леса в безмолвии стоят. Туманы стелются над долом, над холмами.БЕЛЕВ. КРАСНАЯ ЧАСОВНЯ
Рис. В. А. Жуковского.
Где сосны древние задумчиво шумят Усопших поселян над мирными гробами. Где всё вокруг меня глубокий сон тягчит, Лишь колокол нощной один вдали звучит…Андрей Тургенев в этом стихотворении обращается к Карамзину:
Напрасно хочешь ты, о добрый друг людей, Найти спокойствие внутри души твоей… Пусть с доброю душой для счастья ты рожден. Но, быв несчастными отвсюду окружен. Но бедствий ближнего со всех сторон свидетель — Не будет для тебя блаженством добродетель!Это был отзвук споров о Карамзине, который — вслед за французскими просветителями — считал, что добрый человек может быть счастлив своей добродетелью, неизменными добрыми качествами души среди страдающего, изменяющегося мира.[53]
…Боль о других! И вдруг, думая об «Элегии» Тургенева, понял Жуковский, что у Грея меланхолический, одинокий певец есть несчастный друг людей… Он добр, но несчастен. Несчастен, потому что добр. И еще Жуковский понял, что на место певца в стихотворении Грея он должен поставить себя. Он должен не просто перевести элегию, а именно пережить, перестрадать ее — здесь, в Мишенском. Андрей словно пелену снял с его глаз. Вторая попытка перевода элегии Томаса Грея увиделась ему как начало поэтической работы, несмотря на все написанное и напечатанное. Мало увидеть Грея в Грее, нужно увидеть его в приокской природе — как крестьян Грея в крестьянах полей, окружающих Мишенское. «Это будет моё! — говорил себе Жуковский, идя в сумерках по парку. — И я сам буду тот певец уединенный, о котором говорит Грей».
Жуковский спустился в ложбину; перед ним возвышались поросшие кустарником огромные валы древнего городища: один из углов — как башня — возвышался над темной пеной шумящих листьев. Жуковский полез наверх. Сколько раз он забирался сюда мальчишкой, играя в рыцаря Гюона! Сколько раз обозревал отсюда широкий луг, ограниченный рекой Вырой, словно сказочную страну… Справа, совсем близко, грозно шевелилась под свежим вечерним ветром дубрава Васьковой горы. Из полутьмы дышало в лицо Жуковскому огромное пространство родной ему земли. Вдруг озарила его мысль: «Здесь надо поставить простую ротонду, деревянную беседку! Нет и не будет места лучше для русского Грея… Тут буду я один с птицами, цветами и небом».
ТОМАС ГРЕЙ.
Гравюра.
…Он сделал чертеж, и два плотника из села соорудили нехитрое здание: подсыпали повыше холм, хорошенько утрамбовали землю, ошкурили несколько нетолстых сосновых бревен, изготовили свежей осиновой дранки на крышу. Чудесно пахла светлая эта беседка, и как весело было в ней, когда пришли сюда на «новоселье» все шесть девиц Юшковых и Вельяминовых и с ними мадемуазель Жоли! Они нарвали тьму цветов на широких валах городища и увили ими всю беседку, и на столик, где Жуковский собирался писать, тоже насыпали цветов. Жуковский был счастлив. Оказалось, что отсюда, как и с балкона усадебного дома, виден Белев. Внизу, прямо под беседкой, пролегала проселочная дорога. Мужик, ведший в поводу гнедую лошадь, остановился и долго, задрав бороду, с детским любопытством разглядывал беседку, хоровод барышень и смуглого «турчонка» в белой рубахе.
Почти каждое утро — исключая дождливые дни — шел сюда Жуковский с книгами и тетрадями. Весь август он отдал элегии Грея. Он был в непреходящем состоянии вдохновения. Каждый вечер он возвращался сюда в предзакатное — свое любимое — время. Перевод? Ну да, перевод английских стихов и русской натуры в стихи; вот начало элегии «Сельское кладбище», как оно стало складываться у Жуковского:
Уже бледнеет день, скрываясь за горою; Шумящие стада толпятся над рекой; Усталый селянин медлительной стопою Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой. В туманном сумраке окрестность исчезает… Повсюду тишина; повсюду мертвый сон; Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает, Лишь слышится вдали рогов унылый звон.Это — долина реки Выры, впадающей у Белёва в Оку. Герой элегии — певец, то есть поэт — идет на кладбище, где «праотцы села, в гробах уединенных навеки затворясь, сном непробудным спят», он думает обо всех этих крестьянах, которые из века в век трудились на земле:
Как часто их серпы златую ниву жали, И плуг их побеждал упорные поля! Как часто их секир дубравы трепетали, И потом их лица кропилася земля!Мысль Томаса Грея о том, что люди равны и свободны от природы, оказалась близкой Жуковскому. Как бы ни сложилась жизнь каждого, смерть снова уравнивает всех. Меланхолический певец, проливающий слезы над памятниками былого, тоже смертен:
СЕЛО МИШЕНСКОЕ. ВИД НА ДЕРЕВНЮ ФАТЬЯНОВО С ХОЛМА ГРЕЕВА ЭЛЕГИЯ.
А ты, почивших друг, певец уединенный, И твой ударит час последний, роковой: И к гробу твоему, мечтой сопровожденный, Чувствительный придет услышать жребий твой Быть может, селянин с почтенной сединою Так будет о тебе пришельцу говорить: «Он часто по утрам встречался здесь со мною, Когда спешил на холм зарю предупредить».СЕЛО МИШЕНСКОЕ. ХОЛМ ГРЕЕВА ЭЛЕГИЯ.
…Солнце еще не вышло, в листве, сырой от росы, поют птицы, Жуковский быстро проходит через парк, и вот — первый луч золотит столбики белой беседки на вершине «холма», куда пришел он «зарю предупредить»… Он чувствовал, что завеса поэзии приоткрылась перед ним.
В декабре 1802 года Карамзин напечатал в своем журнале это новое произведение Жуковского, которое заняло в номере семь страниц. Андрею Тургеневу, другу своему, а во многом и учителю, посвятил Жуковский свой труд. Заголовок его был таков: «Сельское кладбище, Греева элегия, переведенная с английского (Переводчик посвящает А. И. Т-у)».[54]
4
В конце января 1803 года в Мишенском Жуковский встретил свою двадцатую зиму и написал стихи «К моей лире и к друзьям моим», где говорил:
Не нужны мне венцы вселенной; Мне дорог ваш, друзья, венок!И звал их — друзей — в свою «хижину». Но друзьям было некогда; Мерзляков готовился в университетские профессора и ночи проводил над книгами; Александр Тургенев учился в Геттингене; Андрей вернулся из Вены в Петербург и тянул служебную лямку: «Вчера писал до того, что спина и глаза заболели, — жаловался он Жуковскому. — Здесь, брат, не то что в Москве: когда велят, то надобно делать».
НОМЕР ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ЕВРОПЫ» С ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИЕЙ ЭЛЕГИИ «СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ», ПЕРЕВЕДЕННОЙ В. А. ЖУКОВСКИМ.
Жуковский предложил Андрею перевести вместе с ним для Бекетова «Дух истории, или Письма отца к сыну о политике и морали» Антона Феррана, с французского, — это четырехтомное сочинение, изданное в Париже в 1802 году, прислал Жуковскому Дмитрий Блудов. Андрей согласился, просил брата Александра достать Феррана в Германии, тот не сумел этого сделать, но «Дух истории» нашелся в Петербурге у князя Козловского.[55] Жуковский и Тургенев стали готовиться к совместной работе.
…Князь Шаликов выпустил сентиментальное «Путешествие в Малороссию», где он описывал, однако, не столько Малороссию, сколько свои чувства. Карамзин попросил Жуковского написать отзыв на эту книгу. Жуковский написал, а Карамзин в марте напечатал его в «Вестнике Европы». Жуковский, сочувствуя меланхолическим излияниям путешественника, все же не смог удержаться от иронии: рассуждая о чувствительности вообще, он время от времени спохватывается: «Но я, кажется, хотел говорить о путешествии господина Шаликова!»; «Но я опять забыл свой предмет». Приведя в пример хорошего слога главу «Летний вечер в Малороссии», Жуковский так заключает рецензию: «Иной, прочитав эту статью, скажет самому себе: поеду в Малороссию… Но я скажу ему на ухо: не езди в Малороссию для одних летних прекрасных вечеров; они и здесь в Москве прекрасны. Выйдешь на пространное Девичье поле; там, где возвышаются гордые стены Девичьего монастыря, сядешь на высоком берегу светлого пруда, в котором, как в чистом зеркале, изображаются и зубчатые монастырские стены с их башнями, и златые главы церквей, озаренные заходящим солнцем, и ясное небо, на котором носятся блестящие облака; сядешь, и с тихим, спокойным чувством будешь смотреть, как солнце, приближаясь к горизонту, начнет бледнеть… бросит последний, умирающий взор на тихую реку, на отдаленный лес, на монастырские стены, на золотые главы церквей, и потухнет. А ты, мой любезный читатель, между тем будешь сидеть задумавшись… пленишься вечером и… забудешь о Малороссии!»
Этот элегический пейзаж — как бы укор Шаликову, в книге которого не было ничего подобного.
Андрей Тургенев писал Жуковскому с возмущением: «Ну уж, брат, путешествие Шаликова! я выходил из терпения. Козловский неистощимо нас забавил описанием самого путешественника и всех писателей чувствительной Москвы». Андрей прислал и свое новое стихотворение, которое снова привело в восторг и ужаснуло Жуковского — правдой, силой чувства, мрачностью:
Всех добрых дел твоих в заплату Злодеи очернят тебя. Врагу ты вверишься, как брату. И в пропасть ввергнешь сам себя Восстанешь, роком пораженный. Но слёз не будешь проливать; Безмолвной скорбью отягченный. Судьбу ты будешь проклинать; Потухнет в сердце чувства пламень. Погаснет жизни луч в очах, В груди носить ты будешь камень, И взор твой будет на гробах.…В мае этого года Жуковский ненадолго приезжал в Москву — побывал у Прокоповича-Антонского, которому передал стихи для очередного выпуска альманаха «Утренняя заря», и прожил две недели у Карамзина в Свирлове. Карамзин уже тяготился журналом он мечтал о работе над историей России. В Свирлове Карамзин и Жуковский сблизились теснее. После «Сельского кладбища» Карамзин стал считать Жуковского лучшим московским стихотворцем.
Обойдя книжные магазины на Никольской и на Кузнецком мосту, встретившись с Мерзляковым и Воейковым, которые собирались ехать на лето в рязанскую деревню Воейкова, уладив свои дела с «господами книжниками» Поповым и Бекетовым, Жуковский поспешил в Мишенское. Он полюбил одинокую, тихую работу среди природы. В Мишенском он принялся за продолжение «Дон Кишота» и за свою собственную повесть, задуманную им во вкусе Флорианова «Вильгельма Телля», — за «Вадима Новгородского», которого обещал Карамзину для «Вестника Европы».
В середине июля Жуковский получил письмо от Ивана Петровича Тургенева, Предчувствуя недоброе, распечатал, выхватил взглядом из середины: «…занемог покойный от простуды… болезнь страшная и крутая… похитила ево у нас»… Умер Андрей! Жуковский плакал, читая дальше, слёзы капали на бумагу: «Лечил лучший медик государев… А мой цвет увял в лучшую пору! Скосила его жестокая смерть!»
«Не думал и не хочу утешать вас, — отвечал Ивану Петровичу Жуковский. — Я слишком чувствую свою и вашу потерю… Что делать! Моё сердце разрывается… Он так был достоин жизни! За что мы наказаны его потерею? Теперь, признаюсь, жизнь для меня утратила большую часть своей прелести; большая часть надежд моих исчезла. Мысль об нем была соединена в душе моей со всеми понятиями о щастии!»
Вместе с письмом послал он Ивану Петровичу элегию «На смерть Андрея Тургенева».
Сраженный горем старик оставил службу — вышел в отставку, купил дом в Петроверигском переулке на Маросейке и поселился там.
Александру Тургеневу Жуковский писал об Андрее: «Он был бы моим руководцем, которому бы я готов был даже покориться; он бы оживлял меня своим энтузиазмом».
Жуковский написал Мерзлякову в деревню, тот примчался в Москву и навестил Ивана Петровича, потом писал в ответ: «Ивану Петровичу стало гораздо лучше… Он говорил со мною об Андрее Ив. очень трогательно, сказывал, что от тебя получил письмо, но не знает, когда ты сюда приедешь. В самом деле, для чего ты так долго медлишь в деревне? Можно ли так долго с нами расставаться!»
Мерзляков узнал подробности кончины Андрея: «Ах, он умер очень тяжело… Он первоначально простудился, быв вымочен дождем. Пришедши домой, уснул в мокром мундире, которого поутру на другой день не могли уже снять. Этого мало: в полдень ел он мороженое и вдобавок не позвал к себе хорошего доктора с начала; ггосле это уже было поздно; горячка с пятнами окончила жизнь такого человека, который должен был пережить всех нас».
К своему уже оконченному «Вадиму Новгородскому» Жуковский прибавил вступление — поэму в прозе, реквием, плач о друге. «О ты, незабвенный! — восклицает он. — Ты, увядший в цвете лет, как увядает лилия, прелестная, благовонная! где следы твои в сем мире? Жизнь твоя улетела, как туман утренний, озлащенный сиянием солнца… Где мой товарищ на пути неизвестном? Где друг мой, с которым я шел рука в руку, без робости, без трепета… Всё исчезло! Никогда, никогда не встретимся в сем мире… Я, несчастный, я, разлученный с тобою в решительный час сей — не слыхал твоих стонов, не облегчил борения твоего с смертию; не зрел, как посыпалась земля на безвременный гроб твой и навеки тебя сокрыла!»
Карамзин, печатая повесть в «Вестнике Европы», сопроводил это место примечанием: «Сия трогательная дань горестной дружбы принесена автором памяти Андрея Ивановича Тургенева, недавно умершего молодого человека редких достоинств».
5
Мерзляков писал Жуковскому: «Карамзин не будет уже на следующий год издавать „Вестника“. Книгопродавцы, опасаясь остаться без журнала, хотят поручить многим то, что он делал один. Они уговаривают меня взяться за это. Но мои обстоятельства совсем не такие, чтобы всегда быть в струне… Не хочешь ли ты? Мне поручено тебя спросить от этом. Отвечай поскорее или приезжай сам».
Но Карамзин рекомендовал книгопродавцам в редакторы стихотворца Панкратия Сумарокова,[56] который нуждался в помощи. Сумароков в Тобольске издавал «Журнал исторический» и «Иртыш, превращающийся в Иппокрену», а в Туле — уже в 1802–1803 годах — «Журнал приятного, любопытного и забавного чтения». Карамзин знал его с юности — они в молодости вместе служили в Преображенском полку.
С помощью близкого ко двору Михаила Муравьева, поэта, попечителя Московского университета, Карамзин добился звания государственного историографа и ежегодного пособия для работы над историей России. И хотя это пособие было в два раза меньше, чем доход, приносимый ему журналом, Карамзин был доволен. Тот же Муравьев помог ему получить разрешение брать на дом книги, рукописи и документы из всех монастырских библиотек, а главное — из архива Коллегии иностранных дел. Много книг присылал ему из Петербурга сам Муравьев. Мусин-Пушкин, Бутурлин, Бантыш-Каменский и Бекетов предоставили в его распоряжение свои собственные богатейшие библиотеки.[57] «Десять обществ, — писал Карамзин, — не сделают того, что сделает один человек, совершенно посвятивший себя историческим предметам».
В начале 1804 года Карамзин женился во второй раз — на побочной дочери князя Андрея Ивановича Вяземского Екатерине Андреевне Колывановой — и почти весь год работал теперь в подмосковном имении Вяземских Остафьеве близ Подольска. Здесь у него сложился твердый распорядок дня. Сюда приезжали к нему друзья, не раз бывал и Жуковский.
…В январе 1804 года Бекетов выпустил первый том «Дон Кишота» Флориана-Серванта в переводе Жуковского, это было изящное издание с несколькими гравированными портретами и иллюстрациями. Готовился к изданию второй том, а Жуковский занимался переводом третьего.
В один из зимних дней он получил в Мишенском письмо от Александра Тургенева, из Геттингена: «Помнишь ли, брат, что я первый познакомил вас? — писал он о своем брате Андрее. — Может быть, вы бы и никогда друг о друге не узнали, если бы не я, если б наше пансионское товарищество не свело меня с тобою. Помнишь ли еще, брат, что уже с другого свидания вашего с ним вы уж узнали и полюбили друг друга?»
Александр будил воспоминания. Целая жизнь позади! И кажется — что осталось, кроме душевных страданий и одиночества? Но как сказал в своей «Элегии» Андрей:
И в самых горестях нас может утеилать Воспоминание минувших дней блаженных!Эти строки будут в течение всей их жизни припоминаться и Александру Тургеневу и Жуковскому.
Ему хорошо было в Мишенском. Но все больше думалось ему о том, что в собственном углу — где-нибудь в ближайших окрестностях — уединение было бы более плодотворным. С помощью Марии Григорьевны и Елизаветы Дементьевны он собрал деньги. В Белеве, в Казачьей слободе, весной начались работы: плотники строили дом по чертежу, сделанному самим Жуковским. Место он выбрал прекрасное — самую высокую точку обрыва над Окой.
Какой свободой, каким покоем дышали в лицо Жуковскому заокские луга! Внизу сверкала синева реки, справа виднелась Васькова гора и холм родного Мишенского, а между ними — на валу городища — чуть белело пятнышко беседки, которую девицы Юшковы и Вельяминовы прозвали Греевой элегией. Он будет видеть ее из окна своего дома — он наметил по чертежу во втором этаже большое итальянское окно с полукруглым верхом.
БЕЛЕВ.
Мерзляков писал из Москвы: «Нынешний год загуляем к тебе с Воейковым, к которому сегодня едем в Рязань месяца на полтора. Дожидайся, брат. Нам не надобно твоего дома, если он не отстроен: мы проживем в палатке. Стихи твои будут нагревать сердца наши, а твоя ласковая, простая дружба украсит самые прекрасные виды, представляющиеся с крутого берега Оки, где строится твоя храмина… Приедем с Воейковым в Белев и поговорим обстоятельно».
Дом еще не был достроен, а Жуковского уже стали одолевать противоречивые мысли. С одной стороны, ему хотелось спокойного уединения, с другой — новых впечатлений, которые давали бы пищу для размышлений и работ в этом уединении. Он стал даже подумывать о длительном путешествии за границу. Хотелось побывать в Петербурге: «видеть один из лучших театров, слышать прекрасных певиц и певцов, посещать кабинеты картин, статуй».
БЕЛЕВ. ПАМЯТНИК В. А. ЖУКОВСКОМУ НА МЕСТЕ ЕГО ДОМА.
«Надобно решиться сделать план своей жизни, — думал он. — План верный и постоянный».
Осенью поехал в Москву. Побывал в Остафьеве. Карамзин работал над первым томом русской истории: он похудел, заметно постарел, стал сосредоточенным, немногословным. От него отошли почти все знакомые, так как им сделалось скучно — Карамзин говорил только о русской истории и разучился вести приятные, но пустые светские разговоры… Приезжали друзья неизменные: Дмитриев, Василий Пушкин, Жуковский…
Кабинет Карамзина был во втором этаже: большое окно в парк, низкие книжные шкафы красного дерева, стол из некрашеных сосновых досок, второй стол в виде пюпитра — для чтения летописей и грамот; несколько жестких стульев. Карамзин вставал в 8 часов утра и до девяти в любую погоду гулял пешком или верхом, в девять завтракал вместе с семьей и потом работал в кабинете до четырех часов, не делая перерывов. Иногда работал и вечером. Ездил в подмосковные монастыри за старинными книгами, грамотами, в Москву… Все дивились: это был другой, новый Карамзин!
«Ах, как жаль, — думал Жуковский, — что Андрей Тургенев не дожил до этого! Теперь бы он не сказал, что Карамзин пишет только изящные мелочи. Ведь это он, именно он, взялся за постройку грандиозного здания! Один!»
6
В первых числах января 1805 года Жуковский опять приехал в Москву — нужно было побывать у Бекетова, готовившего к печати второй, третий и четвертый тома «Дон Кишота». Остановился у Прокоповича-Антонского, в его флигеле во дворе Университетского пансиона. Инспектор гордился своим бывшим учеником, верил в его литературное будущее и советовал ему отправиться в путешествие за границу, обещая дать на дорогу — в долг — три тысячи рублей. Жуковский посещал иногда — как гость — класс русской словесности, который теперь вел Николай Кошанский,[58] и пансионеры, узнавая его, говорили: «Это сочинитель Жуковский, переводчик Греевой элегии».
ОСТАФЬЕВО. ОКНО КАБИНЕТА Н. М. КАРАМЗИНА (ПОЛУКРУГЛОЕ).
13 января Жуковский был уже в Мишенском, так как одна из его многочисленных племянниц — Авдотья Петровна Юшкова — выходила замуж. Ее будущего мужа — Василия Ивановича Киреевского — Жуковский хорошо знал: это был несколько чудаковатый, но добрый человек, сосед по Мишенскому — его поместье Долбино находилось в нескольких верстах от Белёва.
16 января Жуковский снова в Москве. На этот раз он застал здесь Александра Тургенева, возвратившегося домой из Геттингена: они договорились весной съездить вместе в Петербург, где Тургеневу нужно было уладить свои служебные дела. Мерзляков был вызван в Петербург — его прочили в учителя к великим князьям, но это из-за чего-то сорвалось, и он вернулся в Москву.
Они втроем — Тургенев, Мерзляков и Жуковский — часто бывали у Дмитриева, который уговаривал их всех никуда не ездить, осесть в Москве и начать издание нового литературного журнала. Мерзляков между тем снова начал читать лекции в университете; Жуковский несколько раз ходил слушать: это были лекции по теории поэзии — о высоком и прекрасном, о гении, о выборе в подражании и т. д. Слушать его было большое удовольствие. Жуковский уговаривал его ехать с ним за границу. Эти разговоры были настолько серьезны, что Мерзляков начал хлопоты об отпуске для учения в Европе, а Иван Петрович Тургенев решился отпустить с ними своего третьего сына — Николая,[59] который оканчивал Благородный пансион. Жуковский писал в Петербург Блудову, приглашал и его ехать за границу: год учиться в Париже, год — в Геттингене, затем год или полтора путешествовать по Европе. Потом вернуться и начать издание своего журнала. Отъезд он намечал приблизительно на май. А в марте он вместе с Тургеневым поехал в Петербург, как писал Тургенев одному из своих приятелей: «Он прогуляться только едет, а я, бедный, на досаду и на поклоны».
В. А. ОЗЕРОВ.
Литография.
В Петербурге Тургенев вынужден был ездить с визитами к должностным лицам, а Жуковский — вольная птица — сразу направился в дворцовую канцелярию, испросил разрешения и был допущен в Л а мотов павильон, то есть в Эрмитаж. Затем он побывал в Академии художеств, где, к своему удивлению, встретил на выставке картин не только «чистую» публику, но и купцов, и даже крестьян, что порадовало его. Посетил он и богатейшую галерею графа Строганова, в его дворце на Невском проспекте. С ним всюду ходил Дмитрий Блудов. Проголодавшись, они забегали в кондитерскую Лареды на Невском: у Блудова, который свои скудные средства тратил на ежедневное посещение театра, тут был кредит, но Лареда не подавал ничего, кроме мороженого и бисквитов. У Лареды они беседовали, читали «Петербургские ведомости», иностранные газеты. Возвращались домой голодные. Слуга Блудова — Гаврила — по вечерам делился с ними тем, что варил для себя: щами и кашей, и с доброй улыбкой смотрел, как они, по его выражению, «убирают». Когда они шли в театр, Жуковский облачался в запасной фрак Блудова, так как свой у него поизносился.
В Петербурге повеяло на Жуковского Европой.
На стрелке Васильевского острова шли работы — ее досыпали, одевали берега в гранит, делали причалы, съезды к воде.
Тут заготавливали материалы для гигантского здания Биржи, которую начал строить Тома де Томон. Остров окружен был плывущими и стоящими на якоре кораблями.
Жуковский любил смотреть на широкое пространство вод перед Зимним дворцом, на сады и сельские домики островов за Петропавловской крепостью. Петербург укреплял в нем желание путешествовать.
Почти каждый вечер он ходил с Блудовым и Тургеневым в театр. Сильное впечатление получил он от трагедии Владислава Озерова «Эдип в Афинах», поставленной с декорациями Пьетро Гонзаги и костюмами по рисункам Алексея Оленина. Антигона — Семенова, Шушерин в роли Эдипа были великолепны. После спектакля Блудов повел Жуковского за кулисы и там разыскал Озерова — скромного и печального человека с как бы удивленно поднятыми тонкими бровями. Так Жуковский познакомился с талантливым русским драматургом.
В Москву Жуковский повез выправленный автором список трагедии «Эдип в Афинах», который он передал управляющему московскими театрами князю Волконскому. Трагедия была поставлена в Петровском театре осенью того же года.
В апреле Жуковский приехал в Мишенское.
С холма, на котором находилась усадьба, снег сошел быстро. В парке стало сухо. На холодном весеннем ветру качались высокие ели, в ветвях толстых вязов и лип чернели гнезда, — грачи с шумом толклись над деревьями, словно ссорились.
Жуковскому хотелось охватить этот весенний мир душой — описать его в стихах, в поэме, создать портрет русской природы — наподобие «Времен года» Томсона, подражая также Клейсту, Сен-Ламберу и Делилю.[60] Уже пахари потянулись спозаранку на поля, врезались в землю острыми носами «андрёвны», как мужики называли сохи, замахали гривами сивки-трудяги… Ожили тихие булевские поля. Засверкала река на весеннем солнышке. Жуковский поднимался рано, шел в сапогах по непросохшей дороге, слушал птичий гомон, смотрел в небо до головокружения. Прислонившись на лугу спиной к сухому стогу, он наслаждался тишиной и вспоминал стихи Карамзина:
Ламберта Томсона читан. С рисунком подлинник сличая, Я мир сей лучшим нахожу: Тень рощи для меня свежее. Журчанье ручейка нежнее; На всё с веселием гляжу. Что Клейст, Делиль живописали; Стихи их в памяти храня. Гуляю, где они гуляли, И след их радует меня!В черновой тетради Жуковский набросал конспект будущего сочинения, которое должно было явить собой нечто новое — полуперевод, полуоригинальное произведение: «Приступ: утро; пришествие весны; весна всё оживляет; разрушение и жизнь — Андрей Тургенев… краткость его жизни, гроб его. Надежда пережить себя. Опять обращение к весне: главные черты весенней природы (из Клейста); жизнь поселянина (из Клейста); цена неизвестной и спокойной жизни; уединение; обращение к себе… к Карамзину; лес; черемуха; ручей; птицы, гнезда; конь… озеро, рыбак; первый дождь».
Начал поэму так:
Пришла весна! Разрушив лёд реки Прибрежный лес в волнах изобразила; Шумят струи, кипя вкруг челнока…[61]В другой тетради Жуковский изо дня в день составлял списки того, что ему хотелось в ближайшем будущем сочинить и перевести. Он собирался написать несколько повестей («Марьина роща», что-нибудь из «американской жизни» в подражание «Атала» и «Рене» Шатобриана[62] и другие), биографий великих людей (Жан-Жака Руссо, Лафонтена, Стерна, Фенелона), статей («О садоводстве», «О счастии земледельца», «О вкусе и гении»), романсов и од, посланий и мелких стихотворений. Вслед за этим списком в тетради следовал другой — перечень тех произведений мировой литературы, которые он хотел бы перевести на русский язык: «Эпическая поэзия: отрывки из „Мессиады“ и Мильтона; „Оберон“ Виланда; „Освобожденный Иерусалим“ Тассо; отрывки из Гомера, Вергилия, Лукана, Овидия…» и т. д. — в этом списке были еще «Дон Карлос» Шиллера, стихи Вольтера и Буало, оды Горация и Анакреонта. Этот список говорит о широте литературных интересов Жуковского. Практически на выполнение всех этих переводов потребовались бы долгие годы; но Жуковский не только мечтал, он немедленно принялся за переводческую работу — завел еще две тетради, озаглавил первую: «Примеры (образцы) слога, выбранные из лучших французских прозаических писателей и переведенные на русский язык Василием Жуковским», вторую: «Избранные сочинения Жан-Жака Руссо, перевод с французского, том первый». Обе начали заполняться переводами.
Жуковский жаждал стать истинно образованным человеком и той же весной 1805 года составил себе план чтения. Эта тетрадь получила следующее название: «Роспись во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты».[63] Еще тетради: «Для собственных замечаний во время чтения, для записки всего, что встречается достойного примечания; для разных мыслей»; «Для выписывания разных пассажей из читаемых авторов»; «Для журнала чтения или экстрактов»; «Для отдельных моральных изречений».
Он запасся большим каталогом французского книжного магазина Вейтбрехта в Петербурге и по нему намечал, что заказать в этом магазине. Список получился огромным: он рассчитывал со временем значительно дополнить свою библиотеку по разделам истории, естествознания, логики, эстетики, грамматики, риторики, критики, педагогики, политики, юриспруденции, физики, медицины, географии и экономики.
ФРАНСУА-РЕНЕ ШАТОБРИАН
Гравюра К. Афанасьева.
Эти планы самообразования снова наводили Жуковского на мысль о путешествии. В начале июня он писал Дмитрию Блудову: «Я еду в будущем мае вояжировать: год пробуду для ученья в Геттингене; год, для ученья же, в Париже, и год или полтора буду ездить по Европе… Что если бы ты поехал вместе со мною!» И все-таки, как видно из письма, срок отъезда был отодвинут на год. Строительство дома в Белёве продолжалось, Жуковский ежедневно приходил смотреть, как кладутся толстые отесанные бревна, как вьются стружки под рубанком столяра, как поблескивают на солнце топоры. И тогда ему хотелось остаться здесь навсегда, никуда не ездить, разве что изредка в Москву.
О своем будущем путешествии он советовался с Дмитриевым, «Что мне сказать о вашем вояже? — отвечал тот. — Если бы я умел рисовать, то представил бы юношу, точь-в-точь Василья Андреевича, лежащим на недоконченном фундаменте дома; он одною рукою оперся на лиру, а другою протирает глаза, смотрит на почтовую карту и, зевая, говорит: успею! Это будет подписью под картиною. В ногах несколько проектов для будущих сочинений, план цветнику и песочные часы».
Однако Дмитриев плохо представлял себе жизнь Жуковского в деревне, понятия не имел о том, какие противоречия раздирают душу молодого поэта, как в нем все клокочет и кипит… Александр Тургенев знал об этом больше. «Я нынче, то есть нынешнее лето, — писал ему Жуковский, — больше себя чувствовал и открыл в себе больше способности — или не знаю чего — быть человеком как надобно… Я воображаю вдали какую-то счастливую участь, которой ожидание волнует мою кровь. Для чего же и жить, как не для усовершенствования своего духа всем тем, что есть высокого и великого?»
…В Белёве жила младшая дочь Буниных Екатерина Афанасьевна Протасова. Еще в 1797 году она овдовела, муж много проиграл в карты и оставил долги — все его имения пошли с молотка, в том числе и Сальково, село Орловской губернии, где они жили; Екатерине Афанасьевне остались только два орловских села — Бунино и Муратове, ее собственное наследство, доставшееся ей еще от отца. Ни в одном из этих сел не было господского дома. Ей хотелось жить самостоятельно, и она поехала с детьми даже не в Мишенское к матери, а в Белев, где наняла удобный особняк на Крутиковой улице,[64] поблизости от того дома на берегу Оки, который строил Жуковский.
Екатерина Афанасьевна, будучи в стесненных обстоятельствах, не могла нанять для девочек учителей. Она попросила Жуковского заниматься с ее дочерьми — двенадцатилетней Машей и Сашей десяти лет — чем он захочет: литературой, историей, языками, рисованием.
Жуковский был к этому внутренне готов: он видел в учительстве пользу и для себя. Он стал разрабатывать планы занятий, увлекся этим, и уроки его стали необыкновенно интересны для девочек. Не только история и литература, но и природа: Жуковский читал им Штурма и Бюффона, гулял с ними в окрестностях Белёва и Мишенского, обсуждал с ними сочинения Руссо, Сен-Пьера, Жанлис. Во время чтения и бесед он постоянно убеждал их в том, что человек должен быть чувствительным и добрым. И каждый раз он брал с собой на прогулки альбом и делал зарисовки: тонкими штрихами он быстро набрасывал пейзажи, фигуры крестьян, к удовольствию девочек — их портреты.[65] Увлеклись рисованием и девочки: Маша старалась, и неудачи не охлаждали ее интереса к карандашу и бумаге, но у нее не очень хорошо получалось. Зато Саша оказалась способной рисовальщицей и восхищала Жуковского своими успехами.
Екатерина Афанасьевна присутствовала почти на всех уроках, но она часто раздражалась на дочерей и доводила их до слез, особенно Машу, у которой был менее ровный, чем у Саши, почерк. Однажды Жуковский в своем дневнике сделал для нее запись и дал ей прочесть. «Тяжело и несносно смотреть, — писал он, — на то, что Машенька беспрестанно плачет; и от кого же? От вас, своей матери! Вы ее любите, в этом я не сомневаюсь. Но я не понимаю любви вашей, которая мучит и терзает. Обыкновенно брань за безделицу… Но какая ж брань? Самая тяжелая и чувствительная! Вы хотите отучить ее от слёз; сперва отучитесь от брани…»
Маша и Саша были влюблены в своего умного и доброго учителя. Они приходили в новый дом Жуковского, который уже отделывали изнутри. Поднимались во второй этаж — в кабинет, еще не обставленный, но светлый, пахнущий свежим деревом, и робкая Маша тут оживала, обо всем расспрашивала. Ей нравилось смотреть из окна за Оку, ее большие грустные глаза освещались тихой радостью. Нет, она не была красивой, но редко можно было встретить такое милое лицо. Жуковский стал замечать, что он все более любит ее. «Это чувство родилось вдруг, — писал он в дневнике, — от чего — не знаю; но желаю, чтобы оно сохранилось. Я им наполнен, оно заставляет меня мечтать, воображать будущее с некоторым волнением».
ЕКАТЕРИНА АФАНАСЬЕВНА ПРОТАСОВА (БУНИНА)
Миниатюра.
…В ноябре Жуковский задумал издать «Собрание русских стихотворений», в нескольких томах. Стал собирать для нее сочинения — перечитывать русских поэтов, копаться в старых и новых журналах. Обратился с просьбами о стихах к Дмитриеву, Мерзлякову и другим поэтам. Дмитриев благодарил его за назначение его «безделок» в «собрание чего-то» и сообщал: «Без вас я получил десять томов „Petite encyclopedic poetique (Paris)“,[66] в которой собраны лучшие стихотворения от поэмы до дистиха. При каждом роде наставление, которое не худо бы вам перевести для вашей хрестоматии. Антон Антонович хотел купить эту книгу для вас, но опоздал».
Жизнь Жуковского в его сельском уединении была заполнена множеством дел. И все же Дмитриев, не понимая этого, писал ему: «Я желал бы, чтобы вы скорее оставили ваше уединение, которое способно только питать вашу наклонность к меланхолии».
В письме к Федору Вендриху, молодому помещику, соседу Буниных по Мишенскому, Жуковский писал: «В свете обыкновенно смеются мечтам и чувствам пылких молодых людей; называют их понятия о добродетели химерами; в самом деле — они химеры в большом свете, для которого они существуют, и который привык неё обращать в смешное; но они не химеры для того человека, который заключает свое счастие меньше в грубой чувственности, нежели в наслаждениях духовных». Он говорил это о герое романа Виланда «Агатон», но этот герой потому-то и оказался ему близок, что он увидел в нем вот это преобладание духовного над материальным.
В начале декабря Жуковский с матерью переехали в свой новый дом. Радость, как это нередко случается, соединилась с горем: умер Петр Николаевич Юшков. Все обитатели Мишенского поселились на эту зиму у Жуковского в Белёве. Сам он буквально через несколько дней вынужден был поехать в Москву по делам, оставшимся после покойного, да и свои дела там были. Он повидался с Бекетовым, Дмитриевым, Антонским. Мерзляков, с которым он было пустился обсуждать будущее путешествие за границу, объявил, что не сможет ехать. Жуковский очень огорчился этим.
Но самой огорчительной вестью явилось пока еще негласное сообщение с театра военных действий против Наполеона: союзные войска потерпели поражение при Аустерлице; русские потеряли при этом убитыми и ранеными двадцать тысяч человек. Москва приуныла. При встрече первым был вопрос: «Не знаете ли каких-нибудь подробностей про Аустерлиц?» Россия не привыкла к таким поражениям. Много толковали в Москве о мужестве князя Багратиона, спасшего русский арьергард. Войскам отдан был приказ — возвратиться в Россию.
МАША ПРОТАСОВА (1811 год).
Рис. В. А. Жуковского.
АЛЬБОМ. ПОДАРЕННЫЙ В. А. ЖУКОВСКИМ М. А. ПРОТАСОВОЙ. ЗАГЛАВНЫЙ ЛИСТ РАБОТЫ В. А. ЖУКОВСКОГО.
Сепия.
…Зима. Жуковский — в Белёве. «Я давно не занимался стихами», — отметил он в дневнике. Перебирая бумаги, нашел поэму Оливера Голдсмита «Опустевшая деревня» на английском языке — когда-то Андрей Тургенев прислал это из Вены. Проработал три дня, перевел сто три стиха из четырехсот тридцати, сделал множество поправок и бросил. Но все же дал Сашеньке Протасовой, которая уже много его стихотворений переписала себе в альбом своим каллиграфическим почерком.
Он уверенно записал в дневнике: «Итак, цель моей жизни должна быть деятельность, но такая деятельность, которая мне возможна: деятельность в литературе».
…Случались дни солнечные, с бледной и чистой синевой неба. Нежно, призрачно светились снежные дали, сквозь шапки снега на крышах поднимались тонкие дымки. Тогда отправлялись гулять в санях — Юшковы, Протасовы, Жуковский. Заливались колокольчики, горели румяные щеки девиц, летел снег из-под копыт заиндевевших лошадей…
Дышалось легко и хотелось жить.
Глава шестая
ДАВНО УНИЗИЛСЯ ПОЭЗИИ КРЕДИТ!
И СВЕТ, БЕССМЫСЛЕННЫЙ ПРАВДИВЫХ МУЗ РУГАТЕЛЬ,
НЕСКЛАДНОЙ ПРОЗОЮ ДАВНО НАМ ГОВОРИТ:
«ПОЭТ — И ХИТРЫЙ ЛЖЕЦ, И ЛОЖНЫЙ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ!»
ФИЛЛИДА. СВЕТ — СОФИСТ! СЛОВА ЕГО — ОБМАН!
ДЕРЗАЮ ОПРАВДАТЬ ПОЭТА ВАЖНЫЙ САН!
В. А. ЖУКОВСКИЙ1
Александр Тургенев уехал в Петербург, где поступил в канцелярию Новосильцева — товарища министра юстиции, — который не слишком угнетал его службой. Тургенев делал попытки жить весело и рассеянно, но на блестящих светских собраниях друзей не ищут, и душа Тургенева тянулась в далекий маленький Белев — к Жуковскому. Он жаловался ему на одиночество, вспоминал брата Андрея, просил Жуковского быть ему другом на всю жизнь.
«Одним словом, — отвечал ему Жуковский в январе 1806 года, — нам надобно быть друзьями, товарищами в этой бедной жизни, в которой ничто не радует, по крайней мере не радует продолжительно; одна мысль будет меня всегда восхищать, мысль о таком человеке, как ты, которого дружба должна быть для меня светильником. Я чувствую, брат, что я стал несколько способнее против прежнего быть человеком, то есть не двуножным животным без перьев, но человеком в твоем смысле, несколько способнее для дружбы. Но что делать! Здесь я один: почти всё, что вокруг себя вижу, мне не отвечает, а мне нужна подпора».
Жуковский жалуется на одиночество, называет свое детство и раннюю молодость «прозябанием», «душевным параличом», говорит, что он «спал, и проснулся очень недавно».
Об Андрее Тургеневе Жуковский пишет Александру: «Весь энтузиазм к доброму, все благородное, что имею, всё, всё лучшее во мне должно принадлежать ему». «Нам надобно помогать друг другу, — писал он Александру, — оживлять друг друга делами и мыслями». Жуковский пишет ему, что в конце этого лета собирается все-таки ехать за границу, уже без спутников, в одиночку — учиться в Иенском университете: «Ученье теперь мне всего нужнее, потому что я совсем ничего не знаю, а, кажется, время что-то знать»; «Путешествие должно положить основание всей моей будущей жизни».
В начале года Жуковский перевел «Гимн» — заключительную часть «Времен года» Томсона. Попытался перевести какую-нибудь из баллад Бюргера,[67] но сделал только начало баллады «Ленардо и Бландина». Перевел с английского семьдесят два стиха из трехсот шестидесяти шести «Послания Элоизы к Абеляру» Александра Попа.[68] Начал делать гекзаметром пересказ второй песни «Мессиады» Клопштока[69] и оставил. Выбрал из «Декамерона»[70] одну новеллу — «Сокол» — и решил переложить ее в стихи, но дальше двух строк не пошло… Задумал стихотворную сказку, написал название «Бальзора», — сочинил восемь строк и тоже бросил. Наконец, начал русскую идиллию о крестьянине Тите, жителе села Мишенского:
Назад тому с десяток лет, Как жил у нас в краю, спокойно и смиренно. Тит — добрый человек, ближайший наш сосед И юности моей, моих цветущих дней Хранитель незабвенный! Увы! Его уж нет! Но память доброго поднесь боготворима.И это не было закончено. Принялся за перевод шестой элегии Парни, увлекся, сделал уже половину работы, но вдруг раскрыл новую книжку «Вестника Европы», а там — та же элегия в переводе Мерзлякова, и отличный перевод! Бросил свой… Все валилось из рук.
Жуковский изо всех сил старался преодолеть этот «паралич» работоспособности, но даже весна — его любимое время года — не радовала его. А дело было в том, что Екатерина Афанасьевна с дочерьми уехала на три месяца — март, апрель, май — в орловское село Троицкое к брату своего покойного мужа. Жуковский скучал по Маше. «Что мне делать в эти три месяца, которые проживу один совершенно?» — спрашивал себя Жуковский в своем дневнике. Чуть ли не воплем отчаяния явился, наконец, его перевод стихотворения Шиллера из цикла «Идеалы»:
О, счастье дней моих! Куда, куда стремишься? Златая, быстрая фантазия, постой! Неумолимая! ужель не возвратишься?Мысль Шиллера слилась с душой Жуковского, с его жизнью.
АЛЕКСАНДР ПОП.
Гравюра.
О вы, творения фантазии моей! Вас нет, вас нет! Существенностью злою, Что некогда цвело столь пышно предо мною, Что я божественным, бессмертным почитал. — Навек разрушено!.. Стремление к блаженству, О вера, сладкая земному совершенству, О жизнь, которою весь мир я наполнял. Где вы? Погибло всё! погиб творящий гений! Погибли призраки волшебных заблуждений!..Маша, конечно, не предполагала, что она внесла такой страшный разлад в душу Жуковского… Когда — уже в июне — их коляска остановилась на Крутиковой улице в Белёве, Маша и Саша, не заходя домой, побежали к Жуковскому. Максим махнул рукой в сторону обрыва над Окой. Девочки поняли, засмеялись и по узкой тропинке стали спускаться вниз на поросшую мягкой травой площадку между вишенными деревцами, — Жуковский там одиноко лежал и читал книгу. Словно не веря в свое счастье, он грустно посмотрел на Машу. Потом спохватился, вскочил, стал что-то говорить; наверху уже показалась Екатерина Афанасьевна, одетая в неизменное черное платье, — она всю жизнь носила траур по мужу.
БЕЛЕВ. ДОМ Е. А. ПРОТАСОВОЙ.
Уроки возобновились. Жуковскому надо было скрывать свою любовь, а это было трудно, очень трудно: сколько раз ему приходилось делать строгий вид, когда Маша с нескрываемым обожанием смотрела на него. Екатерина Афанасьевна всегда была рядом.
Вместе с любовью к Маше росло в Жуковском незнакомое ему в детстве — и даже в пансионские годы — чувство одиночества; он стал понимать, что его любили в семье Буниных-Протасовых-Юшковых как-то не так, не по-родственному, хотя он никого из них не мог упрекнуть в невнимании к себе. «Не имея своего семейства, в котором бы я что-нибудь значил, — писал Жуковский в дневнике, — я видел вокруг себя людей мне коротко знакомых, потому что я был перед ними выращен, но не видал родных, мне принадлежащих по праву; я привыкал отделять себя ото всех, потому что никто не принимал во мне особливого участия, и потому что всякое участие ко мне казалось мне милостью. Я не был оставлен, брошен, имел угол, но не был любим никем… Я так не привык к тому, чтобы меня любили, что всякий знак любви кого-нибудь ко мне кажется мне странным».
Маша рассказывала Жуковскому о том, что делала в Троицком: читала с дядей по-английски сказки мисс Эджеворт,[71] «Историю Греции» Голдсмита, на французском языке — «Римскую историю» Роллена и нравоучительный роман Жанлис «Адель и Теодор»; «разные анекдоты» на итальянском языке; многотомное «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» Бартелеми[72] в русском переводе. Жуковский видел, что и Маша растет в одиночестве, потому что мать ее излишне суха и строга, а у Сашеньки совсем другой характер — непоседливый, бойкий. Он чувствовал, что Маша робко тянется к нему, что ей только с ним хорошо и свободно. Она живо воспринимала все, чему он ее учил, он был для нее единственным авторитетом во всем, и весь ее внутренний облик сложился под влиянием Жуковского.
На закате Жуковский спускался к Оке, там, выбегая из глубокого оврага, отделяющего древнюю крепость от Спасопреображенского монастыря, шумела речка Белёвка. Он размышлял, а речка-ручей сопровождала его думы успокоительным журчанием. Стало складываться:
Ручей, виющийся по светлому песку, Как тихая твоя гармония приятна! С каким сверканием катишься ты в реку! Приди, о Муза благодатна…Так начал он писать элегию «Вечер», одно из самых прекрасных произведений своей юности. Природа родного Мишенского, окрестности Белёва, воспоминания о друзьях, о шумных собраниях в доме Воейкова в Москве, о смерти Андрея Тургенева, думы о будущем — все вошло в это стихотворение, которое он писал и правил почти три месяца.
Как нежно зыблется у берега тростник! Как усыпительно листочков колыханье! Вдали коростеля я слышу дикий крик И томной иволги стенанье.Эту строфу он потом переделал по-иному.
… «Фантазия» вернулась, проснулся «творящий гений» — в окрепшем, еще более поэтическом облике, стал подсказывать Жуковскому строки, где музыка и слово слились воедино:
Сижу, задумавшись; в душе моей мечты; К протекшим временам лечу воспоминаньем… О дней моих весна, как быстро скрылась ты, С твоим блаженством и страданьем! Где вы, мои друзья, вы, спутники мои? Ужели никогда не зреть соединенья? Ужель иссякнули всех радостей струи? О вы, погибши наслажденья! О братья, о друзья! где наш священный круг? Где песни пламенны и музам и свободе? Где Вакховы пиры при шуме зимних вьюг? Где клятвы, данные природе, Хранить с огнем души нетленность братских уз?Этим стихотворением был прочно закреплен успех «Сельского кладбища», — сам того не ведая, Жуковский открыл новую эпоху в русской поэзии: эпоху исповедальной лирики. Тот номер «Вестника Европы», где был напечатан «Вечер», переходил из рук в руки: стихи удивляли тонкостью, искренностью и свободой чувства.[73]
2
После Аустерлицкой победы Наполеон Бонапарт стал властителем Европы: в марте 1806 года он сделал своего брата Жозефа королем Неаполя, в июне — брата Людовика королем Голландии. «Не должно отчаиваться о спасении Европы», — писал «Вестник Европы». В этом журнале говорилось о Наполеоне: «Сделавшись императором, королем, законодателем, похитителем чужих областей, он раздает короны… Похититель, бич народов, действует по системе разрушительной»; «Уже около пятидесяти независимых областей лишены бытия политического». Россия готовилась к войне, к реваншу за Аустерлиц, за потерянное влияние в Европе.
Ударим мощною рукой, Как дети грозного Борея, И миру возвратим покой. Низвергнув общего злодея! —писал Карамзин, захваченный общим патриотическим подъемом. По его примеру все, кто только мог подобрать две рифмы, бросились сочинять патриотические оды. Большинство их было так плохо, что Жуковский, тоже увлеченный духом патриотизма, написал эпиграмму: «На прославителя русских героев, в сочинениях которого нет ни начала, ни конца, ни связи»:
Мирон схватил перо, надулся, пишет, пишет И под собой земли не слышит! «Пожарский! Филарет! отечества отец!» Поставил точку — и конец!В сентябре составилась четвертая коалиция против Наполеона: Англия, Россия, Пруссия и Швеция. 30 августа Александр Первый издал манифест о войне против Франции, По всей России стало формироваться народное ополчение, по тогдашнему — милиция. Считалось, что Наполеон хочет вторгнуться в Россию. В октябре на помощь Пруссии был отправлен корпус Беннигсена.
…Жуковский приехал в Москву. Он поселился в Петроверигском переулке у Тургеневых и стал подумывать о вступлении в ополчение. А между тем начал писать большую оду «Песнь барда над гробом славян победителей» (первоначальное ее название — «Песнь барда над гробом падших славян»), в которой хотел выразить общее стремление отомстить Бонапарту за Аустерлиц, обезопасить Россию от завоевателя и принести свободу Европе. Тему эту нечаянно подсказал Жуковскому Дмитриев: «Скоро ли увидим что-нибудь ваше, — спросил он как-то, — что-нибудь вроде идиллии о возвращающемся в свое отечество воине или, например, о барде на поле битвы после ночного сражения? Пусть бы это была и ода! В конце концов надо же показать Шатровым и Хвостовым, каковы бываю! хорошие современные оды!»
И тут — в одно ослепительное мгновение — увидел Жуковский свою будущую оду. Именно бард, подобный суровому Оссиану, старцу с развевающимися седыми волосами, поющему славу погибшим в сражении… Горит костер, воины насыпают над телами убитых высокий холм. Вдохновенный бард ударяет по струнам арфы, рассказывает о подвигах, которые совершили павшие в бою герои… Жуковский принялся за работу. Вскоре он уехал в Белев и там продолжал писать «Барда». 15 ноября отправил оду в «Вестник Европы»; Каченовский уже был наслышан об этом произведении, ждал его, и оно пошло в печать в один из последних номеров года. «Барда» ожидал большой успех.[74]
В декабре Жуковский снова в Москве. Оттуда он писал Александру Тургеневу в Петербург о своем желании поступить в штат командующего каким-нибудь из областных ополчений, чтобы вести письменные дела. «Можешь ли ты для меня это сделать? — спрашивал он Тургенева. — Я стал бы работать и душой и телом. Впрочем и во фрунт идти не откажусь, если нужно будет идти, хотя за способности свои в этом случае не отвечаю». В этом же письме Жуковский говорит о призванных в ополчение крестьянах: «Определить бы награду и для самих мужиков, и вот мне кажется, благоприятный случай для дарования многих прав крестьянству, которые бы приблизили его несколько к свободному состоянию». Жуковский, искренне сочувствовавший крестьянам, все еще верил в то, что император Александр всерьез обдумывает сложнейший вопрос освобождения крепостных.
СТИХОТВОРЕНИЕ В. А. ЖУКОВСКОГО «ПЕСНЬ БАРДА».
Автограф.
Жуковский поручил Александру Тургеневу издать в Петербурге отдельной книгой оду с виньеткой на обложке. Книжка вышла и в короткий срок была трижды переиздана.
В другом письме Жуковский сообщал Тургеневу об этой оде: «Кашин почти положил эту пиесу на музыку. Она должна быть представлена мелодрамою на театре, и думаю, что произведет великое действие».[75]
Александр Тургенев в это время пишет одному из своих товарищей: «Если можно будет, пришлю тебе „Песнь барда“ Жуковского. Le plus веаи morceau de la litterature russe.[76] Великий поэт Жуковский!»
В Москве Жуковского сравнивали с Бояном — певцом из «Слова о полку Игореве». «Видно, — сказал один современник поэта, — в славянской природе есть особенное свойство величественно и трогательно воспевать то, что другие народы почитают для себя унизительным». В самом деле — в «Слове о полку» и в «Песни барда» рассказывается о поражении русских; оба автора призывают соотечественников сплотиться и отомстить врагам.
…До отъезда в Москву, в октябре, Жуковский писал не только «Песнь барда», но перевел еще добрых полтора десятка басен Флориана и Лафонтена, эти басни все в следующем году были напечатаны в «Вестнике Европы». Жуковский не просто переводил их — он их насыщал русским бытовым колоритом. Басню «Мартышка, показывающая китайские тени» он начинает так:
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ТУРГЕНЕВ.
Рис. П. Соколова.
Один фигляр в Москве показывал мартышку… —и потом вместо французского имени Жако он дает обезьянке русское — Потап. Таких обезьянок случалось видеть Жуковскому на народных гуляньях у Пресненских прудов или на Девичьем поле. Схематичные басни Флориана он оживляет диалогами, различными деталями. Так, Лев у него не просто гуляет, а «ботанизирует по роще от безделья», а жалобы сороки на пьяного мужа словно подслушаны на улицах Белёва:
Дал бог мне муженька! мучитель окаянной! Житья нет! бьет меня беспошлинно, безданно! Ревнивец! а как сам — таскаться за совой…Много было удовольствия Маше и Саше от чтения этих басен. Они были очень рады, когда узнали, что эти басни похвалил Дмитриев, который в то время считался первым русским баснописцем.
…А ехать учиться в Иенский университет не пришлось: Иену, как и многие другие, прусские города, в том числе и Берлин, захватил Наполеон.
3
В начале 1807 года Блудов, у которого умерла мать, поехал в свою казанскую деревню, чтобы устроить наследственные дела. Жуковский отправился с ним. Ему хотелось посмотреть Оренбург, Волгу, горы Уральские, вообще «видеть некоторую часть православной Руси», но так уж повелось, что все его тогдашние планы дальних поездок срывались: в двадцати верстах от Москвы коляска перевернулась, и Жуковский сильно зашиб ногу и руку. Вернулся домой. Одна из девиц Соковниных отметила это событие дружеской эпиграммой (строками, заимствованными из басни Дмитриева «Два голубя»):
Прокляв себя, судьбу, дорогу. Не мешкав ни часа, назад он повернул, Таща свое крыло и волочивши ногу…С Жуковским нередко бывали различные происшествия. Однажды под Лихвином он опрокинулся вместе с лодкой, а так как не умел плавать, то чуть не утонул в реке. А в другой раз по рассеянности упал с моста в Выру; рядом случился пастух, который и вытянул его на берег.
…В Москве Жуковский посещал лекции в Московском университете, делал попытки найти службу, просил Тургенева помочь ему в этом. «Что если бы меня сделать каким-нибудь директором училища, — писал он, — и именно в Москве? Я может бы мог быть и полезен!.. Если бы нашлась хорошая должность в Москве с хорошим жалованьем, то мне бы выгоднее; мои родные все здесь, и сверх того моя матушка могла бы жить со мною». Неожиданно для него судьба его устроилась. К нему пришел — по совету Карамзина и Дмитриева — книгопродавец Попов, который предложил ему стать редактором «Вестника Европы»; Попов был недоволен Каченовским, который потерял много подписчиков из-за того, что сделал журнал скучным. Узнав, что он ведет переговоры с Поповым, Елизавета Дементьевна встревожилась: «Вестник очень меня беспокоит в рассуждении твоего здоровья. Я боюсь, что ты слишком будешь прилежен». Это было сказано не без оснований, она видела, как он в Мишенском и Белёве изнурял себя «книжной» работой.
В июне 1807 года Жуковский окончательно договорился с Поповым и с начальником типографии Московского университета Максимом Невзоровым о том, что с января следующего года он начнет редактировать «Вестник Европы». «Теперь начинаю готовить материалы, — пишет он Тургеневу, — но так как я довольно мало на себя надеюсь и даже боюсь своей лени, то, мой друг, не худо будет, если ты постараешься помочь мне. Ты теперь имеешь довольно пособий и источников… Записывай что видишь и слышишь». А Тургенев и в самом деле мог бы рассказать немало интересного: он был в июле в Тильзите в свите императора Александра, видел Наполеона, Европу, по которой прокатилась война. «Ты в связи со многими людьми, — писал ему Жуковский, — которые могут иметь в своих портфелях какие-либо важные рукописи, которые бы очень мне пригодились: например, я желал бы иметь записки Кантемира о его посольстве, которых нет печатных. Нет ли еще каких-нибудь подобных записок?.. Нет ли чего в бумагах братниных?».[77]
В другом письме Жуковский обращался к Тургеневу и Блудову вместе: «Ты, Блудов, мог бы доставлять мне рисунки и планы лучших Петербургских зданий, разумеется с описанием: это было бы полезно для моего журнала, который хочу украшать не только пером, но и резцом… Тургенев, еще повторяю, пришли мне свое Путешествие и позволь мне привести его в порядок и выдать…[78] Блудов, критикуй петербургский театр и актеров… присылай мне „Замечания петербургского зрителя“, пиши что придет в ум». Жуковский слал друзьям письмо за письмом, призывая их к работе, но в основном он, конечно, должен был положиться на себя.
Осенью Жуковский переехал в Москву. «Книги твои, вольтеровы кресла и прочее с обозом приедут к тебе, — писала Жуковскому мать его. — Очень рада, что Антонский дает тебе три комнаты. Знавши твой нрав и как ты любишь порядок, уверена, что это для тебя не малое удовольствие». Тут же, во дворе Университетского благородного пансиона, где находился флигель Антонского, располагалась и университетская типография, где печатался «Вестник Европы»; таким образом Жуковский всегда мог заглянуть и к наборщикам и к печатникам.
…Надвигались новые заботы, новая жизнь, но еще кипело старое, радость омрачалась тоской по Маше. Здесь, в домике инспектора пансиона, он не только готовился к изданию журнала, но и писал стихи. Много раз он переписывал и переправлял элегическое послание «К Филалету» — под этим условным именем был скрыт Александр Тургенев. Стихотворение полно трагического лиризма, оно похоже на монолог; за его романтическим пафосом чувствуется вся эта ненаписанная трагедия.
МОСКВА. ВИД ВОРОБЬЕВЫХ ГОР ОТ ЛУЖНИКОВ.
Рис. В. А. Жуковского.
Я сердцем сопряжен с сей тайною страной, Куда нас всех влечет судьба неодолима; Томящейся душе невидимая зрима — Повсюду вестники могилы предо мной.
Смотрю ли, как заря с закатом угасает, Так, мнится, юноша цветущий исчезает: Внимаю ли рогам пастушьим за горой, Иль ветра горного в дубраве трепетанью. Иль тихому ручья в кустарнике журчанью. Смотрю ль в туманну даль вечернею порой, К клавиру ль приклонясь, гармонии внимаю — Во всем печальных дней конец воображаю.
Сквозь печальные слова о смерти просвечивает трогательное внимание к подробностям жизни, к природе. Герой стихотворения сначала как бы любуется, наслаждается своей грустью, ему и больно и сладко возвращаться к истокам своей меланхолии:
К младенчеству ль душа прискорбная летит, Считаю ль радости минувшего — как мало! Нет! счастье к бытию меня не приучало; Мой юношеский цвет без запаха отцвел. Едва в душе своей для дружбы я созрел И что же!.. предо мной увядшего могила; Душа, не воспылав, свой пламень угасила…Скупое на радости детство, смерть друга… Все становится в логический ряд: трагичность судьбы предопределена. Но как только размышления героя касаются его любви — исчезает меланхолия, вспыхивает необыкновенная напряженность чувства, любовь не становится в логический ряд:
Любовь… но я любви нашел одну мечту. Безумца тяжкий сон, тоску без разделенья. И невозвратное надежд уничтоженье… Мой друг, о нежный друг, когда нам не дано В сем мире жить для тех, кем жизнь для нас священна. Кем добродетель нам и слава драгоценна. Почто ж, увы! почто судьбой запрещено За счастье их отдать нам жизнь сию бесплодну? Почто (дерзну ль спросить?) отъял у нас творец Им жертвовать собой свободу превосходну?Ропот, даже протест против воли «творца»… Страсть самоотречения ради возлюбленной:
С каким бы торжеством я встретил мой конец, Когда б всех благ земных, всей жизни приношеньем Я мог — о сладкий сон! — той счастье искупить, С кем жребий не судил мне жизнь мою делить!.. Когда б стократными и скорбью и мученьем За каждый миг ее блаженства я платил: Тогда б, мой друг, я рай в сем мире находил И дня как дара ждал, к страданью пробуждаясь; Тогда, надеждою отрадною питаясь. Что каждый жизни миг погибшия моей Есть жертва тайная для блага милых дней, Я б смерти звать не смел, страшился бы могилы. О незабвенная, друг милый, вечно милый! Почто, повергнувшись в слезах к твоим ногам, Почто, лобзая их горящими устами, От сердца не могу воскликнуть к небесам: «Всё в жертву за нее! вся жизнь моя пред вами!» Почто и небеса не могут внять мольбам?В этом стихотворном монологе гений Жуковского прорвался в новые поэтические сферы: это уже не «приятная меланхолия» сентименталистов, это новая романтическая поэзия — вулканически взорвавшаяся жизнь человеческого духа.
4
Вышел первый номер «Вестника Европы» за 1808 год. На обложке — гравированный портрет Марка Аврелия. Каждую часть журнала, состоящую из четырех номеров, Жуковский будет снабжать общей обложкой с портретом какого-нибудь исторического лица. На титульном листе: «Вестник Европы, издаваемый Василием Жуковским». Журнал небольшого формата, печатан на синей бумаге.
Первый номер — чуть ли не самый ответственный: тут все должно быть продумано особенно тщательно, ведь нужно привлечь расположение читателей. Жуковский открыл эту книжку программной статьей «Письмо из уезда к издателю», которой он придал полубеллетристическую форму: в ней создал Жуковский портрет пожилого провинциала Стародума, взяв имя положительного героя из произведений Фонвизина. Стародум был душой своего местного общества и любил словесность. «Поздравляю тебя, любезный друг, с новой должностью журналиста! Наши провинциалы обрадовались, когда услышали от меня, — пишет уездный корреспондент, — что ты готовишься быть издателем „Вестника Европы“; все предсказывают тебе успех; один угрюмый, молчаливый Стародум качает головою и говорит: „Молодой человек, молодой человек! подумал ли, за какое дело берешься! шутка ли выдавать журнал!“ Ты знаешь Стародума — чудак, которого мнение редко согласно с общим, который молчит, когда другие кричат, и хмурится, когда другие смеются; он никогда не спорит, никогда не вмешивается в общий разговор, но слушает и замечает, — говорит мало и отрывисто, когда материя для него непривлекательна, — красноречиво и с жаром, когда находит в ней приятность. Вчера Стародум и некоторые из общих наших приятелей провели у меня вечер, ужинали, пили за твое здоровье, за столом рассуждали о „Вестнике“ и журналах, шумели, спорили; Стародум по обыкновению своему сидел спокойно, на все вопросы отвечал: да, нет, кажется, может быть! Наконец спорщики унялись, разговор сделался порядочнее и тише; тут оживился безмолвный гений моего Стародума: он начал говорить — сильно и с живостию; литература его любимая материя».
В речи Стародума Жуковский высказал свои собственные суждения: «До сих пор „Вестник Европы“, — скажу искренне, — был моим любимым русским журналом… Обязанность журналиста — под маскою занимательного и приятного скрывать полезное и наставительное. Средства бесчисленны: к его услугам богатства литературы чужестранной и собственной, искусства и науки; бери что угодно и где угодно; единственное условие — разборчивость… Первое достоинство журнала — разнообразие… Ожидаю великой пользы от хорошего журнала в России!.. хороший журнал действует вдруг и на многих; одним ударом приводит тысячи голов в движение… Итак, существенная польза журнала — не говоря уже о приятности минутного занятия — состоит в том, что он скорее всякой другой книги распространяет полезные идеи, образует разборчивость вкуса, и, главное, приманкою новости, разнообразия, легкости, нечувствительно[79] привлекает к занятиям более трудным, усиливает охоту читать, и читать с целью, с выбором, для пользы!.. Охота читать книги — очищенная, образованная — сделается общею; просвещение исправит понятия о жизни, о счастии; лучшая, более благородная деятельность оживит умы».
Это была программа воспитания общества — Жуковский поставил себе не только литературные, но и просветительские цели, следуя в этом за Новиковым и Карамзиным. Он справедливо полагал, что сначала надо развить в обществе охоту к чтению, разборчивость, вкус. А в ту пору печаталось и находило сбыт немало ничтожной беллетристики и не менее ничтожных журнальчиков.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ЕВРОПЫ» ИЗДАВАВШЕГОСЯ В. А. ЖУКОВСКИМ.
Что читали московские обыватели в то время? «Раскройте „Московские ведомости“! — говорит Стародум-Жуковский. — О чем гремят книгопродавцы в витийственных своих прокламациях? О романах ужасных, забавных, чувствительных, сатирических, моральных и прочее и прочее. Что покупают охотнее посетители Никольской улицы в Москве? Романы. В чем состоит достоинство этих прославляемых романов? Всегда почти в одном великолепном названии, которым обманывают любопытство. Какая от них польза? Решительно никакой».
«Обращение с книгою приготовляет к обращению с людьми», — говорит Стародум-Жуковский.
«Наш друг, посвящая себя трудам писателя, должен забыть приятную рассеянность большого светского круга: желание в нем блистать противно спокойным занятиям автора… Уединение пусть будет главным театром его действий… А слава?.. Но что такое слава? Одобрение всеобщее, тихий приговор немногих, который с покорностью повторяет бесчисленная толпа вслух; вдали она привлекательна, вблизи — ничтожна», — продолжает Стародум. Отсюда видно, к какой подвижнической жизни готовился Жуковский.
Говоря о литературной критике, Стародум-Жуковский замечает: «Что прикажете критиковать? Посредственные переводы посредственных романов? Критика и роскошь — дочери богатства, а мы еще не Крезы в литературе!.. Критика самая тонкая ничто без образцов! А много ли имеем образцов великих? Нет, государи мои, сначала дадим свободу раскрыться нашим гениям, потом уже, указывая на красоты их и недостатки, можем сказать читателю и автору: восхищайся, подражай, будь осторожен! В этих трех словах заключена вся сущность критики».
«Вестник Европы» был самым значительным русским журналом. После Карамзина он начал было угасать, но при Жуковском начался новый его расцвет: Жуковский оказался талантливым редактором и многое исполнил из того, что задумал.[80]
В первом номере Жуковский напечатал, кроме «Письма из уезда», свои переводы отрывков из сочинений Коцебу, Гиббона, обозрение политических событий, свое «Изъяснение картинки», приложенной к номеру гравюры с картины итальянского живописца Караффы, и свой перевод стихотворения из драмы Шиллера «Пикколомини». Редактор был и основным автором журнала. Так было и в дальнейших номерах. Жуковский переводил повести Жанлис, Коцебу, Энгеля, Флао, Эджеворт, Шиллера («Ожесточенный»), Морица, статьи с немецкого и французского, сверх того печатал множество редакторских заметок, примечаний, подписей под гравюрами, наконец — собственных произведений в стихах и прозе.
Жуковский трудился с утра до ночи. Но съездить в Остафьево и повидаться с Карамзиным всегда находил время: Карамзин, как опытный журналист, помогал ему советами.
В 1808 году Карамзин в своей «Истории государства Российского» добрался уже до нашествия татаро-монголов. Ранняя история Руси — вот о чем были их беседы на прогулках в Остафьеве, когда они шли к мельнице за деревней, в березовую рощу, в библиотеке большого Остафьевского дома, в особняке Вяземских на Ленивке, в кофейне Григорьева на Моховой. Беседы с Карамзиным разжигали интерес Жуковского к русской старине, которая казалась ему необыкновенно поэтичной. Русские мотивы пронизывают многие произведения Жуковского этого времени. Он любовно, почти слово в слово, перевел с первого издания — 1800 года — «Слово о полку Игореве», сделал русской Бюргерову «Ленору» (у Жуковского в этом переводе появились «грозная рать славян», «терем», «иконы»; ветер у него «буйный», конь — «борзый»), населил русскими былинными богатырями свою «Оперу» — драматические сцены с ариями и романсами «Богатырь Алеша Попович, или Страшные развалины», хотя это произведение и было переводом либретто австрийской оперы «Чертова мельница на венской горе» (текст Генслера, музыка Мюллера); у Жуковского, кроме Алеши Поповича, действуют киевский вельможа Громобой, Добрыня Никитич, Чурило Пленкович, Илья Муромец и другие богатыри, отнесенные им ко временам князя Владимира Красное Солнышко. Сказка Жуковского «Три пояса» начинается так: «В царствование великого князя Владимира, неподалеку от Киева, на берегу быстрого Днепра…» В сцене выбора невест описан дворец Владимира, который «осветился тысячами светильников; палата, назначенная для торжеств, обита была малиновым бархатом; скамейки, на которых надлежало сидеть красавицам, иногородним и киевским, были покрыты шелковыми коврами с золотою бахромою; а для великого князя Владимира и князя Святослава приготовили возвышенное место, на котором стояли два кресла из слоновой кости с золотою насечкою». В повести «Марьина роща», которая имеет подзаголовок «старинное предание», действие также происходит во времена князя Владимира, но не в Киеве, а на берегах рек Москвы и Неглинной, где, на месте будущего московского Кремля, на холме, стоял терем грозного богатыря Рогдая, который отсюда пошел «в знаменитый Киев, к великому князю Владимиру, дабы служить ему вместе с богатырями Ильею, Чурилою и Добрынею».
Напечатанный Жуковским в «Вестнике» перевод «Леноры» Бюргера (у Жуковского — «Людмила») имел такой успех, который можно сравнить только с успехом «Бедной Лизы» Карамзина.[81]
В 1808 году начал Жуковский и другой свой шедевр — балладу «Светлана», переработку той же «Леноры»: получилась вещь, исполненная сказочности, чисто русских красок, которая долгое время считалась образцом народности в поэзии. В начале баллады описаны крещенские гадания крестьянских девушек, — в Мишенском и Белёве Жуковский не раз видел подобные сцены. Любовь к русской деревне видна в каждой строфе «Светланы», первоначальное название которой было «Святки».
ГОТФРИД АВГУСТ БЮРГЕР.
Гравюра с оригинала Д. Флорилло.
Эта любовь к русскому народу проявлялась у него не только в стихах и сказках. Так, в «Вестнике Европы» он писал о народном образовании: «Мы имеем Академии Наук и Художеств, почему же не можем иметь Академии для просвещения простолюдинов?.. Много ли, например, имеем книг, которые были бы для них прямо полезны?.. Много ли найдется писателей, которые захотели бы жертвовать талантом своим такому кругу людей, которых одобрение не может быть удовлетворительно для авторского самолюбия? Но быть полезным, конечно, благороднее, нежели быть славным».
В статье «Печальное происшествие» Жуковский с большим сочувствием рассказал о трагической судьбе крепостной девушки, которой по прихоти хозяев было дано «благородное» воспитание. «Многие из русских дворян, — пишет Жуковский, — имеют при себе так называемых фаворитов. Что это значит? Они выбирают или мальчика или девочку из состояния служителей, приближают их к своей особе, дают им воспитание… и — оставляют их в прежней зависимости. То ли называется благотворением? Человек зависимый, знакомый с чувствами и понятиями людей независимых, несчастлив навеки, если не будет дано ему благо, всё превышающее — свобода!.. Просвещение должно возвышать человека в собственных его глазах, — а что унизительнее рабства?!»
Жуковский привел еще один пример: «добрый» помещик дал своему крепостному образование, тот стал живописцем, жил на воле, работал, творил… Но вот барин его — добряк — умер. Интеллигентный крепостной перешел как наследственная собственность в другие руки. «Новый господин, — пишет Жуковский, — взял его в дом, и теперь этот человек, который прежде принимаем был с отличием и в лучшем обществе, потому что вместе с своим талантом имел и наружность весьма благородную, — ездит в ливрее за каретою, разлучен с женою, которая отдана в приданое за дочерью господина его… Где же плоды благотворении, оказанных ему добрым его господином?»
Жуковский упорно напоминает читателям, что нет лучше блага для человека, чем свобода.
Впоследствии, когда владелец «Вестника Европы» Попов, как не дворянин, не имевший права на владение крепостными, купил три крестьянских семьи на имя Жуковского, Жуковский поспешил выкупить их у Попова и дать им вольную. В 1823 году Жуковский отпустил на свободу своего слугу Максима Акулова с женой и двумя детьми. Жуковский помог выкупиться из крепостного состояния великому украинскому поэту Тарасу Шевченко, русскому поэту-самоучке Ивану Сибирякову, художнику Кириллу Горбунову (автору известного портрета Лермонтова, 1841 года). Во время празднования годовщины окончания войны 1812–1814 годов — в 1839 году — Жуковский продал свою карету, чтобы выкупить на волю одного музыканта, которого барин хотел сделать поваром. Поэт откликался на каждую просьбу о помощи и в отношении к крепостному праву с молодых лет стоял на твердой позиции неприятия.
Конечно, главное внимание в журнале отдавалось литературным вопросам. Жуковский написал и напечатал в нем большую статью о первом издании басен Ивана Крылова, вышедшем в 1808 году. Здесь он впервые высказал свой взгляд на искусство стихотворного перевода. Отметив, что у Крылова почти все басни переводные (как и у Дмитриева и у самого Жуковского), Жуковский пишет: «Мы позволяем себе утверждать, что Крылов может быть причислен к переводчикам искусным, и потому точно заслуживает имя стихотворца оригинального». «Не опасаясь никакого возражения, — говорит он, — мы позволяем себе утверждать решительно, что подражатель стихотворец может быть автором оригинальным, хотя бы он не написал и ничего собственного. Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах — соперник». Это положение стало сутью переводческой деятельности самого Жуковского.[82]
НОМЕР ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ЕВРОПЫ» С ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИЕЙ БАЛЛАДЫ В. А. ЖУКОВСКОГО «ЛЮДМИЛА».
В статье «О критике» Жуковский продолжает развивать свои взгляды на литературный процесс. Он пишет о «злоупотреблении» критикой, когда «самозванцев-критиков» и их «смешные ссоры с писателями можно по справедливости сравнить с сражением петухов», о том, что подлинная критика «есть суждение, основанное на правилах образованного вкуса, беспристрастное и свободное. Вы читаете поэму, смотрите на картину, слушаете сонату — чувствуете удовольствие или неудовольствие — вот вкус; разбираете причину того и другого — вот критика… Само собой разумеется, что критиков, близких к моему идеалу, весьма немного: Лонгины, Джонсоны, Аддисоны, Лагарпы, Лессинги так же редки, как и великие художники». Эти взгляды Жуковского были для тех времен новы и смелы.
Жуковский отмечает, что русская литература «едва начинает выходить из младенчества; оригинальных русских книг весьма немного (я говорю об одних хороших), зато какое множество переводов, и каких переводов!.. они совершенно никакого не имеют сходства с подлинниками. Что же делать критику посреди сего наводнения, в котором утопает наша несчастная словесность?.. Но я и рассматривание вздорных книг, за неимением хороших, не почитаю совсем бесполезным. Критика может быть у нас приготовлением к хорошему».
И он сам начал это дело «приготовления к хорошему», критикуя в обстоятельных статьях переводные драмы и повести, пытаясь осмыслить и литературный опыт восемнадцатого столетия — например, в большом критическом очерке «О сатире и сатирах Кантемира».
Жуковский печатал в своем журнале стихи Дмитриева, Василия Пушкина, Гнедича, Батюшкова, Державина, Дениса Давыдова, Вяземского. Вяземский впервые выступил в печати именно в «Вестнике Европы» — в первый год редактирования его Жуковским; это было «Послание к Жуковскому в деревню». Вяземский — спустя много лет — вспоминал, что в этом послании «почти все стихи сплошь и целиком переделаны Жуковским».
МАРГАРИТА-ЖОЗЕФИНА ВЕММЕР (ЖОРЖ).
Французская актриса.
Рисунок.
«Московские записки», которые Жуковский вел в журнале в 1809 году, посвящены гастролям в Москве великой французской актрисы Жорж.[83] Она играла во французских трагедиях, на французском языке. Жуковский внимательно проанализировал ее игру в «Федре» Расина, «Дидоне» Помпиньяна и «Семирамиде» Вольтера.
И еще Жуковский печатал в «Вестнике Европы» свои статьи на темы нравственности — например, «Кто истинно добрый и счастливый человек?» («Один тот, кто способен наслаждаться семейственною жизнию», — говорит автор). Александр Тургенев писал ему: «Ты опять свел на счастие семейственной жизни и опять пленяешься и пленяешь других изображением того счастья, которое должно быть заключено в мирной обители. В награду за столько прекрасных описаний семейственной жизни я желаю тебе от всего сердца, чтобы ты насладился сим счастьем и нашел около себя вселенную со всеми ее радостями».
5
Однако, несмотря на то, что журнал Жуковского был необыкновенно читаем, начальство — особенно университетское — было недовольно: слишком много в нем было, на их взгляд, «свободных» мнений. Да и отдел политики начальству не нравился, несмотря на то что и сам Жуковский свел его почти до сухой хроники. Пошли доносы в Петербург, возникли цензурные препятствия… Начались толки о том, что в редакторы снова хотят взять Каченовского, при котором «Вестник» хотя и сделался довольно бесцветен, но — для удовольствия начальства — был тих и благоприличен. С другой стороны владелец журнала не хотел терять доходов и не соглашался на отставку Жуковского. Все это вылилось в компромиссное решение: в мае 1809 года Каченовский стал вторым редактором, а с августа того же года был закрыт отдел политики.
…1 апреля 1809 года Маше Протасовой исполнилось шестнадцать лет. Жуковский, живя в Москве, посылал ей книги, альбомы для записей и рисования; однажды послал коробку английских акварельных красок, и Екатерина Афанасьевна ответила ему: «Нельзя изъяснить, как Маша утешилась твоим письмом и ларчиком с красками. Она даже вышла из своего характера и при гостях прыгала и визжала от радости». Ко дню рождения Маши в 1808 году Жуковский напечатал в «Вестнике Европы» свою сказку «Три сестры (видение Минваны)», где он дал Маше романтическое имя Минваны. В апреле 1809 года Жуковский напечатал в журнале «Песню», перевод известной тогда французской песни д'Эглантина[84] — правда, без посвящения Маше, но с датой: «Апреля 1».
Иногда Жуковский поручал Маше и Саше перевести что-нибудь для журнала. Сестры Юшковы тоже делали кое-какие переводы для «Вестника Европы». Вот пишет Жуковскому Анюта Юшкова: «Очень рада, что работа моя вам понравилась. Каких ей еще почестей надобно, когда она в руках ваших… Во вторник пошлю к вам еще главу своего перевода».
Авдотья — Дуняша — теперь жила в Долбине, в нескольких верстах от Мишенского, в имении своего мужа — Василия Киреевского, но и там она не теряла связи с родными, приезжала в Белев, виделась с Протасовыми, переписывалась с Жуковским. Она тоже делала прозаические переводы для «Вестника». Жуковский всех заставил трудиться.
«Вестник всех нас восхищает; прекрасно! прекрасно!» — писала Жуковскому Екатерина Афанасьевна Протасова.
Как только Каченовский сделался вторым редактором журнала, Жуковский стал подумывать об отъезда в Мишенское. Хотя бы на лето. Не в Белев, так как белёвский дом был уже продан. И вот в мае 1809 года Жуковский перенес свой редакторский кабинет во флигель имения Буниных, в ту достопамятную комнату, где еще немец-портной — любитель кузнечиков — ставил его коленями на горох.
По поводу своих редакторских дел он пишет в сентябре этого года Александру Тургеневу: «Я уже отпел панихиду политике и нимало не опечален ее кончиною. Правда, она отымет у моего журнала несколько подписчиков, но так тому и быть. Это ничуть не умалило моего рвения; напротив, чувствую желание сделать журнал мой из дурного или много-много посредственного хорошим».
В это же время Жуковский заканчивал подбор стихотворений для антологии русской поэзии: «Вот расположение моего собрания: оно должно состоять из пяти, если не из шести полновесных томов… Я уже уговорился о печатании».[85]
Вольно или невольно — Жуковский подводил итоги, перебирая все, что было написано по-русски в стихах. Он не оставил без внимания ни одной стихотворной книги, выпущенной со времен Кантемира и Ломоносова, ни одного журнала. Перечитал огромное количество стихотворений. Сколько забытых имен вызвал он из небытия! Это была первая в России поэтическая антология, где, по словам Жуковского, были собраны все лучшие русские стихотворения. Жуковский предвидел дальнейшее распространение изданий такого типа и в предисловии к антологии писал, что такие «библиотеки стихотворцев» нужно снабжать критическими вступлениями, в которых необходимо определить «отличительный характер русского стихотворства, изобразить исторически и начало его и ход, и постепенное образование». Он считал, что такая задача «требует сил Геркулесовых» — то есть огромного критического таланта.[86]
«Планов и предметов в голове пропасть, и пишется как-то скорее и удачнее прежнего», — говорит Жуковский в письме к Александру Тургеневу. Каждое утро он отправляется из Мишенского в Белев к Протасовым, обдумывая по дороге предстоящие уроки. Три версты туда, вечером три версты обратно. Иногда, на неделю-другую, Екатерина Афанасьевна переселялась к матери в Мишенское. Все это лето Жуковский собирался с духом, хотел открыться Екатерине Афанасьевне в том, что он любит Машу, просить ее руки, и не решался. Боялся бесповоротного отказа. Характер у Екатерины Афанасьевны, которая в молодости слыла первой красавицей здешних мест, был решительный, мужской. Был случай во время пожара в Белёве, когда огонь подбирался к бочкам с порохом, хранившимся в одном из церковных подвалов, и никто не решался вынести их, чтобы предотвратить взрыв. Екатерина Афанасьевна вытребовала в тюрьме сорок арестантов, сама повела их почти в огонь, они сбили замки, выломали двери, выкатили бочки с порохом и спустили их в Оку. Едва они сделали это — пламя охватило церковь. Ни один арестант не сбежал. Сам губернатор приехал из Тулы благодарить Екатерину Афанасьевну. Ее стали побаиваться в Белёве.
Жуковский мог бы уговорить Машу бежать с ним и обвенчаться тайно, и она, вероятно, пошла бы на это, так как она любила его, но он не хотел счастья «ворованного», не желал, чтобы Маша страдала оттого, что причинила горе матери. И все-таки слабая надежда на то, что Екатерина Афанасьевна когда-нибудь согласится на их брак, не покидала Жуковского.
Глава седьмая
БОГАЧ, ИЩИ БОГАТСТВА БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ;
Я ОБРАЩУ НА ПОЛЬЗУ ДАР ПЕВЦА
КОМУ ДАНО БРЯЦАНЬЕМ ЛИРЫ СТРОЙНЫМ
ЛЮБОВЬ К ДОБРУ ПЕРЕЛИВАТЬ В СЕРДЦА,
ТОТ НА ЗЕМЛЕ НЕ ТЩЕТНЫЙ ОБИТАТЕЛЬ.
В. А. ЖУКОВСКИЙ1
Жуковский в Москве постоянно получал приглашения на балы и маскарады, но посещал их редко. Москва — ее аристократическая часть, «столица российского дворянства» по выражению Карамзина, — летом отдыхала по имениям, а зимой развлекалась. Эта Москва больше всего боялась скуки: любила новости, танцы, карты, шумные застолья, была полна слухов и сплетен. Человека в обществе встречали «по одежке», да и провожали по ней же. На писателей «свет» смотрел с плохо скрываемым пренебрежением, спесиво полагая, что «должность» их — развлекать. Кое-кто из литераторов — например, Петр Шаликов или Василий Пушкин имел слабость к светским гостиным, жаждал их внимания, тщился «не ударить в грязь лицом» перед ними, но Карамзин, Жуковский, Батюшков, приехавший в декабре 1809 года из своей вологодской деревни, предпочитали балам и маскарадам скромные литературные беседы у Федора Иванова[87] и веселые дружеские застолья у Вяземского. Не пропускали они и чтений о словесности, с которыми в эту зиму дважды в неделю публично выступал в доме Бориса Голицына Мерзляков; эти лекции стали большим событием в литературной жизни Москвы.
Зимой — в начале 1810 года — Жуковский познакомился с Батюшковым, стихи которого он уже заметил и оценил по достоинству. Батюшков, несмотря на свою молодость — ему было в это время двадцать три года, — успел проделать два военных похода: в 1807-м в Пруссию во время войны с Наполеоном и в 1808–1809 годах в Финляндию и на Аландские острова во время войны со Швецией.
Встретив Батюшкова у Карамзина, Жуковский был несколько удивлен: перед ним оказался не суровый воин со шрамами и далеко не богатырь, — Батюшков был маленького роста, худ, сутул, мундир не придавал ему никакой воинственности, а огромная треугольная шляпа, которую он вертел в руках от смущения, делала его даже чуть-чуть смешным. Голос его был тих и приятен, белокурые волосы вились на висках. Они незаметно разглядывали друг друга. В голубых глазах Батюшкова иногда проскальзывала лукавая усмешка: Жуковский показался ему увальнем, несмотря на свою стройность и даже красоту, так как он двигался неловко, сутулился и на нем был слишком широкий сюртук — вероятно, произведение его слуги Максима, который обшивал и Жуковского и его друзей. А Жуковский нашел, что Батюшков лицом похож на птицу, точнее, на попиньку-попугайчика… «Попинька-Марс!» — добродушно подумал он. Тем не менее они сразу и навсегда стали друзьями.
Батюшков пишет Гнедичу в Петербург: «Жуковский истинно с дарованием, мил и любезен, и добр. У него сердце на ладони… Я с ним вижусь часто и всегда с новым удовольствием»; «Жуковского я более и более любить начинаю».
Московские литераторы приняли Батюшкова как своего единомышленника: его сатирическая поэма «Видение на берегах Леты». высмеивающая шишковистов, «староверов» от литературы, ходила по рукам в списках. В Петербурге она вызвала ярость не только Шишкова, но и Державина. Батюшков понимал, что его служебная карьера оказалась под угрозой. Только Иван Андреевич Крылов миролюбиво отнесся к сатире на себя: «Каков был сюрприз Крылову, — пишет Гнедич Батюшкову о чтении поэмы в доме Алексея Оленина. — Он сидел истинно в образе мертвого; и вдруг потряслось всё его здание: у него слёзы были на глазах». Но смех Крылова прозвучал в Петербурге одиноко.
Батюшков, как и все карамзинисты, выступал против архаизации языка, против жесткой системы правил, существовавшей в классицизме. Батюшков считал, что «чувство умнее ума», что вкус к изящному вернее неподвижных правил. Ему нравился чистый и понятный язык Дмитриева, Карамзина, Жуковского. В Москве он нашел свое общество. Его друг Гнедич, недовольный этим, журил его в письмах и советовал скорее выезжать в Петербург. Он даже сам приехал в Москву, познакомился с Жуковским, попытался увезти Батюшкова, но это ему не удалось, и он сообщил приятелю: «Батюшкова я нашел больного, кажется — от московского воздуха, зараженного чувствительностью, сырого от слез, проливаемых авторами, и густого от их воздыханий». Но Гнедич был неправ: Батюшков не проливал слез, то есть не увлекался модным у подражателей Карамзина сентиментализмом, больше того — в «Видении на берегах Леты» он вместе с шишковистами высмеял и доподлинного карамзиниста — Шаликова: «Причесанный в тупей,[88] поэт присяжный, князь вралей… пастушок, вздыхатель». Батюшков принимал в карамзинизме главное, то, что в это же самое время выразил в нашумевшем, как и поэма Батюшкова, послании «К В. А. Жуковскому» Василий Львович Пушкин:
Кто мыслит правильно, кто мыслит благородно. Тот изъясняется приятно и свободно.В. А. ЖУКОВСКИЙ.
Акварель А. А. Воейковой (Протасовой).
…В славянском языке и сам я пользу вижу, Но вкус я варварский гоню и ненавижу.Утрированная звукопись, иногда почти какофоническая, преувеличенно изысканные рифмы, громоздкие фразы — все это затрудняло понимание сочинений и перебодов «славянофилов», как еще в 1804 году назвал шишковистов И. Дмитриев. Рецензируя в «Вестнике Европы» перевод трагедии Кребильона «Радамист и Зенобия», Жуковский говорит о переводчике Степане Висковатове: «Грозная рифма повелевает им с самовластием восточного деспота». Батюшков начал думать об издании своих стихотворений отдельной книгой, но, когда пересмотрел все написанное, многое уничтожил, посчитав слабым. Он писал стихи только по вдохновению, но потом тщательно дорабатывал написанное. В тетради, подаренной ему Жуковским («Дано в Москве 1810-го года мая 12 дня Ж — м Б — ву»), он записал: «Херасков, говорил мне Капнист, имел привычку, или правило, всякий день писать положенное число стихов. Вот почему его читать трудно. Горе тому, кто пишет от скуки! Счастлив тот, кто пишет потому, что чувствует». И еще: «Поэзия требует прилежания и труда гораздо более, нежели как об этом думают светские люди… Писать и поправлять — одно другого труднее».
Батюшкову не хотелось ехать в Петербург, хотя там ему обещали службу; Гнедич, давний его друг, сердился на него, ревновал его к москвичам, но Батюшков все-таки сначала поехал в Остафьево, где провел три недели в обществе Вяземского, Карамзина и Жуковского, а потом в свое Хантоново под Вологдой и — на следующий год — вернулся в Москву, в полюбившееся ему общество, которое понимало и поддерживало его. Только в январе 1812 года он попал в Петербург.
«Дружество твое, — писал он Жуковскому оттуда, — мне будет всегда драгоценно, и я могу смело надеяться, что ты, великий чудак, мог заметить в короткое время мою к тебе привязанность. Дай руку, и более ни слова!»
В. Л. ПУШКИН.
Рис. Ж. Вивьена.
К. Н. БАТЮШКОВ.
Рис. О. Кипренского.
2
В середине 1810 года Жуковский перестал делить с Каченовским редактирование «Вестника Европы», покинул журнал и уехал в Мишенское. В это лето Екатерина Афанасьевна Протасова решила перебраться из Белёва в свое орловское село Муратово. Дело осложнялось тем, что в Муратове не было господского дома. Жуковский вызвался ей помочь и решительно взялся за дело, проявив при этом немалую хозяйственную сметку; он поехал в Орловскую губернию — от Белёва до Волхова по Киевскому тракту, потом по Нугбрскому и дальше — через Борилово, Большую Чернь и Лбкно. В Муратове остановился в крестьянской избе, выбрал место для постройки, сделал чертеж дома и всех необходимых служб, нанял в Волхове подрядчиков и изо дня в день наблюдал за работами, вникая во все мелочи. На ручье Мымришенке, впадающем в чистый, меланхолически-медлительный Орлик, он велел сделать прочную плотину с шлюзом и дорогой через нее в Холх, — образовалось озеро с полуостровом.
Все ему здесь понравилось — и длинные пологие холмы, и небольшая дубовая роща вблизи усадьбы, и мягко изгибающийся в тени ракит Орлик, и сонмы пчел, жужжащих в сладком дурмане цветущей белым гречихи…
Не понравилось ему, правда, что многие избушки в селе выглядят бедно, покосились и почернели, а румянощекий и длиннобородый староста показался ему хитрым лихоимцем. По его совету Екатерина Афанасьевна прогнала старосту и наняла стороннего управляющего. Когда один из флигелей усадьбы принял жилой вид, Екатерина Афанасьевна поселилась в нем, а Жуковский вернулся в Мишенское и погрузился в занятия: он переводил стихи Шиллера, изучал греческий и латинский языки, но всего больше — русскую историю, так как начал готовиться к работе над эпической поэмой «Владимир».
Чтение «Истории государства Российского» Карамзиным в узком кругу друзей не прошло для Жуковского бесследно. Он попросил Александра Тургенева выслать ему пять томов сочинения Шлёцера «Нестор» на немецком языке,[89] вышедшего в Геттингене в 1808–1809 годах, и книги Гебгардта и Тунмана о «нравах славян»: «Титула сих книг не знаю, но слышал об них от Карамзина и теперь имею в них нужду».
«Читая русскую историю, — пишет Жуковский, — буду иметь в виду не одну мою поэму, но и самую русскую историю… особенно буду следовать за образованием русского характера». Жуковский перечисляет те книги по русской истории, которые у него есть, это — русские летописи в изданиях второй половины XVIII века, «Русская правда», «Духовная Владимира Мономаха», «История Российская» М. Щербатова, «Ядро российской истории» А. Хилкова, «История Российского государства» Штриттера и «Древние русские стихотворения» — сборник Кирши Данилова.
«Для литератора и поэта история необходимее всякой другой науки», — говорит Жуковский.
СЕЛО МУРАТОВО. ПРУД.
Рис. В. А. Жуковского.
Шлецер в своей книге высказал сомнение в подлинности «Слова о полку Игореве»; Жуковский пишет Тургеневу, что такое утверждение неверно, что «Слово» имеет «наружность неотрицаемой истины». Он, как поэт, обладающий тончайшей интуицией, перебравший это произведение по словечку, почувствовал подлинность древнерусской поэмы. А свой стихотворный перевод «Слова» Жуковский не решался публиковать, надеясь со временем улучшить его.[90]
Жуковский задумал «Владимира» как русскую параллель «Неистовому Роланду» Ариосто, где история мешается со сказочным вымыслом, трагическое с комическим. Кроме материала из русской истории, он думал использовать в поэме различные темы из самых значительных произведений мировой литературы — из поэм Гомера, Вергилия, Тассо, Камоэнса, Оссиана, из «Песни о Нибелунгах», «Эды» и средневековых западноевропейских баллад. «Владимир есть наш Карл Великий, — писал он Тургеневу, — а богатыри его те рыцари, которые были при дворе Карла… Благодаря древним романам ни Ариосту, ни Виланду никто не поставил в вину, что они окружили Карла Великого рыцарями, хотя в его время рыцарства еще не существовало… Поэма же будет не героическая, а то, что называют немцы, romantisches Heldengedicht;[91] следовательно, я позволю себе смесь всякого рода вымыслов, но наряду с баснею постараюсь вести истину историческую, а с вымыслами постараюсь соединить и верное изображение нравов, характера времени».
Жуковский несколько раз составлял подробные планы поэмы. Вот один из них, развернутый настолько, что уже более или менее ясно видится в нем все содержание: «1. Владимир и его двор. Недостает лишь Добрыни и Алеши Поповича. Добрыня послан за мечом-самосеком, Златокопытом, водою юности. Алеша прежде отправился на подвиги. Богатыри: Еруслан, Чурила, Илия, Рогдай, Громобой, Боян певец. Святой Антоний. Радегаст Новогородский, убийца своей любовницы, мучимый привидениями, и Ярослав, сын Владимиров, печальный, мучимый неизвестною тоскою. Милолика, княжна новгородская, невеста Владимирова, привезенная в Киев Радегастом и Ярославом. Приготовление к празднеству брачному. 2. Осада Киева Полканом Невредимым. Его стан и его богатыри Змиулан, Тугарин, Зилант. Требование, чтоб Владимир уступил Милолику. Владимир идет советоваться к св. Антонию. Антоний велит отложить празднество брака и говорит, что один только Добрыня может умертвить Полкана, что его надлежит дожидаться. Советы, как укрепить город; жизненного запаса есть на год. 3. Процессия вокруг Киева; окропливают его святой водой. Он неприступен для войска. Добрыня едет путем-дорогою. История волшебницы Добрады и Черномора. Сон Добрыни. Он въезжает в очарованный лес. 4. Очарованное жилище Лицины. Звук арфы спасает его. Он разрушает очарование. Между очарованными находит Илью и его любовницу Зилену. 5. История Ильи с великаном Карачуном. Он разлучается с Добрынею и едет в Киев. 6. Богатырские игры. Ночью Ярослав и Радегаст едут в стан. Причиняют убийство. Их разлучают; на каждого нападает толпа. Ярослав, раненный, готов попасться в руки неприятеля. Его спасают неизвестные воины: то Алеша и его товарищи. Радегаст пропадает безвестно. 7. Владимир узнает тоску Ярослава. Прибытие Карачуна в стан неприятельский. Он вызывает Алешу на единоборство. Смешной поединок. Карачун достается в плен. 8. Добрыня достает и меч, и Златокопыта. Разрушает очарование Ксении. Ночь, проведенная с нею в долине. 9. Он ее лишается. Едет в Киев. Встреча Добрыни. Избавление и история Радегаста и Заиды. Они спешат к Киеву. Отчаянное состояние Киева. Владимир решается дать сражение и выйти на единоборство с Полканом. Приготовление войска. 10. Войско выходит за город. Боян запевает песню. Является Владимир. В эту минуту скачет витязь — это Добрыня, при нем Радегаст с Заидою, одетою в панцирь. Добрыня требует позволения сразиться. Получает его. Сражение с Полканом. Общее сражение. Торжество. Вход в город. Владимир уступает Милолику Радегасту. Явление Ксении и Добрады. Торжество и радость. Брак и ночь Добрыни с Ксениею».
Вещь была задумана грандиозная. Жуковский завел тетрадь с названием «Мысли для поэмы» и вносил туда всё, что придумывалось: сюжетные ситуации, всевозможные детали, стихотворные наброски. По прочтении плана поэмы может показаться, что задумана была не более как большая сказка, но за этим планом стоит поэтический талант Жуковского, который, если бы поэма была написана, изобразил бы древний Киев, нравы и обычаи народа, русскую природу — как он и хотел, — сам бы вышел к читателю со своими размышлениями, окутал бы все эти сказочные события волшебной атмосферой своей поэзии. Жуковский долго и серьезно готовился к этой работе, чувствовал огромную серьезность задачи, ощущал своевременность такой вещи. Он верил, что Андрей Тургенев, будь он жив, одобрил бы этот его замысел.[92]
Продолжая готовиться к работе над поэмой, Жуковский принялся изучать Гомера: он стал особенным образом читать «Илиаду» и «Одиссею» — параллельно на английском и немецком языках. «Эти два перевода, — писал он Тургеневу, — по-настоящему надобно читать вместе: один увеличит цену другого; Попова щеголеватость сделает приятнее Фоссову простоту,[93] а Фоссова сухость сделает еще приятнее Попову блистательную поэзию». Жуковский занимался при этом и древнегреческим языком, мечтая прочитать Гомера в подлиннике.
Жуковский ни минуты не теряет даром и все-таки жалуется: «Время летит, а я всё еще грубый невежда во всём… Когда подумаю, сколько погибло драгоценного времени по пустякам, сердце обливается кровью. Брат, надобно возвратить сколько-нибудь потерянное».
«Авторство почитаю службою отечеству… Авторство мне надобно почитать и должностью гражданскою, которую совесть велит исполнять со всевозможным совершенством», — пишет он.
В это же время печаталась его антология «Собрание русских стихотворений», — два раза в неделю он получал корректуру, правил ее и отправлял в Москву, в типографию.
Между тем Белев опустел для него — Протасовы переехали в Муратове В Мишенском оставалась, кроме Марьи Григорьевны и Елизаветы Дементьевны, только Анюта Юшкова. Жуковский иногда наезжал в Муратово, чтобы помочь Екатерине Афанасьевне в устройстве. Пятьдесят верст от Белёва до Волхова и еще пятьдесят по бывшему «свиному шляху» — Нугорскому тракту. Места очень похожи на белёвские, мишенские: далеко-далеко — с косогора на косогор — тянутся поля, белеют на холмах церкви, шумят дубовые рощи, золотою желтизной радуют взор заросли пахучего донника. Только лесов меньше. Волхов — на высоких берегах впадающей в Оку реки Нугрь; на самом взгорье — грузная Троицкая церковь, в которой, по преданию, венчался Иван Грозный. Над садами и крышами — множество золотых луковок: здесь церквей больше двух десятков. Жители одеваются по-старинному, выговор у них особенный — картавый. До сих пор висит в Волхове древний вечевой колокол, но пользуются им теперь только во время пожара.[94] Коляска, вздымая пыль, кренясь на поворотах, спускается на мост и вылетает на Нугорский тракт. Колеи глубокие, ехать становится труднее. Но вот уже проехали и Голдаево, и пустынное, безлесное Бунино, показалась муратовская дубовая роща… Сердце Жуковского начинает обмирать от волнения. Он просит Максима ехать потише.
Засинел сквозь редкую еще зелень парка большой пруд, осененный корявыми мелколиственными ракитами. Вот и дом — фасад его выдается по сторонам широкого, украшенного четырьмя колоннами крыльца двумя «фонарями»… Заслышав стук колес, первой выбегает Саша. Потом выходит Екатерина Афанасьевна. А там, в дверях, застенчиво медлит Маша с книгой в руке. Она даже не спускается со ступенек.
Всего в полуверсте от Муратова — на другой стороне пруда — деревенька Холх. Жуковский решил купить там клок земли для собственного дома. С большим трудом он собрал деньги. В короткое время был построен небольшой, но уютный дом, разбит садик, проложена аллея к пруду.[95] К лету 1811 года он туда переехал.
Печальным было это переселение, так как незадолго до него, умерла в Мишенском, восьмидесяти трех лет, Марья Григорьевна Бунина, а десять дней спустя после ее кончины умерла Елизавета Дементьевна — во время своего краткого приезда в Москву. Жуковский похоронил ее на кладбище Девичьего монастыря и поставил над могилой камень с буквами «Е. Д.».
СЕЛО МУРАТОВО. ВИД ИЗ ДЕРЕВНИ ХОЛХ НА ХОЛМ, ГДЕ НАХОДИЛАСЬ УСАДЬБА Е, А. ПРОТАСОВОЙ. НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ БЫЛ ПРУД (ПЛОТИНА, ПЕРЕГОРАЖИВАВШАЯ РУЧЕЙ, РАЗРУШЕНА).
…Встав ни свет ни заря, Жуковский шел к пруду, сквозь рассеивающийся утренний туман смотрел на зеленую крышу муратовского дома и ясно понимал, что под этой крышей и есть самое главное из того, что заставило его тут поселиться. Потом работал. День проводил с Протасовыми — снова стал давать уроки сестрам. Грустен, печален был Жуковский: он вдруг понял, что ему так мало привелось пожить вместе с матерью. В сущности, он так и не узнал ее по-настоящему.
Горе еще более сблизило его с Машей. Ей было уже восемнадцать лет. Она была рядом с ним — он ежедневно видел ее, говорил с ней, сидел за обеденным столом, у фортепьяно, гулял в парке и в то же время чувствовал, что она становится все более недостижимой для него. К Екатерине Афанасьевне и вообще-то подступиться было трудно, а теперь она была в двойном трауре — мрачная, строгая, недоступная.
Горькие мысли одолевали Жуковского; печальные стихи писал он в это время. Вот «Пловец»:
Вихрем бедствия гонимый. Без кормила и весла, В океан неисходимый Буря чёлн мой занесла. В тучах звездочка светилась; «Не скрывайся!» — я взывал; Непреклонная сокрылась; Якорь был — и тот пропал…«Песня», обращенная прямо к Маше:
О, милый друг, нам рок велел разлуку: Дни, месяцы и годы пролетят, Вотще к тебе простру от сердца руку — Ни голос твой, ни взор меня не усладят. Но и вдали моя душа с твоей согласна; Любовь ни времени, ни месту не подвластна; Всегда, везде ты мой хранитель-ангел будь. Меня, мой друг, не позабудь.СЕЛО МУРАТОВО. ВИД НА ДЕРЕВНЮ ХОЛХ ОТ УСАДЬБЫ Е. А. ПРОТАСОВОЙ. СЛЕВА ВИДНЫ ОСТАТКИ ПЛОТИНЫ.
Вянет цветок («С тебя листочек облетел — от нас веселье отлетает»), жалуется юноша на берегу ручья («К ней стремлю, забывшись, руки — милый призрак прочь летит»), счастье любви — волшебная страна («Полечу туда… напрасно! Нет путей к сим берегам»), при взгляде на солнечные часы поэт говорит с грустью:
Прости, любовь! конец мечтам и заблужденью! Лишь дружба мирная с улыбкой предо мной!Эти стихи — оригинальные и переводные — складывались в поэму прощания с надеждами, но трудно было с ними распрощаться, легче было умереть. И герой этой поэмы умирает — в стихотворении «Певец»:
Он дружбу пел, дав другу нежно руку, — Но верный друг во цвете лет угас; Он пел любовь — но был печален глас; Увы! он знал любви одну лишь муку; Теперь всему, всему конец; Твоя душа покой вкусила; Ты спишь; тиха твоя могила. Бедный певец!Маша стала еще печальнее. Зато Саша была необыкновенно весела, ее смех раздавался по всему дому; она всех обыгрывала в шахматы и шашки, лучше всех скакала верхом на лошади, выше всех взлетала на качелях и постоянно затевала игры. Она была — в отличие от Маши — настоящая красавица. В суете она, как казалось, не замечала, что творится с ее сестрой и с Жуковским. Даже траур почти не помрачил ее искрящихся жизнью глаз. Нет-нет да засмеется Маша, глядя на сестру, оживится Жуковский — оба они души не чаяли в Саше. Одно из стихотворных посланий к Саше Жуковский закончил так:
С тобой явилась в свет Веселость, бог крылатый; Она твой провожатый; При ней несчастья нет.СЕЛО МУРАТОВО. ОКОЛИЦА
3
Иногда в Муратово приезжал из Большой Черни двоюродный брат Маши и Саши Александр Алексеевич Плещеев, умный, образованный и вместе с тем веселый и шумный человек. Жена его Анна Ивановна была очень красива и замечательно пела.[96] Плещеев был смугл, толстогуб, и в кругу друзей его, шутя, называли негром. Он писал стихи на французском языке, актерски-искусно декламировал, сочинял музыку — романсы, песни, — страстно любил театр и у себя в имении устраивал спектакли и маскарады. На эти увеселения к Плещеевым стали ездить и обитатели Муратова.
Жуковский особенно подружился с Плещеевым: «негр» умел расшевелить его, зажечь своим весельем А вообще-то Жуковский и сам был горазд на выдумки. Так, ко дню рождения Саши, в 1811 году, Жуковский выпустил шуточную рукописную газету «Муратовская вошь (Периодическое издание, посвященное чувствительным душам)», в которой назвал Сашу «кометой». «Муратовская комета, — говорилось там, — ходила на пруд ловить рыбу и ничего не поймала… Ввечеру сего дня, т. е. 20-е число августа, была иллюминация; комета прохаживалась по зале и по хорам и светила безденежно; денежные свечки сияли как рублевые; огненные фонтаны собирались бить высоко да раздумали; ракеты ползли окарячь; а учредитель фейерверка плюнул да и прочь пошёл». Далее был описан обед в саду и следовали стихи — шуточная здравица в стиле русских народных — всем трем Протасовым. Другая юмористическая газета Жуковского называлась «Муратовский сморчок (Ежедневное издание политического, литературного, экономического, исторического и географического содержания)». Описывая фантастическую войну в «Муратовской империи» между «печенегами» и «пупистами», Жуковский придумывает смешных до нелепости героев: «Маршал Василий Высокий, кавалер орденов трех печенок, кардинал и настоятель аббатства старых париков»; «Мария, королева и самодержавный обладатель всех прелестей, наследник и великий князь Малой, Средней и Большой Любезности (земли мало населенные, но весьма важные), маркиз Добродетели и кавалер Рыжей Коровы». Сообщения были такие: «Григорий Дементьевич[97] ходил целый день в тулупе и башлыке»; «Козловский поп впервые от роду пил воду, и астроном его прихода предсказывает наверное светопреставление». Эта газета тоже кончалась стихами:
Аркадии ты нам милее, В тебе и тихо и светло, В тебе веселье веселее, Муратово-село.М. А. МОЙЕР (ПРОТАСОВА)
Рис. В. А. Жуковского.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РУКОПИСНОГО АЛЬБОМА РОМАНСОВ А. А. ПЛЕЩЕЕВА НА СЛОВА В. А. ЖУКОВСКОГО.
В тебе есть мельник, дом высокий, И пруд, блестящий, как стекло, И полуостров преширокий, Муратово-село. В тебе Жуковский баснь склоняет, Хоть неискусен он зело, Тобой Дементьич управляет, Муратово-село.Жуковский с Плещеевым обменивались шуточными стихотворными посланиями: Жуковский писал их по-русски, Плещеев — по-французски. На одно из таких посланий Жуковский отвечал:
Посланье пробежав, суровый мой зоил Смягчится, — и прочтут потомки в лексиконе: «Жуковский. Не весьма в чести при Аполлоне; Но боле славен тем, что изредка писал К нему другой поэт, Плещеев; На счастье русских стиходеев, Не русским языком сей автор воспевал; Жил в Волхове, с шестью детьми, с женою…».А. А. ПЛЕЩЕЕВ.
Рисунок.
Чернско-Муратовское общество разыгрывало шуточные пьесы, сочиненные Жуковским, Плещеев писал к ним музыку. В 1811 году их было поставлено три: «Скачет груздочек по ельничку»,[98] «Коловратно-курьёзная сцена между господином Леандром, Пальясом и важным господином доктором» и «Елена Ивановна Протасова,[99] или Дружба, нетерпение и капуста. Греческая баллада, переложенная на русские нравы Маремьяном Даниловичем Жуковятниковым, председателем комиссии о построении Муратовского дома, автором тесной конюшни, огнедышащим экс-президентом старого огорода, кавалером ордена трех печенок и командиром Галиматьи. Второе издание. С критическими примечаниями издателя Александра Плещепуновича Чернобрысова, действительного мамелюка и богдыхана, капельмейстера коровьей оспы, привилегированного ральваниста собачьей комедии, издателя типографического описания париков и нежного компониста различных музыкальных чревобесий, между прочим и приложенного здесь нотного завывания. Муратово. 1811 г.».
Но и здесь не все сводилось к бездумной шутке: иногда эти сценки были комедийным — в духе итальянской commedia dell'arte[100] — отражением трагедии, мучившей Жуковского. Это был в некоторых случаях истинный смех сквозь слезы. Пожалуй, только одна Маша и могла уловить тщательно скрытую суть фарса «Коловратно-курьёзная сцена», где театральный режиссер Леандр оплакивает свою любовную неудачу:
Блажен, в кого амур — так, как горохом в стену, Без пользы разбросал из тула[101] тучу стрел! О, счастья баловень! коль сладок твой удел! Проснулся — ешь за двух! поел — и засыпаешь! И, сонный, сладкою мечтой себя пленяешь! Пойдешь гулять — в лесу ты ищешь лишь грибов; Не думаешь вздыхать при гласе соловьев, Ни горестно грустить, смотря в струи потока!…Александр Тургенев, Дмитрий Блудов, Константин Батюшков звали Жуковского в Петербург. «Сложи печалей бремя, Жуковский добрый мой!» — советовал Батюшков. Александру Тургеневу Батюшков говорит, что Жуковский, «сей новый Дон Кишот», «одной любви послушен». Казалось, ничто не в силах вырвать Жуковского из деревни, из дорогого ему круга людей, разлучить с Машей. У них с Машей уже выработался язык взглядов и недомолвок. «Движений тишина! Стыдливое молчанье, где вся душа слышна!» — писал об этом Жуковский в послании к Батюшкову.
…В июне 1812 года огромная армия Наполеона Бонапарта переправилась через Неман и вторглась в пределы России. Началась Отечественная война. Здесь — в Муратове и Черни — еще продолжались увеселения, еще не нарушены были «мирный труд, свобода с тишиной», но в послании к Плещееву Жуковский с шутками уже соединяет патриотические мотивы:
Растает враг, как хрупкий вешний лёд! Могущество оцепенелых вод, Стесненное под тяжким игом хлада, Всё то ж, хотя незримо и молчит. Спасительный дух жизни пролетит — И вдребезги ничтожная преграда! О, русские отмстители-орлы! Уже взвились! Уже под облаками! Уж небеса пылают их громами!Третьего августа Плещеев в Черни праздновал свой день рождения, было театральное представление и концерт. В этот день Жуковский, уже твердо решивший вступить в народное ополчение («Хочу окурить свою лиру порохом», — писал он Вяземскому), участвовал в концерте. Он спел романс «Пловец», написанный Плещеевым на его стихи. Плещеев сыграл вступление, изображающее бурное море… Пловец «без кормила и весла» носится в «океане неисходимом», ропщет на судьбу, ему грозит гибель:
Вдруг — всё тихо! мрак исчез; Вижу райскую обитель… В ней трех ангелов небес.При этих словах Жуковский повернулся к Екатерине Афанасьевне и ее дочерям и пел, уже обращаясь к ним:
Неиспытанная радость — Ими жить, для них дышать; Их речей, их взоров сладость В душу, в сердце принимать. О, судьба! одно желанье: Дай все блага им вкусить; Пусть им радость — мне страданье; Но… не дай их пережить.[102]Среди слушателей были молодые Захар и Александрина Чернышевы, друг Плещеева — композитор Александр Алябьев, завернувший в Чернь проездом с юга, и другие гости. Все примолкли. Все поняли, что значит это пение. И вдруг Екатерина Афанасьевна рассердилась, гнев засверкал в ее глазах, она резко встала и вышла. Маша, бледная, с опущенной головой, как тень двигалась за ней… Все это было так неожиданно! Праздник расстроился. Протасовы уехали в Муратово без Жуковского.
СТИХОТВОРЕНИЕ В. А. ЖУКОВСКОГО «ПЛОВЕЦ»
Автограф М. А. Протасовой.
4
«Жуковский отправляется сегодня с полком», — пишет Вяземский своей жене 17 августа 1812 года. Накануне они вместе были в Певческом трактире, где собралось много ополченцев; там было шумно, жарко, играли балалаечники, пели цыгане. Потом, уже на улице, встретили оживленного, говорливого Федора Иванова, он повез их к себе. Вяземский жаловался, что у него всё какие-то препятствия: написал генералу Милорадовичу — хотел к нему в адъютанты, ответа все нет, того и гляди, прождешь, и граф Мамонов[103] закончит составление своего конного полка. Жуковский советовал ему не медлить и идти к Мамонову.
От Иванова Жуковский заехал к Козлову, старому знакомцу, который в штабе Ростопчина занимался хлопотами по вооружению ополчения. От него — к Карамзину. Карамзин отправил свою семью в Ярославль, они увезли для сохранения полный экземпляр рукописи «Истории государства Российского». Еще один экземпляр он сдал в архив Коллегии иностранных дел. Третий — спрятал в Остафьеве. Сам он не знал, что предпринять. «Я рад сесть на своего серого коня, — писал он Дмитриеву, — и вместе с московскою удалою дружиною примкнуть к нашей армии». Но он по нездоровью уже не годился для военной службы. Так, до самого дня вступления французов в Москву, Карамзин метался по городу, провожая друзей и знакомых. С глубоким отчаянием он смотрел на покидаемую жителями столицу…
Ф. Ф. ИВАНОВ.
Гравюра А. Флорова.
1-й Пехотный полк Московского ополчения пошел только 19 августа. 20-го Карамзин писал Дмитриеву: «Я благословил Жуковского на брань: он вчера выступил отсюда навстречу к неприятелю». Русская армия двинулась к Можайску.
Жуковский, имевший чин поручика, шел пешком в общем строю своего полка. Думая о предстоящих сражениях, он спокойно и даже не без иронии оценивал свои боевые способности: «Из пистолета, слава богу, стрелять умею; немало мы в Мишенском перевели фатьяновских огурцов, с трех шагов, пожалуй, не промахнусь… А вот шпага! Придется припомнить пансионские уроки фехтования». С ним шел его новый слуга — калмык Андрей, нанятый им в Москве. «Вот этот, — думал Жуковский, — своим штыком может нагнать на неприятеля много страху: ловок!»
Расположились лагерем вблизи села Бородина. Солдаты развели костры. Для офицеров были разбиты палатки. Жуковский во всю ночь не сомкнул глаз: он волновался, часто выходил из палатки и оглядывал поле. Восемь лет спустя он так вспоминал ночь перед великой битвой:
Костры дымились, пламенея, И кое-где перед огнем. На ярком пламени чернея, Стоял казак с своим конем, Окутан буркою косматой; Там острых копий ряд крылатый В сияньи месяца сверкал; Вблизи уланов ряд лежал; Над ними их дремали кони, Там грозные сверкали брони; Там пушек заряженных строй Стоял с готовыми громами; Стрелки, припав к ним головами. Дремали, и под их рукой Фитиль курился роковой; И в отдаленьи полосами, Слиянны с дымом облаков, Биваки дымные врагов На крае горизонта рдели…Случилось так, что полк Жуковского — неожиданно для него — не принял действенного участия в битве, он был оставлен в резерве, но тем не менее находился в поле действия неприятельских пуль и ядер, которые убили и ранили несколько десятков человек. Недаром Батюшков писал потом Жуковскому: «Ты на поле Бородинском pro patria[104] подставил одну из лучших голов на севере и доброе, прекрасное сердце. Слава богу! Пули мимо пролетели». В одном из позднейших писем Жуковский прекрасной прозой изобразил картину той же самой ночи и наступившего потом дня Бородинского сражения: «Две армии стали на этих полях одна перед другой; в одной Наполеон и все народы Европы, в другой — одна Россия. Накануне сражения всё было спокойно: раздавались одни ружейные выстрелы, которых беспрестанный звук можно было сравнить со стуком топоров, рубящих в лесу деревья. Солнце село прекрасно, вечер наступил безоблачный и холодный, ночь овладела небом, которое было темно и ясно, и звезды ярко горели; зажглись костры, армия заснула вся с мыслью, что на другой день быть великому бою. Тишина, которая тогда воцарилась повсюду, неизобразима; в этом всеобщем молчании, в этом глубоком темном небе, которого все звезды были видны и которое так мирно распростиралось над двумя армиями, где столь многие обречены были на другой день погибнуть, было что-то роковое и несказанное. И с первым просветом дня грянула русская пушка, которая вдруг пробудила повсеместное сражение… Мы стояли в кустах на левом фланге,[105] на который напирал неприятель; ядра невидимо откуда к нам прилетали; всё вокруг нас страшно гремело, огромные клубы дыма поднимались на всем полукружии горизонта, как будто от повсеместного пожара, и, наконец, ужасною белою тучею обхватили половину неба, которое тихо и безоблачно сияло над бьющимися армиями. Во всё продолжение боя нас мало-помалу отодвигали назад. Наконец, с наступлением темноты, сражение, до тех пор не прерывавшееся ни на минуту, умолкло. Мы двинулись вперед и очутились на возвышении посреди армии; вдали царствовал мрак, всё покрыто было густым туманом осевшего дыма, и огни биваков неприятельских горели в этом тумане тусклым огнем, как огромные раскаленные ядра. Но мы не долго остались на месте: армия тронулась и в глубоком молчании пошла к Москве, покрытая темной ночью».
КОННЫЙ МОСКОВСКИЙ ОПОЛЧЕНЕЦ 1812 ГОДА.
Гравюра.
Русская армия, пройдя уже оставленную почти всеми жителями Москву, двинулась к Тарутину и начала не спеша готовиться к наступлению. Штаб главнокомандующего расположился в деревне Романове. Решение Кутузова оставить Москву вызвало переполох в Петербурге — он получил почти выговор от императора. Но старый фельдмаршал знал, что делал. Уже 30 октября 1812 года Наполеон прислал ему предложение о заключении мира, которое Кутузов отверг. «Бездействие» Кутузова привело к тому, что русская армия отдохнула и увеличилась, поднялся и боевой дух ее, а французская разлагалась морально и быстро таяла: в ней множились беспорядки и она гибла без сражений. А после боя под Тарутином французы покатились назад.
МОСКВА ПОСЛЕ ПОЖАРА 1812 ГОДА. ВИД НА ОБГОРЕВШИЙ ПАШКОВ ДОМ.
Рис. И. Джемса.
Вот что писал в эти дни Вяземскому, который участвовал в Бородинской битве, Александр Тургенев: «Москва снова возникнет из пепла, а в чувстве мщения найдем мы источник славы и будущего нашего величия. Ее развалины будут для нас залогом нашего искупления, нравственного и политического; а зарево Москвы, Смоленска и пр. рано или поздно осветит нам путь к Парижу… Война, сделавшись национальною, приняла теперь такой оборот, который должен кончиться торжеством Севера… Дела наши идут очень хорошо. Неприятель бежит, бросает орудия и зарядные ящики; мы его преследуем уже за Вязьмою. Последние донесения князя Кутузова очень утешительны».
М. И. КУТУЗОВ.
Гравюра с оригинала Д. Доу.
В Романове Жуковский встретил своих старых товарищей — бывших членов Дружеского литературного общества — братьев Андрея и Паисия Кайсаровых, которые служили при штабе Кутузова: Паисий, полковник, был адъютантом Кутузова, Андрей, майор, — директором походной штабной типографии, в которой печатались приказы, листовки и летучая газета «Россиянин». Кайсаровы помогли Жуковскому прикомандироваться к штабу.
ОРЕЛ. УГОЛОК УЛИЦЫ ГОРЬКОГО (БЫВШЕЙ НИЖНЕДВОРЯНСКОЙ)
В начале сентября Жуковский послан был в Орел нарочным к губернатору Петру Ивановичу Яковлеву. 10 сентября Маша, которая с матерью и сестрой жила в это время в орловском доме Плещеевых на Нижнедворянской улице,[106] записала в дневнике: «Вдруг наш добрый Жуковский явился из армии курьером к губернатору в 7 часов вечера. Этот бесподобный вечер никогда не забудется… Было очень много гостей, все приходили его смотреть, он нас успокоил много насчет дурных слухов, которые у нас носились… Он приехал к губернатору, чтобы ему рассказать, что сюда в Орел привезут пять тысяч человек раненых; тридцать будет стоять у Плещеевых в доме и мне готовить для них корпию и бандажи».
Маша пишет, что гости «восхищались казацким кафтаном Василия Андреевича», приглашали его к себе.
В Орле он встретил и Авдотью Петровну Киреевскую с мужем — они тоже жили в доме Плещеевых. В Орле были Вендрихи — соседи Буниных по Мишенскому, Губарев — один из товарищей Жуковского по пансиону. Из московской знати тут спасались от французов Шереметевы, Щербатовы, кто-то из многочисленной фамилии Голицыных, какой-то Трубецкой, Сокольницкие, Боборыкины, Гедеоновы, Клугины и прочие. Все они не давали Жуковскому прохода, расспрашивали его о положении «на театре военных действий», и их можно было понять, так как слухи, часто странные и нелепые, были в Орле чуть ли не единственной информацией о войне.
18 сентября Маша отмечает в дневнике: «Привезли раненых солдат; эти несчастные гораздо жальче, чем вообразить возможно. Они терпят всякую нужду и даже надежды мало, чтоб им было хорошо когда-нибудь. Из 180, которых привезли, в одну ночь умерло 20! Невозможно вообразить без ужаса состояние тех, которые провели эту ночь в одной горнице с умершими. И всё это терпят они за нас!»
Сестры Протасовы вместе с матерью, Авдотья Киреевская с мужем — все принялись ухаживать за ранеными, которых разместили в доме.
23 сентября, как пишет Маша, привезли пленных «мародеров»: весь город собрался смотреть на их бесславный парад. Первую партию пленных сопровождал двоюродный брат Маши и Саши Александр Павлович Протасов. Большая часть французов шагала пешком, некоторых везли в телегах. Все они были в рванье, среди них было много раненых. Всего в Орел привезли 1175 французских солдат и 24 офицера, в том числе двух или трех генералов. «Мародеры» своим несчастным видом вызывали жалость. «Один офицер, — пишет Маша, — совсем без рубашки, а другой три месяца не переменял ее. Маменька послала им завтрак и рубашек». Пленных поселили в специально выстроенных сараях.
ДНЕВНИК М. А. ПРОТАСОВОЙ 1812 ГОДА, ВЕДЕННЫЙ В ОРЛЕ.
Автограф.
Жуковский целый месяц занимался в Орле устройством госпиталей, делал кое-какие закупки для армии, в частности — сукна. Иногда ему удавалось и отдохнуть — погулять с родными в парке у слияния Оки и Орлика, посидеть за чаем и неторопливой беседой на широком балконе плещеевского дома. Он успел даже съездить к Плещеевым в Чернь.
Екатерина Афанасьевна искренне заботилась о нем, старалась выказать ему свое расположение. И 10 октября сама сделала запись в Машиной дневнике: «День памятный в наших горестях: Жуковский, добрый наш Жуковский опять поехал в армию».
…В Романове чуть ли не в первый день возвращения Жуковского из Орла Андрей Кайсаров сказал ему:
— Пусть тебе твой калмык оботрет лиру от пыли: еще помнит она, верно, звуки «Песни барда»?
— Ты прав, брат, — в тон ему ответил Жуковский. — Пора.
ОРЕЛ В НАЧАЛЕ XIX в.
Литография.
В свободное время он стал открывать свою черновую книгу — небольшой альбом в зеленом кожаном переплете и с медной застежкой — здесь он не только писал, но и рисовал. В ней пока заполнены были всего три листа. На четвертом появилось название нового стихотворения: «Кубок воина» — так Жуковский начал свою большую элегию-оду «Певец во стане русских воинов». И потом, двигаясь вместе с армией вслед за отступающими войсками Наполеона, Жуковский работал над этим произведением, прочитывая Кайсаровым и другим штабным офицерам очередные строфы.
Дух победы, вдохновенная уверенность в непобедимости русского народа окрыляли эти строки. Множество конкретных героев войны изобразил в них Жуковский, назвав их по именам: тут прежде всего Кутузов, а затем Витгенштейн, Коновницын, Ермолов, Раевский, Багратион, Платов, Фигнер, Давыдов, Сеславин, Кутайсов, Орлов и много других. «Певец» поднимает кубок и «чадам древних лет» — он словно видит летящие над шатрами военного лагеря тени Святослава, Дмитрия Донского, Петра Великого, Суворова… И может быть, самые сердечные слова певец обращает к родине:
Отчизне кубок сей, друзья! Страна, где мы впервые Вкусили сладость бытия, Поля, холмы родные…ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ В. А. ЖУКОВСКОГО «ПЕВЕЦ ВО СТАНЕ РУССКИХ ВОИНОВ» С ЗАСТАВКОЙ, ГРАВИРОВАННОЙ М. ИВАНОВЫМ ПО РИС. И. ИВАНОВА.
Уже первые варианты стихотворения разошлись по армии в списках: оно не просто имело успех, оно захватывало, воодушевляло, воспламеняло в сердцах воинов мужество и тем самым помогало общему делу изгнания врага.
Двадцатилетний боевой офицер И. И. Лажечников[107] отметил в своих «Походных записках» 20 декабря 1812 года: «Часто в обществе военном читаем и разбираем „Певца во стане русских“, новейшее произведение г. Жуковского. Почти все наши выучили уже сию пиесу наизусть… Какая поэзия! Какой неизъяснимый дар увлекать за собою душу воинов!.. Довольно сказать, что „Певец во стане русских“ сделал эпоху в русской словесности и — в сердцах воинов!»
Но не только стихи писал в этом походе Жуковский. Однажды квартирьеру главного штаба майору Ивану Никитичу Скобелеву[108] было поручено написать деловую бумагу. Скобелев, офицер, выслужившийся из солдат, был храбрый воин — при Бородине он потерял руку. Он был замечательный рассказчик, общительный и живой человек, но никогда не писал никаких бумаг. Он чуть не целую ночь просидел за столом, взмок от бесплодных усилий и, наконец, обратился к Жуковскому:
— Выручи, голубчик! Чего тебе стоит…
Жуковский охотно пришел ему на помощь и составил нужный текст. Скобелев отправился к фельдмаршалу, надеясь, что тем дело и кончится. Но Кутузову бумага понравилась настолько, что он тут же дал Скобелеву второе такое же поручение. Скобелев опять к Жуковскому… До самой Вильны писал поэт штабные бумаги, за которые Кутузов прозвал Скобелева «Златоустом». Но после сражения под Красным Жуковский заболел и, конечно, не мог больше поддерживать писательскую славу приятеля. Тот во всем признался Кутузову.
— Значит, не ты Златоуст, а Жуковский! — засмеялся Кутузов. — А тебя чуть ли не много назвать и Медноустом… Ступай, братец, за одно тобою недоволен, что ты прежде не сказал мне, что Златоуст-то твой товарищ. Мы бы его не упустили!
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ.
Худ. А. Тиранов.
И. Н. СКОБЕЛЕВ.
Гравюра.
…После сражения у села Красного, но еще до своей болезни, Жуковский написал стихотворение «К старцу Кутузову», названное им потом «Вождю победителей», которое Андрей Кайсаров напечатал листовкой в походной типографии. Кутузов не стал возражать против распространения этих стихов таким способом. Он понимал, что слово поэта может сильнее иного приказа воодушевить воинов.
Хвала, наш вождь! Едва дружины двинул — Уж хищных рать стремглав бежит назад; Их гонит страх; за ними мчится глад; И щит и меч бросают с знаменами; Везде пути покрыты их костями; Их волны жрут; их губит огнь и хлад; Вотще свой взор подъемлют ко спасенью… Не узрят их отечески поля! Обречены в добычу истребленью, И будет гроб им русская земля!Эту листовку можно было видеть и в шатре офицера, и в ранце грамотного солдата: стихи Жуковского еще более убеждали их в неизбежности гибели «супостата».
Плещеев написал Жуковскому об этом стихотворении: «Говоришь, что стихи твои писаны в чаду смрадной избы! — видно, Муза твоя — баба русская».
В зеленой книге появилось еще несколько стихотворений, в том числе — «N. N. При посылке портрета» и баллада «Ахилл», мысль которой вытекла из одной строфы «Певца во стане русских воинов», где говорится: «Старик трепещущей ногой влачится над могилой; сын брани мигом ношу в прах с могучих плеч свергает, и, бодр, на молнийных крылах в мир лучший улетает». Жуковский сделал к балладе примечание: «Ахиллу дано было на выбор: или жить долго без славы, или умереть в молодости со славою, — он избрал последнее». Это рассказ о мужестве, которое сильнее судьбы: герой презирает смерть. Место действия баллады словно срисовано Жуковским с натуры где-нибудь на военных перепутьях:
Тихо всё… курясь, сверкает Пламень гаснущих костров, И протяжно окликает Стражу стража близ шатров.В декабре 1812 года, когда Жуковский лежал в лихорадке почти без сознания в военном госпитале в Вильне, в двух декабрьских номерах «Вестника Европы» печатался «Певец во стане русских воинов», который уже до того многим стал известен. Александр Тургенев в Петербурге готовил отдельное его издание. Композитор Дмитрий Бортнянский — управляющий придворной певческой капеллой — создал на эти стихи патриотическую хоровую песню, которая так же, как и само стихотворение, получила широкое распространение.
А Жуковский все еще лежал в госпитале, один, совершенно без денег: его слуга пропал без вести со всеми его вещами. Армия ушла дальше, и даже адъютант Кутузова не смог разыскать поэта, которого хотели призвать в главный штаб русской армии на должность «Златоуста». Друзья тоже потеряли Жуковского из виду: Вяземский и Александр Тургенев запрашивали друг друга о том, где он сейчас, а Тургенев даже послал из Петербурга в Вильну специального курьера на розыски Жуковского, но тот напал на след какого-то другого Жуковского, пехотного капитана, уехавшего из Вильны вместе с армией, — с тем курьер и вернулся.
Оправившись от болезни, Жуковский сообщил о себе в Главный штаб и получил оттуда известие, что он награжден чином штабс-капитана и орденом Святой Анны. По случаю болезни ему был разрешен бессрочный отпуск. Рассчитывая через месяц-полтора вернуться в армию, Жуковский через Калугу, Лихвин, Белев и Волхов поехал в Муратово: там был единственный для него дорогой человек в мире, любимая женщина, которая его ждала, которая вдохновила те строки его «Певца во стане», где говорится о любви:
Она на бранных знаменах, Она в пылу сраженья; И в шуме стана, и в мечтах Веселых сновиденья. Отведай, враг, исторгнуть щит, Рукою данный милой; Святой обет на нем горит: «Твоя и за могилой!»СТИХОТВОРЕНИЕ В. А. ЖУКОВСКОГО «К СТАРЦУ КУТУЗОВУ» (ВПОСЛЕДСТВИИ НАЗВАННОЕ АВТОРОМ «ВОЖДЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»)
Последняя строка — сигнал для Маши: это были их слова, их девиз.
6 января 1813 года Жуковский приехал в занесенное снегом Муратово. Стоял солнечный, очень морозный день.
5
Жуковский твердо решил добиться благословения Екатерины Афанасьевны на его брак с Машей и начал действовать отчаянно, упорно. Много раз вступал он после своего приезда из армии в споры с Екатериной Афанасьевной, стараясь не доводить дела до ссоры, искал себе защитников среди родных и друзей, — на сторону Жуковского решительно встали его племянницы Авдотья Петровна Киреевская и Анна Петровна Юшкова, Плещеевы, родственники мужа Екатерины Афанасьевны, барон Черкасов, Иван Владимирович Лопухин и еще кое-кто.
Для Жуковского началась трудная полускитальческая жизнь: много раз он «бежал» из Муратова с отчаянием в душе, потом возвращался.
Он проводил по нескольку дней то в Мишенском у Анюты Юшковой, где жила, не решаясь возвратиться в опустевшее для нее после смерти мужа село Долбино, и Авдотья Петровна Киреевская, сестра ее,[109] то в Большой Черни у Плещеевых, то у Лопухина в селе Савинском, то в своем Холхе.
Из Белёва он сообщил Александру Тургеневу в Петербург: «Я воротился на свою родину из Вильны, бывши свидетелем единственной в истории войны. Не знаю, останусь ли здесь; не знаю, понесет ли меня судьба на Вислу… Я был болен порядочною горячкою и вылежал тринадцать дней в постели. Слабость заставила меня взять отпуск, ибо я никак не мог следовать за главною квартирою: путешествие в маленьких санках и в сырую весеннюю погоду могло бы возобновить горячку, которая была бы, вероятно, смертельная. Жаль мне, что твой курьер не застал меня в Вильне… Мог ли бы ты вообразить, чтобы я когда-нибудь очутился во фрунте и в сражении?»
Княгиня Авдотья Ивановна Голицына[110] прислала Жуковскому свой проект нового русского герба, в который, по ее мнению, надо включить знамя ополчения 1812 года. Она хотела, чтобы поэт-патриот поддержал ее мнение перед обществом. В ответном письме Жуковский говорит о войне: «1812 год был для нас важен не одними победами; он открыл нам в самих нас такие силы, которых, может быть, прежде мы не подозревали. Всего важнее для народа уважение к самому себе: теперь мы приобрели его… Ужасное потрясение 1812 года вместо того, чтобы нас сразить, только что нас пробудило… Мы увидим Россию на такой степени величия, на какой никогда она еще не стояла».
В первом же своем по возвращении из армии письме Жуковский говорит Тургеневу о своем желании собрать в одно целое свои стихи и поручить их издание ему. С этого времени началась подготовка первого издания стихотворений Жуковского, которое при медлительности Тургенева (а ему еще помогали Дашков и Кавелин) и взыскательности Жуковского к своим стихам продлится еще два года.
…Петр Вяземский в конце 1812 года приехал из Вологды в Москву, и его ужасно поразил вид разрушенного и полусожженного города. Он старался привести в порядок Остафьево, начал переписку с друзьями и стал подумывать об отъезде в Петербург. «Стану звать его с собою, — писал он в начале 1813 года Тургеневу о Жуковском. — Ему теперь дует попутный ветер, непременно нам, то есть его друзьям, надобно его заставить воспользоваться хорошею погодою. Полно ему дремать в Белеве». Тургенев отвечал Вяземскому: «Жуковский ничего не делает, кроме прекрасных стихов… Услышит ли он, наконец, голос дружбы, призывающий его к берегам Невы?» Вяземский: «Желал бы очень, хотя и на плечах, притащить и Белевского нашего Тиртея…[111] Мы с ним ведем самую частую переписку. Я намерен, если не удастся мне выманить его из берлоги, съездить к нему перед поездкой своею в Петербург».
Жуковский обещал Вяземскому приехать в Москву. Вяземский отвечал ему стихами:
Я жду тебя, товарищ милый мой, И по местам, унынью посвященным, Мы медленно пойдем, рука с рукой, Бродить, мечтам предавшись потаенным; Здесь тускл зари пылающий венец, Здесь мрачен день в краю опустошений, И скорби сын, развалин сих жилец, Склоня чело, объятый думой гений, Гласит на них протяжно: нет Москвы! И хладный прах, и рухнувшие своды, И древний Кремль, и ропотные воды Ужасной сей исполнены молвы!Когда разнеслась весть о смерти фельдмаршала Кутузова, тело которого привезли из Бунцлау в Петербург и погребли в Казанском соборе, Вяземский прислал Жуковскому стихи «К Тиртею славян»:
Давно ли ты, среди грозы военной, Тиртей славян, на лире вдохновенной Победу пел перед вождем побед? И лаврами его означил след? Давно ли ты, воспламенясь героем, Воспел его, с бестрепетным покоем Стоящего пред трепетным врагом?..Александр Воейков прислал Жуковскому стихи, в которых убеждал его написать «поэму славную, в русском вкусе повесть древнюю» и предлагал несколько тем: Владимир Красное Солнышко, Суворов или Кутузов. «Орлом поэзии» назвал он Жуковского в последней строфе своего послания.
Жуковский продолжал дорабатывать «Певца во стане». «Жаль, если твой экземпляр напечатан по старому стилю,[112] — писал он Тургеневу. — Пришли мне этот экземпляр и всё, что есть хорошего на случай нынешних побед. И мне хочется кое-что написать, тем более, что имею на это право, ибо я был их предсказателем: многие места в моей песни точно пророческие и сбылись a la lettre[113]».
Презирая и ненавидя врага действующего, Жуковский не раз помогал пленным французам, попавшим в бедственные обстоятельства. Так, в орловском доме Плещеевых, обращенном хозяевами в госпиталь, лежал на излечении наполеоновский генерал Шарль-Огюст Бонами.[114] Когда пришел приказ об отправлении его с другими пленниками в Казань, Плещеевы попросили Жуковского добиться для него разрешения остаться в Орле, так как он жестоко страдал от ран. «Здесь, в Орле, есть пленный генерал Бонами, — пишет Жуковский Тургеневу, — храбрый и благородный человек. Я видел его после Можайского сражения,[115] с десятью или более ран, сделанных штыком (из коих одна преглубокая на груди и от которой он весьма страдает). Теперь он находится в Орле, откуда велено его переслать с прочими пленными в Казань. Это путешествие будет для него смертельно: тяжелая рана его погубит… Очень бы я желал, чтобы можно было помочь этому хорошему человеку». Тургенев добился для Бонами разрешения остаться в Орле. Этот генерал ездил к Плещеевым в Чернь, бывал в Муратове и даже играл в шахматы с Сашей Протасовой и чаще всего проигрывал!
…1813 год приносил новые вести о друзьях: после смерти Кутузова братья Кайсаровы покинули штаб. Андрей всюду следовал за старшим братом Паисием, уже генералом, участвовал во многих боях и в начале этого года погиб под Ганау вместе с артиллерийским обозом, который вынужден был взорвать, чтобы не отдать в руки неприятеля; ему было только двадцать девять лет. Где-то там, по полям Европы, шел с русскими войсками Константин Батюшков; известий от него не было, никто не знал, жив ли он.
Думая о Кайсарове, Жуковский перечитал его книги: «Опыт славянского баснословия[116]» — исследование, написанное на немецком языке в 1804 году и переведенное на русский в 1809-м, и диссертацию на латинском языке — о необходимости уничтожения крепостного права в России. «Земледелец, не завися ни от кого, всем доставляет питание, — писал Кайсаров. — Тем более удивляешься тому, что правители держат этот класс в оковах рабства». За эту диссертацию Кайсаров в Геттингенском университете получил степень доктора. С 1811 года он профессор российского языка и словесности в Дерптском университете. В 1812-м вступил в армию… Славная, героическая судьба!
«Ты говоришь, что мне нельзя оставаться в деревне, — пишет Жуковский Тургеневу. — По сию пору ничего не могу желать кроме того, чтобы жить в деревне. Здесь буду и могу писать более, нежели где-нибудь. Вся моя деятельность должна ограничиться авторством, а служба совсем меня не прельщает… Желания мои весьма скромны. Ничего не имею в виду, кроме независимости, хочу иметь столько, чтобы, не думая о завтрашнем дне, писать, писать и писать!» Наступила весна:
Смотри, — сбежал последний снег с полей! Лишь утренник, сын мраза недозрелый. Да по верхам таящийся снежок, Да сиверкий при солнце ветерок — Нам о зиме вещают отлетелой; Но лёд исчез, разбившись, как стекло. Река, смирясь, блестит между брегами. Идут в поля оратаи с сохами. Лишь мельница молчит — ее снесло!Глава восьмая
В ЗНАК ВЕРНОСТИ ОН ПОДАЕТ ЕЙ РУКУ.
И НА НЕЕ ВЗОР ТОМНЫЙ УСТРЕМИЛ:
КАК СИЛЬНО ВЕЧНУЮ РАЗЛУКУ
СЕЙ ВЗОР ИЗОБРАЗИЛ!
В. А. ЖУКОВСКИЙ (БАЛЛАДА «ЭЛЬВИНА И ЭДВИН»)И БУДЕТ ПЛАМЕНЬ, В НАС ГОРЕВШИЙ, СОГРЕВАТЬ ЖАР СЛАВЫ, БЛАГОСТИ И СМЕЛЫЕ ПОМЫШЛЕНИЯ В СЕРДЦАХ ГРЯДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!
В. А. ЖУКОВСКИЙ (К ВЯЗЕМСКОМУ)1
Жуковскому исполнилось тридцать лет. Подолгу, одиноко сидел он в своем доме, работая, читая. Но часто отрывали его от работы грустные мечты о «щастии», размышления о прошедшем. Он вспоминал разговор с Лопухиным в Савинском: Лопухин одобрил его намерения; он обещал написать Екатерине Афанасьевне письмо с убеждением согласиться на брак Маши с Жуковским. Это прибавило Жуковскому надежд, так как Екатерина Афанасьевна очень уважала Лопухина. «Сам бросить своего счастья не могу: пускай его у меня вырвут, пускай его мне запретят! Жертвовать собою не значит еще соглашаться, что жертва необходима и угодна богу, которому ее насильно приносят», — записал Жуковский в своем дневнике.
Маша была нездорова. Она не смела ничего сказать матери, но все более отдалялась от нее, замыкалась в себе. В феврале у нее пошла горлом кровь. Плещеев прислал из Черни доктора — француза Ле Фора, пленного, взятого под Малым Ярославцем и осевшего в Орловской губернии. Ле Фор нашел положение девушки опасным и предписал строгий режим. Из окна Машиной комнаты видны были противоположный берег пруда и деревенька Холх, где, полускрытый ракитами, угадывался домик Жуковского. Екатерина Афанасьевна с неудовольствием замечала, что Маша плачет. А когда Жуковский появлялся в муратовском доме, Маша оживала, заставляла себя встать, выходила к столу и даже играла на фортепьяно или на арфе. Жуковский старался ободрить ее, мимоходом говорил, что он хлопочет, что все будет хорошо. Пытался смешить ее юмористическими посланиями, стихами об управляющем имением Плещеева французе Букильоне:
Был на свете Букильон И поэт Жуковский, Букильону снился сон Про пожар московский…Но шутки получались несколько натянутыми. Дружеской обстановки в муратовском доме все-таки не было. Даже смех бойкой Саши не оживлял хмурой атмосферы. Екатерина Афанасьевна едва смотрела на Жуковского. В стихотворном послании к Александру Тургеневу он мрачен до безысходности:
Куда идти? что ждет нас в отдаленье? Чему еще на свете веру дать?В иные черные минуты он думает о смерти — как об освобождении от всех душевных мук:
Пришед туда, о друг! с каким презреньем Мы бросим взор на жизнь, на гнусный свет; Где милое один минутный цвет; Где доброму следов ко счастью нет; Где мнение над совестью властитель; Где всё, мой друг, иль жертва иль губитель!В это время он пишет баллады, где выступают и «губители» и «жертвы». Жуковский наказывает губителей: «Губитель ниспровергнут в бездну сам» («Адельстан»); «И смерть была им приговор» («Ивиковы журавли»). Жуковский пишет «Сиротку», «Песню матери», где учит читателя состраданию; «Обет», «Вспомни, вспомни, друг мой милый…» и «Путешествие жизни», в которых говорится, что «вдвоем» с любимой и «в самой скорби страха нет».
Он посылает Авдотье Петровне Киреевской, которая была в отчаянии из-за смерти мужа, стихи, в которых пытается ее как-то утешить. Он призывает ее «не чтить за долг убийственное горе», так как необходимо думать о том, чтобы «не отвратить от жизни» детей, которых было у Авдотьи Петровны трое.[117] Он пишет ей письмо, в котором просит ее пока не возвращаться в имение, где прошла ее жизнь с мужем: «Я был бы совершенно покоен, когда бы мог быть уверен, что вы захотите дать волю рассудку, дабы победить то впечатление, которое натурально должен произвести первый взгляд на Долбино. Очень понимаю, что весьма тяжело возвратиться в такое место, где всё напоминает о милом человеке». Жуковский просит ее не ездить туда без него.
В сентябре 1813 года пришло письмо от Александра Воейкова. «Брат! — писал Жуковский в ответ. — Я получил твое письмо… в то время, когда писал к Тургеневу послание, касающееся и тебя, ибо в нем говорится о прошлом времени, о нашем лучшем времени». Жуковский послал эти стихи Воейкову; там вспоминался его «ветхий дом»:
О! не бывать минувшему назад! Сколь весело промчалися те годы. Когда мы все, товарищи-друзья. Делили жизнь на лоне у свободы! Беспечные, мы в чувстве бытия. Что было, есть и будет заключали. Грядущее надеждой украшали И радостным оно являлось нам! Где время то, когда по вечерам В веселый круг нас музы собирали? Нет и следов! Исчезло всё — и сад, И ветхий дом, где мы в осенний хлад Святой союз любви торжествовали И звоном чаш шум ветров заглушали!Воспоминание значительно облагородило Воейкова в глазах Жуковского, оно связывало это имя с именем Андрея Тургенева. «Ты одно из действующих лиц той прекрасной комедии, которую мы играли во время оно и которая называется счастье», — писал Жуковский Воейкову и звал его к себе в Холх: «Поговорим о прошлом, поплюем на настоящее и еще теснее сдружимся». Так нуждался одинокий Жуковский в товарище возле себя, так ему душно было!
В октябре Жуковский уже представил своего гостя семье Протасовых. Воейкову было тридцать пять лет. В отличие от Жуковского, в нем не осталось ничего юношеского: он был старообразен, неповоротлив. Протасовым он поначалу не понравился: пропах табачищем, говорит сипло и как-то неразборчиво, лицо время от времени передергивает гримаса — нервный тик. Однако…
Воейков, расположившийся было в домике Жуковского, быстро применился к обстановке: неожиданно для всех он оказался предупредителен и даже остроумен. Он побеседовал с Машей и Сашей, поговорил раз-другой с Екатериной Афанасьевной, пожаловался, что своим присутствием невольно мешает в Холхе занятиям Жуковского, и вот уже переехал в Муратове! Екатерина Афанасьевна отвела ему комнату во флигеле. Жуковский подивился его проворству, но в переезде Воейкова в Муратово и для него была выгода: он теперь мог свободнее бывать в доме Протасовых, и присутствие постороннего человека обязывало Екатерину Афанасьевну быть любезнее и с ним.
Воейков за столом много рассказывал о своих приключениях, где был он якобы сотни раз на волоске от смерти; о том, что был он офицером-ополченцем, даже партизанил по примеру Дениса Давыдова, а после манифеста императора Александра в декабре 1812 года об окончании Отечественной войны поехал путешествовать по югу России и на Кавказ, добрался до Царских Колодцев — русской крепости в Кахетии, места, где на любой из горных троп подстерегает путешественника смертельная опасность… Никто и не подозревал правды: на самом деле Воейков, вступив в ополчение, сказался больным — у него и правда болели глаза, и отправился уже в августе 1812 года в мирное путешествие на юг России — через Харьков и Екатеринослав. Его партизанство — чистая выдумка. А на Кавказе он действительно побывал. Жуковский с удовольствием, без тени недоверия, слушал его рассказы о Кавказе и вернул ему их опоэтизированными:
Ты зрел, как Терек в быстром беге Меж виноградников шумел, Где часто, притаясь на бреге, Чеченец иль черкес сидел Под буркой с гибельным арканом; И вдалеке перед тобой. Одеты голубым туманом, Гора вздымалась над горой, И в сонме их гигант седой, Как туча, Эльборус двуглавый…[118]Воейков стал помогать Екатерине Афанасьевне в хозяйственных делах, раза два даже ездил куда-то с ее поручениями — словом, поставил себя так, что стал чуть ли не первым для нее советчиком. Оглядевшись, он понял всё: что Маша и Жуковский влюблены друг в друга и что Екатерина Афанасьевна против их брака, что Саша — красивая и к тому же с хорошим приданым невеста. Он стал «волочиться» за восемнадцатилетней Сашей, гулять с ней, играть в шахматы — он играл отлично, но часто нарочно проигрывал; писал ей стихи в альбом:
Счастлив, кому своей рукой Ты чай душистый наливаешь, Счастлив, с кем в шахматы играешь, Счастлив, кто говорит с тобой…Он сумел угодить и Жуковскому, хотя и весьма странным образом: он тайком прочитал его дневник и вписал туда восемь стихотворных строк, в которых обещал Жуковскому мирный исход его «сердечных» дел. Жуковский, жадно ловивший всякую, даже самую небольшую надежду, в том же послании к Воейкову простодушно пишет:
И кто, скажи мне, научил Тебя предречь осмью стихами В сей книге с белыми листами Весь сокровенный жребий мой?Воейков уже с мая этого года хлопотал о месте профессора русской словесности в Казанском или Дерптском университете. В Петербурге ему помогал Александр Тургенев. Между тем он в послании Екатерине Афанасьевне постарался как можно вернее вызвать жалость к своей неустроенной судьбе: «Скитался долго я, как странник бесприютный, далёко от родных, от милых, от друзей…»; «О, радость полная превыше бед моих! Я поспешил сюда в объятья только брата, и что же? — Я нашел твой дом семьей родных!»
Саша вдруг с удивлением и досадой увидела себя невестой Воейкова… Она стала тайком плакать, клясть свою судьбу — уж очень непригляден был жених, — но воля матери для сестер была законом. Она успокоилась и стала искать в Воейкове достоинств. Воейков же изо всех сил старался ей понравиться. А для того чтобы заручиться поддержкой Жуковского, Воейков сыграл на его самой чувствительной струне: он обещал быть ходатаем за него и Машу перед Екатериной Афанасьевной. Но хлопоты эти, как говорил он Жуковскому, он считал неудобным начать до женитьбы своей.
Новый год Жуковский встретил в Муратове, вместе с Протасовыми и Плещеевыми. Пока за занавесом, протянутым поперек зала, готовилось что-то таинственное, все — и не только молодежь — играли в жмурки: то Жуковский, то Воейков с завязанными глазами опрокидывали стулья, стараясь кого-нибудь поймать. Плещеев наигрывал на фортепьяно бурные марши. Но вот прозвенел колокольчик, раздвинулся занавес и вышел двуликий Янус,[119] одетый в белый хитон, в золотой короне; на макушке у него горела витая розовая свеча. Повернувшись к гостям своим стариковским лицом с надписью на лбу «1813», Янус продекламировал, по-малороссийски смягчая «г»:
Друзья, я восемьсот Увы, тринадесятый. Весельем не богатый И старый очень год! Двенадцать бьет часов. Отец Сатурн грозится! Знать надобно проститься. Вам мой отчет готов.Большие часы пробили двенадцать раз. Янус выждал, когда умолкнет шум по поводу первого тоста, обратил к гостям молодое лицо с надписью на лбу «1814» и продолжал:
А брат, наследник мой. Четырнадцатый родом. Утешит вас приходом: Он щедрою рукою Все то вам возвратит. Что было взято мною, Здоровье с тишиною И мир вам подарит.Всего было восемь строф — их сочинил Жуковский. Второй застольный тост оказался для Жуковского неожиданным. Вдруг встал раскрасневшийся Воейков с бокалом в руке и проговорил:
— Дамы и господа! Я узнал, что через несколько дней исполнится ровно год, как вернулся под этот гостеприимный кров прославленный русский бард Жуковский… Я предлагаю объявить этот праздник двойным: встреча Нового года и возвращение из армии нашего друга-поэта.
— Ура Жуковскому! — закричали все.
Плещеев сел за фортепьяно, ударил по клавишам и запел:
На поле бранном тишина; Огни между шатрами…И потом запели все хором. Так встречен был 1814 год воинственной песнью Жуковского — «Певцом во стане русских воинов». Когда пение было окончено, Плещеев объявил, что он шестнадцатого января тоже устраивает двойной праздник: день рождения своей жены и… годовщину возвращения Жуковского из армии.
…Праздник у Плещеева в Большой Черни был устроен с размахом. В каменной сельской церкви гости присутствовали на торжественной обедне. Потом Плещеев повел всех в занесенную снегом рощу, где, к удивлению и смеху гостей, их встретила не то жрица, не то сивилла, закутанная в белое покрывало поверх шубы и стоящая у жертвенника — жаровни с горящими угольями. «Сивилла» продекламировала стихи и поздравила Анну Ивановну Плещееву с днем рождения, а Жуковского — со славным возвращением из-под бранных знамен.
Прямо в парке, у самого обрыва, над закованным в лед Нугрем, были накрыты столы для роскошного завтрака. Благо день был не слишком холодный, даже солнце немного пригревало. Плещеев в парке устроил целую ярмарку. Там были разрисованные деревянные балаганы, где маскарадно одетые крестьяне раздавали гостям разные безделушки. В одном балагане находилась камера-обскура: заглянув в трубу, зритель видел как бы вдали портрет Анны Ивановны Плещеевой, окруженной амурами…
СЕЛО БОЛЬШАЯ ЧЕРНЬ. ДОМ А. А. ПЛЕЩЕЕВА
Рис. В. А. Жуковского.
Вечером при участии Плещеева и Жуковского была поставлена трагедия Софокла «Филоктет». Жуковский остался доволен игравшими вместе с ним крепостными актерами. Потом Анна Ивановна пела «Светлану» Жуковского с оркестром. Виолончелист Клоссен исполнил русские народные песни, переложенные для виолончели Плещеевым. Ночью в парке был сожжен фейерверк. Воейков в своем дневнике назвал этот праздник «королевским», а ужин — «горацианским». Запись в дневнике он закончил иронически: «Благородное пьянство! Изящные дурачества!»[120]
2
31 января 1814 года Воейков поехал в Петербург хлопотать о своей должности: он намеревался занять место профессора русского языка и русской словесности, освободившееся в Дерптском университете после гибели Андрея Кайсарова. Екатерина Афанасьевна не хотела, чтобы Воейков покидал Муратове ради Дерпта, и Жуковский, зная это, писал Тургеневу: «Прошу тебя употребить все усилия, чтобы ему не давали кафедры». Но хлопоты Тургенева зашли далеко, дать им обратный ход было невозможно. В марте Воейков приехал в Муратово уже профессором и сумел наладить и здешние свои дела: в марте же он был объявлен женихом Саши, свадьбу назначили на июль; в сентябре молодые, а с ними и Екатерина Афанасьевна с Машей, собирались отбыть в Дерпт. Жуковский узнал об этом в пути, остановившись по дороге из Орла у знакомых.
«Я поглядел на своего спутника, — пишет он Авдотье Петровне в Долбино, — вы его знаете: больная, одержимая подагрою Надежда, которая скрепя сердце тащится за мною на костылях и часто отстает.
— Что скажешь, товарищ?
— Что сказать? Нам недолго таскаться вместе по белу свету». Жуковский решил снова объясниться с Екатериной Афанасьевной.
— Я прошу вас отдать за меня Машу.
— Никак нельзя. Тебе закон христианский кажется предрассудком, а я чту установления церкви.
— Я вам не родня; закон, определяющий родство, не дал мне имени вашего брата.
— Я никогда не соглашусь на этот брак. Ведь не пойдете вы с Машей против моей воли?
— Нет. Машу вы знаете. А я, хоть я и уверен в том, что мы были бы счастливы, обещаю от всего отказаться, если это не принесет счастья и вам.
— Мне давеча Маша сказала то же.
— В ваших руках наша жизнь.
— Ты настроил Машу против меня.
— Неужели для вас важнее остаться правой, нежели дать нам счастье? Ведь Маша сказала вам, что любит меня.
— Все равно я не допущу беззакония.
— Иван Владимирович Лопухин вами уважаем. Мог ли бы он одобрить беззаконие?
— Лопухин — не мог бы.
— Но он согласен со мной!
— Если мнение Ивана Владимировича с твоим согласно, то это только переменит мое мнение об нем.
— Ваше сердце для меня ужасная загадка, — сказал Жуковский и вышел.
Он поехал в Чернь, потом — в Долбино. Авдотья Петровна, которой Жуковский передал эту сцену, немедленно написала Екатерине Афанасьевне отчаянное письмо, призывая ее согласиться на счастье Жуковского и Маши, а в искупление этого — пусть и выдуманного — греха она клялась оставить своих детей и уйти в монастырь… Екатерина Афанасьевна отвечала ей: «Дуняша, милый друг, ты меня ужасаешь; что это за предложение ты мне делаешь? Ты всё забыла: бога, детей, Машу, твои должности, о себе я уже не говорю; ты ни о чем не думаешь кроме страсти Василия Андреевича и для удовлетворения ее ты все бросаешь». И сама вдруг грозит Авдотье Петровне тем же: «Я пойду в монастырь точно, и от раскаяния, что моей привязанностью и глупою доверенностью погубила Василия Андреевича. Это моя неосторожность всё сделала… Я всему этому виною, я допустила усиливаться страсти Василия Андреевича». Екатерина Афанасьевна изображает себя обманутой и несчастной: «Любовь моя к Василию Андреевичу так чиста, так непорочна, я заблуждалась и думала ему заменить матушку, батюшку, Елизавету Дементьевну и даже видела и в нем к себе истинную любовь брата, а это было всё одни искания для получения Машиной руки. Ежели б он видел мои мучения!»
… «Я теперь скитаюсь, как Каин с кровавым знаком на лбу, — писал Жуковский Тургеневу. — Если ничто не удастся, то надобно будет отсюда бежать, и всё-всё для меня переменится. Никакой план не представляется мне, и ни к какому не лежит сердце. Ведь это не будет план счастья, а только того, как бы дожить те годы, которые еще остались на мой удел. Самая печальная перспектива».
Письмо к Авдотье Петровне из Черни в Долбино еще мрачнее: «Теперешнее мое бытие для меня так тяжело, как самое ужасное бедствие. Для меня было бы величайшим наслаждением попасть в горячку, в чахотку или что-нибудь подобное».
А. А. ВОЕЙКОВА (ПРОТАСОВА).
Миниатюра.
Однако у Жуковского еще была надежда на Воейкова. Он не знал, что Воейков уже действует, но действует против него.
— Люблю Василия Андреевича как брата, — говорил Воейков, вздыхая, Екатерине Афанасьевне. — Мечется, мечется… Страдает. Уж как себя терзает — жаль смотреть! И ведь добро бы всерьез. А то всё — дым поэтический! Завтра же и сойдет. Машу мучает. Сколько слез вы, дорогая матушка, пролили… А завтра оглянется, пожмет плечами: из-за чего сыр-бор? Любви-то — нет!
Екатерина Афанасьевна в письмах к Авдотье Петровне стала говорить о том, что Маша Жуковского не любит, или любит, да «не так»; авось, рассчитывала она, это дойдет до Жуковского: «А за Машу я и теперь ручаюсь, что она не влюблена, а несчастлива тем, что знает в нее влюбленным человека, которого она с ребячества привыкла любить и ежели бы могла уверенной быть, что он желает себя победить и будет беречь свое здоровье, будет заниматься по-прежнему, она бы давно покойна была и никак никогда не желала бы этой свадьбы». Машу Екатерина Афанасьевна держала почти взаперти. Жуковский пытался приезжать в муратовский дом — то с Авдотьей Петровной, то с Плещеевым, но Екатерина Афанасьевна все внимание отдавала или Авдотье Петровне, или Плещееву, а на Жуковского почти и не смотрела. Воейков самодовольно, с видом хозяина, расхаживал по дому. Даже на лице милой Саши Жуковский почти не видел сочувствия к себе, но он понимал, что ей не до того: у нее свадьба вот-вот… «Легче быть одиноким в лесу с зверями, — думал Жуковский, — в тюрьме в цепях, нежели возле этой милой семьи, в которую хотел бы броситься и из которой тебя выбрасывают!»
С Машей ему видеться и говорить почти не удавалось, но они нашли способ общения: в маленьких тетрадях («синенькие книжки» — как называл их Жуковский) они писали нечто вроде писем-дневников и тайно от всех передавали их друг другу. В июньской тетрадке Жуковский пишет, что его одолевает «пустота в сердце, непривязанность к жизни, чувство усталости», что земная жизнь в последнее время была для него «смерть заживо». Он говорит Маше, что она стала ему «еще милее, еще святее и необходимее прежнего». Маша отвечает ему, что он должен приободриться, что любовь не должна угнетать его: «Я даже желала бы, чтобы ты меня любил менее». И Жуковский горячо откликается на ее попытку поддержать его: «Даю тебе слово, что убийственная безнадежность ко мне уже не возвратится… Прошу от тебя только одного: будь мне примером и верным товарищем в этой твердости… Будь моим утешителем, хранителем, спутником жизни!»
А. Ф. ВОЕЙКОВ.
Худ. Р. Александров.
Когда Протасовы поехали в Троицкое, Жуковский тайно, отставая на несколько станций, следовал за ними. «Я еду по вашим следам, — писал он в тетрадке для Маши. — Остановился в Куликовке в семнадцати верстах от Орла, там, где вы ночевали в последний раз. Сижу на том месте, где ты сидела, мой милый друг, и воображал тебя. Хозяйка мне рассказывала об вас, и я уверил ее, что я — жених, но что невеста моя не младшая, а старшая дочь той госпожи, которая у ней останавливалась». 29 июня в Губкине: «Лежу в сарае, в санях на сене. Читаю Виландова „Диогена Синопского“ и часто прерываю чтение, чтобы думать о тебе. Гулял по кладбищу, — даже и срисовал его». 5 июля Жуковский делает запись в Орле, 9-го — в Котовке у Павла Ивановича Протасова, брата покойного мужа Екатерины Афанасьевны; тут узнал он, что Маша хворала, когда была здесь. «Ты опять больна и опять начинаешь скрываться! — пишет Жуковский. — Ты только хочешь носить маску любви ко мне — не сердись за это выражение! Где же любовь, когда нет никакой заботы о себе».
СЕЛО ДОЛБИНО. ОКРЕСТНОСТИ.
Рис. В. А. Жуковского.
В ответ на жалобы Жуковского по поводу предстоящей разлуки — отъезда Протасовых с Воейковыми в Дерпт — Маша говорит: «Базиль! Ты слишком огорчаешься разлукой! Скажи, много ли ты имеешь утешения теперь, будучи вместе?» Он снова жалуется на то, что не может ничего делать, что и стихи не пишутся. Маша отвечает: «Если бы ты знал, сколько меня упрекала совесть за это бездействие, в котором ты жил до сих пор! Я не только причина всех твоих горестей, но даже и этого мучительного ничтожества, которое отымает у тебя будущее, не давая в настоящем ничего кроме слёз. Итак, занятия! непременно занятия!» Призыв Маши снова пробудил в Жуковском желание работать. Он сообщает ей свои планы: «Писать (и при этом правило — жить как пишешь, чтобы сочинения были не маска, а зеркало души и поступков)… Слава моя будет чистая и достойная моего ангела, моей Маши». Маша убеждала его ехать в Петербург, думать о своем будущем. Она выражала уверенность, что года через два-три они все-таки соединятся. О своей матери она пишет: «Базиль, как мы счастливы в сравнении с нею!.. Она слишком чувствует сама, что она не права; доказательства ей не нужны, признаться ей тяжело… Я боюсь за ее здоровье». Екатерина Афанасьевна в это время начала страдать тяжелыми приступами головной боли.
2 июля собирались праздновать свадьбу Воейкова с Сашей, но когда всё рассчитали, оказалась нехватка в средствах. Жуковский, страстно желавший хоть чем-нибудь быть полезным семье Протасовых, немедленно продал за одиннадцать тысяч усадьбу в Холхе — свое последнее пристанище — и предложил деньги Екатерине Афанасьевне. Она было хотела что-то возразить, но он решительно объявил, что это его свадебный подарок Саше.
— Но где же ты будешь жить? — спросила Екатерина Афанасьевна с подозрением, не нарочно ли он устроил эту продажу, чтобы проникнуть в муратовский дом. — Да что теперь делать: занимай горницу во флигеле.
Венчание состоялось 14 июля в церкви соседнего села — Подзавалова. И вскоре Воейков вовсе перестал играть с Жуковским в дружбу и братство. Жуковский писал Маше: «Моя последняя надежда была на Воейкова. Милый друг, эта надежда пустая: он не имеет довольно постоянства, чтобы держаться одной и той же мысли… Я не сомневаюсь в его дружбе, но теперешний тон его со мною не похож на прежний… Мы с ним живем под одной кровлею и как будто не знаем друг друга».
30 августа, в день своих именин, Воейков позволил себе грубую выходку против Жуковского. Никто не сделал ему за это замечания. Оскорбленный Жуковский покинул Муратово и написал Екатерине Афанасьевне: «Привязанность мою к Маше сохраню вечно: она для меня необходима; она всегда будет моим лучшим и самым благодетельным для меня чувством. Эта привязанность даст мне силу и бодрость пользоваться жизнью. С нею найду еще много хорошего в жизни… Я не мог с вами проститься. Это было бы тяжело. С вами, быть может, и скоро увижусь, но с вашею семьею, с Муратовом, с моим настоящим отечеством, — расстаюсь навсегда!»
3
Долбино — в семи верстах от Мишенского, на той же Выре; те же родные края, где живы воспоминания детства. Жуковский проехал Белев, потом деревню Ровно. А тут и в самом деле «ровно»! Слева, среди ивняка и ракит, мягко изгибается Выра, справа — ряд поросших деревьями и кустарниками холмов, по обеим сторонам дороги — плоское, как стол, зеленое пространство, за которым уже чуть зажелтевшей зеленью шумела роща, спускающаяся в овраг. Тихо, отрадно… За рощей, как и в Мишенском, дорога пошла вверх, к усадьбе Киреевских. Большой дом, парк и старинная церковь располагались на горе.
Авдотья Петровна — Дуняша — очень рада была неожиданному приезду Жуковского. Он сразу увидел ее с детьми на лужке возле дома: дети (Ваня восьми лет, Петя — шести и Маша — трех) бегали, догоняя друг друга…
— Я к тебе совсем, Дуняша.
— Этот дом — твой! — Авдотья Петровна поняла, что произошло. — Вот ведь она какая…
А. П. КИРЕЕВСКАЯ.
Рисунок.
— Кто? — не понял Жуковский.
— Екатерина Афанасьевна.
— Да нет, я сам ушел. Увидел, что чужой, — и ушел.
Авдотья Петровна сказала Максиму, еще сидевшему на козлах:
— Ты, Максим, поезжай завтра в Муратово, я тебе дам еще лошадей, привези всё: книги, бюро, шкаф Василья Андреевича, да не забудь ничего — ни пуговицы единой!
— Барин-то теперь бездомный, — вздохнул Максим. — Последний дом продал и деньги отдал.
— Ну нет, Максим, — повысила голос Авдотья Петровна, — Василий Андреевич, пока я жива, не будет бездомным!
— Ах, Дуняша, Дуняша, — в растерянности пробормотал Жуковский.
…Отсюда он писал Тургеневу: «До сих пор гений, душа, сердце, всё было в грязи. Я не умею тебе описать того низкого ничтожества, в котором я барахтался. Благодаря одному ангелу — на что тебе его называть? ты его имя угадаешь, — я опять подымаюсь, смотрю на жизнь другими глазами… Еще жить можно!»
СЕЛО ДОЛБИНО.
Рис. В. А. Жуковского.
ПЕТР И ИВАН КИРЕЕВСКИЕ.
Рисунок.
Золотая, чистая начиналась осень. Жуковский изредка выезжал к Плещеевым в Чернь, в Володьково к Черкасовым, навещал родное Мишенское,[121] — там поднимался в Грееву элегию, свою беседку, уже потемневшую и как бы уменьшившуюся, одинокую.
…В октябре 1814 года возникла стихотворная переписка между Василием Пушкиным, Вяземским и Жуковским, в которой впервые в русской поэзии была поднята тема «поэта и толпы».[122]
Пушкин обращается к Вяземскому:
Как трудно, Вяземский, в плачевном нашем мире Всем людям нравиться, их вкусу угождать!Он жалуется на то, что «зависть лютая, дщерь ада, крокодил» преследует поэта везде, — он вспоминает драматурга Владислава Озерова, который завистников-невежд «учинился жертвой»: они свели его с ума своими интригами… «Врали не престают злословить дарованья»; «Не угодишь ничем умам, покрытым тьмою», — говорит он. Вяземский ему отвечает:
У каждого свой вкус; свой суд и голос свой: Но пусть невежество — талантов судией, — Ты смейся и молчи… Роптанье безрассудно! Грудистых крикунов, в которых разум скудной Запасом дерзости с избытком заменен, Перекричать нельзя…Жуковский написал общее послание «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину», где призывает друзей-поэтов «презренью бросить тот венец, который всем дается светом», не обращать внимания на суд невежд: «Друг Пушкин! счастлив, кто поэт! Его блаженство прямо с неба; он им не делится с толпой: его судьи лишь чада Феба! Ему ли с пламенной душой плоды святого вдохновенья к ногам холодных повергать, и на коленях ожидать от недостойных одобренья?»
Жуковский тоже говорит об Озерове, в лавры которого зависть «тернии вплела»: «И торжествует! Растерзали их иглы славное чело»;[123] и восклицает: «Потомство грозное, отмщенья!» Жуковский утверждает независимость истинного поэта и от хвалы и от хулы «толпы». Он пишет:
…О, благотворный труд, Души печальный целитель И счастия животворитель! Что пред тобой ничтожный суд Толпы, в решениях пристрастной, И ветреной, и разногласной? …Собою счастливый поэт. Твори, будь тверд! их зданья ломки! А за тебя дадут ответ Необольстимые потомки.Во второй и третьей частях этого стихотворного послания к друзьям Жуковский разбирает слог посланий Вяземского и Пушкина. Он отмечает отдельные неясности, хвалит точные и емкие строки, на которых лежит «Фебова печать», советует писать кратко, логично, не жалеть труда при работе над черновиком:[124]
Что в час сотворено, то не живет и часа! Лишь то, что писано с трудом, читать легко.П. А. ВЯЗЕМСКИЙ.
Худ. К. Рейхель.
Жуковский вместе с Вяземским и Пушкиным вступает в очередное сражение с «вождем невежд и педантов», «записным зоилом», живым «лексиконом покрытых пылью слов» (по выражению Вяземского) — то есть с Александром Шишковым, гонителем нового в литературе, особенно если это новое исходит от Карамзина или представителей его школы. В Долбине Жуковский написал второе послание к Воейкову — как бы в ответ на его только что появившуюся сатирическую поэму «Дом сумасшедших», где Воейков высмеял всех подряд — и «славянофилов» и «карамзинистов». В этот «дом» упрятал Воейков и Шишкова и Жуковского… Сатира Воейкова разошлась в списках и имела успех. Потом он в течение многих лет делал к ней добавления — последние уже в 1830-х годах. Карамзинисты, в том числе и Жуковский, обиженными себя не почувствовали нисколько: наоборот, они считали Воейкова своим соратником.
В послании к Воейкову Жуковский рисует фантастическую картину поклонения беседчиков Старине: в ее храм Шишков приехал «избоченясь, на коте», а кот мяукал при этом по-славянски; за Шишковым следовали Феб в рукавицах, русской шапке, музы в кичках и хариты в черевиках. Их встречает, сидя на престоле, Старина, справа от нее — «Вкус с бельмом». Стихотворцы-староверы окружают престол и громко клянутся:
Брань и смерть Карамзину![125]СТИХОТВОРЕНИЕ В. А. ЖУКОВСКОГО «ПОСЛАНИЕ К ВЯЗЕМСКОМУ» (1814).
Автограф.
В этой литературной баталии стала постепенно оживать и лирическая муза Жуковского. У него появляются разные замыслы, он готовится что-то писать, но еще не совсем верит в то, что его воображение оживет:
О, упоение томительной мечты, Покинь меня! Желать — безжалостно ты учишь; Не воскрешая, смерть мою тревожишь ты; В могиле мертвеца ты чувством жизни мучишь.Покоя он не ждет, его не может быть. Но появляется какое-то равновесие, что-то сладко-утешительное в душе, навеянное, может быть, родной природой. В его тетради возникает светлая, написанная словно с улыбкой картина:
СЕЛО ДОЛБИНО. ВИД С ХОЛМА, НА КОТОРОМ НАХОДИЛАСЬ УСАДЬБА КИРЕЕВСКИХ.
Уж в Долбине давно, В двойное мы смотря окно На обнаженную природу. Молились, чтоб седой Борей Прислал к нам поскорей Сестру свою метель и беглую бы воду В оковы льдяные сковал; Борей услышал наш молебен: уж крошится На землю мелкий снег с небес; Ощипанный белеет лес, Прозрачная река уж боле не струится, И, растопорщивши оглобли, сани ждут, Когда их запрягут.Жуковский часто оставался в усадьбе один; Авдотья Петровна уезжала с детьми к родственникам. Ему и хотелось быть одному — он почувствовал небывалый прилив творческой энергии, завел несколько черновых тетрадей и сидел до глубокой ночи, не выпуская пера из рук, работая изо дня в день с маленькими перерывами для прогулок. В ноябре он сообщает Тургеневу, что он «в стихах по уши», что «шутя-шутя написал пять баллад, да еще три в голове». В октябре-ноябре 1814 года, в Долбине, он написал и перевел много стихотворений: «К самому себе», «К Тургеневу, в ответ на стихи, присланные им вместо письма», «Добрый совет (в альбом В. А. Азбукину)», «Библия» (с французского, из Л. Фонтана[126]), «Мотылек», шесть «Эпитафий», «Желание и наслаждение», два послания к Вяземскому (кроме обращенного к нему и Пушкину вместе), несколько посланий к другим лицам — к Черкасовым, Плещееву, Полонскому, Кавелину, Свечину, ряд поэтических миниатюр («Совесть», «Бесполезная скромность», «Закон» и другие), «Счастливый путь на берега Фокиды!», «Амур и мудрость», «Феникс и голубка», «К арфе» и несколько шуточных стихотворений — «Максим», «Ответы на вопросы в игру, называемую секретарь», «Любовная карусель (тульская баллада)», «Бесподобная записка к трем сестрицам в Москву» и другие. Несколько баллад: «Старушка» (впоследствии названная так: «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем, и кто сидел впереди»), «Варвик», «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин» и «Эолова арфа». В октябре он задумал продолжение написанной в 1810 году «старинной повести» в стихах — «Двенадцать спящих дев» (на сюжет полного фантастических ужасов романа немецкого писателя XVIII века X. Шписа), — вторую часть он сначала назвал «Искупление», потом — «Вадим». Этому «Вадиму» Жуковский отдал часть того, что предполагал использовать во «Владимире», то есть «древнерусский» материал, связанный с Киевом и Новгородом. В октябре же он начал широкую истог рическую панораму в стихах — «Императору Александру», вещь, которая потребовала от него немало труда. В октябре же сделал он первую попытку перевода «Орлеанской девы» Шиллера. Долбинская осень оказалась настолько плодотворной, что Жуковский увидел в этом даже недобрый знак: «Я точно спешил писать, как будто бы кто-нибудь говорил мне, что это последний срок, что в будущем всё пойдет хуже и хуже и что мой стихотворный гений накануне паралича. Дай бог, чтобы предчувствие обмануло!»[127]
4
В Муратове Жуковский не ездил, но путем переписки с Екатериной Афанасьевной сумел добиться ее разрешения ехать в Дерпт. Поездка, намеченная на сентябрь 1814 года, была отложена Воейновым до начала 1815 года — он испросил у начальства отсрочку. У Жуковского к этому времени не осталось уже почти никаких надежд на брак с Машей, но и просто быть возле нее он считал огромным счастьем.
Маше было гораздо труднее — мать сделалась для нее как бы чужим человеком; ей надо было многое скрывать, в особенности свое крайнее отчаяние: с Жуковским она теряла человека, который с ее ранних лет вошел в ее духовную жизнь, во многом воспитал и образовал ее. Которого она полюбила. И что теперь осталось для нее? Напряженная атмосфера в семье, гибель всех надежд.
Она искала себе какой-нибудь полезной деятельности. Продала свое фортепьяно, стоившее две тысячи рублей, и купила другое — за четыреста, а тысячу шестьсот раздала бедным крестьянам. «1600 рублей, — писала она Жуковскому, — могут сделать совершенное благополучие пяти семейств, которые не имеют хлеба насущного». Она взяла в муратовский дом трех мальчиков-сирот, оставшихся после умершей крестьянки, и ухаживала за ними. Она занималась также лечением крестьян — давала им лекарства, делала перевязки, навещала больных.
Тихо, как тень, проходила она по дому, одиноко бродила в парке. Она поняла, что жизнь ее погублена бесповоротно и готова была умереть в любую минуту. Но Жуковского она по-прежнему старалась ободрять, призывая его к «занятиям» во имя будущего. И он, захваченный своими планами, своей работой, своим несчастьем, не всегда мог представить себе всю глубину Машиных страданий.
Он посылал Маше все свои новые стихи. Она переписывала их для себя. В его элегически-сентиментальных балладах «Алина и Альсим», «Эльвина и Эдвин» и «Эолова арфа» было много от его собственной жизни, несмотря даже на то, что две первые — переводные. Это была и жизнь Маши. Общая их судьба отразилась в этих стихах.
Во всех трех балладах — влюбленные, которые разлучены волей злых родителей: «Нет, дочь моя, за генерала тебя отдам!» — говорит мать Алине, узнав, что она любит бедняка Альсима; «Лишь золото любил отец Эдвина; для жалости он сердца не имел», — этот отец запретил своему сыну встречаться с крестьянкой Эльвиной; в третьей балладе Минвана, дочь «владыки Морвены» — могучего Ордала, и бездомный «певец сладкогласный» Арминий не смеют и вообще никому открыться в своей любви. «Я бедный певец; ты ж царского сана», — говорит девушке Арминий. Под видом бродячего торговца драгоценностями является Альсим к Алине. Отец Эдвина настолько грозен, что юноша решается смотреть на свою любимую только издалека, буквально «из кустов»…
Арминий грустит во время свидания с Минваной:
Минутная сладость Веселого вместе, помедли, постой! Кто скажет, что радость Навек не умчится с грядущей зарей! Проглянет денница — Блаженству конец; Опять ты царица. Опять я ничтожный и бедный певец!Ордал, отец Минваны, проведал о тайных встречах и изгнал певца из страны. Минвана одна грустит под «древом свиданья», на ветвях которого Арминий оставил свою арфу.
НОМЕР ЖУРНАЛА «АМФИОН» С ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИЕЙ БАЛЛАДЫ В. А. ЖУКОВСКОГО «ЭОЛОВА АРФА».
Все эти влюбленные гибнут: Алину и Альсима убивает муж Алины, за которого ее выдали обманом; Эдвин, умирая от любовной тоски, призвал Эльвину, и она, приняв его последний вздох, умерла сама; Минвана услышала внезапный звон арфы, оставленной Арминием на дереве, и поняла, что «земля опустела, и милого нет!». Вскоре рассталась с жизнью и Минвана:
И нет уж Минваны… Когда от потоков, холмов и полей Восходят туманы, И светит, как в дыме, луна без лучей — Две видятся тени: Слиявшись, летят К знакомой им сени… И дуб шевелится, и струны звучат.«Эолову арфу» Маша выучила наизусть. Эта грустная, прихотливо-музыкальная поэма захватила всю ее душу: сколько в ней красоты, чистого чувства, горькой правды, которая ведома только ей и Жуковскому! Маша повторяла про себя строфы баллады, и каждый раз они приводили ее в трепет: почти не верилось в то, чтобы слова так могли выразить муку души, так глубоко проникнуть в трагедию идеальной любви, так тонко передать слитые воедино тоску и счастье…
Жизнь — ее воплощение Ордал — грозно восстала против любви «неравных» по своему положению в обществе молодых людей. Они погибли. И все-таки они — вместе! Маша поняла, что хотел сказать этим Жуковский именно ей: это гибель «веселого вместе», но не гибель их любви. Нет, их любовь не может погибнуть.[128]
А. И. ТУРГЕНЕВ.
Худ. К. Брюллов.
5
«Прошедшие октябрь и ноябрь были весьма плодородны, — писал Жуковский Тургеневу. — Я написал пропасть стихов; написал их столько, сколько силы стихотворные могут вынести. Всегда так писать невозможно». В эти месяцы Жуковский создал и послание «Императору Александру», связанное с победоносным окончанием войны против Наполеона, — это целая поэма, написанная по строго продуманному и не раз переправленному плану. «Сюжет мой так велик, — писал он Тургеневу, — что мне надобно было держать себя в узде».
Жуковский создал поэтическую картину исторических событий — от начала французской революции до падения Наполеоновской империи. Он обращается в этом послании к царю как независимый гражданин и смело требует от него уважения к народу.[129]
ТИТУЛЬНЫИ ЛИСТ ОТДЕЛЬНОГО ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ В. А. ЖУКОВСКОГО «ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ».
Большая часть просвещенного общества России верила тогда в Александра, ждала от него «добрых дел», в том числе конституции и освобождения крепостных крестьян; разочарование наступит немного позднее, тогда и начнут складываться первые декабристские организации. А пока — Жуковский выражал не только свои чувства, говоря:
От подданных царю коленопреклоненье; Но дань свободная, дань сердца — уваженье, Не власти, не венцу, но человеку дань.«Ты ждешь от меня плана моего Послания к государю, — пишет Жуковский Тургеневу 1 декабря 1814 года, — а я посылаю тебе его совсем написанное. Первое условие: прочитать вместе с Батюшковым, с Блудовым, с Уваровым, и, если он состоит налицо, с Дашковым».
Друзья прислали Жуковскому свои замечания. Замечания Батюшкова, которые Жуковский почти все принял, относились в основном к первой половине стихотворения. «Вторая половина, — писал он Тургеневу, — вся прелестна, и рука не подымется делать замечания. Здесь Жуковский превзошел себя: стихи его — верьте мне! — бессмертные».
В январе 1815 года послание «Императору Александру» было выпущено в виде небольшой книжки с виньеткой, гравированной художником Николаем Уткиным.
Жуковский начал новое большое стихотворное произведение — «Певец в Кремле». «Певец во стане, — писал он Тургеневу, — предсказавший победы, должен их воспеть; и где же лучше, как не на кремлевских развалинах». Он начал это стихотворение в Черни у Плещеева, продолжал в Долбине и потом в Москве. Эта вещь подвигалась с трудом, он никак не мог найти верный тон: творческий подъем вдруг пошел на спад. Виной этому были, очевидно, новые жизненные неурядицы. Екатерина Афанасьевна по каким-то причинам вдруг запретила Жуковскому ехать в Дерпт вместе с ними — это было для него неожиданностью. Он написал ей письмо и сам решил с ней поговорить.
«Мы говорили, — писал он Маше, — этот разговор можно назвать холодным толкованием в прозе того, что написано с жаром в стихах. Смысл тот же, да чувства нет. Она мне сказала: дай время мне опять сблизиться с Машею: ты нас совсем разлучил».
Протасовы и Воейковы собирались уезжать. Жуковский не знал даже дня их отъезда. Чтобы не упустить, может быть, последней возможности разговора с Екатериной Афанасьевной, он в середине января 1815 года выехал в Москву.
«Покрытая пожарным прахом» — по словам Жуковского — древняя столица начала отстраиваться, но вид ее был еще печален. Однако «пожарный прах» не только грусть вызвал в душе Жуковского. «Теперь пишу из священной нашей столицы, покрытой прахом слав ы, — писал он Тургеневу, — в которую я въехал с гордостью русского и с каким-то особенным чувством, мне одному принадлежащим, как певцу ее величия». Ведь только Жуковский мог так смело назвать пожар Москвы «костром свободы» — в послании «Императору Александру». Об этой Свободе — освобождении родины от врага — так писал он:
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТДЕЛЬНОГО ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ В. А. ЖУКОВСКОГО «ПЕВЕЦ В КРЕМЛЕ» С ГРАВЮРОЙ С. ГАЛАКТИОНОВА ПО КАРТИНЕ Ф. АЛЕКСЕЕВА.
И в пепле мщения Свобода ожила, И при сверкании кремлевского пожара, С развалин вставшая, призрак ужасный, Кара Пошла по трепетным губителя полкам, И, ужас пригвоздив к надменным знаменам, Над ними жалобно завыла: горе! горе! И Глад, при клике сем, с отчаяньем во взоре, Свирепый, бросился на ратных и вождей… Тогда помчались вспять; и грудами костей, И брошенными в прах потухшими громами. Означили свой след пред русскими полками. И Неман льдистый мост для бегства их сковал…Замоскворечье выгорело полностью. Обугленные кирпичные трубы еще торчали из руин, но кое-где уже весело желтели новые стены, Арбат и Пречистенка тоже были полностью истреблены пожаром: на них осталось два-три дома с закопченными каменными стенами и с окнами, забитыми досками. Только восемь домов и меньше половины деревьев уцелело на Тверском бульваре. В Кремле взорвана была часть стен и повреждены некоторые башни, колокольня Ивана Великого, арсенал и Грановитая палата. Прогорели купола соборов. Камни и бревна от взрыва разлетелись так, что сильно завалили реку Неглинную. На сохранившихся почти полностью улицах — Кузнецком мосту, Мясницкой, Малой Дмитровке, Лубянке — жизнь шла уже своим обычным порядком. Жуковский остановился у Карамзина на Малой Дмитровке.
У Карамзина он рассчитывал прожить не более двух недель — до приезда Протасовой с семьей. И вот они приехали. Екатерина Афанасьевна глядела мрачнее тучи, Воейков светился самодовольством. А Маша покашливала и старалась скрыть свое уныние. Жуковскому почти не удалось поговорить с ней: мать не спускала с нее глаз. В отчаянии Жуковский пишет Тургеневу: «Каждая минута напоминает мне только о том, чего я лишен, и нет никакого вознаграждения… Мы не можем подойти друг к другу свободно… Теперь вопрос: что же будет с нами, — с нею и со мной? Дойти ко гробу дорогою печали. Более ничего!»
В конце января все они уехали в Дерпт. Жуковскому было милостиво велено «ждать». Но — чего? Он был в недоумении: остаться в Москве или ехать в Петербург? До начала марта Жуковский жил в Москве, не зная, что предпринять. 1 февраля 1815 года он сообщил Тургеневу, что проживет еще «дней десять» в Москве, а 4 марта: «Еду прямо в Дерпт, где пробуду сколько возможно менее, потом — в Петербург».
В письмах к Тургеневу он просит его обратиться к императрице: «Если можно, представь мое положение государыне», — пусть-де она напишет Екатерине Афанасьевне «такое письмо, в котором бы более убеждала, а не приказывала… я знаю, что мать сама устала противоречить и рада будет на чем-нибудь опереться». Так «сердечные» дела Жуковского зашли в тупик.
Тургенев продолжал настойчиво призывать его в Петербург. Жуковский и сам чувствовал, что ему ничего другого не остается: из Петербурга всегда можно съездить в Дерпт и повидать Машу. А там кто знает — может, все как-нибудь изменится… Надо быть поблизости.
В Москве, еще не окончив «Певца в Кремле», он снова стал думать о «Владимире», эпической поэме. Карамзин одобрил этот его замысел и разрешил даже сделать выписки из своей еще не опубликованной «Истории государства Российского». «Эти выписки послужат мне для сочинения моей поэмы», — говорит Жуковский в письме к Тургеневу. «Но как еще много надобно накопить материалов!» — добавляет он. В Москве трудно было добыть что-нибудь: пожар 1812 года пожрал все крупные библиотеки. «Владимира» можно было продолжать только в Петербурге. В Петербурге же и Александр Тургенев начал хлопоты по изданию его двухтомных сочинений… Итак — в Петербург! Все сложилось так, что ехать нужно именно туда. Завернуть в Дерпт, повидать Машу, которая выехала из Москвы не совсем здоровой, и — к друзьям.
7 марта 1815 года Жуковский сел в кибитку. Зазвенел колокольчик. Снег брызнул из-под полозьев.
…На него надвигалась другая жизнь — неясной, томительно-тревожной тучей наплывал сквозь холодные черные леса Петербург. С каждой верстой Жуковский все меньше думал о Москве, все глубже уходил душой в будущее, — он видел себя у Невы, на Невском проспекте, и всё в каком-то странном одиночестве, словно он один в городе. Смешивались, входили друг в друга Петербург и Дерпт, которого он не знал — он видел его каким-то… петербургским. Он заснул, полулежа на сиденье. И опять — Нева, а на противоположном берегу, справа от угрюмой крепости, неподвижная фигура в трепещущем от ветра белом платье. Крикнуть — не услышит… Маша? Да, это она. А вот часового в этой тишине слышно за тысячи верст: «Слу-шай!»
Примечания
1
Два сына его впоследствии стали декабристами. Одному из них — Алексею Ивановичу Черкасову — Жуковский в 1837 году помог вырваться из сибирской ссылки.
(обратно)2
Редкий по красоте архитектурный ансамбль XVI–XVII вв., который сейчас реставрируется. Постановлением Госстроя и Коллегии Министерства культуры РСФСР от 31.VII.1970 года Белев причислен к историческим городам, имеющим ценные градостроительные ансамбли.
(обратно)3
Это произошло в 1808 г. Впоследствии Е. И. Протасова продала дом купцу Емельянову, который отдавал его в аренду Земскому суду. В 1868 г. по инициативе П. А. Вяземского дом был куплен государством, и в нем открыто было училище имени В. А. Жуковского. С 1910 года здесь был Научно-образовательный и художественный музей им. Павла Жуковского — сына поэта, художника, много помогавшего устроителям музея. В 1940 году в этом доме создан был новый музей — мемориальный музей В. А. Жуковского. В 1941 г. фашистские захватчики сожгли его. Сейчас Белевский художественно-краеведческий музей готовится к восстановлению дома Жуковского, но пока не выяснена его внутренняя планировка.
(обратно)4
Это возвышение — угол городища — и сейчас самая высокая точка в долине Выры. Белевский художественно-краеведческий музей предполагает восстановить здесь беседку «Греева элегия» — как называли ее обитатели Мишенского. Беседка разрушилась в 40-х годах XIX века.
(обратно)5
Так принято было переводить в то время имя автора «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса Саавёдры (1547–1616). Дон Кихот в русских переводах XVIII — начала XIX в. именовался Дон Кишотом, а его оруженосец Санчо — Санко, что шло от французского произношения, — ведь и Жуковский переводил роман не с испанского, а с французского языка.
(обратно)6
Грей Томас (1716–1771) — английский поэт, историк и лингвист. Его «Элегия, написанная на сельском кладбище» (1751) была переведена на все европейские языки и стала одним из основных произведений сентименталистской лирической поэзии. До Жуковского переводилась на русский язык не раз, но только прозой. Перевод Жуковского стал в России литературным событием.
(обратно)7
Мерзляков Алексей Федорович (1778–1830) — поэт переводчик, с 1810 г. профессор Московского университета. В 1803–1807 гг. создал цикл песен, из которых многие стали народными («Среди долины ровныя…», «Чернобровый, черноглазый…» и др.). Музыку к его песням писал композитор Д. Н. Кашин. В. Г. Белинский писал, что Мерзляков «перенес в свои русские песни русскую грусть-тоску, русское гореванье, от которого щемит сердце и захватывает дух». В 1828 г. Мерзляков издал свой перевод «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо.
(обратно)8
После смерти Маши Иоганн Мойер жил в ее наследственном селе Бунине Орловской губернии, недалеко от Муратова. Он умер там в 1858 году и оставил по себе хорошую память. В 1977 году, летом, я был в Бунине и от одного из сельских старожилов слышал рассказы о «докторе-немце Мойере», — предания, передававшиеся из поколения в поколение.
(обратно)9
Теперь это улица Жуковского.
(обратно)10
В 1812 г, В. А. Азбукин (? — 1832) был начальником Жуковского по ополчению. В 1814 г. Азбукин женился на Екатерине Петровне Юшковой — племяннице Жуковского, сестре Авдотьи Петровны Киреевской.
(обратно)11
Метким словом (франц.).
(обратно)12
Винчура — шуба из овчины особой выделки, доставлявшейся из Италии, из плодородной равнины Винч в верховьях реки По.
(обратно)13
Строка из послания К. Н. Батюшкова «К Жуковскому» (1812).
(обратно)14
От названия бывшей ранее на этом месте финской деревни Сааримойс — Верхняя Мыза. «Сарское» незаметно — по созвучию — перешло в «Царское». Долгое время употреблялись одновременно оба названия.
(обратно)15
Стихотворение «Воспоминания в Царском Селе».
(обратно)16
В год рождения В. А. Жуковского — 1783 — А. И. Бунин разобрал эту деревянную церковь и построил каменную, которая погибла во время Великой Отечественной войны.
(обратно)17
Для сравнения можно отметить, что мать А. И. Бунина, Феодора Богдановна, урожденная Римская-Корсакова, знала французский язык, но не умела читать по-русски. А сестры Бунина, Анна и Платонида, были вообще неграмотны и едва умели расписаться.
(обратно)18
Есть другая версия его смерти: по словам Е. И. Елагиной, сын Буниных Иван неожиданно умер уже по возвращении в Мишенское, во время помолвки его с дочерью графа Орлова, известного фаворита Екатерины II, приятеля Бунина. У него «лопнула жила» от потрясения, так как отец принуждал его жениться на Орловой, а он любил девицу Лутовинову.
(обратно)19
По новому стилю — 9 февраля.
(обратно)20
В замужестве — Зонтаг; впоследствии она стала детской писательницей. Годы ее жизни 1787–1864.
(обратно)21
Вольтеровское кресло (или «волтер») — от имени английского мебельщика Уолтера, по тогдашнему русскому произношению — Вольтера.
(обратно)22
Виланд Христбф Мартин (1733–1813) — крупнейший немецкий писатель. Гете говорил, что поэма Виланда «Оберон», пока «поэзия останется поэзией… будет вызывать любовь и восхищение как шедевр поэтического искусства». В «Обероне» Виланд использовал средневековые рыцарские сказания и народно-поэтическую фантастику Германии.
(обратно)23
Ариосто Лудовико (1474–1533) — итальянский поэт, автор эпической поэмы «Неистовый Роланд».
(обратно)24
Руссо Жан-Жак (1712–1778) — французский писатель и философ. Философия его оказала большое влияние на политические взгляды деятелей французской буржуазной революции конца XVIII в. Робеспьер считал себя учеником Руссо. В России огромный успех имели «нравственные» романы Руссо «Эмиль, или О воспитании» и «Юлия, или Новая Элоиза», а также автобиографическая «Исповедь».
(обратно)25
«Наказ» Екатерины Второй — трактат философско-юридического характера, написанный в 1767 году.
(обратно)26
Жанлйс Мадлён-Фелиситё Дюкрё де Сент-Обён (1746–1830) — французская писательница, имевшая огромную популярность в России в XVIII — начале XIX в.
(обратно)27
Мёйснер Август Готлиб (1753–1807) — немецкий писатель, сочинения которого были популярны в России в XVIII веке. В 1800–1807 годах В. Подшивалов издал в своем переводе «Избранные повести и басни» Мейснера в 10 частях; издание было начато в Москве, окончено во Владимире.
(обратно)28
Бернардёнде Сен-Пьер Ж. А. (1737–1814) — французский писатель. Роман «Поль и Виргиния», получивший огромную популярность во всей Европе, включая Россию, написан в 1787 году.
(обратно)29
Кексгольм в 1948 году переименован в Приозерск — город Ленинградской области.
(обратно)30
С 1921 года — Кропоткинская улица.
(обратно)31
С середины XIX века — улица Волхонка.
(обратно)32
Сейчас — улицы Белинского и Огарева. На месте Университетского благородного пансиона находится Центральный телеграф. В этом пансионе в разное время учились А. С. Грибоедов, В. Ф. Одоевский, А. А. Шаховской, С. П. Шевырев, А. Ф. Вельтман, М. Ю. Лермонтов и другие литераторы, декабристы В. Ф. Раевский (поэт), П. Г. Каховский, Н. И. Тургенев, С. И. Кривцов, В. Д. Вольховский (перешедший отсюда в Царскосельский лицей), А. И Якубович, М. А. Фонвизин и другие. Наместник Бессарабской области генерал И. Н. Инзов, с сочувствием относившийся к А. С. Пушкину во время его южной ссылки, и генерал А. П. Ермолов — герой Отечественной войны 1812 года, причастный к движению декабристов, — тоже окончили это учебное заведение.
(обратно)33
Просодия (греч.) — слогоударение, ритмический строй языка. Здесь имеется в виду ритмика русского стихосложения.
(обратно)34
Этот журнал выходил в Москве в 1794–1798 гг. как приложение к «Московским ведомостям». Среди его авторов были Г. Державин, Н. Карамзин, И. Дмитриев, В. Пушкин и другие русские поэты. Здесь напечатал свои первые произведения В. А. Жуковский. С 1799 г. название журнала изменилось: «Иппокрена, или Утехи любословия».
(обратно)35
Стерн Лоренс (1713–1768) — английский писатель, автор романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» и «Сентиментального путешествия» (1768), вызвавшего в Европе много подражаний.
(обратно)36
Английский поэт Джеймс Макфёрсон (1736–1796) выпустил в 1765 году под видом открытого им древнекельтского эпоса обработанные им записи народных сказаний: «Сочинения Оссиана, сына Фингала», которые долгое время считались подлинными древнешотландскими произведениями. Выход «Сочинений Оссиана» стал сенсацией, Оссиан был приравнен к Гомеру. Влияние поэм Оссиана на мировую литературу было очень велико. На русский язык их перевел в конце XVIII в. Е. И. Костров.
(обратно)37
Юнг Эдвард (1683–1765) — поэт английского предромантизма. Его поэма «Жалобы, или Ночные мысли о жизни, смерти и бессмертии» (1742–1745) оказала огромное влияние на поэзию Европы. В России оно распространялось не только на сентименталистов, но и на поэтов русского классицизма.
(обратно)38
«Плач Эдуарда Юнга, или Нощные размышления о жизни, смерти и бессмертии». Части I–II. М., 1785 г.
(обратно)39
Коцебу Август Фридрих Фердинанд фон (1761–1819) немецкий романист и драматург.
(обратно)40
Руссо!.. Карамзин!.. Прекрасно… превосходно… (франц.)
(обратно)41
Переведенный Жуковским роман в оригинале имеет другое название: «Die jungsten Kinder meiner Laune» (приблизительно — «Мои последние причуды», — нем.).
(обратно)42
Выше обыкновенного (франц.).
(обратно)43
Бюффон Жорж-Луи Леклёрк (1707–1788) — директор Ботанического сада в Париже, писатель и ученый — «биограф природы», как его называли. Он создал «Естественную историю» в 36 томах, где описал множество животных. Этот труд имеет отличные литературные достоинства. Бюффону принадлежит известное изречение: «Стиль — это человек».
(обратно)44
Баттё Шарль (1713–1780) — французский философ-эстетик. Его труд «Принципы литературы» внимательно изучали Державин, Карамзин, Батюшков и другие литераторы.
(обратно)45
Упражнение на трудность (франц.).
(обратно)46
Флориан Жан-Пьер (1755–1794) — французский писатель.
(обратно)47
Бекетов П. П. (1761–1836) в 1800-х годах издал четыре тетради гравированных портретов русских писателей — «Пантеон российских авторов», — портреты сопровождались текстом, написанным Карамзиным. Бекетов выпустил в свет полное собрание сочинений А. Н. Радищева, переводы и сочинения Н. И. Гнедича, А. Ф. Мерзлякова, И. И. Дмитриева, Н. М. Карамзина, С. И. и Ф. Н. Глинок и других русских писателей.
(обратно)48
В этих речах А. И. Тургенева заложена была основа литературной программы декабристов.
(обратно)49
Теперь микрорайон. Москвы Свиблово; название немного изменилось.
(обратно)50
Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864) — племянник Державина, двоюродный брат драматурга В. Озерова. Участник литературного общества «Арзамас». В 1826 году — делопроизводитель Верховной следственной комиссии над декабристами. С 1832 года — министр внутренних дел.
(обратно)51
— Ах! какая радость… Наконец-то! Здравствуйте, мосье Жуковский!
— Добрый день, мадемуазель (франц.).
(обратно)52
Томсон Джеймс (1700–1748) — английский поэт, автор описательной — пейзажной — поэмы «Времена года», новаторской для своего времени и вызвавшей множество подражаний в других странах.
(обратно)53
В. К. Кюхельбекер, перечитывая в крепости «Вестник Европы», пишет в дневнике 2 июля 1832 г.: «С удовольствием я встретил в „Вестнике“ известную элегию… Андрея Тургенева. Еще в Лицее я любил это стихотворение, и тогда даже больше „Сельского кладбища“, хотя и был в то время энтузиастом Жуковского». В лицейском стихотворении А. С. Пушкина «Осеннее утро» перефразировано начало элегии Тургенева; Пушкин так начал стихотворение: «Уж осени холодною рукою…».
(обратно)54
По поводу этого первого значительного поэтического перевода Жуковского В. Г. Белинский сказал, что поэт тогда «начал писать языком таким правильным и чистым, стихами такими мелодическими и плавными, которых возможность до него никому не могла и во сне пригрезиться».
(обратно)55
Козловский Петр Борисович (1783–1840) — дипломат, писатель, близкий знакомый Тургеневых, Жуковского, Вяземского, впоследствии А. С. Пушкина, который напечатал в своем «Современнике» три его статьи: обзор французского математического ежегодника, статью по теории вероятности и статью о паровых машинах. Козловский много лет провел за границей, был дружен с Шатобрианом, Гейне и другими писателями.
(обратно)56
Сумароков Панкратий Платонович (1765–1814) — литератор.
(обратно)57
Мусин-Пушкин А. И. — собиратель русских древностей, им найдено и издано в 1800 году «Слово о полку Игореве». Бутурлин Д. П. — библиофил, имевший в Москве самую большую библиотеку. Бантыш-Каменский Н. Н. — археограф, управляющий Архивом Коллегии иностранных дел в Москве. Библиотеки этих собирателей, а также библиотеки Бекетова и Московского университета погибли во время пожара Москвы в 1812 году. Тогда же сгорела библиотека, собранная самим Карамзиным.
(обратно)58
Кошанский Николай Федорович (1781–1831) — критик и переводчик. Впоследствии преподавал риторику, русскую и латинскую литературу в Царскосельском лицее, когда там учился А. С. Пушкин.
(обратно)59
Тургенев Николай Иванович (1789–1871) — один из главнейших деятелей декабристского движения. Был заочно приговорен к смертной казни. Умер за границей. Автор книг «Опыт теории налогов» и «Россия и русские».
(обратно)60
Клейст Эвальд Христиан (1715–1759) — немецкий поэт, прусский офицер, погибший в Семилетней войне; в стихотворении «Весна» прославлял мирное земледелие («Стальные мечи скорее в серпы перекуйте!» — писал он). Сен-Ламбёр Шарль-Франсуа де (1716–1803) — французский поэт, автор написанной в подражание Томсону пейзажной поэмы. Жак Делиль (1738–1813) — французский поэт, автор описательной поэмы «Сады», тоже напи санной в подражание «Временам года» Томсона.
(обратно)61
Поэма не была написана.
(обратно)62
Шатобриан Франсуа-Рене де (1768–1848) — один из зачинате лей французского романтизма. В России вышли его повести (в переводе на русский язык) «Атала, или Любовь двух диких» (М., 1801 I и «Рене, или Действие страстей» (М., 1802), события которых развиваются в девственных лесах Америки, на берегах Миссисипи.
(обратно)63
Экстракт — здесь: конспект, сжатое изложение.
(обратно)64
Теперь — улица Жуковского.
(обратно)65
«Жуковский был очень талантливым художником, обладавшим тонким чувством природы. Что касается степени одаренности в области рисунка, его можно сравнить среди писателей только с Гете» (из статьи М. Я. Либман в книге «Античность. Средние века. Новое время». М., «Наука». 1977 г., с. 219). В архивах и музеях СССР хранится более 1500 рисунков В. А. Жуковского, а также его гравюры на меди и картины маслом.
(обратно)66
«Маленькая энциклопедия поэзии (Париж)» (франц.); издана была в 1804 году.
(обратно)67
Бюргер Гбтфрид Август (1747–1794) — немецкий поэт-предромантик создавший по мотивам народных преданий балладу «Ленора» (1773).
(обратно)68
Поп Александр (1688–1744) — английский поэт-классицист, переводчик Гомера. Его поэма «Опыт о человеке», пронизанная идеями эпохи Просвещения, была переведена на русский язык в XVIII веке.
(обратно)69
Клопшток Фридрих Готлиб (1724–1803) — зачинатель «золотого века» немецкой литературы. Его главное произведение — написанная гекзаметром большая поэма «Мессиада», в которой он подражал Гомеру.
(обратно)70
«Декамерон» — сборник новелл, созданный итальянским классиком Джованни Боккаччо (1313–1375).
(обратно)71
Эджеворт Мария (1767–1849) — английская писательница, автор нравоучительных романов и рассказов, а также книг для детей.
(обратно)72
Бартелеми Ж.-Ж. (1716–1795) — французский писатель. В этом романе описана жизнь Древней Греции. Анахарсис — скифский царь, философ.
(обратно)73
Шестая, седьмая и восьмая строфы элегии «Вечер» использованы П. И. Чай ковским для дуэта Лизы и Полины в опере «Пиковая дама» («Уж вечер, облаков померкнули края; последний луч зари на башнях умирает; последняя в реке блестящая струя с потухшим небом угасает» и т. д.). В одном из самых значительных произведений позднего Г. Р. Державина — «Евгению. Жизнь Званская» (18071 поэтом повторен своеобразный рисунок строфы элегии Жуковского.
(обратно)74
3ёйдлиц К. К. — Друг и первый биограф Жуковского — писал: «„Песнь барда“ встречена была громким отголоском в сердцах современников. С тех пор имя Жуковского сделалось народным» (К. Зейдлиц. Жизнь и поэзия Жуковского. СПб., 1883. с. 29).
(обратно)75
Кашин Д. Н. (1770–1841) — русский композитор, пианист, скрипач, музыкальный педагог, собиратель народных песен и издатель музыкального журнала. С 1790 года давал постоянные концерты в Москве и Петербурге и имел большую популярность. Бывший крепостной Г. И. Бибикова, в 1799 году получил вольную.
(обратно)76
Лучшее произведение российской словесности (франц.).
(обратно)77
В «Вестнике Европы» 1808 г. № 4 появился материал: «Георг II, английский король и министры его, описанные Кантемиром». Кантемир Антиох (1708–1744) — русский поэт-сатирик и дипломат. «Бумаги братнины» — Андрея Ивановича Тургенева.
(обратно)78
В «Вестнике Европы» 1808 г. № 22 напечатано «Путешествие русского на Брокен в 1803 году» Александра Тургенева: превосходное описание путешествия на высочайшую гору массива Гарц, с множеством исторических отступлений.
(обратно)79
То есть незаметно.
(обратно)80
В. И. Кулешов пишет, что при помощи «Вестника Европы» Жуковский «тихо и незаметно произвел в 1808–1809 годах переворот в русской литературе» (В. И. Кулешов. Литературные связи России и Западной Европы в XIX в. Первая половина. Изд-во Моск. университета, 1977, с. 115.).
(обратно)81
«Для русской публики все было ново в этой балладе… „Людмила“ в то время могла быть написана только Жуковским; и стихи этой баллады не могли не удивить всех своей легкостью, звучностью, а главное — своим складом, совершенно небывалым, новым и оригинальным» (В. Г. Белинский).
(обратно)82
Н. В. Гоголь впоследствии писал о Жуковском: «Не знаешь как назвать его — переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов… Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность — это загадка, но она так и видится всем. Появление такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости».
(обратно)83
Жорж — театральное имя Маргарйты-Жозефйны Веммёр (1786–1867), которая играла в Петербурге и в Москве в 1809–1811 годах.
(обратно)84
Д'Эглантин Ф. Фабр (1755–1794) — поэт, деятель французской буржуазной революции, соратник Дантона. Был казнен по приговору революционного трибунала.
(обратно)85
«Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов, изданные Василием Жуковским». М., 1810–1811. 5 томов. Т. 1: оды; т. 2: оды, песни, романсы, баллады, народные песни; т. 3: повести (в стихах), басни, сказки; т. 4: послания, сатиры, элегии, идиллии; т. 5: смесь — эпиграммы, мадригалы, дистихи и т. д. При I томе портрет Ломоносова, при 2-м — Державина, при 4-м — Карамзина, при 5-м — Богдановича. Во 2-м т. — предисловие Жуковского ко всему изданию. 6-й т. (дополнительный) был издан в 1815 году другом Жуковского — Д. А. Кавелиным.
(обратно)86
Только В. Г. Белинский в 1830-х годах начал осуществлять в своих статьях этот «Геркулесов подвиг» — дело определения «отличительного характера русского стихотворства» и места его в мировой поэзии.
(обратно)87
Иванов Федор Федорович (1776–1816) — поэт, драматург, автор преддекабристской драмы «Марфа Посадница» (1803), запрещенной к постановке, и комедии «Семейство Старичковых», много лет шедшей в московских театрах Отец известной Н. Ф. Ивановой, которой в 1830-е годы посвяшал стихи М. Ю. Лермонтов.
(обратно)88
Тупей — хохол, кок над лбом.
(обратно)89
Шлёцер Август Людвиг фон (1735–1809) — немецкий историк, преподававший русскую историю в Геттингенском университете.
(обратно)90
«До сих пор переложение В. А. Жуковского признается одним из лучших, многие советские переводчики „Слова“ обращаются в своей работе к переводу Жуковского как к образцу, достойному подражания» (Л. А. Дмитриев, предисловие к изданию «Слова о полку Игореве» в составе большой серии «Библиотеки поэта». Л., «Советский писатель», 1967, с. 80). Рукопись перевода Жуковского была найдена в бумагах А. С. Пушкина и ошибочно напечатана в 1882 г. как перевод Пушкина. В 1935 г. было установлено авторство Жуковского; его перевод «Слова о полку Игореве» переиздан много раз.
(обратно)91
Героико-романтическая поэма (нем.).
(обратно)92
Жуковский так и не написал «Владимира». Молодой Пушкин был осведомлен — из его разговоров с Жуковским — об этом замысле старшего поэта. Скорее всего, Жуковский и был вдохновителем «Руслана и Людмилы» — поэмы, отчасти воплотившей «древнерусский» сказочно-эпический материал, и именно в связи с «Русланом и Людмилой» сделал Жуковский на своем портрете, подаренном Пушкину, надпись: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму Руслан и Людмила».
(обратно)93
Иоганн Генрих Фосс (1751–1826) — немецкий поэт и переводчик, Профессор античной филологии в Гейдельбергском университете.
(обратно)94
В 1830-е годы, по словам Е. И. Елагиной, в Волхове произошла смута и вечевой колокол был под охраной жандармов отправлен в ссылку.
(обратно)95
Место усадьбы Протасовых и дома Жуковского установлено орловским краеведом В. А. Власовым в 1977 г. Дом, построенный Жуковским для Протасовых, был в 1820-х годах продан А. Ф. Воейковым на своз помещику Пушкареву и собран в соседнем селе Подзавалове, где стоял еще в 1880-х годах. Село Муратово — теперь Урицкого района Орловской области.
(обратно)96
Плещеев А. А. (1778–1862) — композитор, актер-любитель; отец декабристов Алексея и Александра Плещеевых. Его тетка Е. И. Протасова была первой женой Н. М. Карамзина. Плещеева А. И. (? — 1817) была родом из Чернышевых: декабрист Захар Чернышов и жена декабриста Никиты Муравьева Александрина (добровольно уехавшая за мужем в Сибирь), урожденная Чернышова, — ее племянники.
(обратно)97
Управляющий имением Е. А. Протасовой.
(обратно)98
Первая строка народной песни. Вот ее начало: «Скачет груздочек по ельничку, еще ищет груздочек беляночки. Не груздочек то скачет — дворянский сын, не беляночки ищет — боярышни».
(обратно)99
Тетка сестер Протасовых.
(обратно)100
Народная комедия масок (итал.).
(обратно)101
Тул — то же, что колчан.
(обратно)102
Кроме А. А. Плещеева, положили на музыку эти слова Жуковского A. Н. Верстовский и М. И. Глинка. Плещеев издал «Баллады и романсы B. А. Жуковского, положенные на музыку для фортепиано А. А. Плещеевым», чч. 1–2, СПб.,1832 г. Вообще многие стихи Жуковского положены были на музыку русскими композиторами.
(обратно)103
Мамонов Матвей Александрович (1790–1863) — декабрист, поэт. В 1812 г. сформировал на собственные средства кавалерийский полк — как дополнение к Московскому ополчению, — и стал его командиром.
(обратно)104
За родину (лат.).
(обратно)105
Это было самое напряженное место во время Бородинской битвы: Наполеон, убедившись в том, что правый фланг русских неприступен, сосредоточил главную массу своих войск на левом — он хотел обойти левый фланг и разбить русских с тыла. На левый фланг шли пехотные корпуса маршалов Даву, Нея, Жюно, Молодая и Старая гвардии, конница Мюрата; почти вся французская артиллерия обстреливала левый фланг русских войск — под ее огнем и находился полк Жуковского.
(обратно)106
Плещеевы в это время оставались в Большой Черни.
(обратно)107
Лажечников Иван Иванович (1792–1869) — автор исторических романов «Последний Новик» (1831), «Ледяной дом» (1835), «Басурман» (1838) и других.
(обратно)108
Это дед генерала М. Д. Скобелева, завоевателя Хивы (1875) и героя русско-турецкой войны на Балканах в 1877–1878 гг. Интересен тот факт, что впоследствии И. Н. Скобелев взялся за перо — Белинский отметил его отчет о праздновании 25-летия окончания войны («Письмо из Бородина от безрукого к безногому инвалиду») как «безыскусственный, но сильный сердечным красноречием». Дальнейшие попытки И. Н. Скобелева писать прозу были неудачны.
(обратно)109
В. И. Киреевский, хорошо знавший врачебное дело, в 1812 году вместе с женой и семьей Протасовых ухаживал в Орле за ранеными, в госпитале заразился тифом и умер 1 ноября 1812 года.
(обратно)110
Голицына А. И. (1780–1850) — прозванная «La Princesse nocturne» («ночной княгиней») за то, что она «ночи превращала в дни», как пишет мемуарист, собирая у себя литературный салон не ранее полуночи. Позднее — в 1818 году — у нее бывал А. С. Пушкин.
(обратно)111
Тиртёй — греческий поэт VII–VI в. до н. э., своими песнями возбуждавший мужество спартанцев во время войны.
(обратно)112
То есть издание «Певца во стане русских воинов», выпущенное А. И. Тургеневым в Петербурге в феврале 1813 года.
(обратно)113
Как по писаному (франц.).
(обратно)114
В Бородинском сражении бригада генерала Бонами из дивизии Морана схватила центр русской позиции — батарею Раевского на Курганной высоте. А. П. Ермолов и А. И. Кутайсов с огромным напряжением вернули батарею, буквально истребив французов. А. И. Кутайсов был убит. Израненный штыками генерал Бонами был взят в плен.
(обратно)115
Жуковский имеет в виду Бородинское сражение.
(обратно)116
Баснословие — здесь: мифология.
(обратно)117
Это были: И. В. Киреевский (1806–1856) — литератор, журналист; П. В. Киреевский (1808–1856) — литератор, собиратель русских песен; М. В. Киреевская (1811–1859).
(обратно)118
А. С. Пушкин в примечаниях к поэме «Кавказский пленник» (1820–1821) привел 52 строки — описание Кавказа — из послания Жуковского к Воейкову. Эти строки Жуковского — прообраз кавказского колорита в поэме Пушкина (см. И. Семенко. Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975).
(обратно)119
Янус — по древнеримской мифологии бог — покровитель всяких начинаний, имевший два лица — символы настоящего и будущего. Во время войны ворота в храм Януса были постоянно открыты, а с наступлением мира закрывались.
(обратно)120
Село Большая Чернь — сейчас Злынского сельсовета, Волховского района, Орловской области. Дома Плещеевых теперь нет, но сохранились красивые кирпичные конюшни, огромный амбар и несколько деревьев парка.
(обратно)121
Уже в 1817 году не стало великолепной усадьбы А. И. Бунина: ее разобрал всю на бревна американец Егор Зонтаг, за которого вышла замуж тогдашняя владелица Мишенского Анна Петровна Юшкова. Зонтаг был моряком русского флота, он собирался увезти жену в Одессу к месту своей службы. Анна Петровна всю жизнь стыдилась этого поступка своего бесцеремонного «корсара», как полушутя назвал американца Жуковский: Зонтаг разобрал дом, флигеля, службы и оранжереи, сложил бревна в штабеля, сравнял цветники и спустил пруды… Анна Петровна вернулась в Мишенское после смерти мужа в 1840-х годах, из сохранившихся бревен выстроила дом и два флигеля, но уж не прежнего вида. В дальнейшем дом свой А. П. Зонтаг обложила кирпичом. После ее смерти — 19 марта 1864 г. — усадьбу стали отдавать безвозмездно под летний санаторий для «слабых городских детей». Усадьба погибла окончательно во время Великой Отечественной войны. К 100-летию со дня смерти В. А. Жуковского — в 1952 г. — общественностью Белева был насажен в Мишенском новый парк и установлен памятный обелиск на месте дома, где родился и провел детские годы великий русский поэт.
(обратно)122
Тема эта была развита потом А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым.
(обратно)123
М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Смерть Поэта» (1837) почти дословно повторит эту фразу: «…иглы тайные сурово язвили славное чело». Слова о «потомстве грозном» тоже повлияли на общий дух стихотворения Лермонтова.
(обратно)124
№ 2, 1978 г., стр. 100.
(обратно)125
«Спор Карамзина и Шишкова решила история. Ни одно из предложенных Шишковым словообразований по образцу церковнославянских лексем не привилось в русском литературном языке; в то время как большинство созданных Карамзиным и его последователями галлицизмов и неологизмов прочно вошло в него (например: культура, цивилизация, публика, энтузиазм, промышленность, развитие, переворот — в значении революция). Исторически оправдали себя и многие из фразеологических новшеств Карамзина и карамзинистов, стремившихся приблизить синтаксис русского литературного языка к гибкому, логически стройному и ясному синтаксису языка французского» (Е. Н. Купреянова. Французская революция 1789–1794 годов и русская литература. Журнал «Русская литература»).
(обратно)126
Фонтан Луи-Мари (1757–1821) — французский поэт-классицист.
(обратно)127
Долбинская осень по ее значению в творчестве Жуковского и обилию написанного в короткий срок напоминает Болдинскую — 1830 года — осень А. С. Пушкина, отмеченную необычайным взлетом вдохновения и творческой энергии. Интересно отметить, что название «Долбимо» как бы анаграмма «Болдина».
(обратно)128
В. Г. Белинский писал, что «Эолова арфа» «Прекрасное и поэтическое произведение, где сосредоточен весь смысл, вся благоухающая прелесть романтики Жуковского».
(обратно)129
А. С. Пушкин в 1825 г. писал из Михайловского А. А. Бестужеву: «Наши таланты благородны, независимы… Прочти послание к А. (Жук. 1815 году). Вот как русский поэт говорит русскому царю». Многие положения послания Жуковского «Императору Александру» отразились в стихотворении Пушкина «Наполеон» (1821).
(обратно)

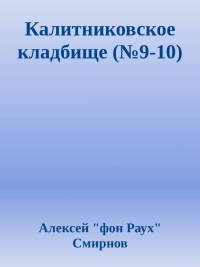
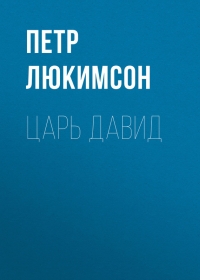




Комментарии к книге ««Родного неба милый свет...»», Лазарь, монах (Афанасьев)
Всего 0 комментариев