Хьюи П. Ньютон при участии Дж. Германа Блейка Революционное самоубийство
Посвящается моей матери и моему отцу, которые придали мне силу и отучили бояться смерти, а значит, и жизни.
Спасибо этим людям
Огромной поддержкой, которую оказывали мне и в добрые, и в плохие времена и которая помогла мне завершить написание этой книги, я обязан своему брату Мелвину Ньютону, своей секретарше Гвен В. Фонтейн, своим хорошим друзьям и товарищам Дональду Фриду, Берту Шнайдеру и Дэвиду Хоровицу, а также своим редакторам Эдвину Барберу и Этель Каннингэм.
Есть еще много других людей, отдавших немало времени и сил для того, чтобы эта книга увидела свет. Не один друг Германа Блейка сопровождал его в поездках в Калифорнийскую мужскую колонию в Сан-Луисе Обиспо, когда эта книга только начала создаваться. В те выматывающие дни они помогали вести машину, и это позволило нам отдать всю свою энергию на написание книги. Я благодарен каждому из этих людей, хотя и не могу перечислить всех их поименно.
Также мне хотелось бы выразить свою признательность Диане Мартин и Сабре Слотер за вклад, сделанный ими в эту книгу, — они провели несколько самых ранних изысканий; я признателен Кэти Харрис, Делоис Барби, Барбаре Ли, Линде Кохи, Кэтрин Холл и Джоан Стеррикер за перепечатку черновых записей и рукописи. Тщательная корректура книги на разных этапах ее готовности была выполнена Донной Хили, миссис Бесси Блейк и ее дочерьми Одри, Лайлес и Ванессой. Хуанита Джексон постоянно поддерживала и подбадривала меня, а также кормила самым лучшим супом из стручков бамии, который я когда-нибудь пробовал. Наконец, ценные советы и поощрение на раннем этапе работы над книгой я получил от Алекса Хейли. Каждый из перечисленных людей внес важный вклад в создание этой книги.
Вечная память Малышу Бобби
Малыш Бобби олицетворял собой начало — он был самым первым членом партии «Черная пантера». Он отдал партии не только свои сбережения, он отдал ей самого себя. Он отдал себя служению своему народу и ничего не попросил взамен. Он не заикался ни об охране, ни о высокой должности, но он требовал тех вещей, которые положены всем людям по рождению, — достоинства и свободы. Он требовал этого для себя и для своего народа.
Словно яркий луч света, озаривший небо, Малыш Бобби вошел в нашу жизнь и показал нам красоту нашего народа. Он был живым примером безграничной любви к своему народу и к свободе. Он ушел от нас, но показанный им пример станет путеводной звездой, которая осветит наш путь и поведет нас к борьбе за жизнь, достоинство и свободу.
Мы отдаем честь Малышу Бобби и его семье, выражая бесконечную благодарность за то, что они дали нам. Бобби стал началом нашей партии. Давайте сделаем так, чтобы то, о чем он думал, то, чего он желал своему народу, стало образом жизни.
Навеки ваш, Хьюи П. Ньютон,
Министр обороны партии «Черная пантера».
Апрель 1968 года.
Не имея семьи, Я стал наследником всего человечества. Не имея имущества, Я овладел всем. Отказавшись от любви одной, Я получил любовь всех. Отдав свою жизнь революции, Я обрел вечную жизнь. Революционное самоубийство. Хьюи П. НьютонМанифест
Да создастся новая земля. Пусть появится на свет новое мироздание. Пусть кровавая надпись в небесах возвестит о наступлении мира. Дайте возможность второму поколению, преисполненному бесстрашия, проявить силу, пусть на свете станет больше людей, влюбленных в свободу. Пусть красота, способная исцелять, и сила, которой проникнуты последние объятия, пульсируют в наших душах, в нашей плоти и крови. Давайте сочинять песни для маршей, пусть будет не слышно заунывных панихид. Пусть теперь заявит о себе новое племя людей и пусть оно станет править.
Маргарет Уолкер. Моему народу
Революционное самоубийство: Путь к освобождению
По окончании первого судебного процесса по делу о смерти полицейского Джона Фрея меня приговорили к тюремному заключению. Отбывая наказание в Калифорнийской мужской колонии в Сан-Луисе Обиспо, почти все двадцать два месяца я провел в одиночном заключении. Моя камера была размером четыре на шесть футов,[1] и, запертый в ней, я был лишен права на получение печатных материалов, за исключением книг и документов, имевших непосредственное отношение к моему судебному делу. Несмотря на строжайшее соблюдение этого запрета, заключенные из соседних камер, подкараулив момент, когда охранники не могли этого видеть, иногда подсовывали мне под дверь разные журналы. Так мне в руки попал выпуск журнала «Эбони»[2] за май 1970 года. В журнале была помещена статья, написанная Лейси Банко. В статье обобщались итоги исследования доктора Герберта Гендина. Он провел сравнительное изучение случаев самоубийств среди чернокожего населения крупных американских городов. Доктору Гендину удалось обнаружить, что уровень самоубийств среди негров в возрасте от 19 до 35 лет увеличился вдвое за последние десять-пятнадцать лет, превысив показатели по количеству суицидов среди белого населения того же возраста. Статья произвела на меня огромное впечатление, которое не ослабевает до сих пор. Долго и напряженно я размышлял о том, что вытекает из данных, полученных доктором Гендиным.
Эта статья напомнила мне о классическом труде Дюркгейма под названием «Самоубийство», которую мне довелось читать в ту пору, когда я изучал социологию в городском колледже Окленда. По мнению Дюркгейма, все типы самоубийств связаны с социальными условиями. Он утверждает, что главной причиной, толкающей человека на самоубийство, является не характер личности, а социальная среда, окружающая эту личность. Другими словами, получается, что самоубийство провоцируют, главным образом, внешние, а не внутренние факторы. Поскольку я так или иначе думал об условиях, в которых живут чернокожие, а также об исследовании, проведенном доктором Гендиным, я стал развивать анализ Дюркгейма и использовать его наработки для осмысления опыта проживания негров в Соединенных Штатах. Со временем на этой основе появилась концепция «революционного самоубийства».
Чтобы понять сущность революционного самоубийства, для начала необходимо сформировать представление о реакционном самоубийстве, ибо эти явления разительно отличаются друг от друга. Доктор Гендин описывает именно реакционный вариант самоубийства. В этом случае суицид является ответной реакцией человека, не выдерживающего давления обстоятельств, обрекающих его на полную беспомощность. В исследовании доктора Гендина молодые негры оказывались лишены чувства собственного достоинства, окончательно сломлены гнетом подавляющих обстоятельств и отрицали свое право на жизнь в качестве людей, которым знакома гордость и свобода.
В романе Достоевского «Преступление и наказание» можно найти подходящую аналогию. Один из героев, Мармеладов, человек на редкость бедный, как-то стал доказывать, что бедность не порок. По его словам, в бедности человек может обрести врожденное благородство души, чего невозможно достичь, будучи совсем нищим. Если бедняка можно прогнать палкой, то на нищего замахнутся уже метлой. Почему так происходит? Обнищавший до предела человек полностью раздавлен, унижен, он теряет чувство собственного достоинства. Утратив ощущение достоинства, скованный страхом и отчаянием, человек решается на самоубийство. Так в общих чертах выглядит картина реакционного самоубийства.
Духовная гибель, ставшая итогом для миллионов американских негров, связана с реакционным самоубийством, хотя является опытом более мучительным и ведет к более сильной деградации. В наше дни примеры такой смерти, поражающей чернокожее население, встречаются повсеместно. В этом случае жертвы перестают оказывать сопротивление различным формам угнетения, выпивающим их кровь. За долгое время привычным стал вопрос: какой толк бороться? Если личность восстает против такой мощной системы, как Соединенные Штаты, она не выживет в столь неравноправном поединке. Рассуждая таким образом, многие чернокожие доходили до последней черты, умирая, скорее, духом, чем телом. Их затягивало в трясину беспросветного отчаяния. И все же в сердце каждого негра теплится надежда на то, что в будущем жизнь как-нибудь изменится.
Я не склонен думать, что жизнь изменится к лучшему без решительного нападения на Истеблишмент,[3] которые продолжают нещадно эксплуатировать «голодных и рабов». Это убеждение представляет собой ядро теории революционного самоубийства. Отсюда следует, что лучше противостоять тем силам, которые заставляют меня наложить на себя руки, чем покорно подчиняться их напору. И хотя я рискую недоучесть непредсказуемость смерти, все же скажу, что существует, по меньшей мере, возможность, если не целая вероятность, изменения невыносимых условий. Указанная возможность имеет важнейшее значение, поскольку большая часть человеческого опыта основывается исключительно на надеждах, а не на реальном понимании и оценке шансов. И в самом деле, ведь мы все — и здесь черные и белые ничем не отличаются друг от друга — больны, одинаково больны, причем смертельно. Однако возникает вопрос: прежде чем мы умрем, как нам следует жить? Я отвечаю, что мы должны жить, не теряя надежды и достоинства; если же результатом станет безвременная кончина, у этой смерти будет такой смысл, какого никогда не может быть у реакционного самоубийства. В данном случае смерть станет платой за возможность самоуважения.
Если я и мои соратники развиваем теорию революционного самоубийства, то это не означает, что мы испытываем непреодолимое желание умереть; наша идея нацелена на достижение прямо противоположной цели. Наше стремление жить, видя свет надежды и черпая уверенность в человеческом достоинстве, настолько сильно, что жизни без этих вещей мы просто не представляем. Когда реакционные силы пытаются разрушить нас, нам необходимо выступить против них, даже если существует риск погибнуть. На нас должны замахнуться палкой.
Че Гевара[4] как-то заметил, что для любого революционера смерть есть самая настоящая реальность, будущая же победа превращается в голубую мечту. Жизнь человека, посвятившего себя революции, слишком опасна, поэтому его выживание становится беспрецедентным чудом. Бакунин,[5] выступавший от лица самой воинствующей группы социалистов из Первого Интернационала, в своей работе «Катехизис революционера», высказал похожую мысль. По мнению Бакунина, первый урок, который начинающий революционер должен крепко-накрепко усвоить, состоит в том, чтобы прочувствовать собственную обреченность. Пока человек не поймет этого, он не сможет со всей глубиной осознать главный смысл своей жизни.
Когда Фидель Кастро и его небольшой отряд находились в Мексике, занимаясь подготовкой кубинской революции, большинство из соратников Кастро почти не имело представлений о правиле, выведенном Бакуниным. За несколько часов до отплытия на родной остров,[6] Фидель, переходя от человека к человеку, спросил каждого о том, кого из близких нужно будет уведомить о его смерти, если он погибнет в бою. Лишь после этого бойцы действительно ощутили смертельную серьезность революции. Их борьба перестала быть одной романтикой. Революционная борьба захватывала воображение и страшно воодушевляла; однако, когда вставал простой и вместе с тем неотступный вопрос о смерти, все впадали в молчание.
Многие деятели нашей страны, претендующие на звание революционеров, независимо от цвета кожи не готовы принять такую суровую реальность. «Черные пантеры» не сборище смертников; мы также не пытаемся замаскировать под романтической оболочкой последствия революции, которые мы можем увидеть при жизни. Прочие так называемые революционеры цепляются за обманчивую иллюзию, убеждающую их в том, что они могут совершить свою революцию и преспокойненько дожить до глубокой старости. Но такого не может быть в принципе.
Не думаю, что мне удастся дожить до завершения нашей революции, и, возможно, наиболее серьезные члены нашей организации разделяют мой реализм. Поэтому выражение «революция в пределах нашей жизни» означает для меня нечто иное, чем для других людей, привыкших использовать те же слова. Я считаю, что революция будет развиваться на моих глазах, однако я не ожидаю того, что успею насладиться ее плодами. В противном случае появится неразрешимое противоречие. Все равно реальность окажется более жестокой и неумолимой.
У меня нет ни малейшего сомнения в том, что революция победит. Прогрессивное человечество будет праздновать победу, захватит власть, поставит под свой контроль средства производства, навсегда избавится от расизма, капитализма, реакционного стремления жить одной большой коммуной — реакционного самоубийства. Люди отвоюют для себя новый мир. С другой стороны, стоит мне задуматься о судьбах конкретных участников революции, я ловлю себя на мысли о том, что не могу с уверенностью говорить об их спасении. Тем, кто делает революцию, необходимо принять этот факт как данность, особенно чернокожим революционерам в Америке: свойственные колониальному обществу порочные порядки подвергают их жизнь постоянной опасности. Рассматривая возможные сценарии, по которым мы должны строить свою жизнь, мы без труда можем согласиться с идеей революционного самоубийства. Здесь мы расходимся с белыми радикалами. Они-то не сталкивались с геноцидом.
Проблемой еще более серьезной и требующей немедленного решения, является сохранение мира в целом. Если мир не изменится, всем людям, живущим на Земле, своей алчностью, жестокостью и желанием эксплуатировать будет угрожать такой могущественный организм, как Американская империя. Соединенные Штаты ставят под угрозу собственное дальнейшее существование и судьбу всего человечество. Если бы американцы только знали, какие бедствия и катастрофы ждут мир в будущем, они завтра же кардинально изменили свое общество, хотя бы ради самосохранения. Партия «Черная пантера» — это авангард революции, призванной избавить нашу страну от непосильного и разрушающего бремени собственной вины. Наша цель заключается в достижении подлинного равенства и создании условий для творческой деятельности.
Находятся такие люди, которые оценивают нашу борьбу как выражение суицидальной тенденции среди чернокожих. Ученые и академики, в частности, быстро поспешили выступить с подобным утверждением. Им не удается почувствовать разницу. Прыжок с моста вниз головой — это далеко не то же самое, когда человек решает бороться за уничтожение подавляющей силы, исходящей от целой армии. Если исследователи называют наши действия суицидальными, им следует быть логичными до конца и описывать все революционные движения, случившиеся в истории человечества, в таком же ключе. Следовательно, самоубийцами можно назвать и американских колонистов, и участников Французской революции конца XVIII столетия, и русских в 1917 г., и варшавских евреев,[7] и кубинцев, Фронт национального освобождения, жителей Северного Вьетнама, т. е. всех людей, когда-либо сражавшихся против безжалостной и могущественной силы. Опять же, если сделать «Черных пантер» символом суицидального порыва негров, то мы придем к выводу о суицидальной сущности всего третьего мира, ибо третий мир изо всех сил старается сопротивляться правящему классу Соединенных Штатов и, в конечном счете, одержать над ним верх. В том случае, если заинтересованные исследователи намереваются продолжать свой анализ дальше, они должны договориться с четырьмя пятыми населения планеты, которые горят желанием навсегда выйти из-под власти империи. С этой точки зрения, из третьего мира, похожего на самоубийцу, можно было бы сделать убийцу, несмотря на то, что убийство есть незаконная форма жизни, а также на то, что третий мир действует исключительно в оборонительных целях. Не перевернута ли монета обратной стороной? Не похоже ли правительство США на самоубийцу? Я полагаю, что так и есть на самом деле.
С учетом всех вышеуказанных дополнений, понятие «революционное самоубийство» перестает быть упрощенным, каким оно могло показаться вначале. В процессе выработки этого термина, я взял два знакомых всем слова и соединил их, чтобы в итоге получить словосочетание с доселе неизвестным смыслом, эдакий неологизм, где слово «революционное» наполняет слово «самоубийство» новым содержанием. Таким образом возникает идея, в которой скрыто множество различных измерений и значений и которая применима к осмыслению сегодняшней новой и сложной ситуации.
Мое тюремное заключение является хорошим примером осуществления революционного самоубийства на практике, потому что тюрьму можно рассматривать в качестве уменьшенной копии внешнего мира. С самого начала я стал оказывать открытое неповиновение тюремным властям, отказываясь сотрудничать с ними. В результате меня посадили под замок, причем в одиночную камеру. Шли месяцы, а я оставался непоколебим. Администрация тюрьмы решила оценивать мое поведение как попытку самоубийства. Мне твердили, что рано или поздно я сломаюсь от напряжения. Но я не сломался и тем более не отступил от своих взглядов. Я стал сильным.
Если бы я подчинился тюремной эксплуатации и начал выполнять волю тюремных распорядителей, такое соглашательство привело бы к гибели моего духа и обрекло бы меня на жалкое существование. Сотрудничать с тюремными властями для меня означало бы реакционное самоубийство. Одиночное заключение может оказывать деструктивное воздействие и на психику, и на разум человека, но я сознавал этот риск. Я должен быть испытывать страдание определенным образом. Я мучился, и мое сопротивление говорило моим противникам, что я отвергаю все ценности, отстаиваемые ими. И хотя избранная мной тактика могла причинить вред моему собственному здоровью, даже убить меня, я рассматривал свои действия как способ всколыхнуть сознание других заключенных, как вклад в совершающуюся революцию. Лишь сопротивление способно разрушить разнообразные формы давления, которые толкают людей на реакционное самоубийство.
В концепции революционного самоубийства нет ни пораженческих, ни фаталистических настроений. Напротив, в ней заложено осознание реальности в сочетании с возможностью надежды: реальности, потому что революционер всегда должен быть готов столкнуться со смертью, и надежды, потому что она олицетворяет твердое намерение добиться перемен. Но еще важнее то, что наша идея требует от революционера воспринимать свою смерть и свою жизнь как единое целое. Председатель китайской компартии Мао Цзэдун говорит, что смерть неизбежно приходит ко всем нам, вместе с тем ее значение может быть разным, поэтому смерть за реакционную систему легче птичьего перышка, зато смерть во имя революции тяжелее, чем гора Тэ.
Часть первая
За долгие годы, что я учился в Окленде, я не встретил ни одного учителя, который преподал бы мне урок, относящийся к моей собственной жизни или к моему личному опыту.
1. Начало
Многих неприкаянных, вроде нас, вытесняли и преследовали, доводили до поражения, словно персонажей из древнегреческих трагедий; но, должно быть, удача не покидала нас, ведь как-то нам удалось выжить…
Ричард Райт, предисловие к книге «Черная столица»Жизнь человека не всегда начинается в момент рождения. Все началось еще до того, как я появился на свет, потому что мой путь берет начало в жизни моих родителей и даже еще раньше — в истории всех чернокожих людей. Это все — один неразрывный момент.
Я мало что знаю о своих дедушках и бабушках и прочих предках. Расизм уничтожил историю нашей семьи. Мой дед по отцовской линии был белым насильником.
Мои родители были уроженцами Нижнего Юга: отец родился в Алабаме, мать — в Луизиане.[8] В середине тридцатых годов их семьи переехали в Арканзас, где мои родители познакомились и поженились. Они были очень молоды, почти подростки, поэтому люди поговаривали, что им рано жениться. Но мой отец, Уолтер Ньютон, владеет большим даром убеждения. Раз он решил, что Армелия Джонсон должна стать его женой, то она вряд ли могла оказать серьезное сопротивление его напору. Отец всегда знал, как понравиться и быть очаровательным; до сих пор я обожаю следить за тем, как в его глазах загораются особые огоньки, означающие, что он собирается включить все свое волшебное обаяние. Церемония бракосочетания прошла в Паркдале, шт. Арканзас. Здесь они жили около семи лет, а потом перебрались в Луизиану в поисках более перспективной работы.
В тридцатых-сороковых годах отец не был похож на обычного чернокожего выходца с Юга. Его отличала прочная вера в семейный очаг, так что он никогда не позволял матери подрабатывать вне дома, хотя денег, конечно, не хватало, ведь в семье было семеро детей, приходилось постоянно экономить, чтобы продержаться. Уолтер Ньютон имеет полное право гордиться своей ролью защитника семьи. Вплоть до сегодняшнего дня моя мать не была вынуждена идти куда-то, чтобы заработать деньги.
Отец истово верил в труд. Кем только он не работал. Трудился он без устали, обычно был занят сразу на нескольких работах, чтобы обеспечить семью. Пока мы жили в Луизиане, он успел поработать в карьере на добыче гравия, на установке для получения газовой смеси, на мельнице, где перемалывали сахарный тростник и на лесопилке. В итоге он нанялся тормозным кондуктором в Объединенную лесопильную компанию. С нашим переездом в Окленд ничего не изменилось — отец продолжал работать не покладая рук. С детства мне запомнилась эта картина, когда с утра отец уходил на одну работу, потом забегал ненадолго домой, после чего шел на другую работу. Несмотря на то, что отец без конца пропадал на работе, он всегда выкраивал время для общения с семьей. Мы все очень радовались, когда отец был дома.
Помимо прочего, мой отец был еще и священником. Он служил пастором в Бетельской баптисткой церкви в Монро, шт. Луизиана, а затем стал помогать проводить службы в нескольких церквях в Окленде. Он читал проповеди с неподдельным чувством, но только немного необычно. Преподобный Ньютон планировал свои проповеди заранее и объявлял тему, которой будет посвящена следующая проповедь, за неделю. Однако, похоже, ему никогда не удавалось прочитать проповедь на намеченную загодя тему. В конце концов, он приспособился к особенностям собственной натуры и просто входил на кафедру, полностью отдаваясь вдохновению. Будучи ребенком, я прямо раздувался от гордости, когда смотрел на отца, с высоты кафедры проводившего церковную службу и своими словами заставлявшего трепетать сердца прихожан. Все мы разделяли достоинство и уважение, которые исходили от него. Уолтер Ньютон — человек не слишком высокого роста, но стоило ему встать за кафедру в церкви, он превращался в самого огромного в мире великана для меня.
Моя мать любит повторять, что она вышла замуж совсем юной и повзрослела до конца уже вместе со своими детьми. И это действительно так. Разница между самым старшим ребенком в нашей семье и матерью — всего лишь семнадцать лет. Когда мои старшие братья и сестры еще только подрастали, а тогда семья жила в Луизиане, мать была для них лучшим товарищем во всех играх. Она играла в мяч, в палочки, в прятки. Иногда к играм присоединялся отец, он тоже принимался катать покрышки и выбивать шарики, причем всегда строго следил за соблюдением правил. Царившее в семье веселье и взаимное участие во всех делах сплачивало нас. Мои родители — это больше, чем люди, которых обычно называют родителями; в их лице мы, дети, приобрели настоящих друзей.
Присущее моей матери чувство юмора заразительно действовало на всех нас. Ее юмор проникал повсюду, он формировал особое отношение к жизни, которое воспитывало в нас чуткость, симпатию, веселое настроение и взаимопонимание. Она помогала нам находить светлые стороны в самых сложных ситуациях. Ощущение легкости и гармонии, которые я воскрешал в памяти, помогали мне переживать трудные времена. Зачастую, когда все ожидали, что под гнетом тяжелых обстоятельств я впаду в депрессию, а особенно это касалось чрезвычайных условий тюремного заключения, они видели, что я иначе смотрю на вещи. Не то чтобы страдания доставляли мне счастье, просто я не хотел, чтобы они сломали меня.
Я родился 17 февраля 1942 года в городе Монро, шт. Луизиана, и стал последним ребенком в семье. Подобно всем остальным чернокожим детям Юга, появлявшимся тогда на свет, я родился дома. Мне говорят, что мать была совершенно больна, пока вынашивала меня, зато сама мать вспоминает лишь то, что я был крупным и красивым малышом. Мои братья и сестры, должно быть, с этим соглашались, поскольку не упускали случая поддразнить меня, пока я был маленьким. Они говорили, что я слишком симпатичен, чтобы быть мальчиком, с таким лицом мне надо было родиться девочкой. Миловидная внешность долго преследовала меня. Эта была одна из причин, по которой я часто дрался в школе. Я выглядел младше, чем был на самом деле, и мягким, что заставляло моих одноклассников устраивать мне постоянные испытания. Я должен был показать им. Когда в 1968 году я уходил в тюрьму, мое лицо все еще сохраняло детскую невинность. С тех пор я редко брился.
Мои родители назвали меня в честь бывшего губернатора Луизианы Хьюи Пирса Лонга, убитого за семь лет до моего рождения.[9] Несмотря на то, что он не мог участвовать в голосовании, отец испытывал острый интерес к политике и тщательно следил за политическими кампаниями. Губернатор Лонг произвел на моего отца неизгладимое впечатление тем, что говорил одно, а исподволь делал другое, из-за чего развитие штата шло совсем в другом направлении, чем декларировалось. Отец рассказывает, что как-то раз оказался прямо перед губернатором, «в рот ему смотрел». Тогда губернатор выступал с речью о содержании чернокожих больных в лечебных заведениях. По его словам выходило, что за «выжившими из ума и полуголыми» неграми должны ухаживать белые медсестры. Конечно, для белых южан это было неприемлемо, так что для работы в больницах Луизианы были наняты чернокожие медсестры. Это был один из главных прорывов в области обеспечения рабочими местами негров, получивших специальное образование. Хьюи Лонг использовал подобную тактику, чтобы пробивать выгодные социальные программы для чернокожих, например, раздачу бесплатных книг в школах, бесплатных товаров для бедняков, строительство общественных дорог и мостов, которое обеспечило бы негров рабочими местами. Пока белые в большинстве своем были ослеплены внешней философией Лонга, якобы проповедовавшей расизм, многие негры обнаруживали, что их жизнь существенным образом улучшилась во время губернаторства того же Лонга. Мой отец был уверен в том, что Хьюи П. Лонг был великим человеком, и захотел назвать сына в честь этого деятеля.
В наше семье был заведен такой порядок, когда каждый старший ребенок нес ответственность за младшего, т. е. присматривал за ним во время игр, кормил его, забирал из школы. Когда заботу о новорожденном поручали брату или сестре постарше, это называлось «отдать» ребенка. У старших детей была своеобразная привилегия — впервые выводить малыша на улицу. Меня «отдали» моему брату Уолтеру-младшему. Спустя несколько дней после моего рождения он вынес меня наружу, пристроил на лошадь и повел скакуна вокруг дома, в то время как все остальные домочадцы следовали за нами. Нет никаких сомнений в том, что данный ритуал относится к числу дошедших до нас «африканизмов», которые уходят своими корнями во времена древнего общинного матриархата. Сам я не помню ни этого эпизода, ни каких-либо других из нашей жизни в Луизиане. Все, что я знаю об этом периоде, я почерпнул из рассказов своих родных. В 1945 году мы отправились в Окленд вслед за отцом. Отец поехал на Запад, чтобы найти работу в промышленности, обслуживавшей нужды фронта. В ту пору мне было три года.
Во время Второй мировой войны резко возрос миграционный поток с Юга. Покидая насиженные места, малоимущие люди надеялись устроиться получше в крупных городах Севера и Запада. Они шли вперед в поисках свободы и оставляли за своей спиной столетия жестокости и угнетения, которыми пропитан весь Юг. Тщетность этих поисков давно стала очевидной, все ушло в историю. Негритянские общины в Бедфорд-Стайвесанте, Ньюарке, Браунсвилле, Уоттсе, Детройте и во многих других городах усвоили так же хорошо, как Завет, что расизм на Юге мало чем отличается от расизма на Севере.
Окленд оказался обычным американским городом. Торговая палата гордится городским портом, где круглые сутки кипит работа, городскими музеями, профессиональной бейсбольной и футбольной командами, потрясающим спортивным комплексом. Политики, рассуждающие об эффективном городском управлении и продуманных социальных программах для малообеспеченных жителей. Бедные знают город лучше, и они расскажут вам совсем другую историю.
Уровень занятости в Окленде тогда был одним из самых высоких по стране. Для чернокожих рабочих этот уровень был еще выше. Так было не всегда. Интенсивное промышленное развитие началось после Первой мировой войны, а потом — во время Второй мировой войны, когда посланные на Юг правительством специальные вербовщики уговорили несколько тысяч негров поработать в Окленде на местных вервях и прочих предприятиях, где производилась продукция для военных нужд. Они приехали и… остались после того, как закончилась война, хотя работы оставалось мало и они были никому не нужны. Поскольку сейчас в Окленде по-прежнему не хватает рабочих мест, по количеству семей, живущих на пособия по безработице, Окленд занимает второе место в Калифорнии, несмотря на то, что по величине это пятый город в штате. Местное полицейское управление славилось жестокостью и ненавистью по отношению к чернокожим. Двадцать пять лет назад преступность в полицейской среде разрослась настолько, что законодательные органы штата Калифорния провели расследование и выявили необычайно разветвленную сеть коррупции. В итоге шефа полиции заставили уйти в отставку, одного полицейского судили и отправили в тюрьму. С тех пор Оклендская «система» ничуть не изменилась. Жестокость полицейских беспредельна, коррупция процветает. Ни один из жителей города, конечно, этого не подтвердит, особенно те, кто относится к государственным служащим и привилегированному — белому — среднему классу. Однако никто из них понятия не имеет, что такое настоящий Окленд.
На севере Окленда находится район Беркли с центром в Калифорнийском университете; университетская жизнь разнообразна — здесь можно встретить как либерально настроенных людей, так и радикалов. На юге города расположен порт и площадь Джека Лондона, здесь же — ряд дешевых мотелей, магазинчиков и ресторанчиков, где кормят так себе. Если двигаться в западном направлении, то, преодолев восемь миль по мосту Сан-Франциско-Окленд, можно попасть в главный город Калифорнии — Сан-Франциско. Наконец, в восточной части Окленда находятся спальные районы. Там живут исключительно белые, и называется эта местность Сан-Леандро.
Географически Окленд делится на две части, очень не похожие друг на друга, — «равнины» и «холмы». На холмах и в благоприятном районе, известном под названием Пьемонт, живет верхушка среднего класса и представители высших слоев общества, т. е. боссы Окленда, среди которых и бывший сенатор Уильям Ноулэнд. Ему принадлежит ультраконсервативная газета «Трибьюн», единственный печатный орган Окленда. А в соседях у бывшего сенатора числятся мэр города, окружной прокурор и другие белые богачи. Они живут в больших, просторных домах, скрытых за листвой деревьев и обнесенных высокими заборами.
Равнины — это совсем другой Окленд. Уровень доходов здесь меньше, чем нужно для жизни. На долю таких семей приходится примерно половина населения Окленда, что составляет почти 450.000 человек. Они ютятся либо в захудалом, перенаселенном Западном Окленде, либо полуразвалившемся Восточном Окленде. Двери одной квартирки утыкаются здесь в двери другой. Старые, давно не ремонтированные помещения разделены на множество каморок. Здесь большинство негров, чикано (американцы мексиканского происхождения или мексиканцы, проживающие в США) и китайцев борются за выживание. Общий вид Восточного и Западного Окленда нагоняет тоску. Эта местность напоминает разрушающийся город-призрак, но в этом городе живут люди, в том числе и больше 200.000 негров, т. е. немного меньше половины городского населения. Вид Оклендских равнин угнетает своей мрачной серой монотонностью. Разбавляют ее лишь несколько больших и впечатляющих зданий в деловом центре. В их число входят здание Аламедского окружного суда (что очень существенно, между прочим), в котором есть и тюрьма, а также Главное полицейское управление Окленда — десятиэтажное здание обтекаемой формы. Для сооружения этой крепости средств не пожалели. Окленд и есть город-призрак в том смысле, в котором городами-призраками являются и многие другие американские города. Средний класс, в котором одни белые, убегает на холмы, откуда с очевидным равнодушием взирает на ужасное состояние городских бедняков.
Подобно другим бесчисленным семьям чернокожих, в сороковых и пятидесятых годах мы пали жертвой этого равнодушия и коррупции, когда переехали в Окленд. В то время найти приличный дом для многодетной семьи было так же сложно, как сейчас. Пока я был маленьким, мы сменили много жилья в поисках дома, который подошел бы нам. Первое жилье из тех, что я помню самостоятельно, находилось на углу Пятой и Браш-стрит в довольно неприглядной части города. Это было подвальное помещение, состоявшее из двух спальных комнат. Здесь было слишком мало места, чтобы наша большая семья разместилась хотя бы с минимальным комфортом. Пол в нашей квартире, кажется, был земляной или цементный, я плохо помню, в любом случае, в домах «обычных» людей такого пола не бывает. Родители спали в одной комнате, я и мои братья с сестрами — в другой. Позже, когда мы перебрались в двухкомнатную квартиру на Кастро и Восемнадцатой-стрит, нас уже поубавилось. Миртл и Леола вышли замуж, Уолтера забрали в армию. В доме на Кастро-стрит я спал на кухне. Воспоминания о проведенных на кухне ночах до сих пор часто возвращаются ко мне. Стоит мне задуматься о людях, живущих в тесных, переполненных квартирах, я всегда вспоминаю ребенка, который спит на кухне и страшно переживает из-за этого, ведь всем прекрасно известно, что кухня — это кухня, и она не должна служить спальней. Но это все, что мы тогда имели. Острое чувство несправедливости, которое я ощущал каждую ночь, с неохотой плетясь на раскладушку в закутке у холодильника, продолжает сжигать меня.
На самом деле, наша семья еле-еле сводила концы с концами, но я понятия не имел о том, что это значит. Мое детство было наполнено счастьем. Хотя мы испытывали дискриминацию и нас причислили к бедной общине, уровень жизни которой был ниже нормы, я никогда не чувствовал себя чем-то обделенным, пока бегал в коротеньких штанишках. У меня была сильная, дружная семья и много друзей для веселых игр, включая моего брата Мелвина (между нами четыре года разницы). Больше мне ничего и не требовалось. Мы просто жили и играли, наслаждаясь всем насколько возможно, особенно радуясь великолепной калифорнийской погоде: она милостива к бедным.
В отличие от других детей из нуждавшихся семей мы никогда не ходили голодными, хотя все, что мы ели, было пищей настоящих бедняков. Обычной едой для нас было кушанье под названием каш (cush). Оно готовилось из вчерашнего кукурузного хлеба, смешанного с прочими остатками — подливкой и луком. Сюда добавляли много приправ и жарили на сковородке. Иногда мы ели каш два раза в день, потому что больше ничего не было. Каш стал моим любимым блюдом, и я с нетерпением ждал, когда его приготовят. Теперь я понимаю, что такая еда была мало питательной, да и что там говорить — откровенно вредной для желудка, если есть изо дня в день. Это был просто хлеб, кукурузный хлеб.
Жизнь для меня стала еще прекрасней, когда я подрос. Мне исполнилось лет шесть-семь, и я уже мог играть на улице с Мелвином. Наши игры были наполнены радостью и бурным весельем, свойственным невинным детям, но даже они отражали финансовое положение нашей семьи. Купленная в магазине игрушка была для нас большой редкостью. Мы фантазировали и использовали то, что находилось под рукой. Но под рукой часто оказывались крысы. Мы их ненавидели, потому что наши дома кишмя кишели этими злобными грызунами. Однажды крыса чуть не откусила палец на ноге у моего племянника. С одной стороны, ненависть, с другой — желание поиграть, толкало нас на ловлю крыс. Пойманных вредителей мы бросали в большую жестяную банку, заливали минеральным маслом и поджигали. Из банки вырывалось пламя, а мы смотрели, как крысы метались внутри, тщетно пытаясь выбраться. Их хвосты торчали, прямо как серые дымящиеся зубочистки. Обычно животные подыхали от дыма и лишь потом сгорали.
К кошкам мы тоже не питали особой любви. Все потому, что нам рассказывали, будто кошки убивают маленьких детей, высасывая у них дыхание. Кроме того, мы часто проверяли сказку о кошке, всегда приземляющейся на свои лапы. Мы ловили кошек и сталкивали их с верхних ступенек лестницы. И они действительно чаще всего приземлялись на лапы.
Земля была одним из любимых материалов для наших игр. Обычно мы использовали ее, когда играли в строителей. Строительной площадкой нам служила крыша дома. Мы забирались туда и быстренько поднимали по веревке наполненные землей корзины. А потом мы сбрасывали землю по другую сторону дома. Вблизи нашего жилья не было плавательных бассейнов. Зато когда мы подросли, мы стали бегать к бухте вместе с другими ребятишками из окрестных домов и там ныряли с пирса в грязную воду. Земля, крысы, кошки — такие развлечения были у детей из малообеспеченных семей. Эти игры так же стары и жестоки, как экономическая реальность нашего мира.
Родители настаивали на том, чтобы мы учились ладить друг с другом. Если начинался спор, отец никогда не занимал чью-либо сторону. Он всегда был беспристрастным судьей, выслушивал обе стороны и обязательно доходил до сути дела, прежде чем вынести окончательное решение. В любых ситуациях отец оставался справедливым и внимательным, и когда у нас начались проблемы в школе, он не ленился ходить к учителям или директору, чтобы узнать, что случилось. Когда правда была на нашей стороне, он отстаивал нас, как мог, но никогда не покрывал, если мы совершали проступок.
Родители не учили нас драться, хотя отец всегда повторял, что нужно уметь за себя постоять, если тебя обижают. Он советовал нам не начинать драку, но в случае неизбежности силового выяснения отношений держаться до конца.
Вот так мы и росли — в сплоченной семье, с гордым, сильным отцом-защитником и любящей, жизнерадостной матерью. Не удивительно, что у нас, у детей, сформировалось определенное ощущение, когда кажется, что все наши потребности, начиная с религии и заканчивая дружбой и развлечениями, могут быть удовлетворены в семейном кругу. Мы не чувствовали необходимости в «посторонних» друзьях, мы и без того были лучшими друзьями друг другу.[10]
Детство пролетело незаметно. Мы мечтали о том, о чем мечтают остальные американские дети. Будучи наивными и чистыми созданиями, мы мечтали стать докторами, адвокатами, пилотами, боксерами и строителями. Откуда нам было знать тогда, что мы никуда не идем? В нашем опыте еще не было ничего такого, что показало бы нам — американская мечта не для вас. Да, у нас были большие виды на будущее. А потом пришла пора идти в первый раз в первый класс.
2. Проигрыш
Столкновение культур в школьном классе — это, по сути дела, проявление классовой борьбы, социально-экономическая и расовая война. Полем сражения становятся наши школы, где учителя, стремящиеся влиться в стройные ряды «среднего класса», вооруженные мощным арсеналом полуправд, предрассудков, рациональных объяснений, наступают на безнадежно отстающих детей из семей рабочих. Силы явно не равны, особенно из-за того, что это столкновение, подобно большинству сражений, происходит под маской добродетели.
Кеннет Кларк. Темное геттоПока я был ребенком, мы часто переезжали с места на места в поисках подходящего жилья, так что я успел посидеть за партой почти во всех средних школах Окленда и на собственном опыте узнал, что такое система образования, которую предлагает этот город беднякам.
В то время я еще не осознавал до конца масштабы и серьезность бытовавших в школе нападок на чернокожих детей. Я лишь понимал, что постоянно чувствовал себя неуютно и пристыжено из-за цвета своей кожи. Я никак не мог отвязаться от этих переживаний, они не давали мне покоя. Преследовавшие меня негативные эмоции рождались из распространенного в системе представления о том, что белые дети — «умницы», зато черные — сплошные «тупицы». Открыто об этом не говорили, но всегда давали понять. Любое положительное явление, которое можно было обозначить словом «хорошо», неизбежно ассоциировалось с белым цветом, даже в сказках, что нам давали читать в младших классах. «Негритенок Самбо»,[11] «Красная шапочка», «Белоснежка и семь гномов» словно говорили нам, кто мы есть.
Я помню свои ощущения от книги про малыша Самбо. Прежде всего, Самбо был трусом. Когда на него напали тигры, он, не раздумывая, выбросил подаренные отцом вещи: сначала зонтик, затем прекрасные обшитые войлоком туфли темно-красного цвета, в общем, избавился от всего, чего мог. И вообще все, что он хотел от жизни, — это без конца есть блинчики. Он и близко не напоминал отважного белокожего рыцаря, спасшего от вечного сна Спящую красавицу. Бесстрашный герой являл собой безупречность, тогда как в Самбо воплощались унижение и обжорство. Снова и снова нам читали историю о приключениях негритенка Самбо. Нам не хотелось смеяться, но, в конце концов, мы раздвигали губы в улыбке, чтобы скрыть охватывавший нас стыд. Мы воспринимали Самбо как символ всего того, что было связано с черным цветом кожи.
Пока я терзался от чтения историй про Самбо и Смоляное чучелко из рассказов о Братце Кролике[12] в младших классах, во мне стал накапливаться тяжкий груз невежества и комплекса неполноценности. В этом была виновата система. Я замечал, что все больше хотел отождествлять себя с белыми героями из букварей и из фильмов и временами весь съеживался при одном упоминании о чернокожих. Между мной и учителями пролегла целая пропасть враждебности. Большей частью эта враждебность подавлялась, но мы, дети негров, по отношению к белым продолжали чувствовать что-то похожее на странную смесь ненависти и восхищения.
Мы просто не чувствовали себя способными выучить то же самое, что учили белые дети. С самого начала все, включая нас, оценивали способности умненького и сообразительного чернокожего школьника исключительно по сравнению с белыми одноклассниками, хотя чернокожие дети могли читать или считать так же хорошо, как и белые. Белые были «мерой всех вещей», примером, на который следовало равняться, даже если речь шла о физической привлекательности. Густые африканские волосы — это плохо, зато прямые волосы — это замечательно; светлое было лучше, чем темное. Наше самовосприятие за нас формировали учебники и учителя. Мало того, что мы принимали себя за людей второго сорта, вдобавок ко всему мы считали эту второсортность неизбежной и неисправимой.
В третьем или четвертом классе, когда мы приступили к обычной математике, я наловчился обходить учителей. Средство было найдено проще пареной репы: я заставлял белых одноклассников решать за меня задачки и диктовать мне решение. Ощущение нашей неспособности выучить этот материал было общим местом для чернокожих школьников во всех бесплатных средних школах, где мне пришлось учиться. Как и следовало ожидать, острое чувство отчаяния и бесплодности попыток приблизиться к уровню знаний белых детей, заставляло нас бунтовать. Мы знали один способ, который помогал хотя бы как-то существовать в удушающей и подавляющей атмосфере, безжалостно разрушавшей нашу веру в себя. Этим способом и был протест.
Из всех неприятных случаев, которые я пережил, учась в начальной школе, мне особенно запомнились два эпизода. С самого начала у меня возникли проблемы с соблюдением дисциплины, точнее говоря, масса проблем, хотя довольно часто не я был тому виной. Например, когда я учился в пятом классе в Лафайетской начальной школе (тогда мне было одиннадцать лет), в учительницы мне попалась пожилая белая женщина. Я позабыл ее имя, но никак не её суровое лицо, с которого не сходило неодобрение. Однажды ей показалось, что я недостаточно внимателен к уроку. Она вызвала меня к доске и подчеркнуто сказала всему классу, что причиной моего плохого поведения является тупость. Она вознамерилась продемонстрировать, насколько глуп я был. Вручив мне мел, она велела написать на доске слово «бизнес». Я знал, как пишется это слово, я писал его сто раз, к тому же я был уверен в том, что с головой у меня все в порядке. Но пока я шел к доске, пока поднимал руку, в которой был зажат мел, я успел застыть от страха и в итоге не справился даже с первой буквой. В глубине души я сознавал ее неправоту, но как я мог доказать ей, что она не права?! Я разрешил ситуацию, покинув класс без единого слова.
Это повторялось со мной вновь и вновь, и каждый следующий случай ухудшал дело. Когда меня просили прочесть что-нибудь вслух или произнести по буквам слово, внутри у меня все холодело, голова становилась совершенно пустой. Думаю, что все считали меня непроходимо тупым, но я-то знал, что в моей голове просто был повешен замок, ключ от которого я потерял. Даже сейчас, когда мне приходится читать текст перед группой людей, я могу запнуться.
Второй случай, так хорошо отпечатавшийся у меня в памяти, тоже произошел в Лафайетской школе. В этой школе был заведен такой порядок: после перемены ученик должен был обязательно вытряхнуть песок из обуви и только потом занять свое место за партой. Как-то раз я сидел на полу, вытряхивая обувь. Песка набилось довольно много, и мне потребовалось время, чтобы избавиться от него. По мнению учительницы, подошедшей ко мне сзади, я слишком долго возился. Она ударила меня по уху книгой, обвинив в намеренной задержке всего класса. Абсолютно не подумав, я кинул в нее ботинком. Она отпрянула от меня и поспешила к двери, а мой второй ботинок пролетел у нее перед самым носом.
Разумеется, после такой выходки меня отправили к директору, зато меня зауважали одноклассники. Они поддержали мой протест против несправедливости, совершенной тем, кто имел над нами власть. В кругу детей из рабочих и неимущих семей авторитет завоевывался именно при помощи успешного сопротивления представителям власти. Ты добивался признания в своем кругу, тебя принимали за своего, только если ты был физически сильным, а твое поведение — вызывающим. И то, и другое приводило к расовому и социальному конфликту между учителями и администрацией школы с одной стороны и учащимися — с другой.
Единственным учителем, с которым у меня никогда не было трений, была миссис Макларен. Она преподавала мне, когда я учился в шестом классе в начальной школе Санта-Фе. Еще раньше она учила моего брата Мелвина. Поскольку мой братец был образцовым учеником, миссис Макларен питала большие надежды на мой счет. В свою очередь я чувствовал ответственность за репутацию Мелвина. Миссис Макларен никогда не повышала голос на своих учеников. Она излучала спокойствие, всегда была уравновешенной и мирной, независимо оттого, что могло случиться. Никто не питал ни малейшего желания начать кампанию против нее. Миссис Макларен была исключением из правил.
Впрочем, к тому моменту, хотя я был всего-навсего в шестом классе, я успел заработать репутацию очень трудного подростка, так что уже не было необходимости начинать воевать с преподавателями. Они ожидали от меня чего угодно и часто провоцировали неприятности, полагая, что я все равно что-нибудь выкину, несмотря на то, что успеваемость у меня была нормальная.
Я пережил не одно чистосердечное раскаяние и не одно падение. Стоило мне утихомириться на какое-то время, как начинались родительские нравоучения, после чего примерно неделю я занимался усердным самоанализом и принимал решение сотрудничать с преподавателями и приложить все усилия к учебе. Мать с отцом доказывали мне, что, поскольку у преподавателей есть нечто, в чем я еще только нуждался, я не мог входить в класс как равный. Я возвращался в школу, исполненный твердости и хороших намерений. Но учителя опять устраивали мне провокационные ловушки, полагая, что я буду продолжать бороться с ними. И это повторялось каждый раз. Резкие слова, борьба, исключение из школы — и еще один семестр коту под хвост. Мне часто казалось, что они просто хотели выгнать меня из класса, раз и навсегда.
За долгие годы, что я учился в Окленде, я не встретил ни одного учителя, который преподал бы мне урок, относящийся к моей собственной жизни или к моему личному опыту. Ни один преподаватель не пробудил во мне желание узнать что-то новое, прояснить какой-либо вопрос или изучить целые миры, которые могли открыть передо мной литература, наука и история. Все, что делали мои учителя, — это пытались лишить меня чувства собственной уникальности и ценности, и в итоге они чуть было не убили мой порыв к знаниям.
3. Взросление
Тот, кто захочет стать свободным, должен нанести первый удар.
Фредерик Дуглас. Моя жизнь в рабстве и на свободе[13]Моя учеба проходила вне школьных стен. Я никогда не учился по учебникам — меня учила семья, друзья и улица. Уже потом я полюбил книги и стал много читать, но это не имело никакого отношения к школе. Я начал получать знания нестандартным способом задолго до того, как переступил порог школы.
Один из самых первых уроков, который должен хорошо усвоить первый ребенок, — это приемы хорошей драки. Отец учил нас всегда играть по правилам. Когда я только пошел в школу, то пытался следовать его совету, однако принцип справедливости, столь дорогой отцу, преобладал далеко не везде. Некоторые игры заканчивались дракой, а тогда мне еще было не по душе драться. Первый год в подготовительном классе дался мне тяжело. У меня выработалась привычка симулировать приступы тошноты, чтобы оставаться дома и таким образом избегать встречи с местными забияками. Если этот фокус не удавался, то я «терял» одежду и очень долго собирался. Мать видела насквозь все мои ухищрения. Узнав о причине, по которой я выдумывал разнообразные предлоги для непосещения детсада, она попросила моего брата Уолтера-младшего (по прозвищу Сонни Мэн) забирать меня и приводить домой. В конце концов, я стал защищаться, когда кто-то, испытывавший желание распустить кулаки, нападал на меня. Проблема оказалась решена: Уолтер просто научил меня драться и драться неплохо.
В то время, а на дворе стоял примерно 1950 год, мальчишки думали, что Джо Луис был святым. Он, Джерси Джо, Кид Галиван и Шугар Рэй.[14] были нашими кумирами. Я хотел стать настоящим уличным бойцом, тем более, что для выполнения моего желания имелись все основания: у меня были самые быстрые руки в квартале. Знакомые ребята придумывали себе звучные прозвища — Винчестер, Герцог, Граф, но мне хватало собственного имени. Я колотил всех мальчишек в квартале, но вовсе не для того, чтобы завоевать репутацию непобедимого драчуна. Мне нужно было сохранить свое достоинство и обеспечить себе элементарное выживание. Полоса бесконечных драк началась в «промежуточной» школе. Из-за буквы в полном имени[15] меня обзывали «мочой». Стоило кому-нибудь произнести в мой адрес дразнящую фразу «Хьюи «Пи» собирается сделать пи-пи», я тотчас лез в драку и молотил своих обидчиков, пока хватало сил. В какой-то момент все зашло так далеко, что я хотел бросить «промежуточную» школу, чтобы упростить себе жизнь, но мать ни за что не допустила бы этого.
Улица служила нам рингом, здесь мы устраивали небольшие боксерские поединки. Вместо перчаток мы обматывали руки полотенцами и начинали бой из пяти раундов. Нашими зрителями были местные пьяницы. Они бросали нам пятицентовые монеты и криками подзадоривали нас, маленьких боксеров. Они обожали кровавые зрелища, и мы удовлетворяли их страсть. Мы выходили на «ринг», дубасили друг друга без всякой жалости, кровью пачкали одежду, яростно кричали в пылу схватки — в общем, бились не на жизнь, а на смерть. Исполнявшие роль зрителей алкоголики прозвали меня «призером». Я свято верил в то, что после окончания боя победитель получает приз. Поэтому иногда «друзья бутылки» приносили мне коробочку крекеров «Джек» ценой в десять центов. Я стал думать, что все возможные призы на свете — это крекеры, ибо дешевое печенье было единственной знакомой мне наградой. Впрочем, мы с трудом могли есть, поскольку покидали ринг с разбитыми в кровь губами. У меня даже не было мысли зарабатывать деньги на боксе.
Впоследствии я вместе с Уолтером тренировался в спортивном центре на Кэмпбелл-стрит и участвовал в нескольких боях в «Клубе для мальчиков». Мой старший брат Ли Эдвард уже ушел из дома, когда я начал подрастать, но он часто заходил к нам, чтобы повидаться. Он тоже открыл мне немало секретов хорошего боя. Ли Эдвард завоевал в общине репутацию человека, не проигравшего ни одной схватки. Любой мальчишка в то время испытывал бы точно такую же гордость, какую испытывал я, имей он брата, про которого известно, что он постоит за себя во всех ситуациях. Несмотря на то, что Ли Эдвард был «своим» и прошел суровые испытания, он никогда никому не уступал. Именно старший брат больше, чем кто-либо в жизни, учил меня не опускать руки при самом неблагоприятном раскладе, смотреть сопернику прямо в глаза и атаковать без передышки. Даже если тебя сильно ударили и отбросили назад три-четыре раза, говорил мне брат, в конце драки ты можешь одержать верх. И он был прав.
Драка всегда занимала большое место в моей жизни, как они занимает в жизни большинства обездоленных. Некоторым людям это сложно понять. Мне было слишком мало лет тогда, чтобы я мог понять, что мы, из-за малейшего предлога бросавшиеся в драку пацаны, пытались кулаками утвердить свое мужское лицо и достоинство и использовали грубую силу в ответ на социальное давление. Для гордых, не потерявших чувство собственного достоинства людей физическая расправа была единственным средством, с помощью которого можно было устоять против скотского обращения с нами. Когда дерешься, узнаешь о себе много нового.
Драка — это не просто способ выживания, но и элемент дружбы. Пока я рос, участие в уличных столкновениях было существенным моментом товарищеского братства нашего квартала. Драки были разными: можно было подраться и с друзьями, а можно и с чужаком, но в последнем случае все местные мальчишки объединялись. Если по соседству объявлялся неплохой уличный боец, весть об этом разносилась по всей округе. Именно так я впервые услышал о Дэвиде Хиллиарде, который потом вступил в ряды «Черных пантер». Дэвид не относился к категории завзятых драчунов: он никогда не искал неприятностей сам, но, когда на него нападали, он демонстрировал недюжинную смелость. В наших краях он был известен как бесстрашный противник, не имеющий привычки сдаваться. Это одно из тех качеств, которое меня восхищает в нем больше всего; сформировавшийся еще тогда, восемнадцать лет назад, внутренний стержень Дэвида остается таким же крепким.
Мне было тринадцать лет, наступило лето, я только что окончил начальную школу и в это время познакомился с Дэвидом. Мы как раз переселились в Северный Окленд, где, наконец, смогли приобрести дом. Семья Дэвида недавно переехала в Окленд из Алабамы, они жили в соседнем квартале. Вскоре я и Дэвид близко сошлись. Мой новый друг очень понравился моим родителям, и его стали принимать, как родного. Порой мы интересовались, а не состоим ли мы случаем в родственных отношениях, ведь моя бабушка по отцовской линии носила фамилию Хиллиард и была родом из Алабамы.
Дэвид стал моим верным товарищем. В подростковом возрасте мы были не разлей вода. Он разделял со мной все обычные занятия тинэйджеров. Иногда мы проводили вместе целые дни напролет, слушая музыку и ведя настоящие мужские разговоры. Музыкальные команды пользовались большой популярностью в те годы. У меня не было голоса, да и сейчас я не пою, а вот у Дэвида получается хорошо. Вместе со своими друзьями он сколотил группу. В течение целого лета они репетировали каждый день, надеясь прославиться. У нас с Дэвидом было еще одно общее увлечение — противоположный пол. Парочка симпатичных девчонок жила как раз рядом с Дэвидом, так что дом Хиллиардов стал любимым местом наших сборищ.
Осенью мы оба поступили в среднюю школу Вудро Вильсона. В числе наших общих друзей была привлекательная девочка. Звали ее Патрисия Паркс, некоторое время я с ней общался. Но дело в том, что, как я сейчас думаю, я просто пугал ее до смерти. Стоило Патрисии завидеть меня, как она исчезала. Зато когда я познакомил ее с Дэвидом, они моментально поладили друг с другом, а потом поженились. Патрисия больше не испытывает ужас при виде меня.
Без Дэвида мое образование было бы неполным, он очень много дал мне и продолжает оказывать на меня влияние. Наша дружба настолько прочна, что это невозможно выразить словами. Мы дружим вот уже восемнадцать лет, мы не раз дрались вместе, отбиваясь от врагов, но мы ни разу не ссорились, между нами никогда не было серьезных разногласий. Мы во многом отличаемся друг от друга, однако каждый из нас уважительно относится к особенностям другого.
В средней школе я нашел еще одного надежного друга — Джеймса Кроуфорда. Он был на пару лет старше меня, но в учебе отставал. Обычно мы с Джеймсом без конца мутузили друг друга, сегодня ссорились, а на завтра сходились вновь. Он мог как следует вздуть большинство парней в школе, включая меня. Когда бы ни случалась драка, я неизбежно оказывался битым. Но я всегда возвращался, причем в руке у меня было что-нибудь очень убедительное — бейсбольная бита или кусок резинового шланга с металлической начинкой. Джеймс поневоле должен был проникнуться ко мне уважением, потому что я приходил к нему даже после того, как он клал меня на лопатки. Мы перестали драться в 1953 году. Тогда мы сколотили банду и придумали для нее название — Братство. Со временем состав нашей группы более или менее определился: человек тридцать-сорок образовывали постоянное ядро, это были чернокожие подростки из седьмого и восьмого классов. Банда девятиклассников числилась в наших союзниках. Роль лидеров досталась нам с Кроуфордом. Создание Братства (а наша банда была одной из немногих в Северном Окленде) стало непосредственным ответом на «белую» агрессию в школе. В то время в школе Вильсона черных подростков было раз два и обчелся, поэтому все чернокожие считали себя кровными братьями. Мы и называли друг друга родными братьями или кузенами. Мы объединились, чтобы дать достойный отпор учащимся-расистам, преподавателям и администрации школы. Белые учителя и школьники спокойно обзывали нас «ниггерами», и напряжение в отношениях между белыми и черными было видно невооруженным взглядом.
На игровой площадке чернокожие ученики тоже держались вместе. Мы играли во «взрослые» прятки, царя горы, рингелево (командная игра в прятки). Как бы то ни было, игры, в которые мы чаще всего играли, по-прежнему отражали наше неблестящее материальное положение. Часами наша компания резалась в кости или подбрасывала монетку. Поскольку ни у одного из нас не хватало денег на обед или даже на пакет молока, ставкой в игре служила еда. Нам также нравилась забава, которую иногда называют «перекрыть» или «дюжина». Это словесный поединок. Цель игры состоит в том, чтобы как можно больнее задеть противника, оскорбив его описанием сексуальных сцен с его матерью. Такое развлечение — обычное дело для негритянской общины. После этой игры я нередко ввязывался в драку, так как у меня не очень получалось обставлять соперников. По утрам, перед занятиями, мы с Дэвидом частенько обсуждали, как бы нам переиграть Кроуфорда. Но все наши планы в очередной раз шли прахом, потому что в школе Кроуфорд почти всегда обыгрывал нас. Обычный стишок, сочиненный Кроуфордом, мог звучать примерно следующим образом: «Мотоцикл, мотоцикл, едет быстро — не догонишь; киска у твоей мамаши похожа на задницу бульдога» («Motorcycle, motorcycle, going so fast; your mother's got a pussy like a bulldog's ass»). На самом деле, это были просто слова, и, не воспринимая их всерьез, мы оставались отличными друзьями и «надежными партнерами».
Годы обучения в средней школе как две капли воды походили на те, что я провел в начальных классах. Преподаватели старались смутить и унизить меня, а я отвечал на их провокации вызывающим поведением, чтобы сохранить самоуважение. В ту пору мне было еще невдомек, что в основе моего открытого сопротивления лежала непокорная, яростная гордость. Мои выходки приводили к неизменному результату: меня хронически исключали из школы. Часами меня увещевали то родители, то директор школы, то советник. Поддавшись на их уговоры, я в очередной раз заставлял себя подчиниться и давал обещание нормально вести себя в школе. Но стоило мне вернуться в класс, как провокации в мой адрес возобновлялись, и я не выдерживал. Опять меня вызывали к директору, и я вновь отправлялся на улицу. Происходившее со мной напоминало вращение двери-вертушки: каждую неделю повторялось то же самое, что случалось неделей раньше.
Среди всех занятий в школе я нашел для себя урок-исключение. Он проходил для меня практически безболезненно. На этом уроке нас учили готовить. Секреты кулинарного мастерства нам преподавала мисс Кук — единственная чернокожая учительница, которую я встретил за все школьные годы чудесные. Ее уроки я посещал с определенной целью. Большинство белых ребят могло позволить себе пообедать в школе. У моих же родителей не было денег, чтобы давать мне с собой в школу. Гордость не позволяла мне приносить коричневый бумажный пакет с обедом. Я не хотел давать повод друзьям посмеяться надо мной. Так что я не отлынивал от уроков мисс Кук и наедался там. Вот так я обеспечивал себе обед: либо ел прямо на уроке, либо выигрывал, либо воровал у белых школьников.
Мы учились с Кроуфордом в одном классе, и нас всегда выгоняли с урока вдвоем. Мне хорошо запомнилась одна из учительниц в школе Вудро Вильсона. Ее звали миссис Гросс. Мы занимались у нее по три раза в день. Занятия были ежедневными, их посещали отстающие, поэтому их прозвали «класс для тупиц». На этих уроках за партами сидели лишь чернокожие ученики. Приходя на урок к миссис Гросс, мы начинали играть на спор, тыкать друг друга, в общем, устраивали в классе настоящий ад. Кроуфорд любил стрелять в меня из самодельной рогатки, натянув между пальцами резиновую ленту. Я не оставался в долгу и шлепал Кроуфорда по голове, а уж после этого до драки было совсем недалеко. Миссис Гросс теряла терпение и выставляла нас за дверь. Бывало, что она отправляла нас в кабинет к директору, иногда велела просто стоять в коридоре. В классе миссис Гросс существовало такое правило. Если она выгоняла тебя хотя бы с одного занятия, то к следующим в этот день ты уже не допускался. Спровоцировать учительницу на то, чтобы она выгнала тебя с урока, означало добиться своеобразного освобождения, выйти на свободу из «класса для дураков».
Особенно неприятно было посещать занятия у миссис Гросс во время зачетов по чтению. Мы терпеть не могли чтение. Нам вообще не было дела до того, что там говорила миссис Гросс. Когда приходила пора читать вслух, мы всей душой рвались прочь из класса. Мы не умели читать и не хотели, чтобы остальные узнали об этом. Самое смешное было то, что почти у всех в нашем классе были серьезные проблемы с чтением. И все же никто не желал признаваться в этом.
В то время, да и еще раньше, мне казалось, что научиться читать — это все равно, что стать взрослым. Иначе говоря, я думал, что, когда вырасту, то автоматически обрету способность читать. Чтение я воспринимал как навык, который люди приобретают естественным путем в процессе взросления. В любом случае, откуда было взяться желанию научиться читать, если читать нам давали какие-то расистские истории? Отказ от обучения чтению превращался в протест, он позволял сохранить то чувство собственного достоинства, которое я по мере своих сил сохранял в условиях системы расового угнетения.
Поэтому, как только подходила наша с Кроуфордом очередь читать, мы намеренно вели себя так, чтобы нас выгнали вон. Обычно мы добивались своего. Получив желанную свободу, мы потихоньку ускользали из школы. После чего мы могли украсть бутылочку вина или доехать на велосипеде до наших друзей, остаться у них, пока шли уроки, и проиграть все это время в карты. После окончания уроков мы частенько бегали в кино с другими ребятами или отправлялись домой к Дэвиду. Там мы слушали пластинки и танцевали с девочками.
Примерно так прошли мои школьные годы. С внешней стороны мой портрет тех лет выглядел довольно мрачно. Однако нужно учесть, что мое отрочество немногим отличалось от жизни многих темнокожих подростков. Мы шли в школу, и нас оттуда с треском выгоняли. Мелкие нарушения становились нашим главным занятием. Это не значит, что мы были склонны к преступлениям, но верно то, что в нас кипела злость. Мы не считала, что поступаем плохо, воруя бутылку вина или разбивая парковочные счетчики. Мы хотели отплатить людям, заставлявшим нас чувствовать себя ничтожеством, причем как раз в тот момент, когда нам было необходимо ощущать собственную значимость и иметь надежду на будущее. Мы набрасывались с кулаками на тех, кто безжалостно растаптывал наши мечты.
У Джеймса Кроуфорда были такие мечты. Он хотел стать великим певцом. Бывало, мы с Мелвином садились подле Джеймса и часами наслаждались его прекрасным тенором. Кроме того, у Джеймса хорошо получалось готовить, и он мечтал открыть собственный ресторан. Джеймс Кроуфорд был наделен талантом, но образовательная система и психологические травмы не позволили ему развить свои дарования. Он не познал прелести чтения и до сих пор не умеет читать. Джеймс постоянно боялся, что у него что-то не получится, и этот страх лишь усилился по вине его педагогов, хотя они должны были помочь ему преодолеть себя. Мечты Джеймса растаяли, как дым. С каждым годом его страх рос все больше и больше, его силы истощались, и в конечном итоге его исключили из школы как «нежелательного» ученика. Постепенно он спился и стал попадать в больницы для душевнобольных. На его лице полно шрамов — это постарались полицейские. Вот такая история случилась с моим другом Джеймсом Кроуфордом. Еще одна мечта разлетелась в пух и прах.
4. Перемены
Героем моих детских лет был отец… в его натуре не было ни малейшего намека на подобострастие. Еще в юности он решительно отказался быть рабом, а, став мужчиной, он начал презирать роль дяди Тома. Отец служил нам примером, и мы никогда не сомневались в том, что негр во всех отношениях равен белому человеку. И мы не жалели сил, чтобы это доказать.
Поль Робсон. На том стою[16]Надежда была редким гостем в негритянской общине. Выросший в Гарлеме Клод Браун в своей книге «Мальчик на земле обетованной» пишет как раз об этом. Вернувшись в Гарлем после четырехлетнего отсутствия, он потратил массу времени на то, чтобы отыскать своих друзей детства. «Казалось, что большинство ребят, с которым мы вместе росли, так и не перешли в категорию взрослых, — вспоминает Клод Браун. — Почти все успели отправиться либо на тот свет, либо за решетку». Многие молодые негры нашего поколения могут сказать то же самое. Наркотики, угнетение, отчаяние собирали свою жертву. Выживание в таких условиях — дело непростое и уже тем более его нельзя считать само собой разумеющимся.
Вспоминая свое отрочество, я понимаю, насколько мне повезло. Сильное и позитивное внешнее влияние, присутствовавшее в моей жизни, спасло меня от непоправимой безнадежности, от которой пострадало так много моих собратьев. Во-первых, я мог равняться на отца. Он передал мне непоколебимое чувство гордости и самоуважения. Во-вторых, мой брат Мелвин пробудил во мне желание учиться, и, наконец, я начал читать, опять же благодаря Мелвину. То, что я открыл для себя в книгах, позволило мне начать размышлять, задавать вопросы, искать и, в конечном итоге, изменить свою жизнь. Определенное влияние оказали на меня и другие факторы, которых набралось немало. Моя мать и остальные члены семье, опыт, полученный мной на улице, друзья и даже религия — все наложило на меня какой-то свой неповторимый отпечаток. Но именно первые три источника влияния и, прежде всего, влияние отца, помогли мне встать на путь развития и личных перемен.
Когда я говорю, что мой отец был необычным человеком, я имею в виду присущие ему достоинство и гордость, столь нехарактерные для чернокожих выходцев с Юга. Хотя другие негры, проживавшие в южных штатах, обладали похожей внутренней силой, они никогда не позволяли себе демонстрировать ее белым. Показать силу духа означало начать управлять своей жизнью самостоятельно. Отец никогда не скрывал свою духовную силу от кого бы то ни было.
Так сложилось, что чернокожие южанки должны были с особой тщательностью заботиться о воспитании именно сыновей. Из поколения в поколение матери в негритянских семьях на Юге пытались обуздать природную агрессивность в своих мальчуганах, чтобы уберечь вспыльчивых детей от скорой расправы, если не от верной смерти, которую можно было ожидать от белых. Мой отец избежал подобного воспитания. Даже если его пытались воспитывать в традиционной — сдерживающей — манере, он решил это игнорировать. Каким-то образом ему удалось вырасти, сохранив нетронутыми всю врожденную гордость и чувство собственного достоинства. Будучи уже взрослым, он ни разу не позволил белому человеку унизить его самого или члена его семьи. Он не позволял своей жене работать, хотя белые жители в Монро, шт. Луизиана считали, что она должна гнуть спину на их кухнях и давали отцу недвусмысленно это понять. У отца не было привычки идти на уступки, он всегда брал на себя роль сильного защитника, и он никогда не колебался, если нужно было поговорить с белым человеком. Пока мы, его дети, были маленькими, он развлекал нас, рассказывая о своих встречах с белыми. Последние несколько лет он чувствует себя неважно, но даже сейчас, стоит ему начать вспоминать эти истории, как прежняя сила вновь говорит в нем. Мы не сознавали таких вещей в детстве, но дело в том, что рассказы отца не были простым развлечением, на их примере он учил нас, как быть настоящим человеком.
Однажды, когда мы жили еще в Луизиане, отец поспорил с молодым белым, у которого он работал. Разногласия возникли как раз по поводу работы. Работодатель отца порядком разозлился, увидев, что отец уперся и стоит на своем. Он сказал отцу, что обычно, если цветной начинает выступать, он берет в руки кнут. После такого заявления отец не растерялся, ответив со всей возможной твердостью, что никому не позволит бить себя кнутом за тем только исключением, если кнут будет в руках более достойного человека, чем он сам. Потом отец выразил сомнение насчет того, что его работодатель относится к числу более достойных. Эти рассуждения поразили противника отца необыкновенно. Обескураженный, он отступил, но при этом назвал отца сумасшедшим. О случившемся инциденте вскоре узнал весь город. Мой отец стал известен как «безумец» только потому, что он не поддался на угрозы белого человека. Довольно странно, но репутация «ненормального» сослужила отцу неплохую службу: у белых поубавилось охоты трогать его. Именно так чаще всего и поступает угнетатель. До него не доходит простая вещь, что все люди хотят быть свободными. Поэтому, столкнувшись с сопротивлением, угнетатель отмахивается от этого факта и называет попытавшегося сопротивляться человека «сумасшедшим» или «ненормальным». Отца обозвали «больным» за то, что он не позволил белому назвать себя «ниггером», отказался быть послушным дядей Томом и спокойно терпеть белых, не оставляющих в покое его семью. Для белых мой отец был «ненормальным», а в наших глазах — настоящим героем.
Даже оружие в руках белого не могло остановить отца. Как-то вечером, возвращаясь с работы, отец ехал на машине с друзьями. По какой-то причине они остановились прямо перед домом, где жили белые, и начали разговаривать и смеяться. Они не заметили женщину, стоявшую на веранде этого дома. Вскоре из дома вышел мужчина с топором в руках. Он стал кричать на моего отца и его приятелей, обвиняя их в то, что они якобы потешались над его сестрой. Водитель запаниковал и нажал на газ. Когда машина доехала до угла улицы, отец заставил водителя остановиться. Он выбрался из машины и вернулся к тому дому один. Навстречу отцу уже шел белый мужчина, вооруженный топором. Отец спросил разъяренного человека, зачем он прихватил этот самый топор и что он собирался делать. Белый сразу же спустил дело на тормозах, ответив что-то вроде «вы же знаете этих южных женщин», и добавил, что должен был устроить это показательное шоу в угоду своей сестре. Отец понимал, что согласно этикету южан со стороны белого это было самое настоящее извинение, поскольку кодекс поведения действительно мог потребовать от мужчины схватиться в этой ситуации за топор. Поэтому отец принял это объяснение, но не раньше, чем дал понять белому недопустимость угроз в свой адрес.
Не было случая, чтобы отец колебался, стоит ли ему высказывать свое мнение о ком-либо напрямую, в лицо человеку. Однажды отцу показалось, что какой-то белый его обманул. Отец оповестил об этом случае весь город. Узнав о слухах, выставлявших его в плохом свете, этот человек подъехал к нашему дому, чтобы выяснить отношения с отцом. В машине, в бардачке, лежал пистолет. Отцу было известно об оружии, тем не менее, он, безоружный, вышел побеседовать с «гостем». Отец обошел машину и сел на подножку рядом с белым так, чтобы тот не сумел достать пистолет. Потом отец сказал все, что он думал об этом человеке, и напоследок заявил: «Если ты хоть немного зацепишь меня, твоим сородичам придется изрядно побегать за мной, потому что твое тело будет лежать прямо здесь, на дороге, медленно остывая». Белый ретировался, и отец больше никогда не слышал о нем.
Временами некоторые белые приглашали отца пойти с ними на охоту. И по сей день я не понимаю, почему они делали это. У них у всех были дробовики. Зная, что мой отец был священником, они старались втянуть его в дискуссию на тему Священного писания и происхождения человека. Если Адам и Ева совершенно точно были белыми, спрашивали отца, то откуда взялись негры? По словам отцовских собеседников выходило, что негры произошли от Адама и гориллы. Отец парировал, отвечая: «Каким же грубым и низменным существом должен быть белый человек, если он опустился до того, чтобы заниматься сексом с обезьяной?» После такой постановки вопроса обстановка накалялась до предела, но ничего серьезного не происходило.
Ни одного члена семьи отец не оставлял без своей защиты. В пятнадцать лет самый старший из моих братьев, Ли Эдвард, пошел с отцом работать на мельницу, где перемалывали сахарный тростник. Процесс обработки начинался с забрасывания тростника в дробильную установку, работавшую на бензине. Дробилку никогда не останавливали, так что приходилось безостановочно наполнять ее тростником, иначе она могла перегореть. Ли Эдвард должен был подбрасывать в дробилку тростник. Мощность мотора немного убавили, чтобы подросток успевал, но после четырех часов напряженного труда он так устал, что не смог бросать тростник с необходимой скоростью, и оставшийся в дробилке тростник выгорел. Увидев, что работа остановилась, владелец мельницы начал бранить Ли Эдварда. Он мог много чего плохого наговорить, но отец был тут как тут. Владелец был белый мужчина ростом выше шести футов и весом фунтов двести — отец как раз доходил ему до пояса. Отец выключил мотор и сказал хозяину, что сам будет подбрасывать тростник, после чего велел Ли Эдварду отправляться домой. Он хотел, чтобы мы по его примеру стали хорошими работягами, однако он не меньше желал, чтобы мы выросли, сохранив свою гордость.
Вновь и вновь я слушал эти и подобные им истории, пока опыт отца не стал моим собственным. Любой человек, будь то черный или белый, кто пытался беспокоить нас, имел дело с отцом. И отца совсем не волновало то, что белый Юг не терпел такого поведения со стороны чернокожих. Отец стоял на своем вплоть до последнего дня нашего пребывания в Луизиане, т. е. до того, как мы перебрались в Калифорнию. Он больше не вернулся на Юг.
Тот факт, что отец выходил сухим из всех столкновений с белыми, пожалуй, имеет более глубокое объяснение, чем кажется на первый взгляд. В конце концов, отец сам был наполовину белым, и кровь белого человека текла в жилах его близких — его отца, двоюродных братьев, тетей и дядей. Жившие по соседству белые спокойно могли пустить кровь неграм, но они опасались быть уличенными в убийстве другого «белого». Статистика подтверждает эту гипотезу. История линчевания на Юге показывает, что негры-полукровки имели гораздо больше шансов выжить в условиях расового угнетения, чем их чистокровные собратья.
В любом случае, гордость моего отца означала постоянную угрозу смерти. И все же этот дамоклов меч не уничтожил в отце желания во что бы то ни стало оставаться человеком, желание быть свободным. Теперь я могу понять, что, сохраняя человеческое достоинство, он сохранял и свободу, а, кроме того, получал возможность передать ощущение свободы своим детям. Как бы ни старалось общество украсть у нас чувство собственного достоинства, мы выживали благодаря тому, что получали от отца. Это был самый драгоценный дар из всех возможных. Все остальное берет начало именно отсюда.
Несокрушимое осознание ценности собственной личности сближало нас и побуждало чувствовать ответственность друг за друга. Поскольку я был младшим в семье, все мои братья и сестры оказали на меня серьезное влияние и в особенности три моих брата. Из них больше всего я обязан Мелвину: он убедительнее остальных показал мне возможности интеллектуального роста и особый путь самореализации.
Мелвин всего лишь на четыре года старше меня, поэтому, пока мы учились, он постоянно составлял мне компанию в играх. Мелвин собирался стать врачом, а я мечтал о том, как выучусь на дантиста, чтобы мы смогли на пару открыть больницу в нашей общине. Постепенно это желание исчезло. Наверное, это случилось еще в школе. Вообще мои амбиции школьных лет довольно рано растаяли. Хотя Мелвин и не поступил в медицинскую школу, он всегда был прилежным учеником. Сейчас он читает лекции по социологии в Мерритском колледже в Окленде.
Я всегда восхищался живостью ума, присущей Мелвину. Именно брат помог мне справиться с трудностями, которые я испытывал с чтением. Когда он поступил в колледж, я стал увязываться за ним и слушать, как он обсуждает книги и занятия со своими друзьями. Мне кажется, что впоследствии впечатления от всего услышанного побудили меня подать документы в колледж, хотя, в общем-то, в школе я ни чему не выучился. Кроме того, Мелвин учил меня понимать поэзию. Он ставил мне записи стихов или читал их сам. Он занимался литературой, и я подозреваю, что, декламируя мне стихи, он просто заучивал их. Мы часто обсуждали с ним смысл стихов. Иногда Мелвин объяснял мне его, но стоило мне обнаружить, что я вполне способен понимать поэзию без посторонней помощи, как я сам начал помогать Мелвину доходить до сути стихотворений.
Я без особого труда запоминал стихи, и к моменту поступления в среднюю школу в моей памяти хранилось немало стихов, которые я когда-либо слышал. Мелвин посещал класс литературы в городском колледже, так что с его слов я выучил стихотворения «Колокола» и «Ворон» Эдгара По, «Любовную песнь Дж. Альфреда Пруфрока» Томаса Элиота, «Озимандию» и «Адонаиса» Шелли. Мне также нравился Шекспир, особенно я любил проникнутый отчаянием монолог в «Макбете», начиная со слов «Завтра, и завтра опять / Так мелко пресмыкается изо дня в день…». Шекспир писал об условиях существования человека. Он имел в виду и меня, ибо временами я был вынужден изо дня в день беспомощно пресмыкаться. Зачастую я напоминал себе актера, с волнением и одновременно с важным видом играющего свою роль в течение недолгого часа, отведенного ему на сцене. Вскоре, подобно быстро сгорающей свече, моя жизнь подошла бы к концу. Однако я учил урок, смысл которого был противоположен отчаянию Макбет. Если жизнь постоянно наполнена шумом и яростью, она может быть больше, чем пустая, выдуманная история.
«Адонаис» также оставил неизгладимый отпечаток в моей душе. В этом стихотворении рассказывается о человеке, друг которого погибает или его убивают. Одно из достоинств стихотворения кроется в том смысле, который в него заложен. А главная идея — показать, что с течением времени чувства поэта изменяются и он начинает смотреть на вещи по-иному, чем прежде. Поэт делится своими переживаниями, прослеживает, как постепенно меняется его отношение к умершему другу. Под конец школы у меня стал накапливаться похожий опыт, потому что мои друзья стали поступать на службу или обзаводились семьями, или пытались влиться в ту самую систему, которая в школе постоянно заставляла их чувствовать себя униженными. Со временем я начал ощущать безнадежность того пути, который выбирали мои друзья. Женитьба, семья и долг — в каком-то смысле, это не что иное, как еще одна форма рабства.
Стихотворение «Озимандия» Шелли поразило меня, потому что в нем я обнаружил разные смысловые пласты. По-моему, это довольно насыщенное и сложное стихотворение:
Я встретил путника; он шел из стран далеких И мне сказал: вдали, где вечность сторожит Пустыни тишину, среди песков глубоких Обломок статуи распавшийся лежит. Из полустертых черт сквозит надменный пламень — Желанье заставлять весь мир себе служить; Ваятель опытный вложил в бездушный камень Те страсти, что могли столетья пережить. И сохранил слова обломок изваянья: «Я — Озимандия, я — мощный царь царей! Взгляните на мои великие деянья, Владыки всех времен, всех стран и всех морей!» Кругом нет ничего… Глубокое молчанье… Пустыня мертвая… И небеса над ней…[17]Это стихотворение можно истолковать следующим образом. Жизнь человека похожа на миф о Сизифе. Каждый раз, вкатывая камень на вершину горы, ты видишь, как он катится вниз прямо на тебя. Люди создают монументальные творения, но все они, в конечном итоге, разрушаются. Царь, о котором говорится в стихотворении, наивно полагал, что его статуя простоит на земле до скончания веков, но он не учел, что даже прочный камень не в состоянии сопротивляться времени. Огромная статуя царя развалилась, ее подточило время, и этот исход был неизбежен. С другой стороны, можно предположить, что этот правитель оказался настолько мудрым, что задался целью показать людям конечность всего человеческого. Царь захотел, чтобы люди отвлеклись от своих деяний и огляделись по сторонам, чтобы они ощутили отчаяние, поняв, что они тоже дойдут до последней черты, когда все вокруг сравняется с землей.
Часто бывает так, что в какой-то определенный период жизни ты просто не можешь понять, что с тобой происходит, поскольку перемены происходят незаметно. Так случилось и со мной, когда я был подростком. Мое восхищение Мелвином переросло в любовь к поэзии, а потом отсюда вырос мой интерес к литературе и философии. Пока мы с братом разбирали стихи, мы сталкивались с миром идей. Несмотря на то, что я еще не умел читать, я знакомился с абстрактными понятиями и их анализом. Я начал вырабатывать в себе критический взгляд на вещи, что позже позволило мне глубоко анализировать собственный жизненный опыт. Отсюда появилось желание научиться читать, а книги, которые я, в конце концов, открыл для себя, изменили мою жизнь до неузнаваемости.
5. Выбор
Эта история о ребенке, которым и ты был когда-то. Этот ребенок верил. Он был рожден с верой, но, пока он рос, все вокруг него, начиная с родителей, сестер и учителей, и заканчивая каждым встречным и поперечным, говорили, что предмет его веры на самом деле был не таким, как ему представлялось. Конечно же, они все утверждали, что веруют в Бога и Иисуса Христа Всемогущего, молятся и взывают к Ним. Но это случалось лишь на пару часов в церкви, которую они посещали раз в неделю. В итоге сознание ребенка непостижимым образом раздвоилось, причем одна половина была такой же искренней, как вторая. Потом в ребенке появился кто-то третий — он мог отстраниться и наблюдать за первыми двумя. Причина крылась в том, что ребенок стал подозревать, что люди, которые по-настоящему не верят, возможно, правы, считая, что не существует того, во что можно верить. Однако, если ребенок соглашался с этим и отказывался от прекрасных, честны, добрых вещей, он терял все, что мог получить, если бы никогда не утратил веру в свою веру.
Чарльз Мингус. Ниже побежденногоПока я учился в средней школе, часто того не сознавая, я делал важный для себя выбор, причем так случалось несколько раз. Внешнее влияние, испытанное нами в пору отрочества, настолько очевидно, что его невозможно отрицать. Вместе с тем мы можем бессознательно отвергать какое-либо воздействие по мере того, как становимся старше. В любом случае, всегда трудно сказать, как повернется жизнь. Пока я ходил в школу и попадал в неприятные ситуации, пока дрался на улицах своего квартала, слушал стихи и беседовал с Мелвином, на меня действовали другие, очень мощные силы. Нередко они были противоположными по своей сути и заставляли меня метаться то туда, то сюда. Потом я приходил в окончательное замешательство и испытывал внутренний конфликт. Так происходило до тех пор, пока я не научился различать эти силы и понимать их значение.
Среди вещей, оказавших на мою жизнь самое продолжительное влияние, была религия. Мои родители оба отличаются сильной набожностью. Когда мы с Мелвином были маленькими, отец часто читал нам отрывки из Священного писания. У меня была своя любимая ветхозаветная легенда о Самсоне, за которой почти сразу шла легенда о Давиде и Голиафе. Должно быть, я слышал эти легенды тысячу раз. Я восторгался колоссальной физической силой Самсона, а также его мудростью и умением разгадывать хитроумные загадки. Думая о таких качествах, как сила и мудрость, я до сих пор связываю образ библейского героя с моим отцом. Мне нравилась и легенда о Давиде и Голиафе, ведь, несмотря на все внешнее превосходство Голиафа, Давид ухитрился использовать верную стратегию и в результате одержал победу. Уже тогда, в детстве, мне казалось, что легенда о Давиде предназначена для меня и моего народа.
Пока мы, дети, только подрастали, нас водили в церковь ежедневно, по крайней мере, так мне запомнилось. В то время Антиохийская баптистская церковь располагала лишь маленьким помещением, где собирались верующие. Я вступил в Объединение молодых баптистов, Ассоциацию молодых дьяконов, пел в младшем хоре, а еще посещал воскресную школу и церковные службы. Мой отец долгое время был младшим пастором. Особенное удовольствие он находил в чтении проповеди о блудном сыне. Во время проповеди он обходил кафедру, то и дело размахивая руками и отбивая ритм. Его рассказы об огне и сере, о грешниках и тех, кто не раскаялся, сгоравших в геенне огненной, внушали мне неподдельный ужас. Отец был настоящим «сжигателем грешников».
Так или иначе, но в церковную жизнь была вовлечена вся наша семья: кто-то служил там непосредственно, кто-то пел в хоре, кто-то встречал прихожан, показывал им места или выполнял другие обязанности. Я с огромным рвением выполнял обязанности младшего дьякона. Каждое третье воскресенье месяца постоянные дьяконы разрешали нам садиться вместо них на стулья, стоявшие внизу у кафедры. Мы занимали их места и принимали участие в проведении службы, например, собирали пожертвования, начинали молитву, в общем, делали почти все. Нам только не давали читать сами проповеди. Я тщательно выполнял все, что полагалось мне по сану. Я даже читал список больных, за выздоровление которых надо было молиться, и специальные послания, хотя у меня были проблемы с чтением. Впрочем, никто другой из младших дьяконов не делал это лучше меня: мы все страдали от неграмотности.
Но наша слабость в чтении компенсировалась в других сферах. Лично я обожал играть в церковных сценках, ведь к тому времени я уже приобрел некоторые навыки ораторского искусства, декламируя стихи, когда Мелвин приобщал меня к миру поэзии. Мне не составляло труда запомнить свою роль после того, как я прослушивал ее один или два раза. Моя активная деятельность в церкви привела меня к музыке. Все, что бы я ни делал, приводило родителей в сущий восторг, поэтому они решили, что я должен учиться играть на пианино, причем, главным образом, с той целью, чтобы принимать еще большее участи в церковной службе. Я учился игре на пианино в течение семи лет, моими преподавателями были прекрасные теоретики музыки и пианисты, игравшие классическую музыку.
Оглядываясь назад, я понимаю, что находился в одной лодке со своими друзьями: на земле нам был уготован ад, зато, находясь в церкви, мы старались попасть на небеса. Участие в церковных делах и в проведении церковной службы дарили нам ни с чем не сравнимое ощущение собственной значимости.
На кафедре нашего пастора, преподобного Томаса, с незапамятных времен была надпись «МОЛИТВА ИЗМЕНЯЕТ МИР». Прихожан поощряли рассматривать молитву как единственный путь к спасению. Если на человека наваливались проблемы — болезнь, несчастный случай, денежные затруднения, ответом на них была молитва. Все пришедшие в церковь молились вместе с тобой, объединяясь в одно целое, чтобы облегчить душевное напряжение и достичь состояния катарсиса. Никакой другой социальный институт в общине не мог обеспечить такую эмоциональную отдушину, которую давала людям церковь. В ту пору церковь была едва ли не единственным прочным основанием бытия чернокожих. И пока некоторые сомневались в том, что церковь может помочь людям, она действительно вносила в наши жизни элемент постоянства. Церковь всегда была с нами, дарила утешение и надежду.
Для меня церковь становилась источником особого вдохновения. Это вдохновение помогало мне преодолевать страх и унижение, которые мучили меня в школе. И хотя я не хотел провести в церкви всю свою жизнь, хорошая проповедь и громкие песнопения доставляли мне подлинное наслаждение. Мне даже удавалось почувствовать ощущение благочестия, защищенности и освобождения. Это было странное чувство, и его трудно описать, но одно можно сказать точно: в церкви я испытывал невероятное эмоциональное облегчение. Хотя я сам никогда не кричал, эмоции остальных действовали на меня заразительно и быстро передавались. Бушующие чувства одного подхлестывали чувства другого, и мы вместе впадали в экстаз, искренне веря в то, что наши проблемы обязательно будут решены, пусть мы и не знали как. Этот религиозный опыт прекрасно описан в книге Джеймса Болдуина «В следующий раз».[18] Автор как раз останавливается на состоянии сильного эмоционального возбуждения и экстаза, которое могут испытывать прихожане во время службы. «Не существует музыки, — пишет Дж. Болдуин, — подобной той, что звучит в церкви, больше нигде не увидишь такого драматического представления из круговерти возрадовавшихся святых, стенающих грешников, громко звенящих бубнов, нигде не услышишь, как это многоголосье сходится в один-единственный крик, возносящий хвалу Господу… Мы разделили нашу боль и нашу радость — они отдали свою радость и боль мне, а я передал свои чувства им». Испытав это чувство однажды, вы больше не утратите его. Было время, я подумывал сделаться священником. Однако я отказался от этой идеи, когда начал изучать в колледже философию. Я стал задаваться вопросом о сущности религии и о существовании Бога. Пытаясь обрести Бога и понять Его как философскую категорию Бытия, я начал искать для себя не только христианское определение Бога, но и попытался выявить сами основания моих религиозных чувств. И я увидел, что их фундаментом служила лишь вера, не подвергавшаяся никаким сомнениям.
В конечном итоге, я всегда приходил к необходимости тщательно анализировать каждую идею и желание во что-то верить, которые охватывали меня. Поэтому с религией я зашел в какой-то тупик. Тем не менее, религия продолжала оказывать на меня влияние, и это проявлялось по-разному. К примеру, я по сей день очень редко богохульствую. Новые знакомые часто интересуются причинами такой сдержанности. Я могу лишь сказать, что в нашем доме никогда не богохульствовали. Если бы мать услышала от меня бранные слова, она наказала бы меня. Мои родители всегда жили как истинные христиане, их праведность давала о себе знать даже в том, как они говорили.
Возвращаясь к церковным службам, я ловлю себя на следующей мысли. Мне кажется, что косвенное влияние религии было еще более значимым, чем непосредственные ощущения, которые я переживал в церкви. Здесь дело не в сугубо индивидуальном восприятии веры, а в осознании того, чем религиозное действо может или должно быть. Во время каждой молитвы в церкви происходило нечто замечательное. Когда прихожане молились друг за друга, возникало ощущение единства. Каждый человек душой проникал в неприятности другого и пытался помочь их устранить. Хотя чувство единения было полностью обращено к Богу и не выходило за пределы церкви, оно предполагало, что общая цель может оказывать на людей мощнейшее и действенное влияние. Люди действительно чувствуют прочную связь между собой. В церкви создавался своеобразный микрокосм, который на самом деле должен был складываться за стенами церкви, т. е. в общине. Тогда в моем сознании лишь промелькнуло понимание того, что это значит — иметь объединяющую цель, которая сплачивает всю общину и пробуждает в людях силы для того, чтобы изменить все к лучшему. Я уверен, что объединяющая способность церкви была одной из причин, по которой религия меня притягивала. За счет этой же причины можно объяснить, почему вера так много давала мне тогда.
В то же время я рос с мыслью о том, что существует абсолютно другой образ жизни, не имеющий отношения к религии. Почему так много людей обретают душевный комфорт и находят утешение именно в церкви? В частности, благодаря тому, что церковь дает им возможность хотя бы на короткий срок сбросить бремя повседневности, скрыться от всех забот. Однако была иная жизнь. Казалось, что в ней душевное облегчение, достигаемое в церкви, вовсе не считалось необходимостью. Из того, что я мог видеть, выходило, что эта «другая» жизнь тоже свободна от неприятностей и проблем, которые окружают типичных представителей рабочего класса.
В нашей общине некоторые люди добивались особого положения. Они сидели за рулем здоровенных машин, носили красивую одежду и вообще имели много чего из тех самых заветных вещей, которые по идее должна предлагать жизнь. Создавалось такое впечатление, что эти люди без особых усилий получали то, чего остальные добивались лишь тяжким трудом. Кроме того, они еще и получали удовольствие в процессе работы. Их не заставляли идти на компромисс, т. е. копировать белых мальчиков и посещать школу. Они добивались успеха, несмотря на унижения, неизбежные в рамках образовательной системы. На самом деле, они достигали успеха нередко за счет тех самых людей, создающих нам неприятности. Они оказывали сопротивление любым формам власти и ни за что не мирились с Истэблишментом. Поступая таким образом, они стали «большими» людьми в непривилегированном обществе.
Таков был мир, где жил мой второй по старшинству брат Уолтер-младший, которого в нашей семье звали не иначе как Сонни-мэн. Пока я был малышом, он часто заботился обо мне, а я смотрел на него с обожанием. К тому моменту, когда я подрос и пополнил ряды тинэйджеров, Сонни-мэн стал пробивным человеком и завоевал репутацию сердцееда. (Кстати, он до сих пор ходит в холостяках). Быть пробивным значило уметь выжить. Братья из нашего квартала его уважали и называли хипстером,[19] и это еще в то время. Если меня спрашивали о том, кем я хотел стать, когда вырасту, я отвечал, что хочу быть похожим на Сонни-мэна. По-моему, в нем было гораздо больше свободы, чем в каждом из нас. По сравнению с борьбой моего отца путь, выбранный Сонни-мэном, куда больше предлагал моему голодному взору.
Самое неизгладимое детское воспоминание связано у меня со счетами. Я запомнил на всю жизнь, как отец постоянно их разбирал. Наша семья была хронически должна, и мы предпринимали непрерывные попытки выбраться из долгов раз и навсегда. С ранних лет слово «счета» значило для меня, что я не мог получить ни одну из тех не являющихся необходимыми вещей, о которых мечтал. Моя ненависть к этому слову доходила до того, что, услышав его, я внутри съеживался, точно так же, когда при мне читали истории про малыша Самбо или про Смоляное чучелко. Из всех слов, что можно было услышать на улице, для меня не было слова ругательней, чем слово «счета». Каждый раз, когда это слово упоминалось в моем присутствии, оно словно убивало меня, потому что я собственными глазами видел, как отец вел бесконечную борьбу со счетами и мучился в агонии, пытаясь примириться с этим словом. Подобная ситуация знакома большинству семей в негритянской общине. В одном из писем к своему отцу Джордж Джексон написал как будто про меня: «Как ты думаешь, что я чувствовал при виде тебя, возвращающегося домой с каждым днем все подавленней? Как по-твоему, что было у меня на душе, когда я смотрел на тебя и замечал, что ты мрачнее тучи, когда я понимал, что ты смотришь вокруг и видишь, что все твои огромные усилия пошли прахом — прахом?» Мне ли не знать, о чем тут идет речь.
Отец всегда оплачивал счета вовремя. Он мог жаловаться на них, особенно проклиная высокие проценты, но он платил. Когда я подрос, то иногда просматривал приходившие на имя отца счета, и я убеждался, что в большинстве случаев львиная доля денег уходила оплату набежавших процентов. Таким образом, покупая что-нибудь вроде холодильника, мы платили за него вдвое больше изначальной цены. Случалось так, что счета превышали платежеспособность отца.
Отец никогда не отправлял свои платежи по почте. Мелвин и я относили деньги прямо в магазин, потому что отец хотел, чтобы на квитанциях ставили печать. Он подозревал, отправь он деньги по почте, то в расчетах с ним могут сделать ошибку, не пришлют квитанцию и сдерут с него больше, чем надо. В прошлом такие случаи уже бывали. Так что каждые две недели или раз в месяц — в зависимости от магазинов, с которыми нужно было расплачиваться, — отец составлял для нас список магазинов и для оплаты счетов каждого из них клал деньги в отдельный конверт вместе с квитанциями об оплате. После нашего возвращения он с поразительной дотошностью проверял квитанции. В течение многих лет мы с Мелвином обходили магазины Окленда, оплачивая счета отца. Я продолжал заниматься этим и в 1967 году, когда меня арестовали.
Осознав разорительное значение счетов для нашей семьи, я захотел освободиться от них. Впрочем, дело было не только в счетах. Мы не могли выбраться из нищеты, и мой разум был не в состоянии понять, почему так выходит: мой отец вкалывает изо всех сил, а в итоге имеет одни гроши. Он был мастером на все руки — плотником, каменщиком, паяльщиком. Не было такой профессии, в которой отец себя не попробовал. Он работал на двух и даже иногда на трех работах, и все равно мы продолжали бедствовать. Закончив одну из своих разнообразных работ, отец спешил вернуться к семье и делал что-нибудь для дома или возился в саду, а потом уходил на другую работу. Мы просто не могли понять, как он работал в таком режиме, обходясь без выходных, и при этом никогда не жаловался на свою долю. Я считаю, что многолетний выматывающий труд в какой-то мере подорвал его здоровье, последствия чего сказываются сейчас. Он очень сильный человек и никогда не хворал вплоть до последних нескольких лет.
Становясь старше и получая возможность видеть, насколько лучше живут другие люди, я начал понимать, что все наши проблемы в первую очередь проистекали из большого количества народа в нашей семье. В течение долгих лет все мы, девять человек, ютились в трех-четырех комнатах, где не оставалось укромного уголка для того, чтобы уединиться. Пока мне не исполнилось лет одиннадцать или двенадцать, я был вынужден спать с Мелвином на кухне, а иногда, еще до этого, спал на кровати вместе с сестрами. Мне и в голову не приходило, что у меня могла быть собственная комната. К счастью, мы были очень привязаны друг к другу и не лишены чувства юмора, но все равно нам приходилось туго. Сейчас я понимаю, что в ту пору в моей голове начала оформляться идея, объяснявшая причины наших трудностей. Тогда мне казалось, что мы сами виноваты в наших бедах. Представление о семье у меня связывались исключительно с надоедливыми счетами, которые были настоящей ловушкой для человека. В детстве я твердо решил, что, когда стану взрослым, у меня никогда не будет счетов. Я не мог знать тогда, что мое желание не иметь счетов также означало не жениться и не заводить семью.
Мой страх перед долгами, которые могли начать преследовать лично меня, заставил меня пойти по дороге, уже опробованной Сонни-мэном. Поняв, что в квартале мой брат пользуется огромным уважением, я стал больше времени проводить определенным образом — сначала участвуя в мелких бандах, организованных в школе, а также на вечеринках. Позже я перебрался в бильярдные и бары. Довольно долго я находил удовольствие в подобной жизни, пока до меня не дошло, что на самом деле она не была такой, какой казалась. Это открытие я сделал позже.
Хотя я старался во всем подражать Сонни-мэну, я продолжать восхищаться и Мелвином и его успехами в учебе. Сонни-мэн и Мелвин предлагали мне разные пути, но я пока не знал, какой из них лучше. Я встречал негров, выбравших путь образования. Этот путь привел их в никуда. Многие из них возвращались в квартал, презрительно отзываясь о потраченных на учебу годах и проклиная белого человека, не позволившего им развернуться. Другие предпочитали устраивать свою жизнь в квартале, но, как правило, плохо кончали, превращаясь в сломленных людей, попадая за решетку или лишаясь жизни. Четкого примера, который можно было бы взять за ориентир, не существовало. Трудно было решить, что же делать.
С такой дилеммой сталкиваются почти все чернокожие подростки. Они как раз ведут борьбу за самоидентификацию, но они пытаются обрести себя в обществе, отрицающем их основные права. Находясь в самом впечатлительном и ранимом возрасте, чернокожий тинэйджер оглядывается по сторонам и собственными глазами видит противоречие между ценностями, которые пропагандирует общество, и реальностью, т. е. тем, как все обстоит на самом деле. «Сонни-мэны» из нашей общины отрицали власть и «нарушали закон». Похоже, они наслаждались хорошей жизнью и имели все, что хотели, в материальном смысле. С другой стороны, те, кто трудился изо дня в день, стремился к лучшему, страдал, почти всегда оказывались жертвами страсти к наживе (за их счет) и равнодушия, в общем, полными неудачниками. Такое извращение традиционных ценностей давило на негритянскую общину со страшной силой. Причины носили внешний характер и были обусловлены самой системой, напролом идущей к своим целям, даже если позади оставались искалеченные человеческие жизни.
Такая обстановка абсолютно дезориентирует подростка, пытающегося понять и определить собственную личность. Как любой ребенок в переходном возрасте, он хочет найти образец, по которому он смог бы строить себя. Подросток в конец запутывается, обнаруживая явное несоответствие между тем, чему его учат, и тем, что он видит вокруг. Большинство подростков из негритянских общин не ожидают никакой справедливости от школьной администрации или полиции. Тягостная реальность их жизни с самого детства свидетельствует, что несправедливость, с которой они сталкиваются, не ограничивается лишь несколькими учреждениями. Следствия расовой дискриминации испытывает на себе почти каждый окружающий. Жестокая система вмешивается во все, чем подростки живут; ее правилами пропитан воздух, которым они дышат.
Пытаясь приспособиться к суровым условиям жизни, подросток ищет для себя своеобразную защиту, чтобы хотя бы как-то выжить. Ему нужен способ справиться с противоречиями, сваливающимися на его голову. Обычно адаптация принимает форму сопротивления любой власти. Многие подростки уверены в том, что это единственное доступное им оружие. Чаще всего их бунтарский порыв направлен на внешний по отношению к семье и дому объект. Вместе с тем, если подросток не ощущает поддержки от своих родных и близких, его отношения с семьей могут ухудшиться вплоть до разрыва. Из-за сильного и безжалостного давления извне разрушаются даже самые прочные семьи.
В некоторой степени так случилось и со мной, когда я ходил в среднюю школу. Я не был злостным бунтарем, и мое «неудовлетворительное» поведение не приводило к серьезным проблемам, хотя и провоцировало разногласия с родителями. Я вспоминаю себя тех лет и понимаю, что мои выходки были отражением беспомощного смятения и ощущения внутренней расщепленности, которые я тогда испытывал. Все это являлось частью моих попыток обрести себя. Кроме того, это стало началом моей независимости.
Каждый из нас выполнял определенные обязанности по дому. Обычно мне полагалось выносить мусор и после ухода сестер мыть посуду и чистить кухонную плиту. Еще я был обязан время от времени подрезать живую изгородь вокруг дома. Отец следил за порядком на улице, а мать хозяйничала в доме. Я терпеть не мог домашние обязанности и при любом случае старался от них увильнуть, уезжая куда-нибудь на велосипеде и оставляя все на Мелвина. Меня часто не бывало дома до позднего вечера. Я поздно возвращался, хотя знал, что родители накажут меня. Иногда я придумывал занятные истории для оправдания моего долгого отсутствия, но ничто не могло спасти меня от наказания. Я предпочитал, чтобы меня порола мать: ее удары были более щадящими. Однако чаще всего наказывал меня отец. Еще я пробовал развозить газеты, но очень скоро был вынужден оставить это занятие, когда выяснилось, что я потратил собранные с людей деньги и уже не мог доставить им газеты.
Большей частью мое сопротивление рождалось из необходимости самоутвердиться. Я хотел чувствовать себя самостоятельной личностью, независимой от родителей. Я стал ощущать желание принимать собственные решения. Нередко стремление к независимости обретало форму отказа от выполнения обязанностей. В других случаях оно носило более конструктивный характер.
Насколько себя помню, я не мог спокойно смотреть на человека, у которого не того, в чем он сильно нуждается. Возможно, такое отношение к окружающим сформировалось у меня под влиянием отца и тех идей, которые он развивал с церковной кафедры. Однажды, когда мне было лет пятнадцать, я повстречал голодного парнишку. У него дома не было ни крошки. Я как раз задержался и возвращался очень поздно, когда наткнулся на мальчика. Я взял его с собой. Обыскивая шкафы на кухне в поисках съестного, я разбудил родителей. Я объяснил им, что семье этого мальчика нечего есть и что мы могли бы помочь, отдав им часть наших запасов. Родители не стали возражать, хотя и рассердились из-за моего очередного ночного гуляния. Был еще случай. Мелвин поступил в колледж Сан-Хосе, субсидировавшийся штатом. Ему нужна была машина, чтобы ездить туда, а денег у него не хватало. У меня были кое-какие сбережения, немного — долларов триста, и все эти деньги я отдал брату. Родители поддразнивали меня, говоря, что я остался ни с чем, но в глубине души они гордились моим поступком, в очередной раз доказавшим сплоченность нашей семьи.
Впрочем, иногда я помогал своим братьям и сестрам, не получая одобрения родителей. Если моя сестра Миртл задерживалась на вечеринке или где-нибудь еще, она всегда звонила и просила меня приехать забрать ее. Дождавшись, когда родители заснут, я незаметно брал у них ключи от машины. Я воровал ключи при каждой просьбе Миртл, и каждый раз мне доставалось за это от родителей, потому что я был еще недостаточно взрослым, чтобы садиться за руль.
Родители довольно часто лупили меня в детстве. Когда я подрос, они стали наказывать меня по-другому, но я знал, что они так поступали, поскольку заботились обо мне и хотели, чтобы у меня выработалось чувство ответственности. Кроме того, мне кажется, что они восхищались моей независимостью, хотя порой мое поведение изрядно досаждало им. Должно быть, они сознавали, что в моем развитии наступил непростой этап. Большинство родителей в негритянских семьях прекрасно понимают, что их дети испытывают на себе противоречивое и сбивающее с толку влияние социума. Поэтому родители очень волнуются, вдруг их чадо совершит противозаконный поступок или нарвется на неприятности в школе. Они слишком хорошо знают, как работает система. Дисциплина в нашем доме была основана на любви, и эта дисциплина принесла свои плоды: пришло время, когда она мне очень пригодилась.
6. Средняя школа
Мы любим свою страну и любим с огромной нежностью, но она не любит нас, а презирает.
Мартин Делани, 1852 годВсе время, пока я учился в школе, я конфликтовал с учителями. Постепенно наши стычки усилились, что, в конечном счете, привело к моему временному уходу из образовательной системы Окленда. Десятый класс я проучился в Оклендской технической школе. Она находилась на Бродвее и Сорок первой-стрит. Как-то раз преподаватель отправил меня к директору за какой-то мелкий проступок, совершенный мной накануне. Директор и учитель сошлись на том, что позволят мне вернуться в класс при условии, если я буду молчать до конца семестра. К тому моменту я уже решил, что уйду из школы окончательно, но все равно, присутствуя на уроках, старался быть нем, как рыба, и не нарушать ни одного правила, например, не жевать жвачку или не щелкать семечки. Однажды я все-таки забыл наш уговор и поднял руку, чтобы задать вопрос. Учитель просто взорвался. «Опусти руку, — приказал он. — Я не желаю больше ничего слышать от тебя в этом семестре!» Я поднялся и сказал в ответ, что невозможно чему-нибудь научиться, если тебе запрещают задавать вопросы. Затем я вышел из класса.
Уход из школы означал, что я не смогу перейти в одиннадцатый класс и окончить школу. Поэтому вместе со своей старшей сестрой Миртл я поехал в Беркли и перевелся в тамошнюю школу.
Хотя в районе Ист Бэй Окленд был известен как город с повышенной криминальной обстановкой, но мои проблемы с полицией начались как раз не в Окленде, а после того, как я перевелся в среднюю школу в Беркли. Как-то раз воскресным днем я, не спеша, отправился в гости к своей девушке и по дороге встретил других четверых или пятерых знакомых девчонок. Они предложили мне пойти с ними на вечеринку. Вообще-то я отказался, но продолжил идти в их компании, потому что нам было по пути. Довольно скоро нас нагнала машина, в которой сидел парень по имени Мервин Картер (он уже на том свете) и кто-то еще. Они высыпали из машины и затеяли перебранку, обвиняя меня в том, что я ухаживаю за их девчонками. Я узнал Мерва Картера; на самом деле, я уже как-то слонялся с ним и парой его друзей вокруг школы. Как и все остальные, они были связаны с криминалом и совершенно не переносили, когда чужак проводил время с их подружками. Я напомнил Картеру, что мы вроде бы знакомы и что у меня и в мыслях не было приставать к девушкам и вообще я шел своей дорогой, когда их повстречал. Еще я добавил, что в любом случае мы с ним общались в школе. Картер ответил, что дружба дружбой, но только на территории школы, а не за ее пределами. Я не совсем понял, почему он так сказал. Может, он действительно так считал, а, может, красовался перед своими приятелями.
Пока мы с Картером разговаривали, он и его спутники обступили меня полукругом. Я понимал, что они вот-вот набросятся на меня, поэтому я дал Мерву в зубы, а потом они все стали меня колотить. Они дрались довольно плохо, и я все не падал и не падал. Девчонки вовсю визжали и кричали мне «беги!», но я оставался на месте. Не имело значения, сколько парней было с Мервом, я не собирался отступать. Пока это было в моих силах, я собирался смотреть им прямо в лицо и продолжать драться.
Кто-то вызвал полицию, но, когда полицейские прибыли к месту драки, Картер и его дружки успели смыться. Я стоял посреди улицы в одиночестве, у меня текла кровь. Кроме того, я недосчитался нескольких зубов. Хотя полицейские допытывались, кто же меня так отделал, я ничего им не сказал. Я вовсе не хотел стать доносчиком. Наша драка была нашей проблемой, и внешняя расистская власть не имела к нашим делам, делам братьев, никакого отношения. Я всегда считал, что «стучать» на кого-нибудь учителю, директору или полицейскому неправильно. Эти люди представляли собой другой мир, другую расовую группу. Быть белым человеком значило обладать силой и властью, и если чернокожий передавал им, белым, какую-либо информацию, то он совершал предательство. Так что я не стал доносить на Картера, и его компания избежала попадания в полицейский участок. Но им не удалось уйти от меня.
На следующий день я пришел в школу с молотком и старым пистолетом. Я украл его у отца. Пистолет был сломан, у него не доставало бойка, но я и не собирался стрелять. На «большой» перемене я выманил Мерва еще шестерых его приятелей в центр города. Загнав их в ловушку, я замахнулся на Мерва молотком. Я ударил его несколько раз. Я хотел причинить ему боль, но Мерв уклонился почти от всех моих ударов, так что мне не удалось серьезно поранить его. На какое-то время у меня совсем вылетело из головы, что у меня есть с собой пистолет. Когда друзья Мерва кинулись собирать с земли камни и палки, я вспомнил про оружие и вытащил его, что отпугнуть противника. Только так я мог защитить себя, ведь в Беркли у меня не было друзей, которые пришли бы мне на помощь. Я не мог отпустить Мерва и его дружков просто так после того, что они со мной сделали тогда, на улице, да еще незаслуженно обвинили в ухаживании за их девочками. Опять кто-то из прохожих вызвал полицию. Услышав вой полицейских сирен, я помчался вперед, хотел скрыться, но меня арестовали. Мне было всего-навсего четырнадцать лет, поэтому меня отправили в арестный дом для несовершеннолетних правонарушителей. Там меня продержали месяц, пока проверяли биографию моей семьи. Потом меня отпустили под надзор родителей.
Так я впервые оказался замешан в «криминальном» деле, хотя и до этого я мог спокойно поживиться плодами из чужого сада, разбить парковочный счетчик и выйти с набитыми карманами из соседского магазина, не заплатив. Впрочем, я никогда не оценивал свои действия как воровство или нечто противозаконное. Если я брал что-то просто так, то не считал, что беру какую-то вещь, которая нам не принадлежит. Мне казалось, это все действительно наше. Такое «воровство» было своеобразным возмездием.
Когда меня выпустили из арестного дома, школа в Беркли отказалась принять меня во второй раз по причине того, что мои родители проживали в Окленде. Пришлось возвращаться в Оклендскую техническую школу. Мои тамошние друзья и вообще все, кто меня знал, гордились тем, что я натворил в Беркли. Я действовал под давлением обстоятельств. Если бы я не отомстил за себя, то меня уважали бы куда меньше.
Дела в школе пошли на лад — хотя бы какое-то разнообразие. Разногласия с учителями мне стало улаживать немного проще, потому что я был удовлетворен своей жизнью за пределами школы. Приобретенная мной репутация драчуна отгоняла от меня волков. Кроме того, вслед за Сонни-мэном меня знали как хипстера, и мне это нравилось. Кое-кто звал меня «ненормальным», но чаще всего за глаза, поскольку обычно так называли моего отца. Лично у меня слово «больной» ассоциировалось с положительным образом.
Моя первая машина немало добавила к репутации «сумасшедшего». Отец отдал мне легковую машину, на кузове которой остались многочисленные следы после первой покраски. Мелвин прозвал автомобиль «серым тараканом». Мы набивались в машину до отказа и ехали кататься, искать девушек или зачем-нибудь еще. Друзья не очень-то любили мою манеру вождения. Из-за этого возникали споры и начинались драки. Но выбора у них не было, так как машин, на которых они могли прокатиться с ветерком, было раз два и обчелся. Порой я разгонялся по полной программе, мчался вдоль всего квартала и, доехав до поворота, со всей силы жал на тормоза. Парни с громкими криками вываливались из машины. Иногда драка разгоралась после этой моей «шутки». Если мы проезжали через железнодорожные пути и перед нами опускался шлагбаум, я объезжал его и ехал прямо через рельсы. Иногда у меня глох двигатель, и сразу после того, как рельсы оказывались позади, опять все пассажиры вылетали из машины, начиналась ругань и выяснение отношений на кулаках. После драки наша дружба становилась еще крепче, чем прежде. Друзья уважали меня, хотя и считали придурком. Я думал, что могу переиграть кого угодно и что угодно, и я никогда не упускал возможность лишний раз это проверить. Так как я всегда выходил победителем, вскоре я окончательно уверился в том, что способен обойти кого-нибудь непобедимого и могущественного, так же, как Давид победил Голиафа. Дошло до того, что, возгордившись, я вздумал, что смогу перехитрить саму смерть.
Я никогда не испытывал страха перед смертью. Мысль о том, что смерти можно избежать, пришла ко мне после просмотра фильма «Черный Орфей».[20] Я обожаю этот фильм и много раз его пересматривал, хотя всегда считал, то будь я на месте главного героя, конец фильма был бы другим. Орфей играл со смертью и погиб, а я множество раз попадал в конфликтную ситуацию, ходил по краю, но из всех переделок выходил живым и невредимым. Поскольку никакая пуля меня не брала, наверное, мне пришло в голову, что меня вообще нельзя убить. Орфей тоже пытался обмануть смерть, хотя история человечества доказывает, что смерть всегда берет верх. Тем не менее, единственное, что оставалось Орфею, если он хотел сохранить свое достоинство, — быть неустрашимым и постараться переиграть своего угнетателя. Человеческое существование таково, что, хотя все мы осуждены на смерть, которая может нагрянуть в любой момент, мы отчаянно пытаемся убежать от нее. Если нам не удается скрыться, то мы начинаем отделываться от смерти, действуя таким образом, чтобы дискредитировать смерть и уничтожить наш страх перед ней. Вот в чем заключается наша победа.
В фильме «Черный Орфей» скрыта еще одна глубокая истина — обмануть смерть можно с помощью наследства, которое одно поколение передает следующему. В конце фильма идет сцена, когда показывают маленькую девочку. Она танцует под гитару, принадлежавшую Орфею, а на гитаре играет мальчишка. Хотя Орфей и его любимая женщина погибли, танец девочки символизирует победу над смертью. Новое поколение выживает, и солнце продолжает появляться на небосклоне каждое утро. Мир не гибнет из-за того, что смерть разрушила прекрасную и важную его часть. Орфей передал свою гитару мальчику. Благодаря этому жизнь продолжается и заставляет солнце появляться на небосклоне вновь и вновь.
Долгое время я свято верил в то, что смерть обойдет меня стороной. Я по-прежнему не боюсь завершения жизненного пути, но больше мне не кажется, что меня нельзя убить. Жизнь научила меня тому, что она вездесущая возможность. Слишком много моих товарищей ушло из жизни за последние несколько лет, чтобы я мог считать, будто мой последний день никогда не наступит. И все-таки я говорю своим товарищам, что они могут умереть лишь один раз, поэтому не стоит переживать смерть многократно, постоянно думая о ней.
Примерно в это время некоторые люди стали замечать во мне мистические способности. Я начал гипнотизировать самых разных друзей и знакомых. Чаще всего сеансы гипноза проходили на вечеринках или иногда на встречах с братьями из квартала, когда мы собирались провести время в чисто мужской компании. Технику гипноза я узнал от Мелвина, а он в свою очередь — от Соломона Хилла, приятеля из Оклендского городского колледжа. Впоследствии я стал изучать тонкости гипнотического транса самостоятельно и довольно преуспел в этом. Научиться гипнозу нетрудно, но дело это довольно опасное, ибо изучение одной техники не дает всех тех знаний, которые необходимы для работы с человеческим сознанием. Ты можешь запросто причинить вред человеку.
По моим приблизительным подсчетам, в разное время я погрузил в гипноз больше двухсот человек. Пока они были под гипнозом, я давал им всякие установки: есть траву, лаять, как собака, или ползать по полу, словно беспомощный ребенок. Иногда я втыкал в тело человека иглы и булавки. Однажды я прибегнул к самогипнозу. Когда Мелвин прикоснулся к моей руке зажженной сигаретой, я не дернулся и вообще не почувствовал боли, хотя ожог был серьезный. Этот случай на многих людей произвел впечатление, зато очень расстроил Мелвина. Я никогда не использовал гипноз во вред, это умение мне было нужно для того, чтобы завоевать определенную репутацию в общине. Когда я добился, чего хотел, и моя репутация выросла, я остановился, потому что гипноз перестал быть мне интересен.
Если я не гипнотизировал кого-нибудь, не гонял по кварталу на «сером квартале» или не пил вино в компании с братьями, значит, я читал стихи среди толпы гостей на вечеринке. Проблема заключалась в том, что я не умел танцевать. Стоило зазвучать музыке, я ощущал неловкость и стеснение. Если я не уходил сразу после начала танцев, я завязывал дискуссию или брался читать стихи. К моменту поступления в среднюю школу я без особого труда запоминал стихи, которые при мне декламировали вслух. Многие стихи я узнал от Мелвина. Любимыми стихами Мелвина были «Рубаи» Омара Хайяма. Когда я начинал читать на вечеринках стихи или втягивал людей в серьезный разговор, все присутствующие переставали танцевать и собирались вокруг меня, и так было всегда. Некоторые просили меня прочесть то, что я помнил наизусть. При этом хозяин или хозяйка вечера обычно были вне себя от злости, когда гости переставали лихо отплясывать. Частенько меня просили сесть на место и умолкнуть или просто убраться вон. Как правило, эта просьба предвещала драку.
Неведомым образом я ухитрился продержаться в Оклендской технической школе до конца и окончить ее, несмотря на постоянное вызывающее поведение по отношению к учителям и администрации. В течение многих лет они пытались подчинить меня, но в глубине души я знал, что был хорошим человеком. Кроме того, я понимал, что единственный способ сохранить чувство собственного достоинства — сопротивляться и не поддаваться тем, кто не давал мне ощущать себя достойной личностью.
Я поддерживал все, против чего они выступали. Тогда я впервые поддержал Фиделя Кастро и кубинскую революцию. Еще раньше, если мне приходилось слышать, как преподаватели критиковали Поля Робсона, я защищал его и не переставал верить в него, хотя очень мало знал о его жизни. Если они оскорбительно отзывались о Кастро и революции, которую совершил кубинский народ, я был уверен в обратном. Я превратился в преданного защитника кубинской революции.
Диплом об окончании школы был просто фарсом. Школа плохо подготовила меня и моих друзей к тому, чтобы быть полноценным членом общества, разве что на самом дне. И это притом, что сама система удостоверила наше образование, выдав нам дипломы. Возможно, администрация школы и наши учителя знали, что делали, когда готовили нас к роли отбросов общества, обрекая нас на долгие часы изнурительного труда за нищенскую плату. Они никогда не осознавали, какой хороший урок они преподали мне в действительности, показав мне необходимость сопротивления и научив достоинству, заключенному в неповиновении. Я уже делал первые шаги по пути, который превратит меня в революционера.
Часть вторая
Я начал подвергать сомнению то, во что всегда безоговорочно верил.
7. Чтение
Прямо там, в тюрьме, меня осенило, что чтение навсегда изменило ход моей жизни. Теперь я вижу — умение читать пробудило во мне подспудное желание быть умственно живым… С каждой прочитанной книгой мое домашнее образование делало меня еще более чувствительней к глухоте, немоте и слепоте, которые поразили черную расу в Америке.
Автобиография Малькольма Икса[21]В последний класс средней школы я перешел, будучи практически безграмотным. Мелвин учился в колледже и преуспевал в учебе. Я чувствовал, что тоже так могу, но, когда я заикнулся об этом в разговоре с советником, он сделал ошибку, сказав мне, что для колледжа я не гожусь. Я решил во что бы то ни стало доказать всем им, что они сильно заблуждались на мой счет. Для начала мне нужно было как следует овладеть чтением. Мало того, что администрация школы заявила мне, что я не подходил для колледжа из-за моего поведения; мне было также сказано, что я не достаточно умен, чтобы справиться с учебной программой колледжа. По результатам теста Стэнфорда-Бинета, мой IQ равнялся 74. Им показалось, что они правы, отговаривая меня от дальнейшей учебы. Но я-то знал, что в моих силах сделать все, что я захочу. Именно так я укреплял чувство собственного достоинства. Мне хотелось поступить в колледж. Мое крайнее несогласие с мнением администрации школы, а также мое восхищение Мелвином побудили меня научиться читать.
Я понимал, что должен хорошо уметь читать, чтобы использовать это умение в колледже. Вдобавок я учитывал трудности, связанные с поиском человека, который бы взялся обучить меня чтению, ведь я стеснялся признаваться в неумении читать. Я решил учиться самостоятельно. Помочь мне должны были стихи, которые я запоминал, чтобы потом декламировать вслух. Я знал множество стихов, но еще не мог читать их в книгах. Воспользовавшись сборниками стихов, принадлежавших Мелвину, я стал изучать знакомые мне стихи, связывая звуки со словами на странице.
Потом я подобрал «Республику» Платона, принадлежавшую Мелвину, купил словарь и начал учиться читать неизвестные строчки. Казалось, выбор «Республики» был вполне логичен; я хотел участвовать в интеллектуальных беседах, которые вели Мелвин с друзьями. Обучение было длительным и болезненным, но упорство не покидало меня. Ли Эдвард научил меня смотреть противнику прямо в глаза продолжать атаковать. Мне сказали, что колледж не для меня, так что я доказывал им, что они не правы.
Каждый день я проводил по несколько часов дома над платоновским трактатом, проговаривая знакомые слова. Если встречалось новое слово, я искал его в словаре, заучивал его звучание, если это у меня получалось, а потом запоминал значение слова. Имена собственные и греческие слова давались мне с большим трудом, вскоре я стал пропускать их. Я работал с этой книгой по восемь-девять часов изо дня в день, осиливая страницу за страницей, слово за словом. Мне не нужна была ничья помощь, я не хотел помощи. Смущение охватывало меня при мысли о том, что я не умею читать. Моя мать обожала чтение и проглатывала книгу за книгой. Вот таким я был — взрослым, который не мог читать в отличие от отца, матери и Мелвина. Я чувствовал невероятное унижение, поэтому уединялся в своей комнате, где никто не видел, чем я занимался, погрузившись в мир печатного слова, открывая словарь на каждой строчке, старательно запоминая звучание и смысл незнакомых слов.
Один или пару раз я попросил Мелвина произнести для меня какое-то слово или объяснить его значение. Он был поражен тем, что я не узнал слово и, как мне кажется, в первую очередь он почувствовал отвращение. Мне было очень больно. Но его отвращение не могло сравниться с моим собственным. Мелвин сказал, что неумение читать — очень плохая штука, однако я знал это и без него. Неодобрение Мелвина внесло дополнительные затруднения в процесс моего обучения чтению. Раньше чувство стыда удерживало меня от поиска возможной помощи, теперь сама просьбы помочь стала невозможной. Ничего другого не оставалось, как научиться читать самостоятельно.
По-моему, на свете нет ничего больнее, чем чувство стыда, переполняющее тебя и причиняющее невыносимые страдания. Возможно, эта боль возникла не по твоей вине, но от этого она не ослабевает. Переживания становятся еще сильнее, когда ты понимаешь, что они не имеют ничего общего с физической болью, т. е. болью, которая неизбежно проходит. Облегчать страдания ты должен при помощи силы воли, самодисциплины и твердой решимости довести дело до конца. Много раз мне порядком доставалось в драках, но боль от полученных ссадин и ушибов не шла ни в какое сравнение с той болью, которую мне причиняло осознание своего неумения понять смысл напечатанного слова. Физическая боль со временем утихала, а вот сжигавший меня стыд не исчезал.
Не знаю точно, сколько времени у меня ушло на то, чтобы осилить Платона в первый раз. Пожалуй, месяцев семь. Когда я, наконец, прочел «Республику» полностью, я тут же начал снова. Я не пытался вникнуть в суть платоновских идей или понятий, просто учился распознавать слова. Я проработал книгу восемь или девять раз, прежде чем ощутил, что усвоил материал. Позже я проходил «Республику» в колледже. К тому моменту я был готов к изучению этого трактата.
Когда я начал читать, для меня открылся целый мир, которого я не знал раньше. Пока я читал не очень хорошо, но с каждой новой книгой чтение давалось мне все легче и легче. Потом я был не прочь провести за книжкой несколько часов, потому что для меня чтение стало, скорее, удовольствием, чем работой. Достигнув этого ощущения, я стал собирать книги и поглощать их одну за другой. Я интенсивно читал весь выпускной год в школе и еще захватил лето после него. Как раз в тот момент, когда благодаря книге я узнал, каков будет мой дальнейший путь, я окончил среднюю школу.
8. Продвижение
Всю свою жизнь я что-то искал, и где бы я ни оказывался, кто-нибудь пытался рассказать мне, что же это такое — то, что я искал. Я прислушивался к ответам, хотя они часто противоречили друг другу, и в них самих скрывалось противоречие. Я был наивен. Я находился в поисках самого себя и задавал всем, за исключением себя, вопросы, ответить на которые мог лишь я сам. Мои ожидания менялись, а порой возвращались обратно, причиняя мне боль. Прошло немало времени, прежде чем я постиг ту мысль, с которой, похоже, любой другой человек появляется на свет: я — это я и никто другой.
Ральф Эллисон. Человек-невидимкаЗа два года до окончания школы в моей внутренней жизни произошло нечто странное — в ней воцарились путаница и форменная неразбериха. Так продолжалось до тех пор, пока мы с Бобби не создали партию «Черная пантера». На протяжении четырех лет я переживал крайне болезненное состояние. Оно охватывает тебя, когда ты отходишь от своих прежних убеждений и прочих несомненных для тебя вещей, при этом у тебя нет ничего, что могло бы занять их место. Эти мучения начались еще раньше; причиной душевных страданий явились различные противоречивые моменты моей жизни. По мере того, как я физически взрослел, проблемы стали казаться еще неразрешимее, внутреннее напряжение росло. Неприкаянность и растерянность охватили меня. Я начал критически рассматривать все, что имело отношение к моей жизни. Казалось, я не мог обрести спасительной надежности ни в чем из того, что я делал или надеялся делать в будущем.
Я тщательно анализировал свою религиозную деятельность и попытки прийти к Богу. Я задумывался над тем, стоит ли школа таких усилий. Больше всего я обращал внимания на происходящее в моей семье и в общине. Не только мой отец воевал со счетами — точно так же счета угнетали родителей многих моих друзей. Всю свою жизнь отец надрывался на работе только за тем, чтобы еще сильнее увязнуть в долгах. Получается, что, независимо от всех его стараний и жертв на благо семьи, отцу приходилось работать все больше и больше. Положение наших дел никогда не улучшалось. Я стал задаваться вопросом, почему такое происходит с нами и со всеми окружающими. Почему отец никак не мог выбраться из долгов? Если тяжелый труд влечет за собой преуспевание, то почему мы не наблюдали действия этого правила в общине? Безусловно, людей из нашей общины нельзя было назвать бездельниками. Мы, бедняки, никогда не достигали такого состояния, когда появляется время заняться тем, что тебе по душе. У нас не было ни неспешного досуга, ни материальных благ. Я хотел не только узнать причины, вследствие которых все так происходило, но и избежать подобной участи.
Пока я мучительно пытался объяснить себе, почему моя семья находилась в таком удручающем положении, пока размышлял о религии, меня посетила мысль об уходе в монастырь. Не то что бы я испытывал сильные религиозные чувства, просто я нуждался в строгом уединении. Мне также было необходимо время, чтобы в мире и спокойствии искать ответы на возникшие вопросы. Я чувствовал потребность найти место, где бы я смог подумать обо всем, не испытывая на себе постороннего влияния. Благодаря изоляции я бы укрылся от тех неприятностей, которые буквально душили отца и всю мою семью. Но все-таки я не воспринимал идею о монастыре всерьез и вскоре совсем от нее отказался. Я стал думать о том, что подход Мелвина к жизни, главную роль в котором играли книги, был еще одним способом поиска ответов. Такая жизнь требовала отхода от общины, и это мне импонировало.
С другой стороны, у меня был еще один пример для подражания — Сонни-мэн. Долгое время я верил в то, что он имел свободу, которую я искал. У него было полно разных вещей, о счетах он благополучно забыл, ему было наплевать на власти и это сходило ему с рук. Несмотря на это, я приходил к выводу о том, что мой старший брат не столько оказывал властям неповиновение, сколько шел с ними на компромисс. Все хипстеры, имевшие в изобилии машины, одежду и деньги, отвергали семейные узы, а я, напротив, высоко их ценил. Они достигли определенного уровня свободы, но слишком дорогой ценой. Для меня их достижение было не свободой, а просто иной формой подчинения угнетателю. Даже если допустить, что Сонни-мэн ускользнул от контроля системы, его жизнь не давала ответов на мои вопросы. Образ жизни брата не помогал мне понять, почему большинство негров никогда не достигает свободы, которую, казалось, обрел он. Наконец, я решил, что Сонни-мэн и его друзья не обладали силой, для того чтобы направлять свою судьбу. Они использовали чужую силу — силу угнетателя, и свобода не давалась им до тех пор, пока они не отказывались от какой-то частицы самих себя.
Приобретенная в детстве религиозная вера тоже доставляла мне беспокойство. Одолев несколько книг о Сократе, отдельные работы Аристотеля, Юма и Декарта, я начал критически смотреть на вещи, не вызывавшие у меня сомнений прежде. Из философских сочинений, которые изучал Мелвин, я узнавал различные идеи, и они перетекали из книг прямо в мое измученное путаницей сознание. Все время я ощущал себя проклятым человеком. Смотреть на веру с критических позиций было проявлением богохульства, ересью, и это шло вразрез с каждым моральным принципом, которые привили мне дома. Я отождествлял себя с героем романа Джеймса Джойса «Портрет художника в юности» Стефеном Дедалусом, потому что его переживания были очень схожи с моими. Когда он впервые попытался критически осмыслить католическую веру, то ощутил огромное чувство вины, посчитав, что теперь он будет гореть в геенне огненной за свои преступные сомнения. В некотором смысле именно это со мной и происходило.
Изживание религиозной веры — довольно тяжелый для описания процесс: в него оказывается втянуто много вещей, которые либо подавляются еще раньше, либо остаются непонятыми. Когда ты подавляешь в себе веру, то одновременно высвобождаешь страхи, не имеющие отношения к религии. Отныне религия перестает обеспечивать тебе защиту, и ты должен справляться со своими страхами самостоятельно. Со всех сторон тебя обступает внешний — реальный — мир, а ты уже лишен привычных способов обретения душевного спокойствия, например, простой молитвы. В конце концов, ты остаешься один на один с волнующими тебя вопросами. Из-за этого в твоей душе обязательно поселится тревога. Ничего теперь нет, ты свободен и — напуган до смерти.
В каком-то смысле, переживаемые мной душевная сумятица и внутренний конфликт привели меня к своеобразному помешательству. Выхода из этого сумасшедшего дома не было. Я не мог последовать ни одному примеру из тех, что привлекали меня как способы получения ответов на мои вопросы. Образ жизни Сонни-мэна был очень притягателен, но не давал столь желанных ответов. Мелвин являл собой другой образец для подражания, однако я бы ни за что не окончил школу с блеском, равняясь на него. Я окончательно растерялся. У Сонни-мэна была лишь иллюзорная свобода, у Мелвина был другой подход, но я не умел читать. Никто не мог дать ответа ни на один из моих вопросов. Иногда я шел одним путем, в следующий раз сворачивал на другой.
Я никогда не делился своими переживаниями с родителями. Я настолько восхищался отцом, делавшим так много для всех нас, питал к нему такое огромное уважение, что не мог открыто оспаривать правоту его жизненных принципов. Он бы не понял, что со мной происходило. Я был полон благодарности, я бесконечно ценил все, что он делал, я любил его и восторгался им, но у меня было не счесть вопросов, на которые нелегко было найти ответы.
Учеба в школе подходила к концу. Мои сомнения и беспокойство достигли апогея. Я продолжал терзаться и после поступления в Оклендский городской колледж осенью 1959 года. Внутренняя неуспокоенность отразилась на той жизни, которую я начал вести. Мой образ жизни заставлял родителей волноваться. Должно быть, они почувствовали, что в душе у меня полный сумбур, поскольку они стали энергично возражать против некоторых моих поступков. Для района Ист Бэй наступила эпоха битников, и я отпустил бороду.[22] Для моих родителей борода являлась признаком богемной жизни, и отец стал настаивать на том, чтобы я ее сбрил. Я отказался. Если учесть, что отец привык к полному повиновению со стороны всех остальных домочадцев, то мой отказ был серьезным нарушением семейных устоев. Отец продолжал заставлять меня побриться, а я продолжал сопротивляться. Однажды вечером отец предъявил мне ультиматум — побриться прямо здесь и сейчас. Я сказал, что бриться не буду. Он ударил меня, я бросился на него и блокировал его руки мертвой хваткой, а потом отшвырнул его от себя. Отец погнал меня из дома, но я бегал гораздо быстрее, чем он. Я знал и то, что у меня хватило бы силы победить его в схватке, но я бы ни за что не пошел на это. Я просто смылся. Любовь к отцу столкнулась у меня с потребностью в независимости. Символом моего стремления к самостоятельности и стала борода. Сознавая, что я не могу вернуться домой небритым, я решил съехать. На следующий день, пока отец был на работе, я собрал свои пожитки и ушел из дома к другу Ричарду Торну. Долгое время в отцовском доме держали для меня комнату, и я возвращался домой набегами. Мои разногласия с родителями постепенно сгладились и, в конце концов, совсем исчезли. Вещи в моей комнате не трогали вплоть до 1968 года, когда я попал в тюрьму.
9. Колледж и Ассоциация афро-американцев
Чернокожий парень отличается не только красотой, он еще и плохой вдобавок. Он быстро действует, он классный, у него есть имя, а еще он может надрать задницу.
Мелвин Ван Пиблз. Умирать естественной смертью не положеноКогда в 1959 году я поступил в Оклендский городской колледж (теперь это Мерриттский колледж), это был колледж с двухгодичным неполным обучением. Находился он в Северном Окленде, на территории негритянской общины. В ту пору многие чернокожие ребята ходили в этот колледж, и я влился в толпу студентов. Для меня колледж значил больше, чем просто книги, лекции и семинары, хотя и это все имело немалое значение. Во-первых, раньше я никогда не покидал надолго знакомые места, так что продолжал бегать с чернокожими братьями из своего квартала. Все деньги, что были у меня в карманах, я добывал с помощью мелкого криминала — старая моя привычка. Вместе с тем для меня настало время заводить новых друзей и вступать в организации, которые подтолкнут меня к поиску в новых направлениях.
Ричард Торн стал одним из первых, с кем я подружился в Оклендском колледже. Ричард был очень высок. Кожа у него была ослепительно черная, и еще тогда, до наступления «черной культурной революции», он носил пышную шевелюру. Некоторых чернокожих его внешность заставляла благоговейно трепетать, другим она внушала откровенный страх. Ричард знал, как вызвать эти чувства у людей и как оказывать влияние на окружающих.
После ухода из дома я оставался у Ричарда около месяца, пока не пристроился в мужское общежитие для бедных студентов. Общежитие располагалось на задворках книжного магазина, который находился через дорогу от колледжа. Владельцы превратили огромное хранилище в подобие общежития с отдельными комнатами. Не совсем с комнатами, скорее, это были кабинки, отгороженные тонкими фанерными стенами. Такая кабинка стоила 15 $ в месяц. Я любил проводить время в общежитии, потому что большинство моих друзей из числа «жильцов» этого дома были молодыми ребятами, делавшими первые шаги в жизни. Они тоже искали, как и я. Кто-то из них ушел, чтобы стать частью системы, кого-то система продолжала мучить дальше. Я поддерживал прочную связь с Ричардом, и мы провели довольно много времени вместе у него на квартире. Обычно Ричарда окружало несколько девушек; он постоянно рассуждал о паре-тройке книг, которые он все собирался прочесть. Лично меня больше интересовали девушки.
У Ричарда Торна была своя теория об отношениях между мужчиной и женщиной. Не обремененную узами брака любовь он рассматривал как единственно возможную чистую любовь, а официально скрепленный союз был для Ричарда насмешкой над настоящими чувствами. Свободная любовь не порабощает и не принуждает человека. Ричард критиковал то, что он называл «буржуазными отношениями», а также сам институт брака вместе с требованиями, которые вступающие в брак предъявляют друг другу (в это ряду стоят обязательство заниматься сексом с единственным партнером, ревность, ограничение свободы перемещения, распределение ролей в семье по половому признаку). Ричард чутко чувствовал, что люди вовсе не подобны машинам или домам, т. е. бездушной собственности. Ни одна жена не должна принадлежать своему мужу, точно так же и муж не должен принадлежать жене, ибо любое владение основано на контроле, ограждениях, барьерах, принуждении и психологической тирании. Свободная любовь держится на совместном опыте и дружбе. Она сродни той любви, которую мы питаем по отношению к собственному телу, к большому пальцу руки или к нашей ноге. Мы любим себя, свое тело, но мы нисколько не хотим порабощать хотя бы какую-нибудь частичку самих себя.
Между мной и Ричардом случались жаркие споры. Иногда мы застревали у него дома на несколько дней, со стаканчиком вина обсуждая общую ситуацию в стране, за все проклиная белых. Когда я подуставал от этих посиделок, я возвращался назад, в свой квартал, чтобы вновь присоединиться к своим отличным уличным братьям.
В ту пору я был злым парнем. Этот парень баловался вином, распускал кулаки в квартале, взламывал дома в Беверли-Хиллз, а также посещал Оклендский городской колледж. Я отдалился от семьи и ушел из церкви, которые дарили мне так много спокойствия в прежнее время. Я искал нечто новое. Роившиеся в моей голове вопросы были настолько мучительны и назойливы, что я вел себя откровенно грубо, чтобы только избавиться от них. Я хотел найти что-нибудь с ясными очертаниями, то, с чем я мог себя идентифицировать. Всю свою сумятицу я воспринимал через призму расизма, эксплуатации и очевидных различий между имущими и неимущими. Я пытался выяснить, как не сломаться в этой жизни и не потерять самоуважение, как удержаться от дружеских объятий с угнетателем, искалечившим мою семью и общину.
В дискуссиях, возникавших в студенческом братстве «Фи Бета Сигма»,[23] к которому я ненадолго присоединился, я излил свой гнев. Мои выступления были направлены против американской модели общественного устройства и белого расизма. Мне сказали, что я выступал прямо как парень по имени Дональд Уорден. Обычно он превозносил достоинства чернокожих. Его можно было услышать в кампусе Беркли при Калифорнийском университете. Уорден возглавлял Ассоциацию афро-американцев.
Я отправился в Беркли, чтобы отыскать Уордена и послушать, что он говорит. Впрочем, первым, кого я встретил в Ассоциации, был не сам Уорден, а один из близких его единомышленников — Морис Доусон. Он сразу вызвал у меня неприязнь своим высокомерием. Я пришел, потому что я находился в процессе поиска, а он высмеял меня, ибо я сам не очень хорошо понимал, что именно я ищу. До меня никак не доходили его рассуждения об «афро-американцах». Это слово было мне незнакомо. Доусон просто унизил меня своими расспросами.
— Тебе известно, кто такой афро-кубинец?
— Да.
— А кто такой афро-бразилец?
— Тоже знаю.
— Так почему же ты не знаешь, кто такой афро-американец?!
Возможно, ответ на этот вопрос был очевиден для него, но не для меня. Но интереса к Ассоциации я не утратил даже после такого хамского обращения.
Морис преподал мне урок. Тот же самый урок я стараюсь объяснить сегодня «Черным пантерам». Я убеждаю членов нашей партии в том, что не следует оскорблять людей, которые чего-то не понимают. Пусть даже человек будет совсем далек от нашего дела и на вид покажется сущим буржуа, все равно отвечать на его вопросы необходимо вежливо. Все нужно объяснять как можно подробнее. Мне дали от ворот поворот. Я наткнулся на человека, который не захотел возиться со мной, поскольку в его глазах я мало что значил. Морис мечтал проповедовать обращенным, тем, кто уже был с ним согласен. Я же пытаюсь оказывать всем людям теплый прием, потому что именно так можно завоевать их расположение и доверие. Нельзя расположить к себе человека, проводя строгую разграничительную линию между ним и собой, чтобы он остался по ту, а ты по эту сторону. Такое поведение показывает, что ты что-то недопонял. После создания партии «Черная пантера» я чуть было не совершил подобную ошибку. Я просто не мог понять, почему люди не видели того, что я видел так отчетливо. Потом я осознал, что их понимание необходимо расширять.
Я начал посещать собрания Ассоциации. Цель этой организации состояла, главным образом, в том, чтобы развивать у чернокожих чувство гордости за их наследие, историю и вклад в культуру и в общественную жизнь. Идейным вдохновителем Ассоциации был Дональд Уорден. Он получил юридическое образование в Калифорнийском университете. Большая часть собраний была посвящена обсуждению книг, и этому я был особенно рад, потому что таким образом я все больше приобщался к чтению. Я начал читать книги о чернокожих. Каждую пятницу мы просиживали полночи, обсуждая очередную книгу. Так мы прочли «Души черного народа» В. Е. Б. Дюбуа, «Человека-невидимку» Ральфа Эллисона, «Вырываясь из рабства» Букера Т. Вашингтона и «В следующий раз» Джеймса Болдуина.[24]
Я был среди тех первых десяти, кто присоединился к Ассоциации. По субботам во второй половине дня мы шли в негритянскую общину Окленда или Сан-Франциско и устраивали выступление прямо на углу улицы, обличая расовую систему. Люди приходили нас послушать из-за скуки и желания как-то развлечься, а вовсе не потому, что речь Уордена имела непосредственное отношение к их жизни.
Я стала приводить в Ассоциацию побольше бедных, неграмотных братьев из квартала. Добрую половину Ассоциации составляли студенты колледжа. У них были замашки настоящих буржуа, тогда как мои друзья были из бедного квартала. Некоторые из них даже не умели читать, зато в них накопилась злость, и они искали способ выплеснуть свои эмоции. Уордену нравилось иметь рядом с собой чернокожих братьев из люмпенских слоев. Ему требовались люди с крепкими кулаками, которые просто следовали бы его инструкциям, не задавая никаких вопросов. Вместе с другими братьями я входил в личную охрану Уордена. Порой наши уличные выступления заканчивались мордобоем. Дело в том, что поблизости всегда бродили белые парни, искавшие неприятностей на свою голову. Тогда благодаря Уордену началось мое прозрение.
Моя семья считала, что мои отношения с Уорденом ни к чему хорошему не приведут, так что мои близкие очень расстроились, узнав о том, что я связался с Уорденом. Родные говорили мне, что Уорден был заинтересован исключительно в налаживании собственной юридической практики. Они оказались правы, но я должен был осознать это сам.
Пелена с моих глаз начала спадать, когда я понял, что Уорден не может выстоять до конца в драке. Однажды мы организовали митинг в Сан-Франциско. Какие-то белые парни закричали на нас из окна, а потом вышли из дома и устроили драку. Я ограждал Уордена руками, как мог, а когда я поднял глаза, то увидел, что он сбежал, оставив нас выпутываться собственными силами.
Решение покинуть Ассоциацию по-настоящему созрело во мне после того, как я понаблюдал за поведением Уордена в конфликтной ситуации. Казалось, с его умениями и навыками преимущество было на его стороне. Оклендская газета «Трибьюн» опубликовала статью, где говорилось о том, что в городском управлении в адрес Ассоциации афро-американцев были высказаны унизительные комментарии. Уорден написал в мэрию и попросил внести наш вопрос в повестку следующего заседания городских властей. Мы пошли с Уорденом в мэрию. Нас собралось человек двадцать, и мы были уверены в том, что Уорден их всех как следует проучит. В повестке наш вопрос стоял под восьмым пунктом, и уже подошла наша очередь, но тут мэр Джон Хулихан (позже его посадят за растрату) сказал нам, что мы не сможем выступить, потому что в мэрию пришли важные люди из Пьемонта. Пьемонт, к сведению, — это особая территория в пределах города, где проживают исключительно белые, причем верхушка общества. Хулихан посоветовал нам ждать до последнего, хотя очередь выступать перед городскими властями была наша. Мне казалось, что Уорден будет возражать против такого обращения с нами, но он лишь кивнул головой в ответ мэру. И я отметил про себя, что только что собственными глазами увидел, как Уорден поколебался.
После презентации пьемонтских предпринимателей Хулихан объявил, что закрывает заседание, поскольку времени хватило на рассмотрение лишь десяти пунктов в повестке дня. Он порекомендовал нам письменно изложить суть дела. Один из сотрудников мэрии стал настаивать на том, чтобы нас все-таки выслушали, как никак, мы обратились в мэрию по всем правилам и были включены в повестку. Дон все еще хранил молчание. Наконец, он встал, чтобы говорить. Начал он с причин, побудивших нас прийти в мэрию. Как известно, это были нелицеприятные замечания, высказанные на последнем заседании городского управления. Уорден сказал, что Ассоциации не нужны проблемы. Ассоциации лишь хочет пробудить негров от летаргического сна, вытащить их из системы пособий, заставить навести у себя порядок и подметать свои улицы. Это должен быть единый, мощный порыв под лозунгом «Помоги себе сам». Уорден добавил, что хотел, чтобы негры перестали обманом получать пособия по безработице.
Вот в этот момент я и решил, что мои родители не ошиблись насчет Уордена. А потом все представители городской власти, включая мэра, хлопали Уордена по спине. И он это проглотил. На наших собраниях, когда поблизости не было белых, Уорден действительно критиковал их в пух и прах. Однако он был мало заинтересован в судьбе чернокожих. Гораздо больше его волновало, как получить от дочери Барри Голдуотера пожертвования для крохотного магазинчика его сестры-швеи, который, как уверял сам Уорден, был чуть ли не целой фабрикой по производству одежды. Дочь Голдуотера стала почетным членом Ассоциации.[25]
Увиденное и услышанное в мэрии вызвало у меня самый настоящий приступ тошноты. По словам Уордена выходило, что негры все как один ленивы, они ненавидят самих себя и не обладают силой воли, чтобы улучшить свое положение. Он ни словом не обмолвился о причинах наших бедствий, хотя там, в мэрии, он как раз говорил с теми, кто имеет непосредственное отношение к этим причинам, заставляющим страдать чернокожее население Окленда.
Избавившись от иллюзий, я ушел из Ассоциации афро-американцев, но за это время, пока я был в ее рядах, я получил довольно много. Во-первых, я начал узнавать о прошлом нашего народа, при этом я ни за что не соглашался с отказом Уордена иметь дело с нашим настоящим. Совершенно очевидно, что он старался наладить свою юридическую практику. Недаром наши уличные выступления он обычно начинал заявлением о том, что он вообще-то не должен быть здесь, поскольку он является членом студенческого братства «Фи Бета Каппа» и юрист к тому же. Многие, кто обращался к Уордену за юридической услугой, выводили его на чистую воду. Они наивно полагали, что он возьмет с них меньше денег, потому что он один из них, однако он брал с клиентов сполна. Однажды я сам обратился к нему, и он попросил заплатить втрое больше обычного. Услуги адвоката в моем случае стоили 250 $, а Уорден хотел 750, причем еще до того, как он войдет в зал судебных заседаний.
Он предлагал общине какие-то решения, но они не работали. Я бы еще мог принять позицию Уордена, если бы он сам не понимал, что делает. Однако я уверен, он это прекрасно сознавал. По крайней мере, он четко представлял себе настроения людей. Поэтому я говорю «Черным пантерам», что мы никогда не должны поддерживать какое-либо мнение только потому, что оно пользуется популярностью в народе. Мы должны объективно проанализировать ситуацию и найти логически правильное решение, даже если оно не будет особо популярным у народа. Если мы дали правильную — диалектическую — оценку ситуации, то наша позиция рано или поздно возобладает.
Уорден рассуждал совершенно по-другому. Он ловил волну и держался на ней, даже если это шло вразрез с интересами общины. Он разглагольствовал о массовом исходе американских негров в Африку, совершенно не веря в успех этого мероприятия. Он высказывался в пользу капиталистической системы в целом и «черного» капитализма в частности. Единственным существенным недостатком капитализма, по мнению Уордена, был расизм. Он никогда не отмечал связь между капиталистической эксплуатацией и расизмом. Желая заставить белых поверить в то, что негры действительно шли за ним, Уорден превозносил силу чернокожих и их историю. Уорден использовал людей, чтобы воспользоваться их поддержкой. Он добивался поддержки и у белых, играя на их страхе перед организованными чернокожими. Уорден собирал людей, чтобы вести их за собой, как стадо овец. Именно так и произошло в мэрии.
Уорден — единственный из знакомых мне негров, который вел две еженедельные программы на радио и одну на телевидении. Средства массовой информации вкупе с угнетателями дали ему выход на широкую общественность по одной лишь причине: он уводил людей от осознания истинного их положения.
Я был не один, кто ушел из Ассоциации. Побыв там некоторое время, покинул Ассоциации и Ричард Торн, чтобы основать Лигу сексуальной свободы. Впоследствии он организовал секту под названием «Вечный Ом». Ричард сменил свое имя и стал зваться Ом. Теперь он является высшим духовным лицом этой секты (Богом), и его сан не должен подвергаться ни малейшему сомнению. В то время в Ассоциацию входил еще одни заметный парень — Рон Эверетт. Это был смышленый молодой человек, отличавшийся сильной худобой и способностью четко излагать свои мысли. Покинув Ассоциацию, он перебрался в Уоттс, в Лос-Анджелес. Там он сколотил собственную культурно-националистическую группировку «Соединенные Штаты», которая в итоге превратилась в секту. Рон называл себя Каренга, что значит «первопричина». Потом у «Черных пантер» будут жесткие столкновения с этой группировкой. Они убьют двух одних из лучших наших товарищей.[26]
10. Учение
И душа моя стала глубокой, словно реки.
Лэнгстон Хьюз. О реках говорит негр[27]Жизнь открывалась мне. Я пробовал присоединиться к Дональду Уордену и его программе, старался поддерживать тесную связь со славными ребятами из квартала, а также ходил в Оклендский городской колледж на условии свободного посещения. У меня было огромное желание доказать своим школьным учителям, как они ошибались на мой счет. К собственному удивлению я обнаружил, что получаю удовольствие от учебного процесса. Идеи, которые я узнавал, в значительной мере стимулировали мою учебу. Поскольку в течение почти семи лет я учился классической игре на пианино, я стал изучать теорию музыки и теорию искусства, а также историю музыки и искусства.
Как только начинался новый семестр, словно тяжело бремя ложилось на мои плечи. Такое ощущение возникало у меня почти всегда перед началом учебы. Однако если в классе рассказывали что-нибудь, что захватывало мое воображение, я иногда пропускал другие занятия, набирал все книжки и материалы, которые мог найти по данной теме, и штудировал их, сидя в библиотеке или дома.
К примеру, когда мы проходили психологию, я увлекся теорией биологического бихевиоризма Джона Б. Уотсона и таким явлением, как ответная реакция организма на раздражение. Я прочел целый ряд книг, посвященных этой проблематике, познакомился с работами Б.Ф. Скиннера и Павлова, почитал об исследованиях, которые они проводили, а также об их теориях личности и развитии человека. К тому моменту, когда я пресытился книгами об ответной реакции и о прочих психологических явлениях, тема занятий сменилась и уже не представляла для меня интереса.
Другим моим любимым предметом была философия. Я до сих пор помню некоторые вопросы, обсуждавшиеся на наших занятиях по логике тридцать лет назад. Отдельные вещи, например, различие между лексическим и условным значением я использую в дискуссиях и по сей день. Даже сейчас я мне кажется затруднительным вступать в разговор об идеологии «Черных пантер», если мы с моим собеседником не договорились насчет основных понятий. Отсюда и рождаются проблемы, с которыми я сталкиваюсь во время своих выступлений в кампусах различных колледжей. Я пытаюсь втянуть аудиторию в рациональную и логичную дискуссию, однако многие студенты начинают впадать в риторику или говорить пустые фразы. Какой напрашивается вывод? Либо они не хотят учиться, либо не верят в мою способность здраво мыслить.
Меня очень поразил логический позитивизм Э. Дж. Эйера. Особое внимание я обратил на три вида утверждений, которые он выделяет: аналитическое, синтетическое и допускающее утверждение. Эти идеи помогли мне в развитии собственного мышления и идеологии. У этого философа я нашел одну интересную фразу: «То не может быть действительным, о чем нельзя составить представления, что нельзя ясно выразить и мнение о чем никто другой не способен разделить». Это высказывание запало мне в душу. Большое значение оно приобрело для меня, когда я начал пользоваться методами диалектического материализма как мировоззрением. Идеология «Черных пантер» исходит именно из этой посылки — составить представление, четко сформулировать и разделить мнение. Таков наш основной принцип. Из него вытекают остальные ключевые лозунги и понятия, например, «Вся власть народу» и понятие «свинья» по отношению к полицейским. Эти концептуальные вещи неслучайно вошли в наш образ мышления и активный словарь.
Изучая философию, я стал осознавать, что временами двигаюсь в сторону экзистенциализма. Я читал Камю, Сартра и Кьеркегора и подмечал схожесть их произведений с Книгой Экклезиаста. На самом деле, Экклезиаст и был первым экзистенциалистом:
«Всему и всем-одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и [злому], чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы.
Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они [отходят] к умершим.
Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву.
И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым-победа, не мудрым-хлеб, и не у разумных-богатство, и не искусным-благорасположение, но время и случай для всех их».[28]
Увлеченный экзистенциализмом, я поощрял друзей к обсуждению различных экзистенциальных проблем. Если брат испытывал голод, я обычно говорил, что быть голодным или быть дураком — это одно и то же, нет разницы между тем, холодно тебе или тепло. Все это явления одного порядка. Приятели действительно считали меня сумасшедшим. А потом я и вовсе стал жить как настоящий последователь экзистенциализма: ездил автостопом до Лос-Анджелеса и обратно, ходил на занятия грязным, без обуви и порой насквозь промокал под дождем. Мне было все равно. Так или иначе, я поддерживал свою репутацию. Все время проводил на улице, читал Экклезиаста, по крайней мере, раз в месяц. Так продолжалось до того момента, когда я попал в тюрьму, где мне вообще не давали читать.
Я все еще продолжал задаваться вопросами. Хотя учеба в колледже не помогала мне получить прямых ответов, постепенно я начал понимать сущность человека и природу вселенной. Я стал ощущать, что могу осмысливать ответы, которые соответствовали моему жизненному опыту и моим знаниям о мире. Я вновь и вновь убеждал самого себя, что там, в школе, они были не правы, считая меня неспособным. Попросив меня написать на доске слово «бизнес», учительница хотела показать всему классу, какой я был глупый. Когда меня отговаривали от поступления в колледж, это все из-за того, что они думали обо мне как о тупом ученике. Вообще-то некоторые преподаватели колледжа тоже считали меня тупым, потому что мне никогда не удавалось справиться с теми глупыми коротенькими тестами, которые они давали на занятиях. Один из преподавателей психологии сказал мне, что по результатам теста на IQ я получился «обыкновенным тупым». Преподаватель был мне глубоко симпатичен, так что его слова меня сильно задели. Потом он дал мне другой тест и сообщил, что тест «показал» наличие у меня интеллекта. И только я знал, что происходило в моей душе, только я был свидетелем того, что происходило между мной и теми книгами, что я читал дома. Я учился и учился неплохо. Я мог думать, читать и запоминать самые сложные идеи. Целых двенадцать лет они старались сломить меня, но я устоял и теперь на зло им всем шел вперед.
То, что узнал от Сонни-мэна, тоже помогло мне получить образование. Я был свободен и мог учиться по собственному усмотрению. Прокормиться я мог и в квартале. Самое главное, я не должен был ходить на работу. У себя на квартире я устраивал азартные игры, выполняя обязанности «хозяина». Я предлагал всем желающим сыграть в карты или кости, а потом забирал часть выигрыша у победителей.
Именно учеба и чтение книг в колледже способствовали моему превращению в социалиста. Переход от национализма к социализму происходил довольно медленно, хотя марксистов вокруг меня хватало. Я даже посетил несколько собраний Прогрессивной лейбористской партии, однако ничего нового там для себя не открыл, разве что услышал много болтовни и всяких догм. Они не имели никакого отношения к знакомому мне миру. Я поддерживал Кастро всеми возможными способами. Я даже принял приглашение посетить Кубу и собрал других желающих, однако на Кубе я так и не побывал. Когда я делился с кем-нибудь своими решениями проблем чернокожих или говорил о своей философии, мне отвечали: «А разве это не социализм?» Некоторые собеседники употребляли слово «социализм», чтобы осадить меня. В свою очередь, я парировал, что, если это и социализм, то социализм, должно быть, является правильным учением. В общем, я читал все больше и больше книг о социализме. С течением времени я начал обнаруживать сильное сходство своих убеждений с тем, что я почерпнул из литературы. Мое «обращение» в социалиста окончательно завершилось после того, как я одолел четыре тома работ Мао Цзэдуна. Я хотел узнать побольше о китайской революции. Моя жизнь и чтение по собственному вкусу — вот что сделало меня социалистом, и ничего больше.
Я стал убеждаться в преимуществах коллективизма и коллективистской идеологии. Я также увидел связь между расизмом и капиталистической экономикой. С другой стороны, я признавал, что при анализе общей ситуации необходимо разделять эти понятия. С точки зрения психологии, расизм мог и не исчезнуть после решения породивших его экономических проблем. Я никогда не верил в то, что уничтожение капитализма автоматически приведет к исчезновению расизма. Вместе с тем я чувствовал, что мы не сможем справиться с расизмом, не лишив его экономической основы. Осмысление этих сложных взаимосвязей требовало более творческого и независимого подхода.
Хотя я и находил удовольствие в лекциях и дискуссиях, я все-таки не отождествлял свой образ жизни со студенческим кампусом. После окончания занятий я сразу же отправлялся в город, иногда на Сакраменто-стрит в Беркли или в Западный или Восточный Окленд, чтобы выпить вина, поиграть или подраться. Ни один раз я приходил на занятия мертвецки пьяным. Опьянение мне вовсе не мешало, напротив, оно только усиливало восприятие различных идей. Однако мои преподаватели терпеть не могли, когда кто-нибудь выходил из класса во время их лекций. Это действовало им на нервы. Но как тут было не выйти в туалет, если в тебе было столько вина?
Учеба в колледже приносила мне удовольствие, главным образом, потому, что никто не заставлял меня туда ходить. Я мог пойти на занятия, а мог и остаться дома и почитать книгу. Каждый семестр я начинал в удобном для себя ритме, т. е. вместо занятий частенько ездил в Мексику или попадал за решетку, или вовсе бросал учебу. В любом случае, я много чего узнавал.
Пока я учился в колледже, я продолжал искать ответы на занимавшие меня вопросы. Ассоциация афро-американцев стала для меня огромным разочарованием. Во мне все крепло ощущение того, что Ассоциация была лишь центром обучения мусульман. Казалось, Уорден перенял немало риторических и стилистических приемов из ислама. Я начал более подробно изучать проблему ислама в негритянской общине. Я прочел книгу К. Эрика Линкольна «Черные мусульмане в Америке». Но больше всего меня увлек священник Малькольм Икс.
Впервые я услышал Малькольма Икса, когда он выступал в средней школе Мак-Климонда в Окленде. Тогда он принимал участие в конференции на тему «Сознание гетто», которую устроила и профинансировала Ассоциация. Вместе с Малькольмом был и Мухаммед Али (тогда он был ещё Кассиусом Клэем).[29] Али сказал, что принял ислам. В ту пору он еще не был чемпионом в тяжелом весе. Последовательность Малькольма, его ум, дисциплинированный и служивший общему делу, глубоко впечатлили меня. Передо мной был человек, сумевший объединить мир улиц с миром науки, человек настолько начитанный, что он мог выступать с лекциями и приводить цитаты лучше многих профессоров из колледжа. Вдобавок ко всему, Малькольм Икс был практиком. На нем была свободная одежда, какую обычно носят крутые заключенные. Ему было известно, что представляют собой уличные братья, он также знал, что нужно сделать, чтобы достучаться до них. У Малькольма была своя программа. Он считал, что нужно оказывать вооруженный ответ на нападение и, кроме того, завоевывать людей теми идеями и программами, которые имели непосредственное отношение к условиям их жизни. В то же время Малькольм изучал причины возникновения именно таких условий, а не обвинял во всем самих людей.
Я стал ходить в мечеть. Я бывал в мечетях Окленда и Сан-Франциско, хотя и нерегулярно. В числе моих знакомых было много мусульман, я частенько с ними беседовал. Я постоянно читал их газету, чтобы узнать содержание выступлений Малькольма и глубже понять его идеи. Я бы присоединился к ним, если бы не их религия. К тому времени я был сыт по горло религией и не мог заставить себя принять еще одну веру. Я чувствовал потребность в более конкретном понимании общественной системы. Ссылки на Бога или Аллаха не давали удовлетворительного ответа на вопросы, которыми я упрямо продолжал задаваться.
Что касается колледжа, то здесь Кенни Фриман вместе с Исааком Муром, Дугом и Эрни Алленами, Алексом Паппиллоном и другими ребятами выступили организаторам филиала Движения за революционные действия на Западном побережье. Они провозгласили свое движение тайным, но вместо борьбы за революционные действия они увязли в разговорах на революционную тему, подпольем в их деятельности и не пахло. Все они учились в колледже, навыки у них были насквозь буржуазными. Они много писали, изводя горы бумаги. В конце концов, эту организацию просто наводнили агенты, так что во время ареста полицейские потратили уйму времени на предъявления друг другу своих значков.
Бобби Сил пытался привлечь меня к работе в Движении, однако остальные члены организации отказались принять меня в свои дружные ряды. По их словам, я жил на оклендских холмах и был слишком «буржуазным». Но это была абсолютная ложь. Всю свою жизнь я прожил в равнинной части города. Я думаю, что на самом деле я представлял для них угрозу — только этим можно объяснить их отказ включить меня в организацию. Я мог работать головой и в то же время сойти за одного из уличных братьев. Сторонники Движения клялись бороться за свержение правительства с применением оружия. В действительности большинство из них намеревались работать в рамках системы. Фриман и остальные, в конце концов, исключили Бобби. Он был не настолько буржуазен, как они.
Движение за революционные действия создало в кампусе группу прикрытия под названием «Консультативный совет чернокожих студентов». Кенни Фриман наводнил ее своими приятелями. Я стал активным членом группы. Главная цель, которую поставила перед собой группа, — добиться включения негритянской истории в учебную программу колледжа. Мы устраивали уличные митинги и встречались с администрацией колледжа. Их доводы против нашего предложения были на редкость глупы: большинство из них привыкло считать, что у чернокожих нет своей истории, которую можно было бы преподавать. В итоге мы мало чего добились. На короткое время Движение стало для меня очень привлекательным. Я рассматривал деятельность этой организации как ответ на многие свои вопросы. Я получал удовлетворение от разговоров на тему прошлого Африки и о том, что мы могли бы дать миру (эти разговоры были одинаковы во всех группах, в которых я когда-либо состоял). Начиная с Уордена и Ассоциации афро-американцев и заканчивая Малькольмом Иксом, мусульманами и прочими группировками, действовавшими в то время в районе Залива, все были твердо убеждены в том, что неудача с введением негритянской истории в программу колледжа была непростительным скандалом. Мы все намеревались что-нибудь с этим делать.
Совету чернокожих студентов явно недоставало глубины. Мы добились своего, и в кампусе создали класс, где преподавалась негритянская история, но больше мы ничего не смогли достичь. Я ходил на вечеринки и занимался всякой общественной деятельностью, но все это не имело для меня значения и не приносило подлинного удовлетворения.
11. Братья из квартала
Что же касается будущего, молодой человек с улицы имеет довольно хорошее о нем представление… Это такое будущее, в котором все теряет свои очертания, за исключением краха всех его надежд и материализации всех его страхов. Самое разумное, на что он может надеяться, — что эти вещи не придут в его жизнь слишком рано.
Эллиот Либоу. Угол ТэллиВсе, чем мы увлекались в кампусе, не имело никакого отношения к братьям из квартала. Не было ничего, что помогло бы им лучше понять условия их собственного существования. Я видел, как многие мои друзья так или иначе выбывают из жизни, а я хотел видеть совсем другое — как с ними происходит что-нибудь приятное. Они женились, в их семьях рождались дети. Впереди их ждала нескончаемая работа и счета, т. е. все то, что сполна довелось пережить моему отцу. Жизнь взрослого чернокожего напоминала труд на городской плантации, становилась своеобразной издольщиной наших дней. Ты работал, не разгибая спины, и всегда оказывался должен землевладельцу. Братья из Окленда трудились на совесть, получали зарплату, но не вылезали из долгов. Они были должны магазинам, которые обеспечивали их необходимыми средствами существования. Консультативный совет негритянских студентов, Движение за революционные действия, мусульмане и Ассоциация афро-американцев не предлагали чернокожим братьям и сестрам ничего конкретного, не говоря уже о программе, которая помогла бы им выступить против системы. Мне доставляло нестерпимые мучения быть свидетелем того, как братья идут по улице с тупиком в конце.
Уличные братья много значили для меня. Я не мог отвернуться от той жизни, которая была и моей тоже. У братьев выработалась непримиримая враждебность по отношению ко всем источникам власти. Эта власть лишала негритянскую общину человеческого лица. В школе «систему» представлял учитель. В квартале же к системе относилось все, что не было частью общины и не имело для нее позитивного значения. Друзья из квартала продолжали оказывать сопротивление этой власти, и я ощущал, что не мог позволить колледжу переделать меня, каким привлекательным ни было образование. Братья обладали чувством гармонии и общности. Мне было необходимо ощущать эти чувства, чтобы сохранить их в самом себе и не дать уничтожить их до конца разным школам и прочим институтам власти.
В Оклендском городском колледже нашлось немало чернокожих, которые трудились изо всех сил, чтобы влиться в систему. Я не мог разделять их цели. Эти братья все еще не утратили веру в то, что им удастся добиться желаемого. Громко и долго они рассуждали об этом, делясь своими желаниями завести семью, дом, машину и т. п. Уже тогда я не стремился к перечисленным вещам. Я жаждал свободы, а разнообразная собственность означала для меня утрату свободы.
Это был сложный момент в моей жизни. Сонни-мэн принимал в свою компанию только тех братьев, кто не посещал колледж. После поступления в колледж бывшие друзья отдалялись от него. Несколько его ближайших «постоянных партнеров», с которыми он сдружился еще в школе, перестали с ним общаться. Они стали студентами колледжа, а Сонни-мэн остался в квартале. Вот теперь и я попал в колледж, но я вовсе не хотел порвать с уличными братьями, как сделали друзья Уолтера. Поэтому если я не занимался или не был в колледже, то проводил время в квартале с отличными парнями.
Думается, что одной из причин, по которой я так много дрался, был мой небольшой вес: я весил всего лишь около 130 фунтов.[30] Твой престиж заметно возрастает, если ты способен побить здоровенных парней с учетом того, что свою репутацию они заработали на победах вот над такими же легковесными противниками, подобных мне. Недомерков вроде меня, способных смотреть громилам прямо в глаза, было сыскать непросто. В моем случае имелось еще одно обстоятельство, служившее мне помехой. Все время, пока я учился в школе, мое миловидное лицо вводило людей в заблуждение, и мне давали меньше лет, чем мне было на самом деле. Моему возмущению не было предела, если со мной обращались, как с ребенком. Чтобы доказать парням, что я был такой же «плохой», как они, я бросался в драку без малейших колебаний. Стоило мне увидеть, что какой-то пижон вставал на дыбы, я давал ему в зубы, не дожидаясь, пока он ударит сам, но лишь при условии, что драки было не избежать. Я наносил удар первым, поскольку обычно столкновение было недолгим, а в девяти случаях из десяти победа доставалась тому, кто успевал ударить первым.
Сонни-мэн отлично владел кулаками, он научил меня наносить сильный удар, несмотря на мой легкий вес. Большинство парней понятия не имело о том, как правильно бить противника, так что я всегда атаковал первым и сбивал их ног или, по меньшей мере, выбивал им зуб либо оставлял их с заплывшим глазом. Наконец, за мной закрепилась репутация плохого парня, и мне уже не приходилось драться без передышки, чтобы это доказать. Впрочем, спокойной жизни не было: время от времени какой-нибудь «боров с клыками» (таким прозвищем награждали плохого крепкого парня из квартала) бросал мне вызов. После драки обычно мы становились хорошими друзьями, так как мой противник понимал, что в драке я прибегал к разным уловкам.
Порой я шел в квартал учительствовать, читал стихи, завязывал беседы на философские темы. Я говорил с братьями о тех вещах, о которых писали Юм, Пирс, Локк или Уильям Джеймс. Эти разговоры помогали мне самому лучше запоминать прочитанное и иногда находить ответы на мои собственные вопросы.
Все эти мыслители использовали один и тот же научный метод, облекая свои идеи в отдельные формулировки. Не подходившие под эти формулировки вещи они исключали. Я объяснял все это братьям, и мы говорили о существовании Бога, самоопределении и о свободе воли. Обычно я спрашивал у них:
— У тебя есть свобода воли?
— Да.
— Ты веришь в Бога?
— Да.
— Твой Бог всемогущ?
— Да.
— Он всеведущ?
— Да.
Подытоживая ответы, я выводил заключение о том, что их всемогущий Бог знает все наперед. Потом я выдавал тираду: «Если так оно и есть, как же вы можете говорить о свободе воли, когда Он знает все, что ты собираешься делать еще до того, как ты это сделал? Твои поступки предопределены. А если это не так, тогда получается, что твой Бог солгал или допустил ошибку, а ты говоришь, что твой Бог не может совершить ни того, ни другого». С подобных дилемм начинались споры, растягивавшиеся на целый день, и тут же требовалась не одна бутылка вина. Эти беседы проясняли мои мысли, хотя из-за них я мог прийти в колледж сильно нетрезвым.
Некоторые братья считали меня ученым педантом, который только и хотел, что их унизить. Из-за мнимых оскорблений порой начинались драки. Особенно хорохорились новички. Они еще не знали меня и моих отношений с братьями. Мне нравилось рассуждать о философских идеях, а уличные братья были единственными людьми, в компании которых мне хотелось проводить тогда время. Я находил удовольствие в нашем времяпрепровождении: мы стояли на углу, встречались со знакомыми людьми, наблюдали за женщинами. Мы относились к тем, кто боролся за выживание в нашем квартале.
Такие мужские разговоры случались где угодно — например, в машинах, припаркованных перед магазином, где торговали спиртными напитками, на Сакраменто-стрит неподалеку от Эшби в Беркли. Мы могли разговаривать, выйдя из помещения, где вовсю шла вечеринка, или иногда прямо там.
Я рассказал братьям миф о пещере из «Республики» Платона, и они пришли от него в восторг. Мы называли этот миф историей о пещерных узниках. Здесь Платон описывает состояние людей, заключенных в пещере. Представления о внешнем мире они получают, наблюдая за тенями, которые отражаются на стене пещеры благодаря костру, горящему у входа. Один из узников обретает свободу и узнает, каков внешний мир, т. е. объективная реальность, на самом деле. Он возвращается в пещеру, чтобы поведать остальным о том, что картины на стене — это вовсе не реальность, а лишь искаженное ее отражение. Узники называют его сумасшедшим, ему не удается переубедить своих собратьев. Освободившийся человек пытается уговорить одного из них выйти из пещеры, но тот приходит в ужас от мысли о том, что ему придется столкнуться с чем-то неизвестным, новым. Когда беднягу все-таки вытащили из пещеры, он ослеп, увидев солнце. Казалось, что Платоновская аллегория очень точно отражает наше собственное положение в обществе. Мы тоже находились в заключении, и нам тоже требовалось освободиться, чтобы усидеть разницу между правдой и ложью, в которую нас заставляли верить.
Пижоны из квартала по-прежнему думали, что я «был не в себе», а иногда просто ненормальным. «Придурком» меня называли в том числе и потому, что я всегда совершал неожиданные поступки. Это довольно полезная практика, если хочешь заставить своего противника как следует понервничать. Если до меня доходили слухи, что какие-то парни собираются напасть на меня, я отправлялся туда, где они околачивались. Я хотел и себя показать, и бросить им вызов прямо на месте. Зачастую они были слишком шокированы, чтоб ответить мне чем-то серьезным.
Философия уличной жизни проникла и в мою учебу. Братья были настроены враждебно по отношению к полиции, потому что полицейские всегда обходились с нами грубо и постоянно держали нас в запуганном состоянии. Поэтому я начал изучать полицейскую науку. Я поставил себе цель как можно больше узнать об особенностях мышления полицейских и научиться обводить их вокруг пальца. Я познакомился с принципами ведения полицейского расследования. Я также стал изучать юриспруденцию. Моя мать давно убеждала меня заняться этим, еще когда я был в школе. У меня неплохо получалось спорить, и ей казалось, что из меня вышел бы дельный адвокат. Я занимался правом сначала в городском колледже, а потом в юридической школе в Сан-Франциско. Занятия юриспруденцией нужны были мне не столько для того, чтобы стать адвокатом, а для того, чтобы научиться иметь дело с полицией. Я поступал непредсказуемо.
Однажды в 1965 году я шел в колледж по Гроув-стрит и увидел, что какой-то белый задел своей машиной машину чернокожего брата. Подъехал полицейский на мотоцикле, и водители ударились в спор, выясняя, кто прав кто виноват. Полицейский намеревался выписать штраф брату. Я был в толпе любопытных, наблюдавших за происходящим. Я подошел к белому и сказал, что правила нарушил именно он. Разозлившись на мое вмешательство, полицейский приказал мне замолчать, поскольку я был тут ни при чем. Я повернулся к нему и ответил, что я был при чем, ибо мне было хорошо известно, как он обращается с людьми в нашем квартале. Тот факт, что у него был пистолет, сказал я, не давал ему право запугивать меня. Пистолет еще ничего не значит, народ собирается взять оружие в свои руки и отобрать его у полиции. Я выложил свои аргументы прямо в лицо полицейскому в присутствии многих свидетелей. Вот так я впервые в жизни осадил полицейского.
12. Преуспевание
Что такое собственность? Собственность — это кража.
Пьер-Жозеф Прудон, 1840 год[31]Разбойник… — это настоящий и единственный революционер.
Бакунин, 1870 годСначала я изучал право с целью повысить свою квалификацию взломщика. Сознавая, что меня могут поймать в любой момент и вовсе не желая, чтобы меня застали врасплох, я приобрел несколько книг по уголовном управу, кражам со взломом и прочим уголовным преступлениям и постарался выжать из этой литературы максимум нужной для себя информации. Я пытался выяснить, какие улики требуются полицейским для доказательства совершения преступления, какие действия считаются правонарушениями, какие лазейки можно отыскать в законодательстве и что можно сделать, чтобы вообще избежать обвинения. Они напридумывали целую уйму законов. Я проштудировал Уголовный кодекс штата Калифорния и книжки вроде «Показания по уголовному делу в Калифорнии» и «Уголовное право Калифорнии» Фрика и Аларсона. Я сосредоточил внимание на тех местах, где просматривались неясности. В Уголовном кодексе Калифорнии говорилось, что любой закон, не до конца понятный обычному гражданину — т. е. среднестатистическому человеку, обладающему здравым смыслом и проживающему в Калифорнии, подчиняющемуся процессуальным нормам и положениям штата и принятым в нем культурным нормам — то он не считается законом.
Впоследствии усиленное изучение действия законов помогло мне узнать, как правильно вести себя с полицией. До того, как я взял в руки книгу «Показания по уголовному делу в Калифорнии», я не имел точного представления о своих правах. К примеру, я не знал, что полицейский может подвергнуться аресту. Мое увлечение уголовным правом давало реальные результаты: каждый раз, когда меня арестовывали, меня потом отпускали, не выдвигая обвинения. Пока я не угодил в тюрьму, будучи невиновным, не было случая, чтобы мне выносили приговор; все-таки я не так много натворил. Суд обязательно вынесет тебе приговор, если это в его силах. Однако если ты знаешь закон и твои слова звучат ясно и убедительно, судьи сочтут тебя не совсем потерянным для общества: твоя манера речи укажет на то, что ты «проник» в их образ мышления.
Я занимался многие вещами, по сути своей незаконными. Иногда мы с друзьями получали от какой-нибудь компании украденные чековые бланки. Мы вписывали туда сумму в 150 или 200 $, никогда не превышая обычных размеров еженедельных платежей. В другой раз мы воровали чековые бланки сами. Бывало и так, что мы покупали пустые чеки у парней, которые украли их. Обналичивать чеки следовало как можно быстрее, до того как компании сообщали номера чеков в банки и магазины.
Мы обчищали дома на холмах Окленда и Беркли при свете дня. Иногда мы одалживали грузовичок «пикап» и загружали в него газонокосилку и садовый инвентарь. Мы подъезжали к дому, в котором, на наш взгляд, никого не было, и звонили в дверь. Если хозяев действительно не было, какое-то время мы катали газонокосилку туда-сюда, делая вид, что собираемся косить траву и подрезать живую изгородь. А потом мигом взламывали дверь и уносили из дома все, что хотели.
Нередко я в одиночку обкрадывал машины. Прогуливался себе спокойно по улице, высматривая подходящий автомобиль, взламывал его и брал вещи, лежавшие на сиденье или в бардачке. Многие люди не запирали свои машины, что значительно облегчало мою задачу.
Но больше всего мы наваривали на махинациях с кредитом и от обсчета кассиров. Мы воровали или покупали краденые кредитные карточки и, не жалея, тратили лежавшие на них деньги, покуда номера карточек не доходили до магазинов. Можно было либо продать купленное, либо пользоваться им самому.
Мы отработали очень выгодную схему с кредитом. Выглядела она следующим образом. Мы платили 20–30 $ мелкому предпринимателю, чтобы он подтвердил, будто мы работали у него лет пять. Такая рекомендация служила хорошим поручительством и помогала нам получить кредит в крупном магазине. Мы набирали товара на сумму около 150 $ и платили сначала 20 $, остальное шло в кредит. Разумеется, мы пользовались не своим именем и давали не свой адрес. На самом деле, это был адрес и телефонный номер одного из наших друзей: мы предоставляли магазину реальные данные, чтобы его служащие могли при желании их проверить и удостовериться, что все в порядке. Пару месяцев мы исправно выплачивали кредит. Затем мы увеличивали размер кредита. Если вносишь платежи регулярно, то кредит тебе расширяют без особых проблем. И вот мы делали в магазине очень большой заказ и… переставали выплачивать кредит. Если из магазина звонили по «месту работы», то там отвечали, что мы только что уволились. Если звонили по «месту жительства», то в ответ слышали, «они съехали больше месяца назад». Магазин оставался в подвешенном состоянии. В действительности владельцы магазина ничего не теряли, они в свою очередь обкрадывали общество. Невыплаченный кредит списывался, а грабеж продолжался. Мораль истории такова: ты можешь выжить благодаря мелким преступлениям и вдобавок причинить вред тому, кто обижает тебя.
Занявшись мелким криминалом, я перестал вступать в драки. Вся моя агрессия, враждебность, желание нарваться на конфликт, которые раньше я выплескивал на братьев, переместились на Истэблишмент.
Но больше всего мне удавалась афера с обсчетом кассиров. В искусстве обсчета я достиг такого уровня мастерства, что мог заработать на этом $50–60 в день. Я практиковался везде, в маленьких магазинчиках и универмагах, и даже обманывал кассиров в банке. Я приходил в магазин с пятью банкнотами по одному доллару и просил продавца обменять их. Из магазина я выходил уже с банкнотой в десять долларов. Таким образом, из пяти долларов я делал десять. Можно было и из десяти сделать двадцать. Для этого надо было только прийти в магазин с десятью однодолларовыми банкнотами.
Для начала нужно было сложить четыре банкноты вместе. Потом нужно было что-нибудь купить, леденцы или жвачку, например. Покупка оплачивалась оставшейся однодолларовой купюрой. При этом продавец обязательно открывал кассу, чтобы отсчитать сдачу. Я всегда останавливался поодаль от кассы, так что продавец был вынужден подходить ко мне со сдачей. Необходимо было добиться того, чтобы продавец открыл кассу и отошел от нее, отвлекшись от полученной ранее банкноты.
Когда продавец приносил мне сдачу, я протягивал ему пачку из четырех банкнот и говорил: «Здесь пять купюр по одному доллару. Можете дать мне одну пятидолларовую за них?» Обычно продавец давал мне банкноту в пять долларов, прежде чем осознавал, что в трубочке лежало лишь четыре однодолларовых купюры. Касса оставалась открытой, и я подводил продавца к обнаружению ошибки. Ошибка вскрывалась, и тут я давал еще однодолларовую банкноту, присоединив ее к той пятидолларовой, которую продавец дал мне чуть раньше. Я протягивал эти банкноты продавцу и с учетом четырех банкнот, лежавших в кассе, просил дать мне одну купюру в десять долларов. Продавец выполнял мою просьбу, я забирал десятидолларовую банкноту и улепетывал, пока продавец не понял, что его одурачили. В большинстве случаев продавцы ни о чем не догадывались. К тому моменту, когда до них могло дойти что к чему, они уже и не были уверены в том, что их надули. Обман раскрывался лишь в конце рабочего дня, при пересчете наличности в кассе. Они уже были не в состоянии вспомнить обо мне. Естественно, если продавец быстро соображал и чувствовал, что что-то не так, я разыгрывал искреннее смущение, извинялся за ошибку и просил обменять купюры уже без обмана. Игра с обсчетом продавцов была потрясающе безобидна и срабатывала почти всегда.
Обучивший меня этому фокусу чернокожий брат потом стал мусульманином. Но еще до того, как он принял ислам, он показал мне, как обворовывать машины, припаркованные у больниц, там, где была «скорая помощь». Люди мчались в больницу в большой спешке и бросали свои автомобили незапертыми. Ценные вещи лежали на самом виду. Я никогда не грабил машины негров — ни при каких обстоятельствах. Зато обчистить машину белого значило нанести удар по несправедливости.
Всякий раз, когда мне удавалось раздобыть достаточно денег и когда у меня было свободное время, я оставался дома и читал книги, среди которых были «Преступление и наказание» Достоевского, «Замок» и «Процесс» Кафки, «Взгляни на дом свой, ангел» Томаса Вульфа. Я перечитывал Виктора Гюго — его «Отверженных», историю о Жане Вальжане. Герой романа просидел в тюрьме тридцать лет, осужденный за кражу булки хлеба. А он всего лишь хотел накормить голодных родных. Я по-настоящему прочувствовал эту книгу, потому что сравнивал себя с Вальжаном. Я думал и о моем отце как о человеке, тоже попавшем в своего рода тюрьму, которую для него устроило общество. У него была та же цель, что и у героя «Отверженных», — обеспечить свою семью всем необходимым. После прочтения «Постороннего» и «Мифа о Сизифе» Альбера Камю моя уверенность в том, что я поступаю правильно, отнимая собственность у угнетателя, еще больше окрепла. Мои действия служили противоядием от социального самоубийства.
Я воспринимал белых как преступников, потому что они грабили весь мир. Однако это чувство было несколько сложнее, чем просто ненависть без разбора, ведь у меня никогда не возникало желание причинить вред белым беднякам, несмотря на то, что некоторые из них обзывали меня в школе «ниггером» и еще по-всякому. Я дрался с ними, но никогда не брал пакеты с их обедом или деньги. Я знал: у них не было ничего, что помогло бы им стартовать в жизни. С теми, у кого водились деньжата, я обходился совершенно по-другому. В моих глазах обладание деньгами по-прежнему равнялось белому цвету кожи. Когда я брал то, что было моим, то, что белые преступники называли своим, это давало мне ощущение подлинной свободы.
Я расхваливал друзьям свой образ жизни. Бывало, они приходили ко мне, а у меня в доме было хоть шаром покати. Я говорил им, что, хотя и голодаю, зато я полностью распоряжаюсь своим временем и могу делать с ним все, что захочу. У меня не было машины, почти все деньги уходили на оплату квартиры, на покупку еды и одежды. Отвечая на расспросы друзей насчет того, почему я не обзавожусь собственным авто, я объяснял, что не желаю иметь дело со счетами и что машина не являлась главной целью моей жизни или моей заветной мечтой. Я поставил перед собой иную цель — добиться столько свободного времени, сколько возможно. Я мог бы гнуть спину, да еще и на нескольких работах, но мне даром были не нужны признаки закрепленного за тобой социального статуса. Больше всего на свете я хотел избежать жизни прислуги, который вынужден наниматься на низкооплачиваемую работу и на которого с презрением смотрит белый хозяин.
В конце концов, меня поймали за руку (попадался, кстати, я не раз). К тому времени я изрядно поднаторел в уголовном праве и решил защищаться на суде сам. Хотя я и не был профессиональным адвокатом, я мог составить неплохую защиту. Если ты экзистенциалист, самозащита становится для тебя еще одним проявлением свободы. Когда тебя приводят в суд, учрежденный Истэблишментом, ты можешь продемонстрировать там свое неуважение по отношению к системе. Большинство обвиняемых стремятся заполучить дорогостоящего адвоката или государственного защитника. Если ты отвечаешь сам за себя, ты можешь точно говорить то, что хочешь, или, по крайней мере, не говорить того, чего не хочешь. Ты вообще можешь посмеяться над ними. Как говорится в песне «Конец тишины», которую сочинила Элейн Браун из «Черных пантер»: «Глупая судьба обошла тебя стороной, но ты смеешься над законами, которые велят тебе возносить благодарность за то, что ты имеешь». Законы выдуманы для того, чтобы защищать владельцев собственности. Законы охраняют собственников, которые должны делиться с другими людьми, но не делятся. Защищаясь самостоятельно, я демонстрировал свое презрение ко всей этой структуре.
Защищать самого себя доставляло мне несравненное удовольствие. Я никогда не оценивал самозащиту как средство добиться оправдания, хотя ускользнуть из их сети было приятно. Но даже обвинительный приговор не страшил меня, потому что у меня была возможность хотя бы посмеяться над ними и выразить им свое презрение. Они видели, что я не дрожал от страха, а потому не выкладывал деньги для адвоката (деньги никогда не стояли у меня на первом месте) и отказывался от государственного защитника.
Особенно мне нравились разбирательства по делу о нарушении правил дорожного движения. Было время, я оплачивал штрафные квитанции одну за другой. Став собственным защитником, я раз и навсегда перестал платить штрафы. В трех главных случаях, когда я защищал себя, я проиграл лишь однажды, да и то был не виновен.
Как-то раз меня обвинили в совершении кражи через мошенничество, поймав на фокусе с обменом банкнот. В обвинении значилось шестнадцать пунктов, но я выиграл дело еще на этапе предварительного слушания, потому что полиция не смогла установить corpus delicti, т. е. состав преступления. В каждом законе существует свои элементы состава преступления. Преступление считается совершенным в том случае, если все элементы состава преступления налицо. Именно это называется corpus delicti. Людям порой кажется, что этот термин обозначает физическое тело, однако на самом деле это совокупность элементов преступления. К примеру, по законам штата Калифорния, вооруженное ограбление считается совершенным, если вооруженный человек производит грабеж, угрожая оружием или применяя его. В пистолете может не быть ни единой пули, однако ограбление будет признано состоявшимся. Состав преступления соответствует закону, где говорится об угрозе оружием или применении оружия.
Итак, меня обвинили в афере с обменом банкнот, другими словами, в мошенничестве. Согласно обвинению, я проделал свой фокус в шестнадцати магазинах. Однако полиции удалось получить показания лишь нескольких продавцов, признавшихся в недостаче. От вынесения приговора меня спасло на самом деле то, что полицейские пытались добиться и не добились свидетельских показаний от девушки, работавшей кассиром в банке. Многие люди никогда не признаются в том, что их вот так лихо провели с банкнотами, из-за чего потом случилась недостача. В ходе предварительного слушания дела, которое полиция хотела раздуть до федерального уровня, меня спросили, ходил ли я в банк. Я отказался это подтвердить. Я знал, что та молодая девушка, на которую рассчитывали полицейские, не показывалась в суде. После того, как меня выпустили под залог, я наведался в банк, где она работала. Я поинтересовался у девушки, были ли у нее полицейские. Она ответила утвердительно и добавила, что они старались убедить ее в том, что я ее обманул. Она сказала, что не могла свидетельствовать против меня, зная, что я ничего такого не делал. Я попросил девушку прийти в суд, чтобы выступить в мою защиту. Она явилась в суд и объяснила судье, что полицейские настойчиво уговаривали ее дать показания, но она не согласилась.
У меня был главный аргумент для своей защиты. Я сделал упор на желание полицейских во что бы то ни стало добиться для меня обвинительного приговора. Поэтому они намеренно завели на меня уголовное дело. Я обратил внимание судьи на следующий факт: продавцы, у которых была недостача, все равно ее обнаруживали — либо пока я еще находился в магазине, либо в конце рабочего дня. Однако никто из них не уведомлял об этом полицию. Полицейские выискивали таких продавцов, спрашивали, а не случалась у них недостача, и предлагали им заработать пять или десять лишних долларов — своего рода плату за свидетельские показания. Большинство людей, подытожил я, не настолько честны, как девушка-кассир из банка.
Второй довод, который я использовал для своей защиты, заключался в следующем. Если после меня кто-либо еще обменивал банкноты до подсчета наличности в кассе, вполне возможно и, скорее всего, так и обстояло дело, что недостача случилась не по моей вине. Денег могло не хватить и по другой причине. Так я добился освобождения за недостаточностью улик.
Что касается следующего серьезного судебного дела из трех, с которыми я столкнулся, то на этот раз меня обвинили в краже книг из магазина, находившегося неподалеку от колледжа, а также в том, что я взломал машину одного из студентов и прихватил и его книги. Студент сообщил в книжный магазин о краже своих книг. Служащие магазина стали отслеживать книги, подходящие под описание, которое дал студент. Я не брал этих книг, хотя они и оказались у меня на руках. В то время я без конца играл в азартные игры. Кое-кто из задолжавших мне деньги студентов расплачивался книгами. Книги шли за деньги потому, что их можно было продать в магазин, так как они были необходимы студентам для учебы. Я понятия не имел, откуда взялись эти книги, хотя у меня и мелькнуло подозрение насчет того, что они краденые.
Я подсчитал, что скопившиеся у меня книги потянут долларов на шестьдесят. Когда возникла нужда в деньгах, я послал свою двоюродную сестру в книжный магазин, чтобы продать книги. В магазине книги у нее отобрали, заявив, что они были украдены. Ей не дали никаких денег взамен. Я отправился в магазин сам. Я сказал тамошним сотрудникам, что они не имеют права конфисковывать принадлежащие мне книги без всякого на то законного основания. Им было известно, что я учился в колледже. Они также знали, что в любое время могут вызвать полицию. Но я уперся на своем и сказал, что, если они прямо сейчас не вернут мне книги, я наберу в магазине книг на сумму, равную стоимости моих, и не подумаю расплачиваться. Книги мне отдали, и я отправился на занятия.
По-видимому, магазин сообщил о случившемся в деканат, а оттуда уже вызвали полицию. В колледж прибыла городская полиция, и меня вместе с книгами отправили сначала в полицейский участок кампуса, после чего отвели в деканат. Никто не мог арестовать меня, ведь для этого не было никаких оснований. В магазине хотели подождать, пока студент, заявивший о пропаже книг, не опознает их, вернувшись из армии. Декан сказал, что даст мне расписку, но книги останутся у него до возвращения истинного владельца. О какой расписке могла идти речь, ответил я, если это были мои книги и мою собственность нельзя было отобрать у меня без постановления суда. В противном случае, это значило бы нарушения моих прав, закрепленных в Конституции. «Итак, — добавил я, обращаясь к декану, — если вы попытаетесь конфисковать мою собственность, то я попрошу полицейских арестовать вас». Полицейские застыли в растерянности и выглядели глупейшим образом, не зная, на что решиться. Декан сказал, что тот студент будет отсутствовать еще около недели. Декан хотел забрать у меня книги. Но я взял их со стола и заявил: «Я здесь учусь, так что когда у вас появится желание побеседовать со мной, я приду к вам». С этими словами я вышел из кабинета декана. Они не могли сообразить, что же такого сделать с бедным угнетенным негром, который разбирался в их законах и имел чувство собственного достоинства.
Против меня все-таки выдвинули обвинение. В суде я вновь защищал себя сам. Дело вращалось вокруг опознания книг. Студент знал, что у него похитили книги, в магазине тоже знали, что несколько книг у них пропало. Опознание так и не состоялось, но меня обвинили в краже. Перед этим я хорошенько припрятал книги, так что ни одна душа не могла бы их отыскать. В суд я пришел, естественно, без них. Меня вызвали в суд, хотя против меня не было никаких улик. Я выиграл дело, прибегнув к самозащите. Особенно мне помогли перекрестные допросы свидетелей.
На место для свидетелей вызвали женщину, которой принадлежал книжный магазин. В канун прошлого Рождества она приглашала меня к себе домой, и после этого я виделся с ней время от времени. Она порядком разозлилась, когда я не захотел продолжать с ней отношения. Я намеревался вывести ее на чистую воду, но как только я наметил эту линию в своих вопросах, судья счел мою попытку оскорбительной и прекратил процедуру допроса свидетельницы. Однако она уже успела разразиться рыданиями. По моим вопросам и реакции свидетельницы присяжным стало ясно, что у владелицы магазина были личные причины, чтобы свидетельствовать против меня.
На свидетельском месте оказался декан, и вот тут для меня началась настоящая работа. Хотя суду не были представлены в качестве доказательства якобы украденные мною книги, декан сказал, что похожие на пропавшие книги были у меня в тот день, когда полицейские привели меня к нему в кабинет. Я задал декану вопрос: «Так если полицейские находились прямо в вашем кабинете, почему же вы не арестовали меня тогда?» Он ответил, что не был уверен в своих правах. Этого признания я и добивался. «Вы хотите сказать, — спросил я декана, — что вы учите меня, посещающего ваш колледж, правам, не зная даже ваших собственных прав? Вы преподаете мне, а сами не имеете представления об основных гражданских правах?» Затем я повернулся к присяжным и указал им на эту вопиющую странность. Судья пришел в ярость и чуть было не обвинил меня в оскорблении суда. На самом деле, я действительно выражал презрение, причем не только по отношению к суду. Вся их система эксплуатации вызывала у меня негодование. Зато я начинал понимать ее все лучше и лучше.
Я хорошо знал, о чем подумали присяжные, услышав, как декан расписался в незнании собственных прав. Я использовал его невежество в свою пользу. У людей автоматически возникла следующая мысль: «Получается, что вы, профессор колледжа, не знаете чего-то простого и основного?» Заронив эту мысль в сознание присяжных, я добился того, что они не приняли показаний декана.
Присяжным я сказал, что собираю книги и торгую ими. У меня нашлось несколько экземпляров, похожих на те, которые были внесены в обвинительный акт, — те же названия, авторы и т. д. Присяжные изъявили желание посмотреть на книги. Я сказал судье, что мог бы сходить домой за ними. Судья ответил, что невозможно было остановить заседание (а меня обвиняли в совершении судебно-наказуемого проступка), чтобы отпустить меня домой за книгами. Мой план сработал — присяжные не пришли к единому решению.
Пришло время второго слушания. На этот раз я принес книги в суд, однако не нашлось ни одного человека, способного удостоверить их принадлежность. У меня было несколько разных книжек тех же авторов и с такими же названиями, что у тех, которые считались украденными. На книги я нанес одинаковые пометки. Ни студент, заявивший об ограблении своей машины, ни декан, ни владелица книжного магазина — никто из них не мог сказать точно, были это те самые книги или нет. Они твердили, что книги были вроде бы похожи или те же самые, но особой уверенности в их голосе не слышалось.
Я обратил внимание присяжных на эти колебания. Все, что я знаю, сказал я, это лишь то, что я купил эти книги у знакомого. Я сказал присяжным, что не крал этих книг. Наоборот, я предоставил их суду, чтобы выяснить, принадлежат ли они людям, выдвинувшим против меня обвинение. И вновь присяжные не вынесли единого решения.
Меня вызвали в суд третий раз. Результат был тот же. На четвертый раз судья закрыл заседание. Снова и снова меня вызывали в суд. Дело тянулось целых девять месяцев, обремененное многочисленными отсрочками. Присяжные никак не могли прийти к единогласному решению. Я подвергался настоящему преследованию, ведь я не был вором. Кажется, они пробовали добиться успеха за счет замены прокурора. Обвинитель менялся чуть ли не на каждом слушании, все болваны-юристы из Аламедского округа сунули нос в мое дело, но они ничего не добились. Я смотрел им прямо в глаза и не отступал.
Третий серьезный случай, из которого мне пришлось долго выпутываться, произошел на вечеринке. Я отправился туда с Мелвином. Вечеринка проходила в доме человека, осуществлявшего надзор за условно осужденными. Он учился в колледже Сан-Хосе вместе с моим братом. Мелвин был немного знаком с некоторыми из гостей. Большинство из них было так или иначе связано между собой через родственные отношения или брачные узы. Мелвин и я были здесь чужаками. Как обычно, я начал беседу на разные темы. Оттого, удавалось мне завести настоящий мужской разговор или нет, напрямую зависело, насколько мне понравится очередная вечеринка. Этому способу набирать новых людей я научился в Ассоциации афро-американцев. Так я привел в Ассоциацию немало «деклассированных элементов».
Порой эти мужские разговоры заканчивались дракой. Все происходило почти так же, как десять лет назад, когда мы играли в «дюжину», хотя теперь основной темой стали идеи, а не матери. Парень, способный задать самый удачный вопрос, продемонстрировав тем самым глубокое понимание дела, а также умение задавать самые блестящие ответы, побеждал или «перекрывал» остальных. Иногда, когда кто-нибудь проигрывал или «был повержен» и хотел подраться, я доставлял ему такое удовольствие. Все повторялось в точности, как в детстве. Если случалась хорошая беседа и отличая драка, то я считал, что вечер не прошел для меня даром.
Пока мы разговаривали, к нам подошел парень, назвавшийся Оделом Ли, и вступил в нашу беседу. Я не был с ним знаком и впервые увидел его чуть раньше на этой же вечеринке, когда он танцевал. Но я ходил в колледж вместе с его женой Марго. Она тоже присутствовала среди гостей. Итак, Одел вклинился в наш разговор и сразу спросил меня: «Ты, должно быть, афро-американец?» «Я не понимаю, что ты имеешь в виду, ответил я. — Ты спрашиваешь меня, являюсь я потомком африканских негров или членом Ассоциации афро-американцев под руководством Дональда Уордена? Если ты хотел узнать о последнем, то отвечу, что к Ассоциации не принадлежу. Но если ты интересуешься моим происхождением, то я действительно афро-американец, как и ты». Он сказал что-то по-китайски, а парировал на суахили. Тогда он спросил меня: «Ну и почем ты знаешь, что я афро-американец?» «Да очень просто, — сказал я. — У меня отличное зрение, поэтому я вижу, что твои волосы так же курчавятся, как и мои, лицо у тебя черного цвета, как и у меня. Отсюда я прихожу к выводу, что ты должен быть тем же, что и я, т. е. афро-американцем».
Закончив свои рассуждения, я отвернулся и стал резать бифштекс, что лежал на моей тарелке. Я был единственным в комнате, у кого был нормальный нож для мяса. Все остальные пользовались пластмассовыми ножами и вилками, а я сходил на кухню за обычным ножом, потому что мясо было жестковато и трудно резалось тонким ножом из пластмассы. Я высказал свои точку зрения и повернулся к Оделу Ли спиной, словно заставлял его замолчать. Собеседник расценил мое движение как провокацию.
Лицо Одела от уха до самого подбородка пересекал шрам, и это было определенным признаком. В квартале тебе приходится иметь дело со множеством парней со шрамами — точь-в-точь как у Ли. Обычно шрам на лице означает, что перед тобой человек, который видел немало драк, где сверкали ножи. Не всегда так оказывалось на самом деле, но, если ты пытаешься выжить, то поневоле учишься обращать внимание на мелочи.
В общем, я повернулся к Ли спиной и начал резать мясо. Нож был у меня в правой руке. Ли схватил меня за другую и резко развернул, после чего зажатый у меня в руке нож оказался нацелен прямо на него. «Не поворачивайся ко мне спиной, когда я с тобой разговариваю», — произнес он. Я сбросил его руку. «Только попробуй распустить руки еще раз», — ответил я, вернувшись к бифштексу.
Обычно я не поворачивался спиной второй раз к человеку, похожему на «крутого быка», а у этого парня все признаки «крутости» и «быкования» были налицо. Но мне показалось, что обстановка никак не располагает к драке. В большинстве своем присутствовавшие были людьми с профессией или учились на кого-то. Парень со шрамом не очень подходил к этой компании. К тому же мы были не на улице в квартале, и мне пришло в голову, что шрам, возможно, ни о чем еще не говорит. Однако совершенно неожиданно Одел Ли повел себя, как типичный хулиган. Теперь он хотел показать всем, что еще не закончил со мной. Чернокожему буржуа тот факт, что я второй раз повернулся к нему спиной, недвусмысленно говорил, что разговор закончен. Но «крутой бык» ответил по-своему.
Он развернул меня к себе повторно, напряжение возрастало. «Ты, должно быть, не знаешь, с кем разговариваешь», — угрожающе сказал Ли, в то время как его левая рука потянулась к заднему карману брюк. Я смекнул, что мне следовало бы поторопиться. Как известно, лучшая защита — это нападение. Действуя инстинктивно, я опять направил на Одела нож. Я предупредил его, чтобы он не вздумал вытаскивать нож, и сделал взмах своим. Я нанес Ли несколько ударов, прежде чем он смог задействовать свою левую руку. Он вцепился в меня правой рукой и постарался перейти в нападение, но я оттолкнул его. Я все еще не видел, что там делала его левая рука. Вместе с тем я был готов получить удар в любой момент и намеревался отправить противника в нокаут.
Мелвин ухватился за правую руку Ли и оттащил его в угол. Там он упал, истекая кровью, но затем поднялся и стал опять приставать ко мне. Мой нож оставался наготове. Мелвин тут же вклинился между нами, и Ли, потеряв сознание, свалился к моему брату на руки. Мелвин забрал нож, и мы обернулись к остальным людям, обступившим нас. Кто-то спросил, зачем я порезал Одела. Мелвин ответил за меня: «Он порезал этого парня, потому что был должен». С этими словами мы вышли из комнаты. Мелвин хотел, чтобы я выдвинул обвинение против Одела, но я бы ни за что не пошел в полицию.
Через пару недель Одел ли сам выдвинул против меня обвинение. Не понимаю, почему он тянул так долго, возможно, несколько дней он провалялся на больничной койке. Может быть, он просто был в раздумьях и колебался. Я знаю, что он болтал о том, как бы со мной разобраться; я также слышал, что жена уговаривала его выдвинуть вместо этого обвинение. На мой взгляд, Одел Ли не относился к тем людям, которые идут в полицию по своей воле. Я воспринимал его как парня, который, скорее, станет самолично меня разыскивать, чтобы разобраться прямо на месте. Когда он передал мне, что из-под земли меня достанет, я начал носить при себе оружие. Но до перестрелки дело не дошло. Меня просто арестовали по обвинению в нападении с применением смертельного оружия. После того, как я отказался признать себя виновным, я предстал перед судом присяжных. Защищался опять сам.
Я был признан виновным по обвинению, но это лишь потому, что в жюри присяжных не хватало равных мне по расовому, социальному, культурному и т. п. статусу людей. Главный упор в защите я сделал на свою невиновность. Я настаивал на том, что был невиновен как по законам белых, так и по обычаям, принятым в негритянской общине. Я не отрицал, что ударил Одела Ли ножом, этот факт я признал. Однако согласно закону, если человек видит или ощущает неизбежную опасность грозящую обернуться тяжкими телесными повреждениями или смертью, он может воспользоваться чем угодно в целях самообороны. Если противник будет убит, то в данной ситуации убийство становится оправданным. К этому разделу Уголовного кодекса Калифорнии почти невозможно апеллировать, если ты не принадлежишь к эксплуататорскому классу. Угнетенные не имеют одного шанса воспользоваться законом о самообороне, а все потому, что выступающие в роли присяжных люди всегда думают одно и то же. По их мысли, для самообороны ты можешь использовать что-нибудь полегче. Они просто не видят или не понимают, насколько реальна опасность.
Похожие на меня присяжные адекватно оценили бы ситуацию и оправдали бы меня. Но в Аламедском округе присяжные приходят в суд из больших домов, красующихся на холмах, чтобы вершить правосудие над людьми, в которых они чувствуют угрозу их «миру». Для таких присяжных шрам на лице человека из негритянского квартала ничего не значит. Одел ли твердо стоял на том, что заработал свой шрам в автомобильной аварии. При определенных условиях это могло бы сойти за правду. Но если взять все в одном контексте — поведение Одела на вечеринке, движение его руки к карману, да еще его шрам — то мои присяжные ни за что не вынесли бы мне приговор.
Бобби Сил прекрасно иллюстрирует эту ситуацию в книге «Схватить время». Ты можешь прийти на вечеринку, нечаянно наступить кому-то на ногу и извиниться. Если твои извинения приняты, ничего плохого не случится. Если же ты услышишь что-то вроде «извинения не вернут блеск моим ботинкам», то ты понимаешь, что на самом деле тебе хотят сказать другое: «Я собираюсь отметелить тебя». Тебе остается лишь защищаться, и нанесение первого удара будет в этом случае защитой, а не нападением. Ты стараешься добиться преимущества над противником, объявившим тебе войну.
Формирование жюри присяжных из людей равного с подсудимым социального статуса связано с различиями, существующими между разными образами жизни. Если обвиняемым оказывается водитель грузовика, разве я говорю, что присяжными должны быть исключительно шоферы? Точно также жюри, в котором одни лишь белые расисты, не может судить белого расиста. Тем не менее, в такой судебной системе, где обвиняемый полностью отсекается от присяжных, скрыто внутреннее противоречие. В зависимости от принадлежности к общей культуре и определенному образу жизни одни и те же слова в Америке употребляются с различным смысловым оттенком. Все живут в одном обществе, но оказываются в разных мирах.
Меня признали виновным в совершении уголовного преступления — в нападении с применением смертельного оружия. На первых мне грозило длительное тюремное заключение. До и во время судебного разбирательства я был отпущен под залог. Так продолжалось несколько месяцев. Я являлся в суд каждый раз в положенный срок, однако после вынесения приговора судья сразу же решил не выпускать меня больше под залог, а отправить меня под надзор судебного пристава, пока будет определяться срок моего наказания. Этого мне не хотелось, и я потребовал отправить меня в тюрьму немедленно. Судья сказал, что, если он вынесет решение о сроке заключения прямо сейчас, то меня отправят в государственное исправительное учреждение. Я ответил, пусть посылают, чтобы срок начала засчитываться немедленно. Судья отказался и спросил меня, понимаю ли я, о чем говорю. «Я-то знаю, что говорю, — ответил я. — Вы признали меня виновным, хотя на самом деле я не виновен. И теперь я не имею ни малейшего желания ждать почти месяц, пока вы будете думать, а для меня время остановится». Для меня время не замирало, оно было наполнено жизнью. Если судье потребуется месяц на обдумывание решения, он отпустит меня под залог — так я предполагал. Но я ошибся. Судья отослал меня в окружную тюрьму Аламедского округа, которую мне предстояло узнать очень хорошо.
Пока я ждал окончательного приговора, моя семья наняла адвоката, чтобы тот представлял мои интересы на заключительном слушании. Судью звали Леонард Дайден. Он не жаловал адвокатов, а подсудимым оказывал еще меньше уважения. Этот судья отправил в исправительные учреждения столько народа, что часть тюрьмы Сан-Квентин прозвали «ряд Дайдена». Я был против привлечения адвоката. Я чувствовал, что адвокат делу не поможет. Несмотря на мои протесты, адвоката мне все-таки наняли. Он запросил у моей семьи 1.500 $ за то, чтобы появиться в суде один-единственный раз. Когда меня привели в суд, адвокат был уже тут как тут. Сработала «магия его белой кожи» — судья приговорил меня к шестимесячному заключению в окружной тюрьме. Хотя я обвинялся в уголовном преступлении, срок мне назначили, как за судебно-наказуемый проступок. Это послабление выйдет мне боком, уже потом, на самом серьезном судебном процессе в моей жизни. По закону, если сокращается срок наказания, то и уголовное преступление уже не считается таковым. За совершение уголовного преступления обвиняемый приговаривается, по меньшей мере, к годичному заключению в исправительном учреждении, а самое большее — к пожизненному заключению или к смертной казни. Максимальное наказание, которое можно получить за судебно-наказуемый проступок, — это один год в окружной тюрьме.
13. Любовь
…любая женщина, какой бы она ни была исключительной, мечтает услышать от мужчины, по крайней мере, обещание великолепных дней, счастливого завтра. А у меня нет будущего.
Джордж Джексон. Брат из СоледадаОтношения, складывавшиеся у меня с женщинами, можно назвать сложными или странными — это как посмотреть. На формирование моего отношения к противоположному полу оказывалось разнообразное влияние: и со стороны родителей, и со стороны христианства, и со стороны моих старших братьев. Потом свою лепту внесло чтение книг и знакомство с теориями Ричарда Торна. Противоречивость этого влияния не могла не сказаться на моих чувствах к женщинам и на моих увлечениях. Напряженные моменты в отношениях не исчезли до тех пор, пока на место проблем в личной жизни не пришли заботы о «Черных пантерах». Р
аньше, по молодости лет, я безоговорочно принимал институт брака. Становясь старше, наблюдая, как выбивается из сил отец, пытаясь обеспечить жену и семерых детей, вынужденный работать в трех местах сразу, я стал приходить к мысли о том, что буржуазная семья может пленить, поработить и попросту задушить человека. Несмотря на горячую любовь родителей и счастье, обретенное ими в совместной жизни, я ощущал, что вряд ли смогу выдержать связывающие по рукам и ногам брачные обязательства со всеми их тревогами и материальными трудностями. В малообеспеченных слоях населения общественные условия и экономические кризисы зачастую превращают брак в отягощенные проблемами отношения, которые вот-вот развалятся. Сильные чувства, связывающие мужа и жену, помогают сопротивляться внешнему давлению, но такие случаи все-таки большая редкость. Чаще всего брак приносит с собой дополнительные оковы человеку, который и без того оказался в социуме, ставшим для него тюрьмой.
Мои сомнения насчет женитьбы укрепились после знакомства с Ричардом Торном. Его теория об отсутствии собственнических отношений в любви оказалась привлекательной для меня. Идея о принадлежности одного человека другому, как это получалось в буржуазной семье, — «это моя женщина, а это мой мужчина» — была для меня неприемлема. Такие отношения слишком ограничивают, слишком связывают человека и, в конечном итоге, становятся разрушительными для самого союза. Нередко брак забирает у мужчины всю энергию, не оставляет ему свободы для развития потенциальных способностей, для проявления творчества или для того, чтобы внести вклад в другие сферы жизни. Семья — это бремя для мужчины. Такое утверждение развивает Бертран Рассел, критикуя институт семьи и брака. Я был очень впечатлен его наблюдениями, и моя убежденность в неизбежных недостатках общепринятых семейных отношений окрепла.
Чем больше я читал и думал на эту тему, тем сильнее хотел остаться холостяком. Я не жалею об этом решении, хотя оно не раз причиняло мне боль и время от времени провоцировало ссоры, делало несчастным и меня, и некоторых женщин, которых я любил.
Настало время, и я съехал из общежития для малоимущих студентов. У меня появилась своя квартира, а также — несколько привлекательных девушек, влюбленных в меня. Я отвечал им взаимностью. Какое-то время я принимал от них ласки и деньги, но лишь после того, как объяснил им, что наши отношения ни к чему серьезному, скорее всего, не приведут, поскольку я был не готов идти по давно проложенной дороге брака. Я объяснил, что им придется согласиться на определенные вещи, если они хотят быть со мной. Я никогда не принуждал их и не уговаривал. Когда я был у них в гостях, то заявил, что ни в коем случае не собираюсь их переубеждать. Кроме того, я растолковывал им принцип свободных отношений, которого я придерживался. Я свято верил в то, что, если был свободен я, то были свободны и мои возлюбленные, иначе говоря, они могли иметь отношения с другими мужчинами. Я заверил своих девушек в их полной свободе, но кое-что оговорил при этом. Точно такие же отношения девушки не должны были завязывать ни с кем другим, независимо от количества партнеров, которые были у всех нас. На мой взгляд, подобного рода отношения позволяли сохранять мне свободу. У меня могло быть три-четыре девушки, причем не было необходимости тщательно скрывать от каждой из них факт существования других.
Я жил один. Мы с моими девушками могли все вместе собираться у меня на квартире. К нам присоединялся Ричард с друзьями. Из нас получилась почти что всамделишная секта. Мы пропагандировали идеи, которыми увлекались, в Оклендском городском колледже и в Беркли еще до того, как представления о «шведской семье» завоевали популярность. Я бы даже сказал, что это стало началом Лиги сексуальной свободы, ведь, создавая ее, Торн использовал именно опыт нашей компании. Наши эксперименты казались девушкам очень необычными и романтичными. От меня с Торном они приходили в полный восторг. Основанием наших отношений служила взаимная честность и отказ от ревности. В течение какого-то времени я и Ричард имел отношения с несколькими женщинами, выясняя, справятся ли они и не потянет ли их назад, к прежним ценностям, которые мы, умудренные не по годам, находили морально устаревшими и насквозь буржуазными, а, кроме того, вредными для психики.
Хотя наши эксперименты во многом держались на новом осмыслении института семьи и брака, с другой стороны они оборачивались эксплуатацией. Я совершенно серьезно относился к нашей с Ричардом попытке проверить идеи практикой, но в то же время чувствовал, что мы откровенно пользуемся женщинами. Последние оплачивали мне жилье, готовили есть и делали для меня множество других вещей, а между тем любые деньги, попадавшие мне в руки, так у меня и оставались.
Где-то в это же время я баловался мелкими вооруженными ограблениями вместе со своими «криминальными партнерами». Мы прятались на парковках дорогих клубов для белых, поджидая посетителей, покидавших клуб. Мы забирали у них меховые накидки, бумажники, кольца и часы. Я никогда не испытывал желания практиковать это в крупных масштабах. Все, чего я добивался, — это свободного времени, которое я мог потратить на чтение книг и занятия любовью. У меня был идеал, и я его достиг: я хотел, чтобы рядом со мной было несколько женщин, и они действительно были. Теперь, по прошествии лет, это время, когда я был «свободен» делать все, что вздумается, кажется мне каким-то «божественным опытом».
Без внутреннего конфликта, впрочем, не обошлось. Пользуясь женщинами, я был вынужден подавлять в себе некоторые ценности, не оставлявшие меня в покое. Возможно, они вытекали из христианских заповедей, которые мне внушали с самого рождения. Может, все дело было в традиционной морали. Но вернее всего, причиной конфликта стало мое нежелание относиться к другому человеческому существу как к объекту. Я ощущал необходимость объяснить женщинам, в каком невыгодном положении они оказывались, соглашаясь на мои условия. Этот факт доказывает, что я нуждался в своеобразном защитном механизме против чувства вины, которое меня мучило. И все-таки женщины обеспечивали мне свободу, жертвуя своими обычными представлениями о муже и семье.
Я любил немало женщин, но мысль о женитьбе возникала у меня лишь дважды. Но даже после серьезных размышлений я не смог дойти до конца. Каждый раз, чувствуя, что женщина стала мне по-настоящему близка, я знал, что наши отношения скоро закончатся. Я мог любить очень сильно, однако мои чувства теряли значение, поскольку я был не в силах разделить жизненные цели любимой девушки, если они вели к компромиссу с обществом.
Какое-то время я пытался работать сутенером, но это занятие вносило не меньший раздор в мою душу. Стоило мне свести с парнем чернокожую девушку, т. е. мою чернокожую сестру, как помимо воли я начинал воображать всякие ужасы, ассоциировавшиеся с жизнью рабов, например, белых расистов, этих собак, насилующих чернокожих женщин. Я стал понимать, что мое сознание не может смириться с тем, чем я занимаюсь. Тогда я решил перейти на белых девушек, ведь они были из стана «врагов». После удачи с белой женщиной я продолжал испытывать внутренний дискомфорт и пришел к выводу о том, что никогда не смогу зарабатывать на жизнь сутенерством. В случае с чернокожей женщиной я испытывал стыд, так как продавал тело своей сестры. Что касается белых женщин, то тут меня сжигал не стыд, а чувство вины, потому что я становился угнетателем. У меня была «слабость» к женщинам, я просто не мог быть грубым с ними. Я всегда отождествлял себя с ними и искренне их любил. Сутенерством я занимался всего лишь девять месяцев.
И тогда я встретил Долорес. Мы были вместе пять лет, пока я не попал в тюрьму, поранив Одела Ли. Медленно и незаметно я влюблялся в нее все больше и больше, чувствуя, что такой любви со мной еще никогда не случалось. Долорес были свойственны качества, которые резко отличали ее от всех других женщин. Она была совершенно особой, неповторимой. Необыкновенно привлекательная, эта девушка афро-филиппинского происхождения являла собой пример женщины-ребенка. Он проживала жизнь со всей страстью, на какую была способна, и к тому же была свободна духом. Жизнь с Долорес была спонтанной, непредсказуемой и полной сюрпризов, потому что у нее было сознание импульсивного и непослушного ребенка. Порой, когда я был погружен в чтение или в размышления, она неслышно подкрадывалась и прыгала мне на спину. Она обожала шутливые драки и играла довольно агрессивно. Нам с Мелвином частенько приходилось отступать под градом мелких камней, которые посылала в нашу сторону Долорес, заходившаяся победным смехом и язвившая на наш счет.
Контрастная по натуре, Долорес не была лишена глубоких переживаний. Она была способна не только на детские шалости, но и на более серьезные вещи. Долорес обладала необычным даром — она тонко чувствовала язык, речь, различая малейшие нюансы в значении слов. Она сочиняла коротенькие стихи, которые мне казались просто замечательными. В ее стихах отражалось осознание недолговечности всех переживаний человека, находило выход чувство отчаяния, подстерегающее всех влюбленных. Вот одно из стихотворений, которое Долорес написала для меня:
Вместе нас двое, Без тебя я мертва. Лучше я перестану существовать, Чем буду обманута Одним из тех, благодаря кому я живу.Наши отношения были проникнуты напряженным противоречием. Я мог жить с Долорес, но только без создания традиционной семьи. Пока мы были вместе эти пять лет, мы то и дело расходились, правда, не больше, чем на три месяца. Некая сила всегда притягивала нас обратно друг к другу. Несмотря на всю свою схожесть с ребенком, Долорес была во многих отношениях зрелой женщиной. Она умела работать без устали и горела желанием обеспечивать нас. Она действительно понимала и принимала мою проблему.
Я никак не мог обрести душевное равновесие. Во мне продолжало жить стремление вести себя так, как положено мужчине в нашем обществе. Пару раз я даже пытался следовать общепринятым канонам, но безуспешно. Однажды я нанялся на стройку. Потом два сезона отработал на консервном заводе. Но не мог я работать регулярно все время! Мысль о женитьбе на Долорес довольно часто посещала меня, но в этом случае от меня потребовалось бы смириться со всеми сопутствующими семейной жизни обстоятельствами, да еще когда тебя угнетают со всех сторон. Если два человека живут вместе и их отношения уже нельзя назвать мимолетными, то здесь необходимо обеспечивать определенную стабильность. При появлении детей они должны жертвовать своим временем, чтобы добиться надежности и стабильности. Я боялся всего этого.
Многие из моих ровесников женились с надеждой устроиться на приличную работу, которая позволила бы им содержать семью в достатке. Однако вскоре их браки лопнули по швам: семейная жизнь стоила очень дорого, а работу им удавалось найти чисто лакейскую. В итоге все свое время они тратили, надрываясь на работе, причем заработанных денег хватало лишь на самое необходимое. Их мечты разбились вдребезги, столкнувшись с жестокой реальностью. Я представил себя на их месте и не захотел подобной участи — увольте! Отвергая традиционный брак и семью, я сохранял свою «свободу», но лишался той особой близости, которую могут подарить только отношения с женщиной, а этот опыт ни в чем не уступает ощущению свободы и, может быть, даже превышает его.
Я не мог сделать окончательное предложение Долорес, и из-за этой моей неспособности, в конце концов, случилось несчастье. Проведенные вместе годы, возникшая между нами близость сделали Долорес очень зависимой от наших отношений, хотя так или иначе я пытался сохранять свободу действий. Одним из способов считать себя свободным была связь с другой женщиной. Однажды вечером я привел свою знакомую в дом к родителям, и тут неожиданно появилась Долорес. Я ушел с другой, оставив Долорес дома. Часа в два ночи я все-таки расстался с этой женщиной и вернулся к себе на квартиру. Долорес там не было. После нескольких сумасшедших звонков я, наконец, позвонил ее кузине, которая жила неподалеку. Она сказала мне, что Долорес приняла сорок таблеток снотворного. Я бросился к кузине и нашел у нее Долорес. Она лежала без сознания. Приехала «скорая помощь» и отвезла ее в больницу. Было неясно, успеют ли врачи помочь ей. Я со всех ног помчался в больницу. Долорес была жива.
Я должен был заметить нависшую над Долорес опасность. В отдельных ее стихах проскальзывал порыв к саморазрушению. В одном из них мрачные мотивы и отчаяние выражены особенно ярко:
Вылетая из моей души, голуби Отбрасывают тени на стене. Каннибал, живущий в моих мыслях, Не оставляет уголка воображению. Мне жаль, что так.В конечном счете, опыт с Долорес укрепил мое убеждение в том, что требования, которые любящие люди выставляют друг другу, могут изуродовать и разрушить их взаимоотношения. И уже неважно, насколько сильна любовь, потому что характерные для нашего общества ценности, будто специально, оказывают дополнительное и к тому невыносимое давление на союз любящих людей. Брак и семья не свободны от противоречий, что делает эти институты нежизнеспособными.
Партия «Черная пантера» разрешила для себя эти противоречия, выработав альтернативную систему ценностей и свой уклад партийной жизни. Сплоченность группы и разделяемая всеми членами цель партии превращает нас в гармоничное и жизнеспособное образование, усилия которого направлены на уничтожение общественных условий, заставляющих людей страдать. Объединившись, мы уже не могли пойти на компромисс с системой; нас связывают близкие отношения и любовь, словно мы все — одна семья, и всех нас, несмотря на суровые обстоятельства, вдохновляет воля к жизни. Самосознание — это первый шаг к установлению контроля над ситуацией. Как группа мы чувствуем себя свободными; мы знаем, что доставляет нам беспокойство, и мы не сидим сложа руки — мы действуем.
Буржуазные ценности определяют, какими должны быть семейные отношения в Америке, задают цели, к которым стремятся вступившие в брак. Угнетаемые и испытывающие нужду люди тоже пытаются достичь этих целей, но терпят неудачу по причине самих условий, созданных буржуазией. Вот в чем заключается дилемма. Нам нужна семья, ведь каждый человек, будь то мужчина или женщина, заслуживают душевную поддержку и участие, а также ощущение единства, которые дает семья. Чернокожие делают попытку реализовать установленные доминирующей культурой цели и терпят поражение, сами не зная почему.
И как же выйти из подобной ситуации? Остаться за пределами системы и жить в одиночку? Я обнаружил, что держаться в стороне — значит быть отчужденным и несчастным. Партия стала для нас семьей, сражающейся и полной жизненных сил семьей. Мы избавились от романтических выдумок о том, что нужно жениться и жить долго и счастливо после приобретения домика за белым забором. Мы сделали свой выбор: мы живем вместе ради общего дела, и одной командой мы боремся за наше существование и наши цели. Сейчас у нас есть близость, гармония и свобода, которые мы так долго искали.
Часть третья
Мы считаем, что чернокожие не обретут свободу до тех пор, пока мы не будем способны определять свою судьбу сами.
14. Свобода
Запертый в тюрьме, окруженный со всех сторон тюремными стенами, мой разум все-таки свободен… Что если бы человек был так устроен, что потеря чего-нибудь нематериального могла вызвать у него умственное расстройство? Это свободный фактор.
Джордж Джексон. Брат из СоледадаТюрьма — довольно странное место для поиска свободы, но именно там я впервые обрел свою свободу. Случилось это в 1964 году, в Аламедской окружной тюрьме. Эта тюрьма находится на десятом этаже окружного суда, огромного здания белого цвета. Мы прозвали его «Моби Дик».[32] Когда меня несправедливо обвинили в нападении на Одела Ли, судья Дайден отправил меня в окружную тюрьму до вынесения окончательного приговора. Через некоторое время своим примерным поведением я заслужил определенные привилегии, в том числе и право свободно перемещаться по тюрьме. Условия, в которых нас держали, были не слишком хороши. Спустя несколько недель после моего прибытия в тюрьме разразилась голодовка: заключенные отказались есть крахмальную баланду и гороховый суп почти каждый раз. Я присоединился к участникам голодовки. Когда нам принесли надоевший суп, мы выплеснули содержимое мисок через решетки, прямо на стены, протестуя против того, что нас заперли в камерах.
Среди участников акции протеста я был единственным привилегированным заключенным. Поскольку я мог передвигаться между камерами, меня обвинили в организации всей голодовки. Действительно, я передал несколько записок из одной камеры в другую, но я не был зачинщиком голодовки, да и записки мало что значили для тюремной администрации. Дело было в другом. Считается, что привилегированные заключенные должны во всем сотрудничать с Истеблишментом. Я не оправдал этих ожиданий, поэтому мне пришили ярлык подстрекателя и посадили в карцер, или «душегубку», как называют ее чернокожие заключенные.
Мне было двадцать два года. Я уже сидел в тюрьме по самым разным поводам, в большинстве случаев — за кражи со взломом и мелкое воровство. Родители были по горло сыты мною и моим поведением, так что я мог рассчитывать лишь на Сонни-мэна. Мне нужно было, чтобы он приезжал из Лос-Анджелеса или откуда-нибудь еще и вносил за меня залог. Памятуя о том, что меня «отдали» ему в детстве, он приезжал, когда мог. Правда, порой я был не в силах его отыскать. В любом случае, я был не новичком в тюрьме, попав туда в 1964 году, хотя раньше я никогда не сидел в одиночной камере.
Тюрьма была поделена на четыре части: главная линия, отдельные камеры, изоляторы и одиночки — эти самые «душегубки». Находясь в тюрьме, можно еще раз попасть в тюрьму, но оказаться в «душегубке» значило дойти до последнего предела мира. В 1964 году таких камер в Аламедской окружной тюрьме было две, каждая по четыре с половиной фута шириной, шесть футов длиной и десять футов высотой. Пол камеры был покрыт темно-красной резиновой плиткой, стены были черного цвета. Если бы охранники захотели, они могли бы включить в камере свет. Но меня постоянно держали в темноте и к тому же обнаженным. Лишение одежды было частью наказания, вот почему «душегубку» еще называли камерой для стриптиза. Иногда заключенному из соседней камеры выдавали одеяло, однако я никогда не удостаивался подобной чести. Временами соседу давали туалетную бумагу (норма была два куска), он клянчил еще, но ему отказывали, потому что и это было частью наказания. В «душегубке» не было ни койки, ни раковины, ни туалета — ничего, лишь голый пол, голые стены, прочная стальная дверь и круглое отверстие в центре пола четыре дюйма диаметром и шесть дюймов глубиной, предназначенное для естественных нужд заключенного.
Полгаллона воды,[33] налитой в картонную коробку из-под молока, выделяли мне на неделю. Дважды в день и всегда по вечерам охранники приносили маленькую чашку холодной гороховой похлебки, прямо из консервной банки. Иногда днем они приносили «фруктовую булку» — пирожок из вареных овощей, скатанных в небольшой шарик. Я впервые попал в «душегубку» и хотел есть, хотел сохранить здоровье, но очень скоро до меня дошло, что кормежка была не чем иным, как еще одним издевательством, ведь если я ел, то должен был испражняться. Ночью в камеру не проникало ни одного лучика света. Я даже не мог отыскать отверстия в полу, когда в этом возникала неотложная необходимость. Доходя до полного отчаяния, я искал отверстие на ощупь, и каждый раз моя рука ощущала накопившиеся там фекалии. Я напоминал себе слепого крота, тыкающегося носом во все стороны в поисках солнечного света. Как я ненавидел эти мгновения, когда мои пальцы нащупывали отхожую дыру! Через несколько дней углубление в полу заполнялось до отказа и его содержимое переливалось через край, так что мне приходилось лежать в собственном дерьме. Раз или два в неделю охранники приносили в камеру шланг и промывали отверстие. На некоторое время после «уборки» в камере сохранялся свежий воздух, и я мог вдохнуть полной грудью. Мне сказали, что не пройдет и пары недель, как я сломаюсь. Большинство попавших в «душегубку» не выдерживало. Проведя в такой камере два-три дня, заключенные начинали кричать и молить о том, чтобы кто-нибудь пришел и забрал их оттуда. В камеру приходил начальник и говорил страдальцу: «Мы вовсе не хотим держать тебя здесь. Выходи и веди себя, как положено, и не будь таким самонадеянным. Мы будем обходиться с тобой по справедливости. Пути здесь широкие». По правде говоря, по истечении двух-трех дней я и сам был в плохой форме. Почему я не сломался, ума не приложу. Возможно, из-за упрямства. Я не хотел умолять о пощаде. Естественно, мое сопротивление не имело тогда отношения к какой-нибудь идеологии или программе. Это придет позже. В любом случае, я не закричал и не стал унижаться. Я познавал секреты выживания.
Один из секретов я перенял у Махатмы Ганди:[34] есть нужно было по чуть-чуть, чтобы только поддержать силы, но в то же время чтобы на протяжении двух недель не возникало желания сходить в туалет. Благодаря такому ухищрению мне удавалось сохранять относительно чистый воздух в камере и не допускать переполнения отверстия. Точно так же я поступал и с водой: пил маленькими глоточками через несколько часов. Организм впитывал всю влагу, и мне уже не хотелось помочиться.
Был еще одни, более важный секрет. Ему пришлось учиться дольше. В течение дня через двухдюймовую щель под стальной дверью проникал свет. Вечером, когда садилось солнце и источники света гасли один за другим, я слышал, как закрывали камеры и как громыхали замки. Я прикрывал глаза руками, чтобы ничего не видеть. Для меня наставал час испытаний, приходило время, когда я должен был либо спасти себя, либо окончательно сломаться.
В мире, лежащем за тюремными стенами, мозг постоянно атакуют внешние раздражители. Эти обычные картинки и звуки, которым наполнена нормальная жизнь, помогают нам сохранять здравый рассудок. Находясь в одиночке, необходимо чем-то заменить привычные раздражители, создать себе свой собственный мир. Еще в раннем детстве я умел справляться со стрессом, вызывая приятные мысли. Так что довольно скоро я начал размышлять о тех моментах моей жизни, которые могли бы послужить мне утешением. Я не позволял себе думать о плохом, старался укрепить свой дух, награждая себя приятными воспоминаниями. Так я чему-то учился. Это происходило по-другому.
Вызвав в памяти очередной приятный эпизод, как я должен был поступить с ним? Избавиться от него навсегда и вспомнить что-нибудь другое или попытаться сохранить его как можно полнее, чтобы он доставлял мне удовольствие как можно дольше? Если ты не особо дисциплинирован, то с тобой происходит странная вещь. После одной приятной мысли начинают наплывать все новые и новые, и вот они мелькают, как яркие кадры кинофильма, который показывают с неестественной быстротой. Сначала мысли идут более или менее связно. Потом они набирают скорость, наслаиваются друг на друга, бегут все быстрее, быстрее и быстрее. Теперь эти мысли не приносят никакого удовольствия, они становятся ужасающими, гротескными, карикатурными и вихрем проносятся в твоей бедной голове. Стоп! Я слышал свой голос, приказавший мыслям остановиться. Но я не кричал. Я нашел в себе силы, чтобы прекратить мучительную пляску мыслей. И что же мне делать теперь?
Я начал делать кое-какие упражнения, особенно когда слышал позвякивание ключей, означавшее, что пришли охранники с гороховой похлебкой и фруктовой булкой. Я не буду кричать, я не стану извиняться, даже если они каждый день будут предлагать выпустить меня при условии, что я сдамся. Когда мимо моей камеры проходили охранники, я поднимался и начинал свою гимнастику. Охранники удалялись, и я вновь позволял себе думать о приятном. Если я не находил в себе сил стоять, я ложился на пол, на спину. У же потом я узнал, что поза, которую я принимал, выгибая спину и касаясь пола лишь плечами и ягодицами, была дзэн-буддистская. Конечно, я не имел об этом ни малейшего представления тогда, я просто выгибал спину. Стоило мыслям нахлынуть с новой силой и опять набрать устрашающую скорость, я говорил себе «стоп!» и прибегал к спасительным упражнениям.
По прошествии какого-то времени — не знаю, как долго я добивался своего — я научился управлять мыслями. Я мог запускать и останавливать потом мыслей по собственному желанию, мог замедлять и ускорять его. Эти упражнения я проделывал при полной концентрации сознания. Некоторое время я боялся потерять над собой контроль. Я не мог думать, и я не мог остановиться и не думать. Лишь впоследствии я по-настоящему научился запускать мысли с той скоростью, с которой хотел. Я называю это клипами, но на самом деле это были образы, в них воплотились самые яркие воспоминания о моей семье, подружках, хороших временах. Вскоре я наловчился лежать с выгнутой спиной часами и уже не обращал внимания на то, как течет время. Полый контроль. Я учился контролировать прием пищи, свое тело и свой разум при помощи силы воли.
Через две недели охранники вытащили меня из «душегубки» и на сутки отправили в обычную камеру. Здесь я принял душ и прошел медицинский осмотр, со мной также побеседовал психиатр. Тюремная администрация беспокоилась, как бы заключенный не сошел с ума, попав в «душегубку». Поскольку я и не думал раскаиваться в приписанном мне нарушении тюремного режима, меня запихнули обратно в карцер. Но теперь это меня не пугало. Я завоевал свою свободу.
«Душегубки» существуют по той простой причине, что администрация тюрьмы знает, что подобные условия заставят их, т. е. провинившихся, внутренне сломаться, покривить душой. Однако, решив, что им ни за что не удастся подчинить мою волю, я стал сильнее, чем они. Я понимал их лучше, чем они меня. Я больше не зависел от материальных вещей и поэтому впервые в жизни чувствовал себя действительно свободным. В прошлом я мало чем отличался от своих тюремщиков, я преследовал те же самые цели, присущие капиталистической Америке. Теперь я обрел высшую свободу.
Большинство моих знакомых не осознает тот факт, что я периодически сидел в тюрьме на протяжении последних двадцати лет. Им известно лишь о моем одиннадцатимесячном пребывании в одиночке в 1967 году, когда я ждал начала судебного процесса по делу об убийстве, а также о двадцати двух месяцах, которые я провел в колонии для уголовных преступников после вынесения приговора. Но 1967 год не был возможен без 1964. Я бы не смог выдержать заключения в одиночной камере, если бы не прошел через «душегубку». Поэтому я не могу советовать молодым, неопытным товарищам идти в тюрьму, да еще и в одиночку, потому что тюремное заключение — это способ оказывать сопротивление властям и путь, по которому приходят к свободе. Я слишком хорошо знаю, что может сделать одиночное заключение с человеком.
«Камеры для стриптиза» были запрещены в Соединенных Штатах. Я разговаривал с заключенными из калифорнийских тюрем, и они сказали мне, что такие камеры на Западном побережье больше не используют. Все это благодаря Чарльзу Гэрри, адвокату, защищавшему меня в 1968 году. Гэрри защищал еще одного члена нашей партии Уоррена Уэлса, обвиненного в нанесении огнестрельных ранений полицейскому. Высший суд штата Калифорнии решил, что это просто надругательство над человеком — подвергать его такому чудовищному испытанию. Разумеется, в тюремной системе по-прежнему действуют свои законы, и, может быть, прямо сейчас в какой-нибудь тюрьме заключенные, у которых нет адвоката, лежат в грязи на полу в «душегубке».
Я пробыл в карцере целый месяц. Когда пришел срок, меня, согласно приговору, отправили на полгода на окружную ферму в Санта-Риту, что примерно в пятидесяти милях к югу от Окленда. Это лагерь для «почетных заключенных». Здесь нет крепких стен, а заключенных не запирают под замок. Лагерь обнесен колючей проволокой, но днем можно запросто через нее перемахнуть и пойти погулять. Отбывающие наказание ухаживают за скотом, собирают урожай и выполняют другую сельскохозяйственную работу.
В этом благословенном местечке я не задержался. Спустя несколько дней после прибытия в лагерь я подрался с толстым негром-заключенным по имени Боджэк. Он работал в столовой. Про Боджэка было известно, что он старательно оказывает администрации лагеря мелкие услуги, а был «макальщиком»: стоило Боджэку отвернуться, я зачерпывал ложкой еще больше еды. Однажды Боджэк попытался мне помешать. Тогда я во всеуслышание объявил, что он служит интересам угнетателей, и с размаху ударил толстяка стальным подносом. Когда меня оттащили от Боджэка, то сразу же отправили в Грэйстоун, тюрьму строгого режима в Санта-Рите.
Здесь заключенных целыми днями держали взаперти в каменном мешке. И это было не единственная беда. Благодаря полученному в карцере опыту я смог выжить в этих условиях, хотя и был не в силах сносить такое обращение совершенно безропотно. Еда в Грэйстоуне была не лучше, чем в Аламедской окружной тюрьме, и я постоянно протестовал против отвратительной кормежки, а также требовала лучше обогревать камеру. Половину срока мы жили вообще без отопления.
В любой тюрьме найдутся беспокойные соседи. В Санта-Рите тоже был такой: он орал днями и ночами во всю мощь своих легких. Глотка у него, наверное, была луженая. Время от времени к нему в камеру приходили охранники и обливали его ведрами холодной воды. Постепенно он утихомиривался, и громкий крик сменялся хриплым кашлем, переходящим в едва различимый писк и, наконец, просто в шепот. Шумный заключенный раньше меня вышел на свободу, но его выкрики еще долго раздавались в моей голове.
В конце концов, я довел администрацию тюрьмы до белого каления своими бесконечными жалобами и протестами. Не выдержав, они отправили меня обратно в Оклендскую тюрьму, где я отсидел в одиночной камере остаток срока. К тому моменту я уже притерпелся к холоду. И поныне мне не очень нравится жара в помещении, какая бы ни была температура снаружи. Даже в этих суровых условиях обращение со мной в тюрьме очень много сказало мне о тех, кто выдумал такую форму наказания. Я отлично их знаю теперь.
15. Бобби Сил
Сил является продолжателем организаторских начинаний черной и белой молодежи на сельском Юге. Он продолжает бороться… за требования, которые выдвигали студенты в начале шестидесятых, выступая за немедленное соблюдение основных гарантий и обещаний, закрепленных в Конституции и так долго нарушаемых незаконной властью белых. В то же время он сохранил за собой право нанести удар по самой системе.
Джулиан Бонд. Время говорить, время действоватьВыйдя из тюрьмы и вернувшись в 1965 году на улицы родного квартала, я вновь сошелся с Бобби Силом. Нам было о чем поговорить, к тому же я не виделся с ним больше года.
Бобби и я, мы не во всем соглашались друг с другом. На самом деле впервые наши мнения разошлись еще тогда, когда мы только познакомились. Мы поспорили насчет «кубинского кризиса» Президент Кеннеди как раз собирался стереть человечество с лица земли, потому что советские корабли держали курс на Кубу, чтобы с помощью вооруженной силы освободить остров для кубинского народа. Прогрессивная лейбористская партия организовала митинг на территории Оклендского городского колледжа в поддержку Фиделя Кастро. Я тоже пришел на митинг, поскольку разделял взгляды организаторов. На митинге выступали с речами, среди выступавших был и Дональд Уорден. Он долго возносил хвалу Фиделю. Он выступал в обычной своей приспособленческой манере, занимаясь явной саморекламой. Уорден уже дошел до середины своей занудной речи и успел раскритиковать организацию по защите гражданских прав, бросив в публику риторический вопрос, зачем, дескать, мы тратим на них деньги, когда Бобби вызвался говорить. Он категорически не согласился с Уорденом и поддержал позицию Национальной ассоциации содействия развитию цветного населения. По мнению Бобби, надежды негров были связаны с этой ассоциацией, и именно поэтому он был за правительство и за меры, предпринятые правительством против Кубы. После митинга я объяснил Бобби, что он заблуждается, поддерживая правительство и правозащитные организации. Слишком много денег ушло на решение правовых вопросов. В законодательство внесено немало законов, разрешающих неграм разбираться со всеми их проблемами. Но выполнение этих законов не обеспечивается. Следовательно, прилагать усилия для принятия новых законов — это бессмысленное действие, уводящее от реальных задач. Этих аргументов я поднабрался в Ассоциации афро-американцев, нечто подобное слышал и от Малькольма Икса в Окленде. Малькольм не уставал говорить на эту тему. В общем, Бобби стал размышлять о том, что я ему порассказал, и потом согласился с предложенной мной точкой зрения.
Несмотря на наши разногласия, к 1965 году мы с Бобби стали очень дружны. Через некоторое время я уговорил его вступить в Ассоциацию. После моего ухода оттуда Бобби остался с Уорденом. В тот момент я все еще переживал внутренний кризис, пытался найти себя, хотя бы как-то определить свое место в обществе. Если я садился на задние ряды на собраниях Ассоциации и отказывался высказывать свое мнение по каким бы то ни было вопросам, Бобби реализовывал в Ассоциации всю свою энергию. Так продолжалось даже после моего ухода из Ассоциации.
Все-таки поначалу мы еще не так сильно сблизились. Наши отношения окончательно закрепились в 1965 году, когда я выбрался из карцера. В то время Бобби подумывал о женитьбе. В его новой квартире не было кровати. Я как раз расстался со своей подругой и не хотел больше спать на нашей старой кровати. Я продал ее Бобби, и мы повезли покупку к нему. В тот день мы начали говорить. Он рассказал мне, что тоже ушел из Ассоциации, чтобы присоединиться к Кену Фриману и его группе — Движению за революционные действия. Большинство членов этой группы училось в Оклендском колледже, но организация была из разряда подпольных и действовала за пределами кампуса. В организации Фримана имелась группа прикрытия «Консультативный совет чернокожих студентов». Деятельность Совета была открытой, в кампусе он был хорошо известен. Движение за революционные действия больше занималось умствованием, чем предпринимало конкретные шаги. Они только и делали, что рассуждали о революции, а также кое-что сочиняли. Умение хорошо писать было почти обязательным требованием для членства в этой организации, но по натуре Бобби не был сочинителем. К тому моменту, как меня выпустили из тюрьмы, Бобби крепко поспорил с членами Движения, и какое время находился у них под подозрением. Бобби злился на этот случай и рассказал мне о своем намерении порвать с Движением. Подобно мне, подобно тысячам таких, как я, Бобби что-то искал и не находил.
У нас с Бобби начался период напряженных умственных исканий. Мы пытались решить некоторые идеологические проблемы негритянского движения. Нам было необходимо понять, почему ни одна политическая организация чернокожих не добилась успеха. Единственная организация, у которой, на наш взгляд, была надежда на будущее, — это Организация за афро-американское единство. Идейным вдохновителем этой организации был Малькольм Икс. Но он погиб, не успев доработать свою программу до конца. У Малькольма был свой лозунг — «Свобода любыми необходимыми средствами». Однако для себя мы не нашли в этом ничего такого, что побудило бы нас вступить в эту организацию. Мы еще довольно смутно представляли себе, что должна означать свобода для чернокожих. В наших головах были лишь позаимствованные у политиков абстрактные понятия, а они совсем не помогали жителям нашего квартала. Вся эта пышная риторика годилась для интеллигентов и буржуазии, которые уже и так хорошо устроились.
Больше всего мы с Бобби обсуждали группы из Сан-Франциско, Окленда и Беркли. Мы знали участников этих групп и могли видеть как положительные, так и отрицательные их стороны, а также оценить сущность их организаций. И хотя мы по достоинству оценили многое из того, что делали наши братья, мы чувствовали, что негативные моменты в их деятельности перевешивали позитивные.
Мы стали проводить критический отбор идей. Неграми еще не было создано такой политической организации, которая была способна вовлечь в свою работу тех, интересы кого, как громко заявлялось, существующие организации представляли. Речь идет о бедняках из общины. Они не знали, что такое колледж. Возможно, им было трудно окончить даже среднюю школу. И все-таки это был наш народ. В нашем районе бедные и малограмотные негры составляли подавляющее большинство. Любое политическое объединение, начинавшее обсуждать проблемы негров, на самом деле имело в виду этих несчастных, стоявших на последней ступени социальной лестницы. Хотели улучшить им жизнь, поднять самоуважение, вспоминали о том, какое внимание уделяет им правительство. Все мы говорили без умолку, но наши слова не достигали тех, для кого были предназначены.
У Бобби был талант, который мог нам помочь. Он как раз начал завоевывать известность, работая в качестве актера и комика на местных студиях. Я видел его в нескольких постановках по сценарию чернокожих братьев и нашел его великолепным. Я никогда не питал особой симпатии по отношению к комедийным актерам и по собственному желанию на них обычно не смотрел. Если выступающий на сцене преподносит свой материал серьезно и использует юмор с целью подчеркнуть какие-то моменты, ему удастся меня рассмешить, и я буду смеяться вместе с остальными зрителями. Но сыплющие остротами комики оставляют меня равнодушными. И все же я признал способности Бобби и думал, что он мог бы использовать их, чтобы устанавливать контакт с людьми и убеждать их при помощи колкостей и шуток. Когда мы сидели в мужской компании, обсуждая наши разногласия с отдельными личностями или группировками, Бобби частенько изображал сумасшествие этих людей. У него отлично получались образы президента Кеннеди, Мартина Лютера Кинга, Джеймса Кэгни, Хэмфри Богарта и Честера из сериала «Дым из ствола».[35] Ему также удавалось изображать некоторых чернокожих братьев и передавать образ человека до мельчайших деталей. Я животики надрывал от смеха, и не только потому, что Бобби был очень хорош, но и потому, что он с потрясающей точностью улавливал характеры и мнения людей. Он подмечал все их недостатки, показывал, как их идеи расходились с нуждами народа и не могли удовлетворить эти нужды.
Мы собирались действовать через Консультативный совет чернокожих студентов. Хотя Совет был лишь прикрытием для Движения за революционные действия, у него было немалое преимущество: Совет не был организацией для интеллигентов, поэтому он мог оказаться привлекательным для многих чернокожих братьев из низших слоев, которые учились в городском колледже. Если братья были бы причастны к организации, придававшей им сил и повышавшей самоуважение, они могли бы превратиться в активных членов подобной организации. Очень важно было пристроить их к делу, не дать им деградировать. Совет чернокожих студентов был, в общем-то, неэффективным и временным образованием без реальной программы действий. Люди приходили на организованные Советом митинги, если случалось что-то из ряда вон выходящее. В спокойные времена находилось лишь два-три человека, пожелавших присоединиться к митингу.
Однако вскоре у «Чернокожих студентов» появилось стоящее дело — борьба за включение курса по афро-американской истории и культуры в обязательную программу колледжа. Хотя мысль о включении подобного курса в учебный план был дельной, колледж ни за что не хотел соглашаться на это и стоял на смерть. Стоило нам заикнуться о новом курсе, как на нас обрушивался поток объяснений, почему колледж не мог ввести этот курс в программу. Самое смешное, что в то же время в колледже нас то и дело поощряли чем-нибудь «заняться». Нас обводили вокруг пальца. Колледж просто-напросто тянул время.
Мы с Бобби расценивали создавшуюся ситуацию как возможность подтолкнуть Совет чернокожих студентов продвинуться на шаг вперед и принять установку на вооруженную самооборону. Мы обратились к «Чернокожим студентам», предложив организовать митинг перед колледжем в поддержку курса по афро-американской истории. Мы указали на то, что митинг предполагается особенный: члены Совета должны будут повесить на пояс пистолеты и промаршировать прямо под окнами колледжа. В некотором смысле митинг должен был выразить наше отношение к жестокостям полиции, но также устрашить администрацию колледжа, сопротивлявшуюся введению предложенного нами курса. Мы с Бобби искали способ повлиять и на колледж, и на общину, способ свести их вместе. Полиция и администрация колледжа нуждались в хорошей встряске, которую им должны были устроить негры. Мы знали, что такая акция заставить наших оппонентов понять — мы говорим дело. В то время ношение оружия в целях самообороны не было нарушением закона.
Мы объяснили все это «Чернокожим студентам», показав им, что мы не собирались совершать что-либо противозаконное. Мы всего лишь добивались того, чтобы Совет повернулся лицом к реальности, а не стоял на месте, растрачивая время на пустословие и сочинения о белом человеке. Мы хотели сподвигнуть Совет на вооруженную самооборону. При этом требовалось полное понимание того, что оборона служит средством выживания для всех чернокожих и, в частности, средством, при помощи которого мы могли бы добиться введения нашего курса в программу колледжа. Мы же видели, как черных повсеместно грабят. В колледже нас ничему толковому не учили. У нас не было курсов, посвященных нашим реальным проблемам, не было занятий, где бы нас учили выживанию. Наша программа была нацелена на то, чтобы вдохновить братьев на самооборону, прежде чем нас окончательно уничтожат — и физически, и духовно.
Призывом взяться за оружие мы надеялись привлечь сторонников. Я чувствовал, что нам удастся завоевать симпатии студентов из социальных низов, т. е. студентов, не имевших отношения к организациям колледжа, в которых слишком много умничали и не предлагали эффективной программы действий. Люди с улицы пошли бы за «Чернокожими студентами», если последние согласились бы следовать нашему плану. Если негритянская община и научилась что-то уважать в жизни, то это было оружие.
Мы недоучли, насколько трудно нам будет переубедить братьев. «Чернокожие студенты» полностью отвергли нашу программу. Эти братья были так напуганы огневой мощью полиции, что они были не способны даже помыслить об открытом ношении оружия независимо от того, разрешено это или нет. Натолкнувшись на полное непонимание, мы перестали уговаривать «Чернокожих студентов» и пошли говорить с Движением за революционные действия. Там было немного народа, всего лишь несколько парней из кампуса, чесавших языками. Мы постарались объяснить им, что, выставив напоказ оружие, уличные братья приблизятся к руководству Движения. Мы также поделились с ними нашей новой идеей — патрулировать улицы, чтобы предотвращать злоупотребления полиции, ибо полицейские были главными проводниками жестокости по отношению к общине. Дальше вооруженной самообороны и патрулирования мы не шли. Начни мы разрабатывать более развернутую программу, мы бы наверняка увязли во второстепенных вещах. Пока я хотел, чтобы приняли идею о самообороне, а когда она была бы реализована на практике, можно было бы переходить к более детальному продумыванию программы. Тогда мы еще не собирались создавать свою партию: всяких разных организаций и без того было полным-полно. Мы видели свою цель в том, чтобы сделать хотя бы одну из них приносящей пользу общему делу. Таким образом мы внесли бы свой вклад, и это казалось нам достаточным. Однако прорваться нам было нелегко. Движение за революционные действия тоже отказалось принять наш план. Они подумали, что его осуществление будет чистой воды «самоубийством» и что мы дня не проживем, если выйдем на улицу для патрулирования.
В итоге мы оказались там, где находились на протяжении всего времени, — нигде.
16. Создание партии «Черная пантера»
Как молодое деревце, пригнутое к земле, собирается с силами, чтобы резко распрямиться, так негры, которых угнетение прижало к земле вдвое сильнее, набрались сил. Их скрытая энергия выплеснется в форме гнева, черного гнева. Это будет последний, апокалиптический гнев.
Уильям Гриер, Прайс Коббс. Черный гневВсе это время мысль о собственной партии нам с Бобби даже в голову не приходила. У нас не было никаких планов насчет создания новой организации. Программа из десяти пунктов еще ждала своего часа. В прошлом году мы стали свидетелями восстания в Уоттсе. Мы видели, как полиция напала на местную негритянскую общину, загодя спровоцировав беспорядки. Мы наблюдали за Мартином Лютером Кингом, когда он приехал в общину, чтобы успокоить людей, и мы видели, как отвергли его концепцию ненасилия. Чернокожих всю жизнь учили не сопротивляться силой, этот урок мы затвердили слишком хорошо — он вошел в нашу плоть и кровь. Но что толку от настроя на ненасилие, когда изначально предполагается, что полиция правит железной рукой? От наших глаз не укрылось, что оклендская полиция и патруль с калифорнийского хайвэя стали носить свои дробовики у всех на виду. Они нашли еще один способ вселить страх в общину. Все это не прошло мимо нас незамеченным, и мы поняли, что готовность негров взбунтоваться достигла критической — взрывоопасной — отметки. Каждый должен вписать себя в историю общины, сделать что-нибудь во имя ее будущего. Все, что мы видели вокруг себя, убеждало нас в том, что наше время пришло.
Так возникла потребность в создании партии «Черная пантера». Нам с Бобби ничего другого не оставалось, как основать организацию, которая объединила бы братьев из низших социальных слоев.
Партия рождалась в разговорах и спорах. Большая часть того, что мы обсуждали, к делу не относилась. Бобби жил неподалеку от кампуса, и гостиная в его квартире превратилась в подобие штаба. Несмотря на то, что мы еще не порвали с «Чернокожими студентами», мы посещали все меньше и меньше их собраний, а после нашего окончательного ухода стало ясно, что мы были главным подрывным элементом в Совете. Мы поднимали вопросы, которые портили людям настроение. Наши с Бобби разговоры стали приобретать большое значение. В дом к Бобби постоянно шли братья, как только у них выдавался свободный часок между занятиями. Заходили и ребята, просто слонявшиеся по кампусу. Мы пили пиво, вино и со всех сторон рассматривали политическую ситуацию в стране, наши социальные проблемы, а также делились мнениями по поводу достоинств и недостатков других группировок. Мы обсуждали успехи, достигнутые неграми в прошлом. Особенно это было важно для того, чтобы лучше разобраться в текущих событиях.
В каком-то смысле «посиделки» у Бобби дома стали для нас школой политической подготовки. В процессе наших дискуссий и сформировалась партия. Даже после официального создания партии мы продолжали встречаться в нашем офисе. К тому моменту мы уже доросли до того, чтобы не только ставить проблемы, но и предлагать возможные варианты для их решения.
Помимо прочего, мы много читали. Немало книг было написано об угнетенных народах и их борьбе за освобождение. Мы с головой уходили в эти книги, мы искали там опыт, который, возможно, помог бы нам осознать наше собственное положение. Мы проштудировали Франца Фэнона, в частности его «Несчастье Земли»,[36] четыре тома произведений Мао Цзэдуна и книгу Че Гевары «Партизанская война». Че и Мао были настоящими ветеранами народно-освободительных войн. Они выработали доказавшие свою эффективность стратегии борьбы за освобождение народа. Мы читали эти книги, потому что воспринимали их авторов как кровных родственников. Над ними стоял тот же самый угнетатель, что прямо и опосредованно контролировал и нас. Мы чувствовали необходимость ознакомиться с тем, как этим людям удалось отвоевать свободу. Мы хотели воспользоваться их опытом, чтобы отвоевать свободу себе. Вместе с тем мы вовсе не стремились под копирку заимствовать их идеи, почерпнутые нами из книг. Нам нужно было переосмыслить наши знания и продумать принципы и методы, подходящие для чернокожих братьев из квартала.
Мао, Фэнон и Че Гевара — все они ясно понимали, что угнетенные народы были лишены прав, принадлежавших им от рождения, и чувства собственного достоинства. Никакая философия или просто слова были здесь ни при чем, все решала сила оружия. Их остановили бандиты с большой дороги, заставили страдать, причинили насилие. Единственный оставшийся для них способ добыть свободу — ответить на силу силой. По сути, это форма самозащиты. Хотя такая самозащита временами очень напоминает агрессию, люди обычно не вникают в подробности, они просто отвечают на внешнее воздействие. Люди питают уважение к проявлениям силы и достоинства, которое можно увидеть на лицах тех, кто отказывается склоняться перед оружием угнетателя. Несмотря на угрозу смерти, эти люди будут бороться, ибо для них умереть, сохранив достоинство, предпочтительней, чем сносить позор и унижение. К тому же всегда остается шанс на то, что угнетатель будет повержен.
Во время войны в Алжире Фэнон выступил с заявлением, его слова глубоко запали мне в душу. Он сказал, что тогда настал «год бумеранга», который, как он считал, был третьей стадией насилия. На данной стадии насилие агрессора обращается против него самого и наносит разящий удар. Вместе с тем агрессор не осознает происходящего; он не знает ничего, кроме того, чем он занимался на первой стадии, т. е. кроме насильственных действий. Угнетенные неизменно защищаются. Угнетатель всегда выступает в роли агрессора и приходит в неподдельное изумление, когда угнетенные начинают бороться с ним тем же оружием, что он использовал против них.
Огромное влияние на становление нашей партии оказала книга Роберта Уильямса[37] «Негры с пистолетами». Уильямс активно продвигал программу вооруженной самообороны в г. Монро (Северная Каролина). Программа нашла немало сторонников в общине. Однако мне был не по душе способ, которым Уильямс добивался содействия федерального правительства. Для нас правительство было врагом, агентом правящей клики, контролирующей страну. Мы также располагали кое-какой литературой о «Дьяконах за защиту и справедливость». Эта организация действовала в Луизиане — в моем родном штате. Один из ее лидеров был как-то в районе Залива, выступал там и искал спонсоров. Нам понравилось то, что он говорил. «Дьяконы» делали дело, устраивая марши в защиту гражданских прав, но у них вошло в привычку просить у федерального правительства обеспечивать эту защиту или, по крайней мере, оказывать им содействие в защите людей, соблюдающих закон. «Дьяконы» добились даже того, что местные шерифы и полиция стали охранять участников их акций. Они пустили в ход угрозу: пообещали, что, если стоящие на страже закона силы откажутся от своих прямых обязанностей, то «Дьяконы» возьмутся за это сами. Мы также рассматривали местную полицию, Национальную гвардию и регулярную армию как одну огромную вооруженную силу, противостоящую воле народа. В пограничной ситуации люди остаются совсем беззащитны и вынуждены обороняться самостоятельно.
Кроме того, мы знакомились с работами борцов за свободу, очень много сделавших для негритянских общин в Соединенных Штатах. Бобби собрал все речи Малькольма Икса и подытожил его идеи, пользуясь материалами газет наподобие «Бойца» и «Говорит Мухаммед». Мы тщательно изучали все эти материалы. Хотя программа Малькольма по организации «Афро-американского единства» не была воплощена в жизнь, он ясно дал понять, что неграм следует вооружиться. Влияние Малькольма было всепроникающим. Мы не перестаем верить в то, что в «Черных пантерах» живет дух Малькольма. Зачастую довольно трудно внятно объяснить, чем определяется та или иная акция или программа или какое влияние она испытала в духовном смысле. Эти неуловимые вещи сложно описать, хотя они могут оказаться более значимыми, чем любое явное влияние. Поэтому все, что здесь сказано, не может передать в полном объеме огромное влияние, оказанное Малькольмом на «Черных пантер», хотя лично я убежден в том, что наша партия является продолжением дела всей его жизни. Я вовсе не утверждаю, что наша партия сделала то, что сделал бы Малькольм. Находится немало таких, кто приравнивает свои программы к программам Малькольма. Мы не претендуем на это, но дух Малькольма точно живет в нас.
Из всего этого — из книг, из работ Малькольма и впечатлений от его личности, нашего собственного анализа конкретной ситуации — и формировалась идея создания партии. Однажды, совершенно неожиданно, почти случайно, мы подобрали название для своей организации. Я читал памфлет, посвященный регистрации избирателей в Миссисипи. Там рассказывалось о населении округа Лоундес, которое взяло в руки оружие, чтобы сопротивляться насилию Истеблишмента. У них была своя эмблема — изображение черной пантеры. Несколько дней спустя, во время разговора с Бобби, я предложил сделать черную пантеру нашим символом и назвать наше политическое образование партией «Черная пантера». Пантера ведь свирепое животное. Вместе с тем она никогда не станет нападать первой, пока ее не загонят в угол. В этом случае пантера совершает бросок. Образ показался подходящим, и Бобби согласился с ним без обсуждения. Здесь мы поняли, что настала пора прекратить разговоры и начать реальные организационные действия. Хотя мы всегда стремились уйти от излишнего умствования и пустой болтовни, свойственных прочим организациям, на тот момент мы недалеко ушли от последних, оставаясь такими же пассивными. Пришло время действовать.
17. Патрулирование
Полиция может работать в гетто, лишь установив там жесткий режим угнетения. Ни один из посланцев комиссара полиции, пусть даже с самыми лучшими намерениями в мире, понятия не имеет, как живут люди, перед которыми по двое, по трое гордо расхаживают полицейские, контролируя всех и вся. Само их присутствие является оскорблением, и оно продолжало бы оставаться таковым, если полицейские только бы и делали, что целыми днями раздавали леденцы ребятишкам. Они олицетворяют собой силу мира белых, они также служат средством достижения подлинных целей этого мира, попросту говоря, они нужны для того, чтобы держать негра там, где он заперт сейчас, ради криминальной выгоды и покоя этого мира.
Джеймс Болдуин. Пятая авеню, верхняя часть города // Никто не знает, как меня зовутВесна 1966 года. У нас все еще нет четкой программы, но мы уже созрели для того, чтобы апробировать некоторые идеи на практике. Впоследствии они захватят воображение общины. Как всегда, начали мы с уличных братьев. Мы спрашивали их, заинтересованы ли они в создании организации «Черная пантера — партия за самооборону», которая будет защищать общину от агрессии со стороны власти, в том числе и от полиции, вооруженной лучше некуда. Мы рассказывали братьям об их праве владеть оружием, большинство слушало с явным интересом. Потом мы заводили разговор о том, что люди обычно испытывают страх при виде надменных и воинственных полицейских, и о том, что мы можем конкретно сделать, чтобы не допускать подобного. Мы прохаживались по бильярдным и барам, в общем, по всем местам, где собирались чернокожие братья.
Я был готов давать братьям небольшие юридические консультации. Я изучал право в Оклендском городском колледже и в Юридической школе в Сан-Франциско, так что я был знаком с Уголовным кодексом штата Калифорния и был сведущ в законах, касавшихся оружия. Кроме того, я мог пользоваться, и это было очень важно, юридическими материалами, собранными в Центре социальной помощи Северного Окленда. Центр помогал малоимущим жителям общины. Там работал Бобби. В Центре оказывались юридические консультации, так что там было полно разных кодексов. К сожалению, большая часть законодательных сборников была по гражданскому праву, поскольку программа помощи нуждающимся не предполагала консультаций по вопросам уголовного права. Однако библиотека Центра все-таки сослужила людям добрую службу: я пользовался ее книгами, чтобы полностью растолковать существовавшую правовую ситуацию уличным братьям. Мы делали то, что было заявлено в программе социальной поддержки, но что никогда не выполнялось, — оказывали реальную помощь и давали советы беднякам, объясняя им жизненно важные вещи.
Все лето мы провели в негритянских общинах Ричмонда, Беркли, Окленда и Сан-Франциско, постоянно перемещаясь с одного места на другое. Где бы ни собирались братья, мы приходили туда и обсуждали с ними их право на ношение оружия. В общем и целом, они проявляли заинтересованность, но в то же время у них сохранялся скептический настрой по поводу идеи об оружии. Они в глаза не видели ни одного негра, спокойно расхаживающего с пистолетом на виду у всех. Очевидно, что для привлечения более или менее серьезного количества уличных братьев на свою сторону, мы должны были предпринять нечто большее, чем просто разговоры. Было необходимо реализовать нашу теорию на практике, показать братьям, что мы не боялись носить оружие и нас не страшила смерть. Убедить братьев окончательно нам удалось примером вооруженного патрулирования улиц.
Однако прежде чем взяться за патрулирование, мы с Бобби засели за писанину. Мы не могли двигаться дальше без программы, поэтому мы решили забросить все прочие дела и все-таки оформить нашу программу, даже если бы на создание чего-нибудь стоящего ушла уйма времени. Как-то раз мы с Бобби отправились в Центр социальной помощи поработать. Центр был идеальным местом для интеллектуальной работы, потому что здесь в нашем распоряжении были книги и к тому же никто не мешал. Для начала мы сложили на стол все прочитанные книги и добавили к ним еще десяток книг, о которых знали понаслышке. Мы обсудили программу Мао Цзэдуна, программу кубинской революции и все остальные известные нам программные документы, но пришли к выводу, что не можем воспользоваться ни одной из существующих программ. Наша ситуация была особенной и, соответственно, требовала уникальной программы. Хотя отношения, связывающие угнетателя и угнетенных, носят универсальный характер, формы притеснения разнятся. Вдохновившие на борьбу народы Куба и Китая идеи проистекали из истории этих народов и особенностей традиционных для них политических структур. Реализация практической части этих программ могла быть успешной только в условиях угнетения определенного типа. Нашей программе предстояло иметь дело с Америкой.
Я начал озвучивать самые важные вещи, необходимые для выживания негров и угнетенного люда в Соединенных Штатах. Бобби записывал за мной. В получившемся тексте мы выделили две части — «Чего мы хотим» и «Во что мы верим». Мы выделили два этих раздела, потому что сами идеи явно распадались на две различные категории. Требовалось объяснить, почему мы хотим добиться того-то и того-то. В то же время наши цели основывались на определенных убеждениях, и мы сочли нужным заявить о них. Там, где мы говорили о своих убеждениях, мы без экивоков написали, что объективные условия для достижения наших целей уже существуют, однако подчеркнули, что на нашем пути стоит целый ряд социальных факторов. Это должно было помочь людям понять то, что действовало против них.
На все про все у нас ушло около двадцати минут. Программа из десяти пунктов была готова. Серьезное обдумывание потребовало бы нескольких дней, и мы были настроены на долгую работу. Однако мы не прикоснулись к той горе книг, что высилась вокруг. Нас осенила мысль невероятной важности: книги могут задать лишь общее направление, все остальное зависит от нас самих. Ниже приводится программа, которую мы с Бобби сочинили.
Октябрь 1966 г.
Партия «Черная пантера»
Платформа и программа
Чего мы хотим
Во что мы верим
Мы хотим свободы. Мы хотим власти, чтобы самим определять судьбу нашей негритянской общины.
Мы считаем, что чернокожие не обретут свободы до тех пор, пока мы не будем способны определять свою судьбу.
Мы хотим обеспечения полной занятости для нашего народа.
Мы считаем, что федеральное правительство обязано и несет ответственность за это, обязано обеспечить каждому человеку работу или гарантированный доход. По нашему мнению, если белые бизнесмены Америки не обеспечат всех желающих рабочими местами, следует изъять у них средства производства и передать их общине с тем, чтобы община могла организовать своих жителей и предоставить им работу, а также обеспечить им высокий жизненный уровень.
Мы хотим положить конец грабежу, которому подвергается наша община со стороны капиталистов.
Мы убеждены в том, что расистское правительство ловко ограбило нас, и теперь мы требуем вернуть нам давнишний долг в размере сорока акров земли и двух мулов каждому. Сорок акров и мулы были обещаны нам еще сто лет назад как возмещение за рабский труд и массовые убийства негров. Мы согласны принять компенсацию в денежном эквиваленте. Эти средства будут распределены между нашими общинами. В настоящее время немцы оказывают помощь евреям в Израиле, расплачиваясь за геноцид, которому подвергался еврейский народ во время войны. Немцы лишили жизни шесть миллионов евреев. Американские расисты замешаны в истреблении свыше пятидесяти миллионов чернокожих. Нам кажется, что наши требования более чем скромны.
Мы хотим приличного жилья, удовлетворяющего нуждам человека.
Мы считаем, что белые землевладельцы будут отказывать нашей негритянской общине в хороших домах, так что жилищная площадь и земля должны перейти в кооперативную собственность, чтобы община — с помощью правительства — построила нормальное жилье для своих людей.
Мы хотим, чтобы наш народ получал такое образование, которое раскрывает истинную природу переживающего упадок (загнивающего) американского общества. Мы хотим образования, которое учит нас нашей настоящей истории и объясняет нашу роль в современном обществе.
Мы верим в образовательную систему, способную дать нашим людям знание о самих себе. Если человек не знает самого себя и своего положения в обществе и в мире, он имеет мало шансов иметь отношение к чему-либо еще.
Мы хотим, чтобы все чернокожие были освобождены от несения военной службы.
Мы не будем участвовать в военных действиях и убивать других цветных людей по всему свету, которые, подобно неграм, стали жертвой белого расистского правительства Америки. Мы будем защищать себя от всесилия и насилия расистской полиции и военных, какие бы средства для этого не потребовались.
Мы хотим положить немедленный конец ЖЕСТОКОСТЯМ ПОЛИЦИИ и УБИЙСТВАМ чернокожих.
На наш взгляд, мы в состоянии покончить с жестокостью полицейских, процветающей в нашей общине, путем создания группы самообороны для охраны общины от притеснений и жестокостей полицейских-расистов. Вторая поправка к Конституции США дает гражданину право носить оружие. Таким образом, мы считаем, что всем неграм следует вооружиться в целях самообороны.
Мы хотим, чтобы выпустили на свободу всех негров, отбывающих наказание в федеральных тюрьмах, тюрьмах штатов и окружных тюрьмах, а также в прочих местах лишения свободы.
Мы полагаем, что следует освободить всех негров из тюрем, поскольку они не получили справедливого и беспристрастного суда.
Мы хотим, чтобы все чернокожие, попадающие в суд в качестве обвиняемых, были судимы присяжными равного с ними социального статуса или присяжными, выбранными в их общинах, как сказано в Конституции.
Мы убеждены в том, что в судопроизводстве должны соблюдаться положения Конституции. Следовательно, негры должны получать справедливый суд. Согласно четырнадцатой поправке к Конституции Соединенных Штатов, человек имеет право быть судимым людьми равного с ним статуса. Это означает, что присяжные должны иметь сходное с подсудимым экономическое и социальное положение, вероисповедание, исторические корни, место жительства, природно-климатические условия проживания и расовую принадлежность. Чтобы удовлетворить данное требование, суду придется набирать присяжных из той самой негритянской общины, к которой принадлежит обвиняемый. Нас судили и продолжают судить жюри присяжных, в составе которых одни белые, не имеющие представления о «среднестатистическом здравомыслящем человеке» из негритянской общины.
Мы хотим земли, хлеба, жилья, образования, одежды, справедливости и мира. А наша главная политическая цель заключается в проведении всеамериканского плебисцита в негритянской колонии под наблюдением представителей ООН. В голосовании должны принимать участие исключительно чернокожие, чтобы действительно выяснить, какой они хотят видеть свою судьбу.
В процессе исторического развития у народа может возникнуть необходимость распустить политические банды, которые связывают граждан между собой, и перейти в состояние, сравнимое с другими могущественными силами, существующими на земле, — состояние, когда каждый ощущает себя отдельной личностью и равен другому в правах. Сами законы природы и божественная сущность наделили человека этим состоянием. В таком случае элементарное уважение к мнению человечества требует, чтобы народ объяснил причины, побудившие его к разделению.
У нас давно есть ряд очевидных истин: все люди равны от рождения; Творец наделяет их определенным неотчуждаемыми правами, среди них — право на жизнь, на свободу и на счастье. Чтобы обеспечить соблюдение этих прав, среди людей создаются правительства. Справедливая власть передается правительству с согласия тех, кем оно управляет. Если любое правительство начинает действовать разрушительно, народ имеет полное право сменить правительство или упразднить его, а затем учредить новое, причем новое правительство создается на основе таких принципов и наделяется полномочиями в такой мере, чтобы, исходя из представлений народа, оно обеспечивало ему безопасность и счастье. Однако глас благоразумия твердит, что существующее долго время правительство не следует менять из-за кратковременных и несерьезных трудностей. Поэтому, как показывает опыт, если зло, в принципе, можно выдержать, то человечество, скорее, будет страдать, чем позволит себе избавиться от форм, к которым оно привыкло. Но когда длинная цепочка злоупотреблений и присвоений, неизбежно преследующих одну и ту же цель, порождает желание уменьшить их количество в условиях абсолютизма, это право народа, это его долг — свергнуть такое правительство и обеспечить новые гарантии будущей безопасности.
Имея на руках реальную программу, мы выработали структуру нашей организации. Бобби стал председателем, я выбрал должность министра обороны.[38] Я был просто счастлив получить именно этот пост. Я и не хотел быть официальным лидером, ведь председатель должен вести партийные собрания, к тому же на его долю выпадают административные заботы. Мы также обсудили возможность создания совещательного кабинета и информационного органа партии. Нам хотелось, чтобы наш кабинет проэкзаменовал каждый из десяти пунктов программы и определил, насколько они соотносятся с жизнью общины. Помимо этого, кабинет должен был провести опрос общины и выяснить, какие доработки жители общины пожелали бы внести в программу. Нам казалось, что самым лучшим решением было бы усилить политическое крыло партии уличными братьями, а совещательный кабинет укомплектовать чернокожими из среднего класса, обладающими необходимыми знаниями и навыками. Мы находились в поиске путей жизнеспособного объединения среднего класса и уличных братьев. Я попросил Мелвина привлечь нескольких его друзей к участию в нашем кабинете. Но к тому моменту, когда наш план окончательно вызрел, все они ответили отказом, поэтому идею создания кабинета пришлось отложить.
Первым членом партии «Черная пантера», не считая Бобби и меня самого, стал Малыш Бобби Хаттон. Малыш Бобби познакомился с Бобби Силом в Центре социальной помощи Северного Окленда. Они оба там работали. Малыш Бобби сразу же загорелся, узнав о рождающейся организации. И хотя ему было всего лишь пятнадцать лет, он был ответственным и зрелым парнишкой, охваченным желанием помогать общему делу чернокожих. Малыш Бобби стал первым казначеем нашей партии. Он был младшим из семерых детей в семье. Его семья переехала в Окленд из Арканзаса, когда Бобби был в трехлетнем возрасте. Его родители были хорошими людьми и иного работали, но Бобби пережил все те лишения, все то унижение, от которых страдает так много детей в бедных негритянских общинах. Его вышвырнули из школы так же, как многих братьев. Потом он устроился на неполный рабочий день в Центр. После работы он обычно отправлялся домой к Бобби Силу, чтобы поговорить и учиться читать. Незадолго до гибели Малыш Бобби читал «Черную реконструкцию в Америке» В. Е. Б. Дю-Буа.[39]
Бобби был серьезным революционером, однако в его облике не было ничего мрачного. Когда он улыбался, окружающим хотелось улыбаться вместе с ним. Он обладал обезоруживающим обаянием — он располагал к себе людей, и те проникались к нему любовью. Он погиб, как настоящий храбрец. Он стал первым из «Черных пантер», кто принес свою жизнь в жертву ради своего народа. Мы все стараемся продолжить начатое им дело.
Мы стали реализовывать нашу программу. Больше всего мы были заинтересованы в повышении образовательного уровня и развитии революционного сознания общины. Поэтому нам нужно было привлечь внимание жителей общины и предложить им что-нибудь такое, с чем они могли отождествить себя. Исходя из этих рассуждений, главный упор мы для начала сделали на пункт седьмой об охране порядка. Пункт седьмой нашей программы гласил: «Мы хотим положить немедленный конец ЖЕСТОКОСТЯМ ПОЛИЦИИ и УБИЙСТВАМ чернокожих». Поведение полицейских — это основная проблема, с которой сталкивается каждая негритянская община. Полицейские никогда не были нашими защитниками. Вместо этого они служат орудием в руках наших угнетателей и обходятся с нами хуже некуда. Многие общины безуспешно пытались создать гражданские проверочные комиссии для наблюдения за действиями полиции. В некоторых районах были созданы гражданские патрули. Они следовали за полицейскими, наблюдая, как те выполняют свою работу на территории общины. Патрульные делали фотографии, записывали на магнитофон информацию о столкновениях и сообщали о допущенных полицейскими нарушениях властям. Однако должностные лица, ответственные за контроль над полицией, сами были полицейскими и чаще всего занимали сторону сослуживцев. Мы признали, что это просто смешно — сообщать о недопустимом поведении полицейских таким же полицейским. Мы надеялись изменить саму ситуацию, в которой происходят стычки с полицией, — следовать за полицией с оружием в руках и тем самым заставить полицейских изменить свое поведение. Община должна была заметить это и проявить интерес к партии. Таким образом, наши вооруженные патрули становились в том числе и способом пополнения рядов партии.
Поначалу патрулирование имело абсолютный успех. Растерянные и напуганные, полицейские не знали, как им следует поступать, потому что они не сталкивались с такими патрулями раньше. Полицейские были знакомы с патрулями, поднимавшими тревогу. Подобные патрули действовали в других городах. Однако никогда еще оружие не становилось неотъемлемым элементом программы по патрулированию. С оружием в руках мы уже не был подчиненными, мы были равны полицейским.
Если мы были не в патруле, то все равно останавливались, стоило нам увидеть, как полицейские допрашивают нашего брата или сестру. Вооруженные, мы прохаживались неподалеку, следя за полицейскими с «безопасного» расстояния. Важно было не давать полицейским повода утверждать, что мы мешаем выполнять им служебные обязанности. Мы спрашивали жителей общины, не нарушали ли их права полицейские. В большинстве случаев при виде нас полицейский быстро убирал свой блокнот в карман, садился в машину и улепетывал без оглядки. Остановленные полицейским граждане при нашем появлении приходили в не меньшее изумление, чем стражи порядка.
В моей машине всегда лежали сборники законов. Порой, когда мне случалось видеть полицейского, пристающего с расспросами к чернокожему гражданину, я останавливался где-нибудь поблизости и начинал читать вслух подходящие отрывки из Уголовного кодекса, чтобы было слышно всем присутствующим. Цитируя Уголовный кодекс, мы просвещали тех, кто глазел на полицейских за работой. Если полицейский арестовывал гражданина и забирал его в участок, мы ехали следом и сразу же вносили залог. Многие жители общины сначала никак не верили, что мы болеем за них всем сердцем и нам ничего от них не нужно. Раньше никто не оказывал им поддержку или содействие, когда они сталкивались с полицией. Но теперь появились мы, гордые чернокожие, вооруженные пистолетами и знанием закона. Немало граждан вступали в нашу партию, только-только выйдя из тюрьмы. Статистика убийств и насилия, совершенных полицейскими, в наших общинах резко снизилась.
Изо дня в день мы занимались патрулированием. Иногда мы садились полицейскому на хвост и преследовали его, выставив напоказ наше оружие. Если он кружил по кварталу или старался зайти к нам в тыл, мы ему не мешали, и в итоге он выбивался из сил, а мы по-прежнему маячили позади него. Так или иначе, мы отнимали у полиции порядочно времени, которое, в противном случае, было бы потрачено на притеснение негров.
По мере того, как росли наши силы, мы удвоили патрули, а затем и утроили их. Теперь наше патрулирование распространялось на всю близлежащую территорию, охватив Окленд, Ричмонд, Беркли и Сан-Франциско. Большая часть патрулей занималось обычным обходом общины. Вместе с тем у нас не было строгого графика патрулирования, чтобы полицейские не имели возможности предупредить наш выход. Они никогда не знали, где и когда мы покажемся. Это могло случиться поздно вечером или рано утром. Некоторые браться выходили на патрулирование каждый день в одно и то же время, но никогда не повторяли свой маршрут. Основная цель патрулирования заключалась в том, чтобы научить общину защищаться от полиции, и для этого мы не нуждались в четком расписании. Мы сознавали, что невозможно обеспечить полную защиту какой-либо территории. Лишь сама община могла эффективно обороняться и, в конце концов, освободить себя. Мы хотели всего лишь показать общине, как можно этого добиться. Мы распространяли наши печатные материалы и программу среди граждан, которые собирались вокруг нас, обсуждали с ними проблему защиты общины. Мы объясняли им их права в отношении оружия. Количество членов партии росло не переставая.
От «Черных пантер» всегда требовалось и до сих пор требуется осуществлять свою деятельность в рамках закона. Это требование постоянно звучало на наших семинарах по политической подготовке, а также, когда мы объясняли, как следует носить оружие и обращаться с ним. Если бы мы преступали закон, тем самым мы дали бы полицейским преимущество, и они продолжили бы устрашать нас. Нам также было известно, что община все-таки побаивалась оружия и полицейского, который это оружие носил. Поэтому мы изучали законодательство, касающееся оружия, и не выходили за пределы своих прав. Нарваться на арест из-за оружия значило повредить нашей программе, направленной на просвещение людей относительно их конституционного права на ношение оружия. Пока мы соблюдали закон, полиция ничего не могла с нами сделать, а люди видели, что вооруженная самооборона — это не что иное, как осуществление их законного, закрепленного в Конституции права. Так можно было победить их сомнения и страхи и побудить их выступить против угнетателей.
Мы не только наблюдали за полицейскими и читали Уголовный кодекс на улицах в ходе патрулирования. Неизменно шокированные встречей с группой дисциплинированных и вооруженных чернокожих, пришедших на помощь общине, полицейские реагировали на нас странным и непредсказуемым образом. От испуга некоторые из них превращались в сущих детей и начинали поносить и оскорблять нас. Мы платили им той же монетой, обзывая их свиньями. Но мы никогда не бранили их, ведь это могло повлечь за собой арест, а мы прилагали массу усилий, чтобы уберечься от ареста, да еще с оружием. Чтобы продемонстрировать трусость полицейских общине, мы использовали тактику «шок-а-буку».[40] Порой было занятно наблюдать за поведением полицейских. Оружие, при помощи которого они повергали безоружную общину в страх, делало их чрезмерно самоуверенными. Когда мы выровняли ситуацию, их скрытая трусость вышла наружу.
Вскоре полицейские начали нам мстить. Мы ожидали этого — должны же они были как-то нам ответить — и приготовились. Мы обуздали свой страх перед смертью, и это позволяло нам иметь дело с полицией при любых обстоятельствах. Полицейские стали вести учет личного транспорта «Черных пантер». Как только в их поле зрения оказывалась наша машина, они обязательно ее останавливали и осматривали в поисках возможных неисправностей. Это была детская уловка, но именно так привыкли действовать полицейские. Мы всегда следили за своими машинами и держали их в порядке, и полицейские из сил выбивались, чтобы найти хотя бы один предлог с целью остановить нас. Поскольку мы были в ладах с законом, они довольно скоро перешли к незаконным способам. Лично меня полиция останавливала и расспрашивала раз сорок или пятьдесят, причем меня не арестовывали и даже не выписывали штрафную квитанцию в большинстве случаев. Несколько раз все заканчивалось ордером на арест, и это доказывало, как далеко были готовы пойти полицейские. Однажды меня остановили и стали проверять номера и осматривать машину с целью уличить меня в нарушении Автомобильного кодекса. В течение получаса полицейский ходил вокруг да около моей машины, проверяя, в порядке ли фары, гудок, шины и прочее и прочее. Наконец, он начал дергать задний номерной знак. Оттуда выскочил болтик, и полицейский выписал мне квитанцию за поддельный номерной знак.
Некоторые стычки с полицией носили более драматический характер. Временами полицейские вытаскивали свои пистолеты из кобуры, а мы доставали свои. Так продолжалось до тех пор, пока мы не оказывались в тупике. Эти инциденты с оружием частенько случались со мной. Нередко я чувствовал, что когда-нибудь полицейские сойдут с ума и нажмут на курок. У некоторых полицейских настолько расходились нервы, что казалось, они вот-вот выпустят пули из своих пистолетов. Я предпочел бы получить пулю от смельчака, гораздо меньше склонного к панике, но мы были готовы ко всему. Иногда полицейские грозились выстрелить, полагая, что запугают меня до смерти. Но я помнил уроки, полученные во время одиночного заключения, и насквозь видел все глупые выходки полицейских. Они могли означать лишь одно — полиция нас боялась, это было яснее ясного. Каждый день мы заявляли о себе, полностью сознавая то, что мы можем не вернуться домой и больше не увидеть друг друга. Нас связывали такие узы, прочнее которых нет на свете.
Однажды, когда я садился в свою машину, припаркованную перед первым офисом «Черных пантер» на Пятьдесят восьмой-стрит в Окленде, какой-то полицейский вынул пистолет и нацелился на меня. Вокруг нас стали собираться люди, но полицейские приказали им очистить территорию. Не обращая внимания на пистолет, я вышел из машины и попросил собравшихся пройти в офис нашей партии. У людей есть право наблюдать за действиями полиции. Потом я назвал полицейского неграмотным голодранцем из Джорджии, приехавшим на Запад искать спасения от издольщины. После этого я стал ходить вокруг машины и рассказывать собравшимся гражданам о полиции и о праве каждого человека носить оружие. Я действовал чисто на удачу, но понимал, что полицейский не застрелит меня при таком скоплении народа. Он бы очень хотел убить меня безо всякого повода, я больше чем уверен, но не на глазах стольких свидетелей.
Другой полицейский позволил себе не меньше. Этой инцидент произошел в Ричмонде. Я задержался на улице, чтобы посмотреть, как полицейский на мотоцикле задает вопросы какому-то гражданину. При виде меня полицейский испытал заметное раздражение, и это было видно невооруженным взглядом. Однако я продолжал стоять на месте, находясь на разумном расстоянии от полицейского, и сжимал дробовик в руке. Закончив разбираться с гражданином, страж порядка подкатил ко мне на мотоцикле и спросил, намеревался ли я выдвинуть обвинение в проявлении жестокости со стороны полиции. Примерно десяток людей столпился вокруг нас. «Ты что, параноик? — ответил я на это. — Ты думаешь, ты что-нибудь значишь? Ты думаешь, я буду тратить свое время на то, чтобы пойти в полицейский участок и заявлять на тебя? Да ни за что. Ты просто трус, вот и все». С этими словами я забрался в свою машину. Полицейский попытался помешать мне закрыть дверь, но я захлопнул ее и сказал мотоциклисту в форме, чтобы он убрал прочь свои руки. К этому моменту наблюдавшие за происходящим люди уже вовсю смеялись. Спасаясь от унижения, полицейский уехал, кипя от злобы. Проехав пол-улицы, он развернулся и поехал назад. Он испытывал дикое желание что-то сделать, его лицо побагровело от гнева. Полицейский притормозил рядом с моей машиной, наклонил ко мне голову и произнес: «Ночью ты бы такого не сделал». В ответ я сказал: «Вы правы. Совершенно точно не сделал бы, но вы мне угрожаете сейчас, не так ли?» Он покраснел пуще прежнего, резко нажал на газ и убрался восвояси.
Полицейские со страшной силой хотели достать меня, но им приходилось делать свою грязную работу не на виду у общины. Имея дело с невооруженным гражданином, полицейские обходились с ним жестоко, причем это происходило случайно. Но если человек был готов защищать себя, то в этой ситуации полицейские мало чем отличались от преступников, предпочитая работать по ночам.
Был еще один случай. Я оплатил несколько счетов отца и завернул в наш офис. Поскольку я не хотел вредить семейным делам, я не взял с собой дробовик, оружие осталось дома. Зато у меня на поясе висел кинжал в ножнах. В офисе находились два товарища: Уоррен Такер (он был одним из командиров в партии) и еще один член нашей партии. В разгар нашей беседы в офис ворвался одиннадцатилетний мальчик и сообщил, что в доме его друга бесчинствуют полицейские. Этот дом находился всего в трех кварталах от нашего офиса, и мы поспешили к месту происшествия. У Такера на боку болтался пистолет сорок пятого калибра, но у нас оружия не было. Мы вообще не держали в офисе никакого оружия, потому что бывали там время от времени.
Когда мы прибыли в нужный дом, то обнаружили там троих полицейских. Они переворачивали кушетки и кресла, с криком требуя у маленького мальчика ответить, где он спрятал дробовик. Парнишка без устали повторял, что у него нет никакого дробовика, но полицейские продолжали искать. Я спросил у полицейского, который показался мне главным в этой компании, был ли у него ордер на обыск, на что мне ответили, что в ордере нет необходимости, так как обыск проводился «по горячим следам». Потом мне было сказано покинуть помещение. Мальчик просил меня остаться, так что я продолжил расспрашивать полицейских. Я сказал им, что они не имели права находиться в доме. Наконец, полицейский обернулся ко мне и посоветовал убраться подобру-поздорову. Я сказал, что уходить не собираюсь, а вот им не помешало бы, ведь ордера у них не было.
В середине нашего спора домой вернулся отец мальчика и первым делом попросил полицейских предъявить ордер на обыск. Когда полицейские признались в том, что ордера у них действительно нет, хозяин велел им покинуть его дом. Полицейские уже уходили, и тут один из них, задержавшись в дверях, спросил у отца мальчика: «Почему вы нас выпроваживаете? Почему не избавитесь от этих «Пантер»? Они создают проблемы». Мужчина ответил им так: «До сей поры я недолюбливал «Пантер». Я слышал о них много неприглядных вещей, но сейчас я изменил свое отношение к ним, ведь они помогли моему сыну, когда вы с ним плохо обращались».
После этого полицейские завелись еще больше. Вся их враждебность теперь была направлена на нас. Пока эти трое спустились по крыльцу и прошли в сад, к дому подъехали новые полицейские. Дом был расположен прямо через дорогу от Оклендского городского колледжа, и десяток полицейских машин привлек внимание многих прохожих — около дома собралась толпа любопытных. Выставленный из дома полицейский почувствовал прилив храбрости при виде подкрепления. Он пересек сад и подошел ко мне, бросив: «Вы всегда создаете нам проблемы». Приблизившись вплотную, он процедил сквозь зубы, чтобы никто больше не услышал: «Ты мудак». Это был обычный полицейский прием — так обзываться, я эту их стратегию знал как свои пять пальцев. Он хотел спровоцировать меня, чтобы я оскорбил его в присутствии свидетелей. Таким образом, полицейский получил бы повод для ареста. Но я был уже приучен к осторожности. Обозвав меня, полицейский ожидал немедленного взрыва, но реакция последовала вовсе не такая, какую он ожидал. Я обозвал его свиньей и склизкой змеей — в общем, сказал то, что пришло в голову, но обошелся без богохульства.
Полицейского, казалось, хватит удар. «Ты говоришь мне такие вещи, а у тебя еще и оружие есть. Ты выставляешь оружие в оскорбительной и угрожающей форме, — сказал полицейский». Затем он повернулся к Такеру, а пистолет Уоррена был по-прежнему в кобуре, и добавил, обращаясь к нему: «И ты тоже». Словно по сигналу, пятнадцать стоявших вокруг полицейских нерешительно обступили нас троих и достали наручники. При этом они не заявили, что хотят нас арестовать. Если бы они сказали это, мы с радостью согласились бы на арест в сложившихся обстоятельствах и не стали бы оказывать сопротивление. Нас потащили в машину для перевозки арестованных. Вовсю выли сирены, полицейские машины наводнили улицу. Глядя на все это, можно было подумать, что полиция захватила какого-то крупного мафиози. Нас затолкали в машину и стали обыскивать. У Такера в кармане был перочинный ножи, вроде тех, которым пользуются бойскауты. В итоге полицейские отказались от обвинения в «демонстрации оружия в оскорбительной и угрожающей форме» и обвинили Уоррена в ношении запрещенного оружия. Но, в конце концов, и это обвинение было снято.
Подобные случаи повторялись снова и снова, потому что полиция не оставляла нас в покое. А мы всего лишь сделали свой выбор — реализовали законное право на самооборону и горой стояли за общину. Несмотря на то, что мы действовали абсолютно по закону, нас арестовывали и предъявляли нам всевозможные сфабрикованные обвинения в мелких нарушениях. Полицейские искали способ запугать нас и настроить против нас общину, но их мероприятия производили противоположный эффект. К примеру, после вышеописанного столкновения наша партия пополнилась за счет студентов городского колледжа, которые наблюдали за инцидентом собственными глазами и видели, как все происходило в действительности. Прежде они были настроены весьма скептически, поскольку деятельность нашей партии пресса преподносила в черном свете. Однако увидеть — значит поверить.
Зачинщик этого инцидента свидетельствовал против меня в 1968 году, когда я проходил по делу об убийстве полицейского. Когда мой адвокат, Чарльз Гэрри, проводил перекрестный допрос свидетеля, полицейский признался в том, что испугался «Черных пантер». Он, с его шестью футами роста и 250 фунтами веса, утверждал, что я, который ростом пять футов десять с половиной дюймов и весом в 150 фунтов, «окружил» его. Все дальше отклоняясь от фактов, он заявил, что ничего мне не говорил, что, напротив, боялся открыть рот от страха. «Черные пантеры» якобы запугали его до смерти, потрясая перед его лицом своими мощными ружьями, называя его свиньей и угрожая прикончить. По его словам выходило, что он сильно опасался, как бы я не убил его своим кинжалом, хотя последний все время был в ножнах. Полицейский утверждал, что я подошел к нему вплотную, я был «прямо у его лица», и, как он выразился, я «был повсюду». Довольно говорить про показания полицейских.
Помимо патрулирования и столкновений с полицией, я занимался привлечением новых членов в партию. И я нашел немало желающих вступить в нашу партию, шатаясь по бильярдным залам и барам. Иногда я проводил там по 12–16 часов в день. Я распространял листовки с нашей программой, объясняя каждый пункт все, кто собирался меня послушать. Таким образом я вникал в дела общины и неизбежно втягивался во все, что там происходило. Этот ежедневный контакт с общиной стал важной частью наших организаторских усилий. В Северном Окленде есть бар-ресторан, известный как «Bosn's Locker». Обычно я называл это местечко своим офисом, потому что порой просиживал там двадцать часов кряду, беседуя с приходившими в бар людьми. Почти всегда со мной был дробовик, если владельцы заведения не возражали. В противном случае я оставлял оружие в машине.
В другое время я шел в городской колледж или в Оклендский центр обучения, т. е. в места, где собирались люди. Работа это была тяжелая, но не в смысле, т. е. в места, где собирались люди. Работа это была тяжелая, но не в том смысле, в каком говорят об обычной работе с ее смертельно скучной рутиной и осознанием тщетности пустого труда. Эта работа имела для меня важнейшее значение; весь смысл моей жизни заключался в ней, к тому же она сближала меня с людьми.
Работа по привлечению новичков в партию имела еще одно интересное направление: я пытался изменить многие так называемые криминальные занятия, местом для которых служила улица, стараясь придать им политический характер, хотя на это требовалось время. Я не пытался уничтожить эти явления — букмеккерство, перепродажу краденого, наркотики. Я просто старался перенаправить мелкий криминал в полезное для общины русло. Обычно у любого негра рождается чувство вины, если он эксплуатирует общину. Вместе с тем, если его ежедневная борьба за выживание будет связана с деятельностью, которая подрывает существующий порядок, он чувствует себя гораздо лучше. Приобщение к такой деятельности пробуждает в нем чувство справедливости и усиливает ощущение собственной значимости. Многие чернокожие братья, специализировавшиеся на кражах и принимавшие участие в подобных темных делишках, стали давать оружие и оказывать материальную помощь для обороны общины. В целях выживания они по-прежнему были вынуждены продавать краденое, но в то же время они передавали какую-то часть выручки нам. В этом смысле воровство становилось больше личного дела.
Постепенно «Черных пантер» признали в общине Залива. Общине требовался пример сильных людей, обладающих чувством собственного достоинства, и мы являли собой этот пример, показывая остальным, как надо защищаться. Что было еще важнее — мы жили среди них. Они могли каждый день видеть, как с нами народ становится ведущей силой.
18. Элдридж Кливер
Самостийничанье обычно неотделимо от склонности людей к выпячиванию своего «я» на первый план. Такие люди обычно неправильно подходять к вопросу об отношении между своей личностью и партией. На словах они тоже уважают партию, однако в действительности ставят себя на первый план, а партию — на второй. Ради чего лезут из кожи вон эти люди? Они добиваются славы, положения, дешевой популярности… Этих людей губит их бесчестность.
Мао Цзэдун. Маленькая красная книжечкаОднажды вечером, это было в начале 1967 года, мне позвонил Бобби Сил и попросил сходить с ним на радиостанцию в центре города. Он приехал ко мне вместе с Марвином Джэкмоном. Этот чернокожий писал пьесы и собирался стать мусульманином. Мы пытались уговорить Джэкмона вступить в нашу партию, но его вера запрещала ему иметь какое-либо отношение к оружию. Джэкмон и еще один брат-мусульманин приехали вместе с Бобби на машине адвоката Беверли Аксельрод, знаменитую в Калифорнии своим участием в правозащитных делах. Целью поездки была встреча с Элдриджем Кливером, бывшим заключенным,[41] чья известность росла как на дрожжах. Этим вечером у него как раз должны были брать интервью. Я уже слышал выступления Элдриджа, но мы никогда не общались лично, к тому же я еще не прочел «Душу во льду», книгу Элдриджа, получившую шумное одобрение критиков. Я вообще не был знаком ни с одной из его работ. Все, что мне было известно об этом человеке, — это то, что он недавно вышел из тюрьмы, отсидев порядочный срок.
Полученный Элдриджем опыт и его активное участие в движении не остались не замеченными мною, и я сильно желал встречи с ним. Не могут же все бывшие заключенные быть отрицательными типами. Пока мы ехали на радиостанцию, мы слушали приемник. По радио передавали интервью Элдриджа. Мне понравилось, что Элдридж рассказал о своей юности и работе в движении после выхода из тюрьмы. Он говорил точными фразами и демонстрировал понимание сути вещей. Казалось, он действительно ясно представлял себе нужды общины и то, что должны сделать негры, чтобы освободить самих себя. Когда мы подъехали к радиостанции, Элдридж был все еще в прямом эфире.
Сразу после интервью у нас с Элдриджем состоялся долгий разговор. Впрочем, это было мало похоже на диалог: Элдридж едва сказал ли слово. Я использовал все свое красноречие, чтобы убедить его присоединиться к партии и принять нашу программу. Я доказывал ему, что мы развиваем идеи Малькольма и воплощаем их в жизнь. Я также объяснил, что программа Малькольма была довольно расплывчата, поскольку у нее не было возможности изложить ее с предельной четкостью, а потом ему помешала смерть. После его ухода из жизни появилось много различных групп, претендующих на роль продолжателей дела Малькольма, но наша партия была единственной, взявшей в руки оружие и начавшей обучать общину самообороне. Именно это и предполагала программа Малькольма, и мы со всей серьезностью стали воплощать ее.
Элдридж молча слушал. Он заговорил лишь раз, когда кивнул головой в знак согласия. Он произнес всего два слова: «Я знаю». Но он не задал ни одного вопроса и никак не отреагировал на нашу программу. После того, как я закончил, Элдридж сказал, что он обязан вдове Малькольма, Сестре Бетти Шабаз, и что он обещал работать бок о бок с ней, чтобы воплотить мечту Малькольма. Затем Элдридж ушел.
Я был озадачен нашей первой встречей. Возможно, он ничего не понял из того, о чем я говорил, хотя он вроде бы кивал головой и показывал, что согласен. Мне казалось, что, если бы он действительно меня понял, то он обязательно задал мне несколько вопросов или высказал парочку критических замечаний. Когда человек чем-то заинтересован, он хочет узнать об этом больше. Элдридж хранил поистине сфинксово молчание. Прочитав главу из «Души во льду», где описывалась вся структура полиции от местного до международного уровня, я осознал, почему Элдридж совсем со мной не спорил той ночью: он отлично все понимал и был полностью согласен со мной.
Несколько недель спустя мы вместе с Элдриджем оказались на собрании «Бумажных пантер» в Сан-Франциско. Это была группа культурных националистов, называвших себя «Черными пантерами Северной Калифорнии». У них было что-то вроде филиала в Лос-Анджелесе. Я понятия не имею, откуда они взялись и какие у них был цели. Но Дэвид Хиллиард окрестил их «Бумажными пантерами» по той причине, что их деятельность сводилась лишь к производству печатной продукции. В отличие от Бобби и меня они выросли не в квартале. Они принадлежали к более привилегированному обществу.
Офис «Бумажных пантер» находился по соседству с офисом организации под названием «Черный дом». Основателями этой организации были Элдридж Кливер и Марвин Джэкмон. Офис представлял собой обычный дом больших размеров в Филморе. На втором этаже жили люди, а первый этаж (его превратили в комнату для собраний) использовали для политической и общественной работы. Лерой Джонс (сейчас имам Амири Барака) в течение семестра преподавал в Сан-францисском университете, и иногда по пятницам он приходил в «Черный дом» читать стихи. Появлялись здесь и другие поэты, и вообще в «Черном доме» без конца велись дискуссии и умные разговоры. Это весьма напоминало Окленд и Беркли. Насколько я мог судить, «Черный дом» эксплуатировал Элдриджа, который оплачивал аренду дома и огромные телефонные счета. Остальные не делали ничего полезного, лишь лгали на тему «как быть черным».
В начале февраля 1967 года все эти группы собрались вместе для финансирования проведения программы по случаю годовщины убийства Малькольма. Ожидалось прибытие почетной гостьи — вдовы Малькольма, Сестры Бетти Шабаз. Организаторы программы хотели обеспечить ей охрану, поскольку было опасение, что ее тоже могли попытаться убить. Бобби и я присутствовали на собрании, где обсуждался вопрос охраны. Хотя мы испытывали презрение к «Бумажным пантерам», мы все же согласились принять участие в обеспечении охраны Сестры Бетти. На собрании был и Элдридж, как всегда, хранивший полное молчание. Детали эскорта были проработаны заранее, и вот наступил день приезда почетной гостьи. Мы присоединились к остальным в Сан-Франциско, и все вместе направились в аэропорт встречать Сестру Бетти.
Еще до отъезда из Окленда я сказал товарищам по партии, что в предстоящем деле не будет места арестам. Если что-нибудь случится, мы будем сражаться до последнего человека, но не дадимся в руки полиции. Нам предстояло особое задание — охранять Сестру Бетти, и в том случае, если они были не готовы расстаться с жизнью, им не следовало отправляться на это задание.
Такое жесткое условие было поставлено мною по двум причинам. Во-первых, Сестра Бетти являлась вдовой Брата Малькольма, нашего великого вождя и мученика, а также матерью его прекрасных детей. Мы не могли позволить, чтобы с ней что-нибудь случилось, после того как Истеблишмент так вероломно лишила жизни ее мужа. Во-вторых, я слышал рассказ ее кузена, Хакима Джамала, о том, что произошло во время визита Сестры Бетти в Лос-Анджелес. Как выяснилось, полиция разогнала группу Рона Каренги, которая обеспечивала охрану Сестры Бетти. Они оставили ее одну посередине улицы. Поэтому я отдал приказ, чтобы никто не пошел на арест. Если нас арестуют, мы оставим Сестру Бетти беззащитной и, значит, не выполним нашу задачу.
Мы прибыли в аэропорт. Самолет благополучно приземлился, и мы встретили Сестру Бетти. Мы окружили ее со всех сторон и повели к машинам. Люди глазели на нас в большом удивлении. Полиция аэропорта явно нервничала и чувствовала себя несчастной: ей вряд ли понравилась наша акция. Но мы-то знали, что делали, и знали закон. Мы заботились о вдове Малькольма.
Из аэропорта мы повезли ее в редакцию журнала «Рэмпартс», это в центре Сан-Франциско. Там она должна была встретиться с Элдриджем, Кенни Фриманом, Айзеком Муром и другими людьми. Пока они беседовали, мы оставались около дверей редакции, сдерживая полицейских, которые прятались повсюду. Когда встреча закончилась, Сестра Бетти сказала нам, что ей бы не хотелось, чтобы журналисты ее фотографировали. Поэтому мы прихватили с собой журналы и держали их вокруг Сестры Бетти. Десятки репортеров поджидали нас снаружи. В толпе было человек тридцать полицейских. Мы были готовы.
За мой журнал ухватился журналист с седьмого канала Чак Бэнкс. Но я вцепился в журнал со своей стороны и не выпускал его. Я сказал парню отпустить мою собственность. В правой руке у меня был зажат дробовик, в левой — журнал. Когда журналист понял, что ему не удастся вырвать у меня журнал, он толкнул меня журналом в грудь. Тогда я отшвырнул журнал и ударил парня левой рукой, тот упал. Прежде чем врезать Бэнксу, я сказал четверым братьям вытаскивать Сестру Бетти отсюда. Я был уверен, что снаружи что-то затевается: количество полицейских в здании явно указывало на это. Мы не должны были повторить поступок Каренги. Наконец, Сестра Бетти села в машину и уехала. После этого я переключил внимание на текущую ситуацию и сказал полицейским арестовать Бэнкса за то, что он ударил меня в грудь и к тому же нанес ущерб моей собственности. Как я и ожидал, полицейские ответили, что если они кого-то арестуют, то это буду я. Именно тогда я сказал своим людям рассредоточиться по улице, окружив полицейских. В этот момент один из «Бумажных пантер» безоружный выбежал на улицу и заорал что-то вроде: «Не целься из того пистолета!» С дробовиком в руке, нацеленным в голову полицейскому, я сказал: «Если вы начнете вытаскивать оружие, здесь будет настоящая бойня». Курок у меня был взведен, дробовик снят с предохранителя и заряжен. У полицейских не было дробовиков, в их распоряжении имелись лишь револьверы. Начни они стрелять, мы уничтожили бы их на месте.
Наш разговор с полицией был коротким. В воздухе повисло смертельное спокойствие. Я предупредил полицейского, он видел мое оружие и стоял не двигаясь. Когда некоторые товарищи повернулись к полицейским спиной, готовые уйти, я посоветовал им не давать полиции возможность совершить «оправданное убийство». Подобно всем событиям такого рода, эта сцена намертво отпечаталась в моей памяти; я все еще могу восстановить каждую деталь этого напряженного и быстротечного столкновения. Потом мы все-таки пошли к нашим машинам, держа оружие на взводе, и уехали. Мы сдержали обещание, данное Сестре Бетти.
Позже мы узнали кое-что о «Бумажных пантерах». Увидев, что все может плохо кончиться, Рой Бэллард побежал в здание. Там он попросил какую-то женщину спрятать его пистолет у нее в дипломате, а сам спрятался, дрожа от страха. Он даже не уехал вместе с нами. «Бумажные пантеры» были всего-навсего еще одним прикрытием для Движения за революционные действия. Они ни на что не годились, кроме как запускать мимеограф и трепать языком. Если бы охрана Сестры Бетти была доверена им, женщина оказалась бы в затруднительном положении.
Совсем скоро, когда встреча памяти Малькольма завершилась и Сестра Бетти покинула Сан-Франциско, мы узнали, что в тот день оружие у «Бумажных пантер» было не заряжено. Он так и ходили с бесполезными пистолетами и в аэропорту, и перед редакцией «Рэмпартс». Получалось, что мы сдерживали полицию одни. У этих парней не было даже патронов. Когда я сам расспросил Бэлларда об этом, он не стал ничего отрицать. (Через несколько недель мы подъехали в Сан-Франциско, где у «Бумажных пантер» были свои дела. Мы предъявили им ультиматум: либо они сливаются с нами, либо меняют название, либо распадаются. Они отказались от всех вариантов, так что мы на них набросились. Я выбрал себе противника и ударил его в челюсть. Драка была непродолжительной и закончилась спустя несколько мгновений, когда кто-то выстрелил в воздух и начали собираться люди. После этого «Бумажные пантеры» все-таки сменили свое название.)
После столкновения с полицией у редакции «Рэмпартс» мы вернулись в «Черный дом» и отдохнули, пока не пришло время отправляться на собрание, посвященное памяти Малькольма. Собрание проходило в Общественном центре «Хантерс поинт» в одной из бедных негритянских общин Сан-Франциско. Мы больше не увидели Сестру Бетти, хотя она хотела встретиться с нами. «Бумажные пантеры» украли ее. Они заверили Сестру Бетти в том, что мы тоже будем присутствовать на собрании. Они сопровождали ее на собрание, пока мы обеспечивали безопасность. Предполагалось, что мы будем выступать, но Кенни Фриман из Движения за революционные действия, мастер всяких церемоний, не дал нам слова.
По пути из «Черного дома» на собрание Элдридж ехал в одной машине со мной. Он спросил меня насчет своего вступления в «Черные пантеры». Его просьба удивила меня. Я уже перестал надеяться на то, что он когда-нибудь к нам присоединится, поскольку он не выказывал никакого интереса к этому, а я никогда не пытался завлекать людей в нашу партию назойливыми уговорами. Главное, чтобы они услышали о программе, дальше выбор был за ними. Но Элдридж был себе на уме. Совершенно ясно, что он принял решение о вступлении в нашу партию задолго до того, как мы поехали в офис «Бумажных пантер» обсуждать организацию эскорта для сопровождения Бетти Шабаз.
Мое удивление быстро перешло в удовольствие. У Элдриджа были навыки, которых нам с Бобби недоставало и которые были необходимы для выполнения нашей программы. Элдридж был вдохновленным писателем, вдобавок прошлый опыт превратил его в сильного духом товарища, готового к суровым испытаниям, которые ждали нас впереди. Я не строил догадок насчет Элдриджа, хотя в нашей беседе проскальзывало что-то, поражавшее меня. И вообще наш диалог довольно долго оставался бессмысленным. Элдридж упорно продолжал называть меня Бобби и постоянно твердил, что «этот Ньютон здорово их вздул». Как-то раз, незадолго до памятной поездки в Сан-Франциско, меня пригласили на разговор. Встреча была назначена на аллее для гуляния в парке Прово, в Беркли. Но вместо себя я послал туда Алекса Папиллона. Непонятным образом журналист принял его за меня, хотя Алекс и сказал, что это я прислал его. Что еще больше запутало дело, так это то, что Элдридж принял Алекса за Бобби Сила. У Алекса был с собой пистолет, и каждый раз, высказывая какое-нибудь решительное утверждение, он похлопывал рукой по своему пистолету. Алекс стал известен как «пантера, похлопывающая по пистолету». Я толком не знаю, как Элдридж разузнал об этом случае. Возможно, он сам был там. Как бы то ни было, лично для него парнем с пистолетом был Ньютон. Поэтому пока мы ехали с ним в машине, он все время повторял фразу «Ньютон точно их вздул», припоминая ту фантастическую речь. Я был настолько удивлен, услышав все это, что не стал возражать, и решил посмотреть, как долго Элдридж будет налаживать с нами отношения.
На мой взгляд, желание Элдриджа присоединиться к нам вызревало постепенно, росло медленно. Это происходило и на собрании, где обсуждался вопрос охраны Бетти Шабаз, и в парке Прово, и перед редакцией «Рэмпартс». Теперь я вижу, что Элдридж и не собирался помогать чернокожим, он просто искал для себя ярко выраженный символ мужественности. В то время нас многие неадекватно воспринимали, полагая, что наша партия пыталась всего лишь обрести свое мужское лицо. На самом деле все было с точностью до наоборот: партия действовала именно так, как она действовала, потому что мы были мужчинами. Мало кто чувствовал эту разницу. Что касается Элдриджа, то на данном этапе своей жизни он пробовал раскрыть в себе мужчину. Принятая в партии униформа, пистолеты, уличные мероприятия — все это служило дополнением к образу силы. Так что Элдридж ушел из Организации за афро-американское единство и из «Бумажных пантер» и присоединился к нам в конце весны 1967 года.
Справедливости ради надо сказать, что поначалу Элдридж много чего делал для партии. Ведь он блестящий писатель, убедительный оратор, умный и талантливый человек. Мы поняли тогда, что больше всего Элдридж может помочь в издательстве газеты «Черная пантера». Мы начали выпускать ее в апреле 1967 года. Идея издавать газету принадлежала Бобби Силу. Газета сразу же начала играть важную роль, став средством сообщения всей правды о партии и об общине. Но лишь трое из нас работали над выпуском газеты. Для троих это практически невозможная задача — регулярно выпускать газету объемом, по меньшей мере, двенадцать страниц, а иногда и все двадцать. Сначала мы издавали газету раз в месяц, но вообще-то поставили себе цель выпускать ее и распространять на улицах каждые две недели или, по возможности, раз в неделю. Элдридж поработал на славу, участвуя в подготовке газеты.
Однако вскоре я заметил, что Элдриджа было днем с огнем не отыскать, когда сроки выпуска газеты поджимали. Обычно мы использовали тактику «шокэбуку», чтобы заставить его писать и редактировать материалы. Казалось, что энтузиазм в нем просыпается, когда происходило что-нибудь сенсационное, например, перестрелка, или когда его не было в городе, или когда он попадал в тюрьму. После того, как в апреле 1968 года был убит Бобби Хаттон, а Элдриджа осудили и отправили в тюрьму Вакавиль, газета стала выходить регулярно — каждую неделю. Но, выйдя из тюрьмы, Элдридж взялся за старое и не стал работать в коллективе. Элдридж всегда был какой-то замкнутый, и лучше всего у него получалось работать в одиночку, когда он реализовывал собственные планы тем или другим способом. И газета от этого страдала.
Такое независимое поведение наносило партии ущерб. Было очень важно, чтобы мы работали все вместе, целиком и полностью отдаваясь делу, особенно когда мы брались за какой-либо проект. К примеру, мне бы хотелось, чтобы Элдридж беседовал с членами партии, в особенности с новичками и с молодежью. Беседовал на те же самые темы, которые он обсуждал с иппи (политическая радикальная группа, члены Международной партии молодежи), Партией за мир и свободу, политическими организациями радикально настроенной белой молодежи, а также со студентами в кампусах. Я питал глубокое уважение к способности глубоко проникать в суть вещей и к знаниям, которые Элдридж приобрел благодаря занятиям и чтению. Но когда я попытался уговорить его сделать из группы простых людей настоящих бойцов, он отказался. Он не обучил ни одной группы, не потратил сил ни на одну программу. Его постоянно можно было видеть выступавшим по радио и на телевидении. Элдриджу было все равно перед кем выступать, лишь бы аудитория восхищалась им, была очарована. И чем сильнее слушатели и зрители выражали свой восторг, тем лучше.
Элдридж неверно оценивал белое радикальное движение. Он играл на их отчужденности и поощрял молодых белых воспринимать себя как «плохих» негров, тем самым заставляя их еще дальше отходить от своего общества. В то же время он соблазнял молодых чернокожих позиционировать себя в качестве богемы, изгнанников из «Вавилона», где преобладал средний класс (Вавилон был поэтичной, но ошибочной метафорой: Вавилоном для Элдриджа стала сверхиндустриальная Америка). В результате в наших отношениях с общиной засквозило временное отчуждение, а белые радикалы в свою очередь еще больше погрузились в кризисное состояние, связанное с поисками самоопределения. Редкостная политическая и культурная шизофрения Кливера заразила нас всех, черных и белых. Была упущена возможность сделать так, чтобы молодежь той и другой расы в конкретной форме выразила присущие ей чувство единства и любви, значение которых огромно. Эту задачу все еще необходимо решать.
Мы с Бобби все-таки относились к люмпен-пролетариату негритянской общины, поэтому мы были на ножах с богемой и белыми радикалами. Но стоило Элдриджу появиться в партии, как вскоре он потащил нас на встречу с диггерами в Сан-Франциско. Встреча была назначена на их складе в Хейт-Эшбери. Оказавшись там, мы никак не могли понять, зачем мы туда пришли. Элдридж ничего нам не объяснил. На складе царил невероятный беспорядок. С трудом пробравшись через груды мусора, мы все-таки ухитрились поговорить с некоторыми диггерами. Как выяснилось, они хотели, чтобы мы обеспечивали им охрану. К ним приставали местные байкеры. Я даже поперхнулся, когда понял, о чем идет речь. Да какое право имели эти люди просить нас обеспечивать им защиту? Я сказал им самим заняться своей охраной.
Элдридж много времени проводил в Хейт-Эшбери и на Телеграф-авеню в Беркли; хотя мы избегали дальнейших контактов с диггерами, в скором времени мы стали привлекать хиппи и иппи в партию. Многие из них сидели на наркотиках. Мы с Бобби начинали как черные националисты и испытали влияние мусульман и Малькольма Икса. Поэтому мы держались подальше от скандалов, связанных с наркотиками. В отличие от Элдриджа никто из нас не отождествлял себя ни с людьми из Хейт-Эшбери, ни с людьми с Телеграф-авеню, и тем более мы не имели отношения к наркотикам.
Я отыскал Элдриджа для партии, потому что он побывал в тюрьме. При этом я считал, что он не был таким уж плохим только из-за того, что отсидел за решеткой. Но я заблуждался, доверяя Элдриджу и веря в него. Он нанес несколько серьезных ударов по партии. И дело было не только в том, что он распахивал наши двери для хиппи. Он мог бы помочь продвинуть вперед наши программы или повысить уровень нашей газеты, или вникать в дела бедняков общины, или создавать политический механизм. Но Элдридж не стал всем этим заниматься. Он лишь впустую рассуждал о «нанесении ударов» и запускал сенсационные мероприятия. В конечном счете, Элдридж жил в мире фантазий.
Время шло, и Элдридж все больше удалялся от нас, от идеологии и целей «Черных пантер». С нами происходили грандиозные события, события, угрожавшие самому нашему существованию. После каждой такой неудачи истинная позиция Элдриджа становилась все яснее и яснее, хотя долгое время я отказывался признавать или даже замечать правду.
Братья связаны между собой революционной любовью. Эту любовь мы питаем друг к другу, эта любовь выковалась из верности и доверия. Этот элемент партии «Черная пантера» не может быть уничтожен. И все-таки, в конечном итоге, Элдридж предал эту любовь и обязательства, причем в такой форме, которая казалась мне невозможной.
19. Дензил Доуэлл
В любом черном гетто в нашей стране найдется едва ли одна семья, не столкнувшаяся лично с коррумпированной судебной системой и репрессивным тюремным аппаратом. Для чернокожего революционера искать правосудия в суде не просто невозможно. Негры вообще чаще всего оказывались жертвами буржуазного правосудия, чем получали правосудие надлежащим образом.
Анжела Дэвис. Если они придут утром[42]Северный Ричмонд — это негритянская община, где проживает около девяти тысячи жителей. Находится к северо-западу от города Ричмонда. Община возникла во время Второй мировой войны. Тогда на этой территории обретали временное пристанище негры вроде моего отца. Они приезжали с Юга и работали на верфях. Главным работодателем в ту пору «Кайзер Индастриз». Эта компания несла ответственность за создание общины. Предполагалось, что прибывшие из южных штатов работники-негры отправятся обратно, после того как в их услугах отпадет необходимость. Но Юг мало что мог предложить, к тому же у людей были свои планы. Они остались, однако Истеблишмент нашел способы их наказать. Большая часть населения Северного Ричмонда лишена городской собственности, причем это было сделано обманным путем. Людей также оставили без помощи общественных организаций, за исключением организаций округа Контра-Коста. Во главе многих из этих организаций стоят расисты, а они не желают видеть у себя под носом черных. Из-за этого немало народа в Северном Ричмонде прозябает в нищете и терпит нужду.
С одной стороны общину окружает гигантская мусорная свалка, где обитает множество крыс. С другой стороны находится нефтеперегонные заводы компании «Стэндарт Оил» — различные отходы и вредный дым попадают отсюда прямо на территорию общины. Порой бывает трудно сделать вдох и не закашляться при этом. Промышленные потребности района, очевидно, более важны, чем человеческие нужды. В Северный Ричмонд ведут всего лишь две-три дороги, и каждая из них пересекается с железнодорожными путями. Поэтому в чрезвычайной ситуации жителям очень сложно выбраться из общины: приходится сидеть в машине и ждать, пока пройду товарные поезда. Кроме того, ограниченный въезд в общину позволяет полицейским наглухо перекрывать территорию в любое время, когда им вздумается, чем они нередко и пользуются.
Приблизительно половина населения Северного Ричмонда приходится на детей и молодежь в возрасте до девятнадцати лет. Этот факт рождает особые проблемы, связанные с образованием и проведением молодежных программ, поскольку огромная потребность возникает именно в указанных социальных функциях. Большое количество подростков выходит из средней школы такими же неграмотными, каким выпустили оттуда меня. Им предстоит стать отбросами общества. Недавно, в 1971 году, на средства местного населения было построено несколько новых детских площадок. На одной из них дети не смогли играть: повылезавшие со свалки и протекавшего поблизости ручья крысы просто затерроризировали их. Репортажи сан-францисской газеты «Кроникл» ясно очертили позицию городских властей. По мнению последних, крысы чувствовали себя в общине, как дома, потому что местные жители так хотели. Северный Ричмонд ничем не отличается от многочисленных негритянских общин Калифорнии и Соединенных Штатов в целом. Отрезанных от остального мира, погруженных в невежество, забытых всеми людей в этих общинах держат в состоянии подчинения. Особенно преуспела в этом полиция, которая обращается с общинами, будто с колониями.
Семья Дензила Доуэлла проживает в Северном Ричмонде. Здесь 1 апреля 1967 года офицерами из Управления шерифа округа Контра-Коста был убит Дензил. Ему было двадцать два. По словам полицейских, Дензила застрелили при попытке скрыться из краденой машины, когда полицейские остановили его. Поскольку его обвинили якобы в совершении уголовного преступления, его убийство посчитали «оправданным».
После гибели Дензила нас привел в его семью Марк Комфорт, яркий, сильный человек. Он давно занимался организацией чернокожих в Окленде. Доуэллы попросили нас прийти к ним, потому что они были не согласны с официальной версией смерти Дензила. Подобно большинству негритянских семей, они знали о вероломстве полиции, но также понимали, насколько мало можно что-нибудь через существующие институты. Вся семья Доуэллов причисляла себя к «Черным пантерам». Мы пришли в дом Доуэллов воскресным днем и были тронуты глубоким горем и чувством беспомощности, таким распространенным среди негров, оказавшихся в подобных обстоятельствах. Мне не раз приходилось с этим сталкиваться, и мы видели это снова и снова по мере того, как все глубже вникали в жизнь людей.
Миссис Доуэлл, красивая, привлекательная женщина из знатной семьи, рассказала нам о жизни своего сына. Она потратила бездну времени и энергии, пытаясь хотя бы как-то выжить в Северном Ричмонде. Ей нужно было поддерживать семью и растить детей и не кое-как. Она сделала все, что могла, и у нее хорошо получилось. И все-таки не в ее силах было поправить ситуацию со школами и прочими учреждениями. Они мешали ее детям достичь тех целей, которым их учили дома. Миссис Доуэлл ужасно страдала из-за смерти сына и из-за того, что власти так равнодушно и пренебрежительно отнеслись к гибели Дензила. Она знала, что ее сын был убит совершенно хладнокровно.
Мы начали собственное расследование, в то время как полицейские проводили свое. Пока они старались прикрыть свои деяния, мы добивались правды. Полицейские постоянно беспокоили миссис Доуэлл, обращались с ней крайне пренебрежительно. Они стучались в дверь, проходили в дом и все время искали доказательства, которые были бы им на руку. Однажды я оказался в доме Доуэллов в тот момент, когда к ним заявилась полиция. Как только миссис Доуэлл открыла дверь, в дом ворвался полицейский и сразу начал задавать вопросы. Я схватил свой дробовик и заслонил женщину, сказав полицейскому, чтобы он либо предъявил ордер на обыск, либо покинул дом. Он замер где-то на минуту, совершенно ошарашенный. Потом выбежал из дома, помчался к машине и уехал.
Мы ознакомились с рапортом полицейских об обстоятельствах гибели Дензила. Однако официальная версия нас не удовлетворила, и мы продолжили собственное расследование. При этом мы всегда носили оружие на виду у всех. Вместе с Доуэллами мы побывали на месте убийства, указанном в рапорте, и проверили там каждую деталь. Я изучал методы полицейской работы в колледже. Это позволило мне выявить ряд противоречий в официальных отчетах. Например, полицейские утверждали, что Дензил перепрыгнул через один забор и готовился перемахнуть через следующий, когда был застрелен. Но дело в том, что у Дензила в результате автомобильной аварии была повреждена нога, поэтому едва ли он мог быстро бегать и тем более штурмовать заборы. Предполагалось, что он пересек какую-то автомобильную свалку, где было полно мусора и разлитого машинного масла. В то же время следов масла на ботинках Дензила не обнаружили. По словам полицейских, Дензил истек кровью после ранения и умер. Но мы не нашли лужи крови на месте происшествия. Мы также знали, что брат Дензила и друзья нашли его, лежавшего одного. Выстрелив в Дензила, полицейские не сделали попытки оказать раненому медицинскую помощь или спасти ему жизнь. Все эти детали приобретали значение и вызывали беспокойство в свете того факта, что Дензил был хорошо известен полиции. Полицейские уже несколько раз угрожали, что доберутся до него. В темноте, без всяких свидетелей, они предательски исполнили свою угрозу.
То же самое случилось и с Малышом Бобби Хаттоном, с Фредом Хэмптоном, Марком Кларком в Чикаго, со студентами в Оранжбурге, во время резни в университете в г. Джэксоне на Юге. Это случалось со многими тысячами безвестных негров на протяжении всей истории нашей страны, с ними, бедными и бессильными жертвами, чьи семьи были затерроризированы до смерти или слишком слабы, чтобы громко высказаться против угнетателей. Полиция убивает нас в открытую и называет это оправданным убийством. Они всегда сочиняют какую-нибудь историю, но элементарное расследование выявляет их ложь. Вот почему мы должны разоружить полицию в наших общинах и контролировать ее действия, если мы хотим выжить.
Когда наше расследование опровергло официальную версию, мы обвинили полицию в убийстве Дензила Доуэлла и собрали общину для обсуждения наших находок. Мы провели митинг в субботу днем на углу Третьей-стрит и Чесли в Северном Ричмонде. Наши бойцы с оружием наготове расположились на всех четырех углах перекрестка. Община чувствовала себя немного робко, но испытывала гордость, видя, как чернокожие стали на защиту их интересов. К моменту нашего прибытия все уже настроились на встречу с «Черными пантерами». Местные жители задали нам ряд вопросов о нашем оружии, было ли оно заряжено и было ли его ношение законным. Мы объяснили, какую политику проводим в отношении оружия, и рассказали о праве на его ношение. Потом случилась примечательная вещь. Один за другим жители общины сходили к себе домой, взяли свои пистолеты и присоединились к нам. Даже какая-то семидесятилетняя сестра вышла к нам с дробовиком.
Узнав о предстоящем митинге, полиция вновь испугалась и пришла в растерянность. Когда мы приехали на митинг, то заметили одного полицейского, сидевшего в машине на углу. Они часто так делали: подъезжали и останавливались на углу Третьей и Чесли, сидели в машине и устрашали людей. Но стоило полицейскому увидеть, как мы, вооруженные, заняли свои места, а нас поддержала целая толпа народа, как он тут же снялся с места — только его и видели.
Первым заговорил Бобби, я продолжил выступление. Мы изложили все, что нам стало известно о деле, и указали на ошибки официального следствия. Наших слушателей очень впечатлил тот факт, что кто-то, такой же, как они, набрался смелости и вступил в противоборство с полицией, предъявив реальные доказательства. Мы призвали жителей общины вооружаться и защищать себя от собак-расистов. Мы подчеркнули, что у них на это было полное право, и пообещали научить их всему, причем не только в теории, но и на практике.
Пока мы разговаривали с общиной, по Чесли-стрит проехала еще одна полицейская община. Увидев собравшихся на митинг людей, полицейский стал двигаться по направлению к ним. Но как только он углядел наше оружие, он развернулся прямо на середине улицы и умчался прочь. Народ разразился громкими одобрительными криками.
Совсем скоро у нас состоялась новая встреча с общиной. Мы продолжили обсуждение обстоятельств убийства Дензила и тех мероприятий, которые мы могли в этой связи сделать. Мы уже представили найденные нами нестыковки в полицейском рапорте и теперь хотели поднять сознание общины на более высокий уровень. Это собрание мы проводили в помещении, чтобы подробно все обсудить. На собрании присутствовали два адвоката: белый адвокат был от программы по социальной защите, чернокожий был заинтересован в деле. Ни у одного из них не было сильной линии аргументации. Белый согласился с тем, что Дензил погиб в результате убийства, но сказал, что он мало чем мог здесь помочь. Дензил Доуэлл был мертв, а адвокат не мог позволить себе слишком далеко высунуться, ведь его работа в данном случае оплачивалась из общественных фондов.
Адвокаты посоветовали Доуэллам съездить в Мартинез, главный город округа, и поговорить с шерифом Янгером. Он отвечал за полицейское патрулирование общины. Мы нашли, что это хорошая идея, и после собрания взяли свое оружие и проводили семью Дензила к офису шерифа. Когда мы туда подъехали, полиция окружила здания и заблокировала все лифты. Нам было сказано, что мы не можем войти в здание с оружием. Однако мы знали, что это не было противозаконным действием. Мы попросили полицейских сослаться на соответствующее законодательство, запрещавшее нам входить в здание с оружием. Они не смогли выполнить нашу просьбу. Хотя им и пришлось признать, что такого закона не существует, они не разрешили нам войти. Но мы все-таки вошли внутрь здания и стали настаивать на встрече с Янгером. Полицейские и сотрудники управления столпились в лифтах и блокировали двери, ведущие на лестницы. Тогда мы потребовали, чтобы они либо арестовали нас, либо отошли с дороги. Нам сказали, что арестовывать нас не будут, так как мы не совершили никаких нарушений. В то же время никто не собирался пускать нас дальше с оружием.
Этот случай вновь доказывает, что, если притеснитель не может воспользоваться законом, то он будет действовать незаконным образом. Противники имели явное численное преимущество, да и семья Дензила, все еще не пришедшая в себя после его трагической гибели, очень хотела поговорить с Янгером. Доуэллы попросили нас оставить оружие в машине и пойти с ними к шерифу, ошибочно полагая, что они чего-нибудь добьются разговорами. Из уважения к семье Дензила мы оставили оружие и проводили их в кабинет шерифа.
Янгер отказался подозревать полицейского, убившего Дензила. Он также не стал обсуждать политику своего управления в отношении стрельбы по подозреваемым. «Если вы хотите изменить ситуацию в ваших общинах, — продолжал шериф, — вам следует поехать в Сакраменто и обратиться с петицией в законодательный орган штата, подняв вопрос об изменении закона». Шериф также сказал, что, согласно закону, даже если Дензил Доуэлл был безоружен (а он и был не вооружен, так как оружия на месте происшествия не нашлось), существовала «достаточная причина», заставлявшая полагать, что Дензил находился в процессе совершения уголовного преступления. Поэтому полицейский имел право убить его. По мнению шерифа, какие бы доказательства мы ни собрали, закон есть закон, а если закон нам не нравился, то лишь законодательный орган штата мог нам помочь.
После этой беседы Доуэллы яснее ясного поняли, что в существующих учреждениях они не добьются правосудия в деле о гибели их любимого сына и брата. Дензил был наказан полицейским. Закон оправдывал действия «благоразумного полицейского», считавшего, что подозреваемый совершает уголовное преступление. Такова горькая реальность. Поставленные для того, чтобы нас контролировать, полицейские — вовсе не разумные люди. Они бесчеловечные сумасшедшие, которые видят в негритянской общине рассадник отклоняющегося от нормы поведения. Поэтому-то они и считают, что убивать нас по ночам, когда никто не видит, — это «оправданное» действие.
По делу о смерти Дензила Доуэлла никакого официального расследования проведено не было, несмотря на обещание, данное нам в офисе окружного прокурора в Мартинезе. По документам Дензил числится как погибший подозреваемый. Коррумпированное, недобросовестное управление полиции вкупе с равнодушным законодательством сделали из Дензила виновного. Их не волнует, что семья погибшего тяжело переживает его потерю или что имя Дензила так и осталось запятнанным. Все как всегда, ничего не изменилось к лучшему.
«Черные пантеры» сделали все, что могли, обращаясь к властям. Но перед нами открылась новая перспектива. В наших силах было пойти дальше обращения к официальным лицам в Мартинезе и обнародовать результаты нашего собственного расследования. Бобби предложил выпустить листовку и описать там митинг и все попытки «Черных пантер» помочь Доуэллам. В смело озаглавленной листовке говорилось обо всем, что было связано с убийством. Это была первая наша газета. Когда мы взяли ее в руки, нам показалось, что мы преодолели еще один барьер между «Черными пантерами» и общиной.
Прежде мы никогда не думали о выпуске газеты. Напечатанные на бумаге слова всегда казались пустыми, тщетными. Однако случай с Доуэллом навел нас на мысль о том, что неплохо было бы найти способ информировать общину о разных фактах и поощрять ее на активные действия. Нам не хватало доступа к радио, телевидению и прочим средствам массовой информации. Поэтому нам были нужны альтернативные средства связи с общественностью. Мы должны были отыскать эти средства самостоятельно, никто не сделал бы это за нас. В партии насчитывалось всего лишь пять-шесть сотрудников, занятых на целый рабочий день, но мы полагались на общину, ожидая, что она выручит нас. Многие лично знали Дензила Доуэлла и охотно взялись за дело.
Большая часть работы, связанная с выпуском нашей первой газеты, была бесплатно выполнена для нас на мимеографе в альтернативном издательстве одних хиппи. В ту пору альтернативные газеты только-только начинали выпускать. Ты приносил ребятам материал, а они печатали его на электрической трафаретной машине. Все необходимое для печати — бумагу, чернила и скрепки — мы покупали за свой счет и сами сшивали листовку. Потом мы отнесли готовые листовки в общину для распространения ее среди жителей.
Мы хотели заплатить разносчикам газет за то, чтобы они вложили нашу листовку в ричмондскую газету «Индепендент», оклендскую «Трибьюн» и выходившую в Сан-Франциско «Кроникл». Однако, узнав о том, чему была посвящена наша газета, разносчики не взяли с нас ни гроша. Они разнесли свои газеты и принялись распространять нашу. У нас было порядка трех тысяч экземпляров для начала. За каждый мы просили десять центов. Вырученные таким образом деньги пошли Доуэллам в счет расходов на похороны Дензила, а также на покрытие затрат на газету. Если кто-то не давал десяти центов, мы все равно вручали ему экземпляр газеты и просили прочесть ее. Но большинство людей платило деньги.
Кроме Северного Ричмонда, мы распространяли газету в Парчестер-вилладж, небольшом негритянском поселке в миле от Северного Ричмонда в северном направлении. Мы также побывали в нескольких негритянских кварталах Южного Ричмонда. Мы не упускали из вида ни один уголок и распространяли нашу газету повсюду. Мы взяли напрокат фургончик, чтобы возить газеты, и милю за милей он следовал за нами.
Как и в любом другом месте, в Ричмонде мы произвели необычное впечатление. Еще бы, ведь мы были одеты в черные кожаные куртки, черные береты и перчатки, а на плечах у нас висели дробовики. У Бобби всегда на поясе был пистолет сорок пятого калибра. Обычно при виде нас люди останавливались и подзывали нас к себе, интересуясь, что же мы такое распространяли. Это был отличный пример изобретенного нами способа вооруженной пропаганды. Я сказал «нашего способа», потому что в нашем случае это происходило не совсем так, как на Кубе. Впечатленный успехом партизан под командованием Кастро, кубинский народ покинул свои дома и пошел за Кастро. Отсюда следует, что для кубинского вождя партизанская война была подходящей формой пропаганды. Когда мы, вооруженные, шли по улицам Ричмонда, — это была наша пропаганда. Уважение людей к партии проявлялось не только в том, что они хотели читать материалы о Дензиле Доуэлле, но и в том, что они хотели больше узнать о нас. Эта цель стояла перед нами всегда — пробуждать интерес к общему делу и к нашей партии. Затем мы могли переходить к объяснению необходимости вооруженной самообороны. Нашу идею уже не так сложно было втолковывать, поскольку люди не понаслышке знали проблемы и искали пути их решения.
Дело Дензила Доуэлла сыграло решающую роль в развитии партии «Черная пантера». Пока мы старались разобраться в обстоятельствах гибели Дензила и открыть правду людям, мы впервые предприняли столь масштабный «выход в народ», начали выпускать свою газету, которая помогала нам освещать события с точки зрения негров и информировать о них общину. Наше телеграфное агентство, связывавшее все общины, и еженедельная газета «Черная пантера» заняли центральное место в программах по выживанию, принятых в нашей партии. Так что, в некотором смысле, гибель Дензила Доуэлла не была напрасной. Каждый новый номер газеты продолжает борьбу, начатую нами тогда. В каком-то отношении газета «Черная пантера» всегда будет оставаться посвящением Дензилу.
20. Сакраменто и «законопроект против пантер»
Что настигает их,
Заставляя чувствовать неловкость, страх?
Сегодня они кричат тебе запретные слова:
«Не делай этого»,
«Не делай того»,
«Только для белых».
Ты смеешься.
Единственное, что они не в силах запретить, -
Сильного человека… он идет,
Сильный человек становится еще сильнее.
Сильный человек…
Сильнее…
Стерлинг Э. Браун. Сильный человекПри воспоминании о первых шагах «Черных пантер» нас с Бобби охватывает ностальгия. Это было время открытий, мы горели энтузиазмом. Мы общались с полицией на равных и даже давали ей отпор, оставаясь при этом в ладах с законом. Тем самым мы конкретным примером показывали общине, что и у чернокожего есть гордость. Везде, где мы проезжали, на дороге случались пробки. Водители на встречных машинах останавливали нас, чтобы сказать, насколько они уважают нашу смелость. Идея вооруженной самообороны в качестве целенаправленной политики общины была пока внове для людей и немного их пугала. Зато эта идея заставляла их задуматься и что еще важнее — она вызывала ощущение сплоченности. Увидев реакцию чернокожих граждан на наше движение, мы почувствовали новый прилив сил. Несмотря на постоянную угрозу возмездия, наш риск стоил того и даже больше. Однако на тот момент наша деятельность охватывала небольшую территорию, мы же хотели, чтобы чернокожие всей страны узнали об оклендской истории.
В апреле 1967 года оклендская радиостанция пригласила нас принять участие в ток-шоу. В этой передаче слушатели задают по телефону вопросы и высказывают свое мнение. Сначала мы озвучили нашу программу из десяти пунктов, объяснив, почему мы сосредоточились на седьмом пункте и почему неграм необходимо вооружаться. Мы также пояснили, что мы действуем в полном соответствии с нашими конституционными правами. После этого на радиостанцию обрушился шквал телефонных звонков от слушателей — линии оказались перегружены. Некоторые слушатели выражали свое согласие, другие спорили с нашей программой. Мы только приветствовали дискуссию, потому что критические отзывы помогали нам обнаружить слабые места в программе и заострить нашу позицию.
Среди позвонивших на радио бы Дональд Малфорд, консервативно настроенный республиканец, член законодательного органа штата от Пьемонта (это один из богатых районов Окленда, где живут белые). Малфорд был настолько тесно связан с властями города, что его звонок мог означать лишь одно: атаку на «Черных пантер» он счел политически выгодной. Он сообщил, что планирует внести в законодательный орган штата законопроект, после принятия которого наше патрулирование с оружием становилось незаконным. Как сказал сам Малфорд, этот законопроект «достанет» «Черных пантер». Звонок Малфорда был закономерным ответом системы. Нам известно, как эта система работает. Если мы использовали законы в свою пользу и одновременно против их интересов, структура, реализующая власть, попросту изменит законы. Малфорд рвался в бой, так сильно ему хотелось внести эти изменения.
Несколько дней спустя в газете была опубликована статья о «законопроекте против пантер», который предложил Малфорд. Как мы и ожидали, законопроект был нацелен на конституционное право на ношение оружия, это следовало из статьи. До сих пор белые владели оружием и носили его беспрепятственно. Было известно, что у таких группировок, как «минитмены» и «рейнджеры»[43] из Ричмонда, имелись целые арсеналы, но никто не выдвигал против них законопроекты. Оклендская полиция попросила Малфорда выступить с законодательной инициативой по причине того, что некоторые «молодые чернокожие хулиганы», как они нас прозвали, разгуливали с пистолетами. Этот законопроект стал еще одним доказательством наличия в нашей стране порочного двойного стандарта в отношении негров. В действие постепенно запускался обычный образец белого расизма. Они убивали все больше и больше негров, только на этот раз работу Ку Клукс Клана выполняла полиция.
«Черные пантеры» никогда не рассматривали такие полувоенные группировки, как Ку Клукс Клан или минитменов, в качестве особо опасных объединений. Подлинная опасность исходит от высокоорганизованных сил Истеблишмента: от местной полиции, от Национальной гвардии, американской армии. Именно они и только они опустошили Уоттс и лишили жизни невинных людей. По сравнению с ними полувоенные группировки не имеют особого значения. На самом деле их едва ли можно причислять к организованным структурам. Их образуют мужчины в форме, и от них пахнет опасностью. Каждый день они приходят в наши общины и творят жестокости, прекрасно зная, что закон защитит их.
Мы с Бобби Силом обсудили предложенный Малфордом законопроект исходя из побуждений самого Малфорда. Шериф Янгер в шутку предложил Доуэлла попытать счастья в законодательном органе штата, где, может быть, рассмотрят их дело. Доуэллам всего-то хотелось, чтобы произошло нечто хорошее после всего обрушившегося на них горя. Мы знали, что в Сакраменто семье Дензила скажут не больше, чем сказал им Янгер. Возможно, законодатели посоветуют им обратиться к губернатору, а губернатор махнет рукой в сторону Вашингтона.
Вот так и работают институты государственной власти. Твоего сына убивает полиция, и никто ничего не делает. Семью жертвы посылают из одной инстанции в другую, пока она не выбивается из сил, устав от этой круговерти, и не решает все бросить. Это очень эффективный способ сломить сопротивление бедных и угнетенных, у кого нет времени на обивание порогов. Для бедняков время — деньги. Поездка в Сакраменто означает, что ты не получишь зарплату за день, а то и вовсе останешься без работы. Если эта система называется демократией, то очевидно, что это демократия буржуазная, рассчитанная на средний и высший класс. Лишь их представители могут позволить себе воспользоваться благами демократии.
Все это мы знали, но, тем не менее, не отказались от мысли поехать в Сакраменто. Все мы — и «Черные пантеры», и Доуэллы — с самого начала понимали, что бесполезно бороться за изменения в законодательстве. Раз уж нас отправили в Сакраменто, мы решили придать нашей поездке еще большее значение. Мы надеялись предупредить людей об опасных последствиях законопроекта Малфорда и рассказать им об идеях, которые стоят за этим законопроектом. Общественный протест национального масштаба помог бы Доуэллам: они бы увидели, что их трагедия послужила общему делу. Кроме того, общественный резонанс мог вдохновить на активные действия нашу общину.
Десятки журналистов и фотографов осаждали здание законодательного органа штата, охотясь за сенсацией. Нам представилась отличная возможность для выступления. Если до законодателей дойдет наше послание — это тоже хорошо. Но наша главная цель заключалась в том, чтобы доставить послание народу. К зданию законодательного органа штата отправились четверо или пятеро членов семьи Дензила, группа братьев из Восточного Окленда (их собрал Марк Комфорт) и «Черные пантеры». «Пантеры» и парни Комфорта были вооружены.
Партия согласилась, что я не должен принимать участие в поездке по двум причинам. Во-первых, в то время я был условно-досрочно освобожден и находился под надзором после обвинения по делу Одела Ли. Поэтому остальные члены партии не хотели подвергать риску мою свободу. Во-вторых, на случай возможных арестов в Сакраменто нужен был кто-нибудь, кто внес бы залог и сделал прочие необходимые вещи.
Пока «Пантеры» готовились к поездке, я написал Наказ № 1 (Executive Mandate Number One), который и должен был стать нашим посланием негритянским общинам. Вот что содержалось в этом документе:
«Черная пантера — партия за самооборону» призывает весь американский народ и в особенности чернокожих обратить самое пристальное внимание на законодательный орган штата Калифорния, в котором заседают одни расисты. В данный момент там рассматривается законопроект, цель которого — держать негров безоружными и бессильными, в то время как полицейские управления, где царят расистские настроения, усиливают террор и жестокости в отношении негров, убивают их, устраивают репрессии.
Пока американское правительство ведет расистскую войну и осуществляет геноцид во Вьетнаме, восстанавливаются и расширяются концентрационные лагеря, в которых во время Второй мировой войны содержались американцы японского происхождения.[44] Поскольку Америка с давних пор оставила самое варварское обращение для тех, у кого не белый цвет кожи, мы вынуждены заключить, что эти концентрационные лагеря готовятся для чернокожих, намеренных отвоевать свою свободу любыми средствами. Обращение негров в рабов, что началось с момента основания страны, истребление американских индейцев и заключение уцелевших в резервации, беспощадное линчевание тысяч чернокожих мужчин и женщин, сбрасывание атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, наконец, развернутая сейчас трусливая резня во Вьетнаме — все это доказывает, что расистская властная структура Америки проводит лишь одну политику. И составляют ее репрессии, геноцид, террор и политика «большой дубинки».
Чернокожие просили, умоляли, обращались с петициями, выступали с демонстрациями. Среди прочего они хотели добиться того, чтобы расистская властная структура Америки исправила многочисленные несправедливости, совершенные по отношению к неграм на протяжении всей истории. В ответ на эти попытки репрессии, обман и лицемерие только возрастали. Как агрессия расистского американского правительства заявляет о себе во Вьетнаме, так полицейские управления усиливают репрессии в негритянских гетто по всей Америке. Злые полицейские собаки, дубинки для быдла, усиленные патрули стали обычным явлением для негритянских общин. Мэрия пропускает мимо ушей мольбу чернокожих жителей как-нибудь утихомирить этот растущий террор.
«Черная пантера — партия за самооборону» считает, что пришла пора неграм вооружаться и ответить на полицейский террор, пока не слишком поздно. Находящийся на рассмотрении Закон Малфорда еще больше приблизит час нашей гибели. Народ, который так много и так долго страдал, живя в расистском обществе, должен положить этому конец. Мы думаем, что негритянские общины Америки должны подняться все как одна, чтобы не дать развиться этой тенденции, которая неизбежно приведет к их полному уничтожению».
Проинструктировав Бобби, напоследок я постарался внушить ему, что наша основная цель заключается в том, чтобы доставить послание людям. Если будет открыт огонь, Бобби тоже должен будет использовать оружие. Если на него будет нацелен пистолет и если, по его мнению, этот пистолет будет выхвачен в гневе, во что бы то ни стало он должен защитить себя. Но Бобби было также сказано, что стрелять или переходить в наступление следует лишь в случае непосредственной опасности. Если его попытаются арестовать, он должен был оттягивать этот момент до тех пор, пока не расскажет людям все, что надо. Донести до людей наше послание — вот что было самое главное. Прописывая все эти вещи, я сказал Бобби, что, если его пригласят войти в здание законодательного органа штата или позволят это сделать, он должен был прочитать послание там. Но если в здание заходить не положено или если будут предприняты меры, чтобы не допустить нашу группу, не надо туда прорываться. В этих обстоятельствах следовало прочесть наше обращение к народу прямо со ступеней законодательного учреждения.
Отряд «Черных пантер» выехал в Сакраменто рано поутру. Было это 2 мая. Сразу после отъезда моих товарищей я пошел в дом своих родителей. В тот день я обещал матери прокосить лужайку перед домом. Но я взял с собой переносной приемник и поставил его на крыльцо, чтобы слушать новости. Я зашел в дом и включил телевизор, попросив мать следить за эфиром. После этих приготовлений можно было взяться и за работу.
Около полудня программа по радио была прервана информационным сообщением. В нем говорилось о братьях, прибывших с оружием к зданию законодательного органа штата. Мать прокричала мне из дома, что все каналы транслируют происходящее. Я бросился к телевизору и увидел на экране Бобби. Он зачитывал наказ. Совершенно точно — наше послание передавалось и по радио, и по телевизору. Бобби прочел его два раза. Однако присутствовавшие при этом журналисты и обычные люди были настолько поражены появлением «Черных пантер» и особенно видом оружия, что, казалось, немногие услышали то важное, что было вложено в наше обращение. Все сосредоточились на оружии. Мы надеялись на то, что оружие привлечет внимание людей и после этого они вслушаются в наше послание.
Через некоторое время в эфир пошел очередной репортаж. На этот раз речь шла об аресте братьев. Бобби арестовали за ношение запрещенного оружия, хотя он всего-навсего носил сбоку пистолет и не скрывал этого. Некоторые братья обвинялись в том, что не вытащили патроны из своего оружия после того, как убрали его назад в машину. Я названивал по телефону. Наконец, мне удалось связаться с одной женщиной из нашей партии, которая была среди участников поездки в Сакраменто. Выслушав ее рассказ, я приступил к следующей стадии нашего плана — сбору денег для внесения залога. Вечером я отправился на местную радиостанцию. В эфире шло ток-шоу, в котором обсуждалось происшествие в Сакраменто. Звонившим на радио людям говорили, что я попал в число тех, кого забрали в тюрьму. Я решил, что в этом случае лучше всего дать опровержение лично. Так что я пошел на радиостанцию, как сделал бы Малькольм, и попросил выпустить меня в эфир. Немало удивленный, один из руководителей программы уставился на меня и сказал: «Ты же вроде бы в тюрьме». «Ну да, я в тюрьме, — ответил я, — но все же дайте мне доступ в эфир».
Я объяснил слушателям наш план. При этом я чувствовал, что не достигаю цели, потому что участников ток-шоу обычно больше интересует то, как прозвучит их выступление, а не сам предмет разговора, и поэтому тебе приходится в первую очередь бороться с этим. Зато мне удалось призвать слушателей к сбору денег. После арестов в Сакраменто нам требовалось $50 000, чтобы внести залог и вернуть наших бойцов к активной деятельности на улицах. В течение суток я нашел $5000. Все шло по плану.
Оглядываясь назад, я прихожу к выводу о том, что наша тактика в Сакраменто была для того времени правильной, но одновременно в каком-то смысле и ошибочной. Впервые за все недолгое время существования нашей партии вооруженная группа «Черных пантер» подверглась аресту. Это вызывало переворот в представлениях полиции. Мы не сопротивлялись аресту, потому что наша цель была выше. Но до этого случая полицейские еще не пытались разоружать нас. Обычно они наставляли на братьев свои дробовики, держали их под прицелом и надевали на них наручники и не слишком хорошо с ними обращались. Я отдал приказ открывать исключительно ответный огонь. Возможно, мне следовало приказать стрелять в любом случае. Тогда бы они поняли, что наши намерения очень и очень серьезны. Однако мы не хотели убивать, мы хотели донести наше слово до людей, дать понять народу, какую позицию занимает партия. Но после нашего выступления в Сакраменто полиция стала воспринимать «Черных пантер» как ребят, которые лишь прикрываются оружием, но не пускают его в ход. Такое отношение повлекло за собой целый ряд проблем для нас. После Сакраменто потребовалось какое-то время, чтобы напомнить полиции, с кем она имеет дело. Теперь все стало на свои места: полицейские знают, что им придется изрядно побороться, если они попытаются напасть на нас.
Тем не менее, наше выступление в Сакраменто было, конечно, успешным в том плане, что нам удалось привлечь внимание людей. Те, кто не услышал наше послание полностью, видели оружие, и это было достаточно для чернокожих. На территории Залива больше узнали о партии, и вскоре к нам присоединилось столько новобранцев, что партией уже стало трудно управлять. Нам звонили со всех уголков страны с просьбой основать там филиалы нашей партии. Мы еле-еле успевали отслеживать подобные звонки. За какие-то считанные месяцы мы превратились из небольшой группы, известной лишь в райное Залива, в организацию национального уровня. Так что мы приступили к улучшению нашей программы.
21. Новые старания
Я принял такое решение: где бы я ни оказался, я непременно буду вести себя как свободный человек, а не как раб… Я буду неизменно вежливым и спокойным в обхождении со всеми людьми, с кем я вхожу в контакт, и в то же время буду настойчиво и непрерывно отстаивать свои права человека и права брата.
Фредерик Дуглас. Моя жизнь в рабстве и на свободеЗаконопроект Малфорда был принят законодательным органом штата Калифорния в июле 1967 года. За него проголосовало подавляющее большинство. Сразу после утверждения этого законопроекта, согласно которому ношение заряженного оружия стало противозаконным действием, мы прекратили вооруженное патрулирование. Исчезновение наших патрулей полиция восприняла как знак того, что мы готовы подчиниться. В результате полицейские стали преследовать нас с удвоенной силой. После нашего выступления в Сакраменто прошел всего лишь месяц, как мы оказались втянуты в новую, глупую и детскую, историю.
Как-то в июне в Ричмонде состоялась вечеринка с целью сбора средств в фонд, из которого брались деньги для внесения залогов. Сразу после нашего приезда, откуда ни возьмись, появились полицейские, правда, они остались стоять около своих машин. Это был дурной знак. Однако мы решили не обращать на них внимания и получили удовольствие от вечеринки, проведя в гостях весь вечер. Часа в два ночи вечеринка подошла к концу. Мы сошлись на том, что неплохо бы нам задержаться еще чуть-чуть во избежание лишних проблем. Мы посчитали, что полиция, возможно, уедет после того, как гости немного разойдутся. Но как выяснилось, они поджидали именно нас, «Черных пантер». Мы стали состязаться с полицией в терпении: полицейские выключили зажигание, погасили фары у своих машин и сидели в темноте; мы оставались в доме и продолжили развлекаться уже самостоятельно.
Но, в конце концов, когда на часах было пять утра, нам пришло время уезжать. Мы вышли из дома и сели в машины. Один из членов нашей партии, Джон Слоун, развернулся прямо посередине улицы и поехал в нужном ему направлении, удаляясь от полиции. Насколько я знаю, такой разворот на территории жилого района разрешен, тем не менее, полицейские стали преследовать машину Джона, остановили ее примерно в квартале от того дома, где мы были, и начали выписывать штрафную квитанцию. Мы тоже остановились на подходящем расстоянии и стали наблюдать за происходящим.
Слоун отказался подписать квитанцию. На вечеринке он выпил, и, возможно, алкоголь повлиял на его поведение. Как бы то ни было, он отказался ставить свою подпись там, где его попросили. Увидев, что уговоры полицейских на него не действуют, я подошел к его машине и сказал ему: «Подпиши квитанцию. Если здесь что-нибудь не так, мы уладим это в суде, но сейчас распишись где надо». Слоун заспорил, и вскоре к месту происшествия прибыли еще семь-восемь или больше полицейских. Среди них был молодой новичок — лет двадцати двух-двадцати трех, не больше. Он приблизился к нам, стоявшим на тротуаре, и начал медленно ходить, нарочно топая по асфальту. Когда он поравнялся со мной, я отодвинулся, позволив ему пройти. Сейчас было не время драться. Пропустив полицейского, я отвернулся и продолжил успокаивать Джона и убеждать его подписать квитанцию. Слоун наконец-то пришел в себя и уже собрался расписываться, как новичок-полицейский наступил на ногу одному из наших братьев, а тот, в свою очередь, сразу и довольно резко его оттолкнул. Полицейские только этого и ждали. Они набросились на брата и стали избивать его дубинками. Я поспешил к ним, на ходу крича, что в этом нет необходимости. Все мы были без оружия. В противном случае столкновение разрешилось бы по-другому. Но, поступив как настоящие трусы, что было обычно для полицейских, они напали на безоружного человека, и завалили его. Преимущество было на их стороне.
Увидев, с какой жестокостью полицейские избивают брата, я подошел к одному из полицейских и удержал его руку от очередного удара. Этот полицейский был рослый и крепко сбитый парень. Он быстро развернулся, схватил меня и прижал к машине с такой силой, что я не мог пошевелиться. Остальные братья бросились мне на помощь. Полицейский потянулся за пистолетом, опасаясь, что они нападут на него. Однако я остановил братьев, сказал, чтобы они ничего не делали, и позволил себя арестовать вместе с Джоном Слоуном и братом, который оттолкнул наступившего ему на ногу полицейского.
Всю дорогу, пока нас везли в полицейский участок, Слоун и второй брат что есть мочи костерили полицейского. Я старался их успокоить. Мы были в наручниках, и в дальнейшей борьбе никакого смысла не было. Но они продолжали протестовать и ругаться, и, когда мы прибыли в участок, полицейские стали их дубасить, при этом наручники с них не сняли. Поскольку я молчал, я легко отделался. Полицейские провоцировали меня, но я не поддавался. Я только продолжал убеждать братьев замолчать, но они не хотели остановиться, и поэтому их начали избивать по-настоящему. Схвативший меня здоровяк был как раз в центре всего этого безобразия. Его дубинка мелькала со всей скоростью, на которую он был только способен, и он явно получал наслаждение от своей работы. После того, как братья прекратили всякое сопротивление, этот полицейский вытер со лба пот, расправил одежду и сказал остальным следующее: «Я должен идти, потому что обещал жене и детям отвезти их в девять часов в церковь».
Когда мы начали получать просьбы о содействии в создании новых отделений партии, мы ощутили потребность не только в бесстрашных бойцах. Нам не хватало административного органа, который бы учитывал все эти обращения и мог руководить крупной организацией. У братьев из нашего квартала не было никаких буржуазных навыков, необходимых для этого. Все-таки подобные навыки нам требовались, хотя мы и отвергали буржуазные ценности. Поэтому мы искали способы решить наши административные проблемы, не прекращая работы с уличными братьями.
Я поневоле уважал Студенческий ненасильственный координационный комитет. Я считал, что там работают одни из самых дисциплинированных организаторов, которых можно было отыскать в стране. Когда мы только начали задумываться о формировании партии, Бобби и я познакомились с материалами, где говорилось о работе этого комитета в южных штатах. Комитет регистрировал людей при голосовании, занимался организацией кооперативов и т. п. Мы чувствовали, что эти товарищи неплохо справились бы с административными делами партии, потому что все они были преданы делу и были хорошо обучены. Руководителями этого комитета были выходцы из студенческих кампусов.
Наш первоначальный план состоял в том, чтобы привлечь в партию Стокли Кармайкла из Студенческого комитета и сделать его премьер-министром. Затем мы хотели переманить в наши ряды все руководство комитета, включая Х. Рэп Брауна и Джеймса Формана, предоставив им административные должности. Таким образом мы надеялись достичь слияния, а не создания коалиции. Нам казалось, что лишь путем слияния с комитетом наша партия могла получить сильное руководство, в котором нуждалась.
Движение набирало силу по всей стране, постепенно достигая пика. Во многих северных городах братья стали проявлять недовольство, злиться, ощущая на себе гнет повседневных проблем. Нью-Йорк и другие города на востоке взорвались в 1964 году, Уоттс поднялся в 1965, Кливленд — в 1966. Приближалась еще одно длинное жаркое лето — лето 1967 года. Но было необходимо, чтобы братьям показали, куда им следовало направить свою энергию. Партия больше не хотела спонтанных мятежей, потому что их исход был один и тот же: люди могли освободить свою территорию лишь на несколько дней или даже часов, но в конечном итоге военные силы главного угнетателя одерживали верх. Не имея ни достаточной силы, ни организации, люди оказывались беспомощными. Как показал окончательный анализ ситуации, беспорядки приводили только к усилению репрессий и к потерям отважных людей. Открыто бунтуя, негры истекали кровью и умирали или попадали в тюрьму по незначительным либо сфабрикованным обвинениям. Если бы получилось организовать братьев в дисциплинированные группы с масштабными общественными программами, тогда энергия, которую они выплескивали в уличных бунтах, была бы направлена на достижение необратимых и позитивных перемен.
Эта проблема требовала срочного решения. По всей стране полиция дополнительно усиливалась, она набирала все больше и больше силы. Чтобы как-то с этим справляться, мы должны были организовать собственные ресурсы и создать свой административный орган. С другой стороны, несмотря на то, что в Студенческом комитете работали нужные нам профессионалы, мы предчувствовали, что комитет ждет упадок, поскольку на Юге движение постепенно ослабевало и его центр перемещался в города на Севере и Западе. Поэтому нам казалось яснее некуда, что Студенческий комитет и «Черные пантеры» нужны друг другу, а все чернокожие нуждаются и в тех, и в других.
Делая Стокли премьер-министром, т. е. главой нашей партии, на самом деле мы передавали руководство партией Студенческому комитету. Мы даже рассматривали возможность перенесения штаба партии в Атланту, где мы подчинились бы комитету и разместились бы в его зданиях, получив доступ к копировальным аппаратам и другим материальным возможностям, в которых мы отчаянно нуждались. Исходя из нашего долгосрочного плана, мы собирались организовать общины на Севере, особенно братьев с улицы, используя талантливых администраторов из Студенческого комитета для координации мероприятий. Объединение усилий комитета на Юге и наших на Севере придало бы силам, боровшимся за освобождение негров, мощный ударный заряд.
Мы остановились на том, что выдвинули кандидатуру Стокли Кармайкла на пост премьер-министра, Х. Рэп Брауна — на пост министра юстиции и Джеймса Формана — на пост министра иностранных дел. Что касается нас самих, то здесь все было понятно: мы были согласны на те должности, которые они бы нам предоставили. Мы не гнались за высоким положением в партии. Элдридж, Бобби и я были полностью с этим согласны. Партийная организация как таковая не трогала меня. Гораздо больше меня интересовала революция и свобода чернокожих. Я также беспокоился о том, как обеспечить самый лучший руководящий состав, который помог бы осуществить эти цели. С самого начала к вопросу руководства «Черными пантерами» мы отнеслись довольно легкомысленно. Пока руководство партии работало лишь на то, чтобы придать форму и структуру нашим идеям.
Элдридж связался со Стокли и договорился о разговоре насчет слияния наших организаций. Они встретились в начале 1967 года. Тогда Элдридж и Стокли вместе съездили в командировку по заданию «Рэмпартс». Позже мы сами встречались с другими членами Студенческого комитета, Элдридж организовывал встречу. Мы связались с Рэпом Брауном и Джеймсом Форманом. Оба они, казалось, были согласны с нашим планом. Предполагалось, что они поставят в известность остальное руководство комитета относительно наших предложений. Мы подумали, что именно это и было ими сделано, когда они дали нам знать, что Студенческий комитет одобрил идею о слиянии. Однако наша схема не сработала так, как мы надеялись.
Позже мы выяснили, что Браун и Форман вели с нами пустые разговоры. По свидетельству других членов руководящего органа Студенческого комитета, вопрос о слиянии с «Черными пантерами» ни разу не ставился в официальном порядке, несмотря на все заверения Брауна и Формана. Точно так же ничего не знали о планах слияния рядовые участники комитета. Поэтому, когда мы во всеуслышание объявили о слиянии, т. е. о том, что мы передаем «Черных пантер» Студенческому комитету, некоторые члены комитета отреагировали ненормальным образом. Им показалось, что мы стараемся кооптировать их организацию в нашу партию. В результате несколько человек из комитета — Джулиус Лестер и другие — написали критические статьи в наш адрес. Нас упрекали в том, что мы не поговорили с нужными людьми, пытаясь осуществить слияние. Эта критика нас задела за живое. На самом-то деле, мы обсуждали наши планы с теми представителями комитета, которых мы знали и которые говорили от имени комитета. Мы считали, что за ними действительно стоит комитет. Но, очевидно, комитет их не поддерживал.
Как мне кажется, главной причиной наших разногласий со Студенческим комитетом стало элементарное недоверие. Если бы мы поддерживали друг друга и были честны в наших отношениях, то я больше чем уверен в том, что определенный уровень взаимного доверия был бы нами достигнут. Доверие — это важнейший компонент любых хороших взаимоотношений. В данном случае роль доверия возрастала еще больше, поскольку идея о слиянии может истолковываться и пониматься не совсем корректно и верно. Но между нами и комитетом настоящего доверия не было и в помине, потому что члены комитета искренне полагали, что мы, «Черные пантеры», только и мечтаем о том, чтобы прибрать к рукам их организацию, хотя в реальности все было с точностью наоборот — это мы собирались отдать комитету полный контроль над нашей партией. Они просто не видели, как в действительности обстоят дела. Впоследствии, когда я уже был в тюрьме, мне сообщили, комитет полностью отверг все планы насчет слияния с нами якобы потому, что я не ответил ни на одно письмо, присланное мне комитетом. Все это время я находился в одиночной камере и никаких писем от комитета не получал. Тем не менее, они считают, что ответственность за все несу именно я.
В конечном счете, все было к лучшему. Когда Студенческий комитет избрал для себя неправильное направление, он не потащил нас за собой. Какое-то время в комитете говорили о социализме, потом они снова изменили курс и стали защищать идею об отдельной нации и игнорировать классовую проблему в мировом масштабе. К тому же общаться со Стокли было бы проблематично. Мы окончательно уверились в этом после нашей первой встречи с партизанами из Африки и другими борцами за свободу. Они рассказали нам, что сначала доверяли Стокли, считая его революционером. Но когда он связался с реакционными правительствами африканских государств, он утратил их доверие. Стокли приезжал в страны Африки, просто признавал их, говорил о новом альянсе, который он готовил с Нкрумой, и выдавал себя за представителя африканских борцов за освобождение. Потом революционеры выяснили, что Нкрума на самом деле не поддерживал позицию Стокли относительно нации.
Впервые я встретился со Стокли в мае 1967 года. Тогда он приехал выступать в районе Залива. Один раз мы встретились в доме Элдриджа, в другой раз — у Беверли Аксельрод. Несколько раз мы вместе ездили в Сан-Матео на встречу с небольшими группами от местной негритянской общины. В своей последней книге Стокли написал, что во время его посещения Залива я и Бобби обратились к нему за разрешением организовать партию и назвать ее «Черная пантера». В этом утверждении нет ни капли правды. Мы с Бобби вместе выбрали название для партии, отталкиваясь от символа черной патеры, который использовала Освободительная организация округа Лоундес. Стокли помогал основывать эту организацию в Миссисипи. Мы никогда не просили у Стокли совета насчет создания нашей партии. Мы вообще организовали партию до того, как встретились с ним.
Так или иначе, мы разорвали отношения со Студенческим комитетом. Не то чтобы нам хотелось этого. Просто мы осознали, что мало чего добьемся, не имея их доверия. Потом я даже радовался разрыву, потому что взгляды Стокли так противоречивы, что ты никогда не знаешь, о чем он заведет разговор на этот раз. Когда человек последователен в своих взглядах, по крайней мере, ты понимаешь, что происходит и чего можно ожидать. Стокли же сегодня говорит одно, а завтра — совершенно другое. Он обвиняет нас в том, что мы сбиваем с толку людей, объединяясь с белыми. Но я скажу, что он запутывает людей куда больше, когда едет в Вашингтон и пытается помочь чернокожему полицейскому не вылететь с работы. А, между прочим, этот полицейский получает приказ убивать своих сородичей и защищает Истеблишмент. Стокли сказал мне, что он будет оказывать поддержку любому человеку, если тот чернокожий, и его не волнует, кто это будет. С нашей точки зрения, такая позиция является как расистской, так и самоубийственной. Если ты помогаешь негру, у которого есть пистолет и который принадлежит к вооруженным силам твоего угнетателя, значит, ты способствуешь своему собственному уничтожению.
Удайся наш план по слиянию со Студенческим комитетом, то, возможно, мы что-нибудь сделали для предотвращения беспорядков летом 1967 года. Доведенные до крайнего отчаяния, распаленные сильнейшим гневом, в июле и августе поднялись негритянские общины Ньюарка и Детройта. Сбылись наши худшие ожидания. В каждом случае социальный взрыв был вызван жестоким обращением полиции с чернокожим братом или сестрой. В широком смысле слова, устраивая уличные беспорядки, молодые чернокожие особенно выплескивали чувство безысходности. Эти яростные выступления, разумеется, вызвали усиление позиции «правых» и консервативной политики по всей стране. Волнения в Уоттсе случились в 1965 году, а уже в следующем году Рональд Рейган был избран губернатором. Теперь, после того, как в 1967 году города вновь потрясла вспышка расовых беспорядков, от правящих классов, без сомнения, нужно ожидать усиления репрессивного контроля. Калифорнийская история повторится в других штатах, а затем разрастется до национальных масштабов.
Все то неспокойное лето мы искали способы предотвратить такое развитие событий. Мы не прекращали что-то организовывать, набирать новых членов в партию, работали не покладая рук над нашей газетой. С пристальным вниманием мы следили за всем происходящим на улицах в центральной части городов. Зная это, мы могли направить энергию людей в конструктивном направлении. Особенно мы добивались того, чтобы люди поняли свои конституционные права, права, которые постоянно нарушались полицией и властями. Элементарное знание этих прав без всего остального могло бы помочь избежать многих проблем, которые возникают у людей в напряженных ситуациях.
Для распространения правовых знаний в массах мы начали специальную публикацию под названием «Карманный справочник для неотложной юридической помощи». Публикация прошла в первых выпусках нашей газеты. Пользуясь различными кодексами и юридической литературой, я в простой форме вывел набор правил, которым нужно следовать в соответствующих ситуациях.
Карманный справочник для неотложной юридической помощи
Этот справочник предназначен для того, чтобы помочь чернокожим узнать о своих правах в современных условиях жизни. Мы из числа тех, кого арестовывают в первую очередь, а расистская полиция постоянно притворяется, что права в равной степени распространяются на всех людей. Вырежьте эту заметку, братья и сестры, и носите ее с собой. Пока мы вооружаемся, чтобы хорошенько позаботиться о вас, мы выпускаем этот карманный юридический справочник.
Если вас остановила и/или арестовала полиция, вы можете хранить молчание; вы не обязаны отвечать на вопросы относительно правонарушений, в которых вас обвиняют; назвать свое имя и адрес вам следует лишь в том случае, если вас об этом попросили (хотя нигде не сказано, что вы совершенно точно обязаны это сделать). Но все же назовите свое имя и адрес и все время помните о пятой поправке.
Если на полицейском не окажется формы, попросите его предъявить значок. У него нет над вами никакой власти до тех пор, пока он не представится вам по всем правилам. Остерегайтесь людей, выдающих себя за полицейских. Всегда запоминайте номер значка и имя полицейского.
Полиция не имеет права обыскивать вашу машину или ваше жилище, если у них нет ордера на обыск, причины на обыск или вашего согласия. Они могут провести поверхностный осмотр для поиска улик вообще или для поиска улик для раскрытия преступления, к которому вы не имеете отношения (Следовательно, если полицейский останавливает вас за нарушение правил дорожного движения, это не дает ему права обыскивать ваш автомобиль.) Вы можете не соглашаться на обыск. В этом случае вы должны заявить о вашем несогласии ясно и четко, желательно при свидетелях. Если вы не согласны, полиции придется постараться в суде, объясняя причину вашего задержания. Впоследствии решение об аресте может быть пересмотрено.
Лучше не оказывать сопротивления при аресте, будь то силой или, наоборот, сделавшись совершенно обессиленным, даже если вы не виновны. Сопротивление при аресте — это отдельное правонарушение, в котором вас могут обвинить даже в том случае, если таким образом вы пытались избавиться от первоначального обвинения. Не оказывайте сопротивления при аресте ни при каких обстоятельствах.
Если вас остановили и/или арестовали полицейские, они могут обыскать вас, похлопав поверх одежды. Вас могут лишить принадлежащих вам вещей. Не носите с собой ничего такого, где бы значилось имя вашего работодателя или друзей.
Не вступайте в «дружескую» беседу с полицейскими по пути в участок или по прибытии туда. Если уж вас арестовали, то вряд ли вы можете сообщить полицейским какие-либо сведения, которые заставят их отпустить вас на волю.
Оказавшись за решеткой, вы получаете право сделать, по крайней мере, два телефонных звонка: один звонок — родственнику, другу или адвокату, второй — поручителю. Если можете, звоните в партию «Черных пантер» по телефону 845-0103 (845-0104). При возможности наша партия внесет за вас залог.
Вам должны немедленно позволить нанять адвоката и разрешить встречу с ним.
Вы не должны делать никакого заявления в полиции, вы также не должны подписывать никаких бумаг, которые вам могут дать, так что вам вообще ничего не следует подписывать в полиции. Воспользуйтесь пятой и четырнадцатой поправками. Никто не может заставить вас свидетельствовать против себя.
В большинстве случаев вам должны разрешить внести залог, однако вы должны быть способны заплатить необходимую сумму поручителю. Если вы не можете заплатить, то вы можете попросить судью отпустить вас из тюрьмы без залога или снизить размер залога. Но судья не обязан пойти вам навстречу.
Полиция обязана передать вас суду или освободить в течение 48 часов после вашего ареста (если этот срок истекает во время выходного или праздничного дня, то вы должны предстать перед судом в первый же день, когда суд приступит к работе).
Если у вас не денег на адвоката, немедленно попросите полицейских предоставить вам бесплатного адвоката.
Если у вас есть возможность нанять частного адвоката, но вы не знаете, к кому вы могли бы обратиться, позвоните в Национальную гильдию адвокатов или в Ассоциацию адвокатов Аламедского округа (или в Ассоциацию адвокатов вашего округа) и попросите назвать вам имя адвоката, специализирующегося на уголовном праве.
Газета несла подготовленную нами информацию прямо по назначению — в дома людей. Поэтому наша газета служила нам источником огромного удовлетворения и удовольствия. Все происходящие события газета освещала с точки зрения общины. К примеру, в нашей газете люди прочли объяснение настоящих причин, побудивших нас отправиться в Сакраменто, и правдивый рассказ о том, что там случилось. Мы сообщали о событиях и митингах, которые случались на всей территории Залива. Пока у нас не появилась собственная газета, наша партия постоянно страдала от клеветнических статей, которые писала о нас пресса, состоящая на службе Истеблишмента. Эта пресса заинтересована лишь в горячих сенсациях, благодаря которым продается больше газет. Но стоило нам начать давать собственную интерпретацию событий, как чернокожие братья осознали, насколько средства массовой информации извращают факты. Братья с удовольствием знакомились с нашей точкой зрения, и газета хорошо расходилась. Газета приносила нам постоянный доход, что в немалой степени позволяло нам продолжать реализацию наших программ.
Я был доволен тем, как прошел для нас 1967 год. Наша газета доходила до людей; позиция, занятая нами в Сакраменто, получила колоссальную поддержку; во многих городах возникали отделения нашей партии; мы искали новые способы, при помощи которых удалось бы пробудить сознание чернокожих. Все шло как по маслу.
Единственное, что печалило меня, — это то, что Бобби Сил попал в тюрьму на полгода после столкновения с полицией в Сакраменто. Мы заключили сделку с местными судами: Бобби получал шесть месяцев за судебно-наказуемый проступок, но за это со всех остальных участников инцидента снимались обвинения. Шесть месяцев — не такой уж долгий срок в контексте нашей борьбы, но Бобби был талантливым организатором, человеком, благодаря которому все вертится. Партии его не хватало. И все же мы позволили себе горевать, когда Бобби забрали у нас. Это была небольшая цена в борьбе за освобождение народа. Кроме того, охота на меня, а потом на Элдриджа оставалась лишь вопросом времени. Бобби ушел от нас в тюрьму в августе 1967 года. После этого только в июне 1971 года мы вместе с ним вышли на улицы Окленда.
Часть четвертая
Чернокожие женщины и мужчины, отказывающиеся жить в условиях угнетения, представляют собой опасность для общества белых людей, поскольку они превращаются в символ надежды для их братьев и сестер, вдохновляя последних на то, чтобы следовать их примеру.
22. Пробуждение сознания
Nommo: на языке суахили значит «власть слова»
Мобилизация народных масс, когда она осуществляется в рамках войны за освобождение, порождает в сознании каждого человека идею общего дела, судьбы нации и коллективной истории. Присутствие этого «цемента», замешанного на крови и гневе, помогает и на второй стадии, т. е. стадии формирования нации.
Франц Фэнон. Несчастье Земли«Черные пантеры» всегда предпочитали действие пустой болтовне. В то же время нельзя сказать, что язык, сила слова в философском смысле недооценивается в нашей идеологии. Мы признаем значение слова в борьбе за освобождение, причем слова, звучащего не только в средствах массовой информации и в беседах с жителями квартала. Существует еще одна важнейшая задача, при решении которой необходимо искать подходящие слова, — это пробуждение сознания людей. Слова служат еще одним способом определения явлений, а определение любого явления — это первый шаг к установлению контроля над данным явлением или шаг в другую сторону, где ты сам попадаешь под контроль явления.
Когда я читал «Волю к власти» Ницше, его философские прозрения помогли мне узнать много нового. Я не хочу сказать, что поддерживаю все идеи Ницше. Просто отмечаю, что многие из его идей повлияли на мое мышление. Этот философ писал о вещах, которые имеют основополагающее значение для всех людей, в частности о смысле власти. Поэтому некоторые его представления уместно приложить к образу жизни, который приходится вести неграм, живущим в Америке. Эти идеи Ницше оказали огромное влияние на формирование философских взглядов «Черных пантер».
Ницше считал, что воля к власти стоит выше добра и зла. Другими словами, добро и зло служат своего рода ярлыками для определения явлений, т. е. все явления получают ценностную оценку. За ценностной оценкой стоит воля к власти. Она-то и заставляет человека рассматривать то или иное явление как доброе или злое. На самом деле наше понимание контролирует воля к власти, а не врожденные добрые или злые качества.
Человек пытается определить явления таким образом, чтобы они отражали интересы его класса или какой-либо группы, к которой он принадлежит. Он дает явлениям названия или ценностную оценку в зависимости от своих представлений о том, что ему выгодно. Если явление может принести человеку пользу, то оно будет отнесено к числу добрых в общем смысле, в противном случае оно становится злом. Ницше показывает, как такую логику использовал господствующий класс в Германии. К примеру, немецкое слово «gut», которое переводится как «божественный» или «хороший», использовалось по отношению к самому господствующему классу; знать, дворяне, определялись словом «gut». С другой стороны, слово «villein» употреблялось по отношению к беднякам и крепостным крестьянам, жившим по ту сторону высоких ворот феодальных замков. И это слово обозначало противоположную характеристику. Как говорилось, бедняки жили в «village» (деревня), а это слово имеет одинаковый корень (от лат. villa) со словом «villain» (злодей, негодяй и одновременно — крепостной). Итак, пользуясь своей властью, господствующий класс определил себя как «божественного», а простой народ назвал «злодеями», или своими врагами. Не приходится говорить о том, что, усвоив такие идеи, бедняки и простой народ почувствовали себя низшими, подчиненными существами, ощутили чувство вины и стыда, а феодалы утвердили свое превосходство без всяких доказательств. Так язык оформил мысль.
Похожую картину мы можем наблюдать и в Соединенных Штатах. За какое-то время прилагательное «черный» стало в американском языке очень эффективным словом, причем уничижительным в каждом своем значении. Нас заставили чувствовать себя пристыженными и виноватыми из-за наших биологических признаков, в то время как благодаря белому цвету кожи наши угнетатели ощущали себя аристократами и ставили себя выше нас. Однако за последние несколько лет (и на это ушло всего лишь несколько лет) повышение уровня самосознания в негритянских общинах привело нас к тому, чтобы по-новому определить самих себя. Те, кто раньше сгорал от стыда, если слышал, как его называли черным, теперь с удовольствием принимает это определение, а наша биологическая характеристика теперь вызывает у нас гордость. Сегодня мы сами называем себя черными и носим естественные для наших волос прически, потому что мы наполнили новым смыслом слово «черный». Вот он, пример того, как работает теория Ницше, который говорил, что за добром и злом стоит воля к власти.
Когда партия «Черных пантер» делала первые шаги, мы пытались найти способы поставить теорию Ницше на службу интересам чернокожих. Можно было использовать нужные слова не только для того, чтобы укрепить гордость негров за самих себя, но и для того, чтобы посеять сомнения у белых и даже заставить их отказаться от представлений, которые они всегда принимали автоматически, не задумываясь. Прежде всего, нам было необходимо найти замену слову «полицейский». Нам требовалось хорошее наглядное слово, которое бы приняла и стала использовать община. Это слово должно было не только поднять самосознание чернокожих на новый уровень, но и помочь нам контролировать полицию, заставив полицейских воспринимать себя в другом ключе.
Мы занялись подбором эквивалента слову «полицейский». Поначалу я предположил, что подойдет обратное прочтение слова «god» (Бог) — «dog» (собака), но слово «собака» что-то не пошло. Мы пробовали слова «зверюга», «скотина» и «животное», но ни одно из них не передавало суть того, что мы хотели сказать о полицейских. Однажды, когда мы работали над газетой, Элдридж показал нам открытку от Беверли Аксельрод. На внешней стороне открытки был написан призыв «Поддержи свою местную полицию». Над этой фразой поместили шерифскую звезду, а в центре звезды была изображена оскалившаяся и пускающая слюни свинья. Это было то, что нужно. На своих карикатурах мы начали рисовать полицейских в виде свиней и время от времени употребляли само слово. Слово «свинья» стало нашей удачей и вошло в обиход.
Это было формой психологической войны: с одной стороны, мы пробуждали самосознание людей, а с другой — добивались того, что наше новое сознание начинало действовать на правящие круги. Если бы удалось поймать белых и полицию в ловушку при помощи нового сознания, то вскоре они бы покинули своих и присоединились к нам, чтобы избавиться от чувства вины и стыда.
Ницше указал, что такого рода тактика была использована первыми христианами против римлян. Поначалу христиане были слабы, но они знали, как заставить философию слабой группы работать на них. Вводя в оборот фразы типа «кроткие унаследуют землю», христиане внедряли в сознание римлян новую идею, которая заставляла тех сомневаться и впоследствии принимать новую веру. Стоило христианам однажды заявить, что кроткие унаследуют землю и привлекут на свою сторону остальных, как власть имущие стали терять свою силу. И христианам была суждена победа. Людям нравится быть на стороне победителей. Мы видим, как в нашей стране тот же принцип действует в студенческих кампусах. Сейчас многие представители белой молодежи отождествляют себя с неграми; их новая самоидентификация проявляется в одежде, речи и образе жизни.
Таким образом, хотя мы и пришли к слову «свинья» довольно случайно, все-таки наш выбор сам по себе был просчитан. Это слово отлично нам подходило по нескольким причинам. Прежде всего, все синонимы к слову «свинья» («swine», «hog», «sow») несут в себе неприятный оттенок. Возможно, объяснение данному факту имеет религиозные корни, поскольку у семитов свинья считается грязным животным. В английском языке слово «свинья» вошло во многие сочетания. Мы говорим, что кто-то ест, как свинья, можем назвать кого-то грязной свиньей и т. п. В своем романе «Портрет художника в юности» Джеймс Джойс использует слово «свинья» для создания образа Ирландии как чего-то разрушающего, пожирающего. Джойс называет Ирландию «старой свиньей, съедающей своих поросят». Как видим, слово «свинья» обычно ассоциируется с гротескными качествами.
Посмотрите на свинью. Это же уродливое и противное животное. Свинья обожает копаться в грязи, она производит ужасный шум и не питает желания идти на контакт с человеком, как это делают другие животные. Если продолжить, то любой житель в негритянской общине неплохо представляет себе свинью, потому что большинство из нас имеет сельское происхождение, другими словами, у нас была возможность наблюдать за поведением свиней. Что касается полицейских, то многие из них тоже приехали с Юга и свинья им не в диковинку. Они точно знают, что подразумевается под словом «свинья». Если полицейского обзывают свиньей, то хотят этим сказать, что он жестокий, грубый и неряшливый.
В пользу слова «свинья» говорит еще один факт: с расовой точки зрения, оно имеет нейтральный характер. Белая молодежь из кампусов начала понимать, что такое полиция на самом деле, когда полицейские открыто разбивали им головы во время демонстраций протеста против призыва в армию и войны во Вьетнаме. После этого слово «свинья» стало еще более употребительным; оно сплачивает жертв перед лицом угнетателей. И хотя белые ребята не настолько страдают, как мы, тем не менее, они стали нашими союзниками в борьбе с полицией. В этом случае правящие круги теряют способность восстановить одних жертв против других, как делали это расисты в южных штатах, настраивая белых бедняков против негров.
Но самая большая наша победа заключалась в том эффекте, который слово «свинья» произвело на полицейских. Им очень не понравилось, когда их стали обзывать свиньями, они и сейчас этого не переносят. Как только за ними закрепилось новое «прозвище», полицейские провели кампанию в свою защиту с использованием лозунгов наподобие «Свиньи прекрасны», да еще нацепляли на себя значки в виде свинок. Но эти усилия пошли прахом. Мы хотим сказать, что, если полицейские не хотят быть свиньями, то они должны прекратить жестоко обходиться со всеми несчастными в мире. Никакие лозунги не изменят мнения людей. Здесь может помочь лишь изменение в поведении.
Была еще одна фраза, способствовавшая пробуждению самосознания чернокожих, — «Вся власть народу». Этот призыв затрагивает несколько областей, и политику, и экономику, и метафизику. Мы пришли к нему примерно в то же время, когда внедряли в массы слово «свинья» как эквивалент слову «полицейский». Наш лозунг «Вся власть народу» тоже получил широкое признание. Когда мы задумывали его, через него я пытался задать некие четкие философские цели для общины, которых многие просто не поняли. Полиция и пресса хотели создать у людей мнение, что наша партия была всего-навсего группой «молодых бандитов», расхаживавших по улицам с пистолетами, чтобы запугивать окружающих. Но у нас с Бобби всегда было ясное понимание того, чего мы хотим добиться. Мы намеревались представить общине широкий и разнообразный набор необходимых программ, и мы начали действовать таким образом, чтобы сразу получить поддержку общины. В то же время мы осознавали необходимость идти вперед. Налаживая публикацию газеты, мы как раз работали на долгосрочные цели. В свою очередь наши далеко идущие планы подразумевали организацию общины вокруг программ, в которые люди должны были очень сильно поверить. Мы надеялись на то, что наши программы приобретут такую значимость для общины, что люди действительно возьмутся за оружие, чтобы защищаться от любых действий угнетателя.
Все эти программы преследовали одну цель — установление полного контроля над всеми социально-политическими институтами, существовавшими в общине. Каждая этническая группа имеет свои особенные нужды и интересы, которые она представляет и понимает лучше, чем кто-либо другой. Каждая группа лучше всего судит о том, как ее собственные институты должны влиять на жизнь членов этой группы. В американской истории есть примеры того, как этнические группы, скажем, ирландцы и итальянцы, создавали организации и институты в своих общинах. Получив в распоряжение средства политического контроля, они стали обладать реальной властью для решения своих проблем. Правда, в нашем случае есть еще одна вещь, которую необходимо сделать. Контроль над нашими институтами как таковой не решит наши проблемы автоматически. Во-первых, в общине трудно создать такое количество рабочих мест, при котором бы обеспечивалась полная занятость для чернокожих. Самым важным моментом в установлении контроля над институтами в нашей общине станет организация жителей в кооперативы, и с их помощью будет положен конец всем формам эксплуатации. Вся прибыль, или прибавочный продукт, полученная от таких кооперативов, будет возвращаться общине. За счет этих излишков будут расширяться возможности на всех уровнях, а жизнь — обогащаться. Кроме того, у нас имеется конечная цель. Она состоит в том, чтобы наладить сотрудничество между различными этническими общинами, добиться того, чтобы они помогали друг другу, а не соперничали. В этом смысле все общины будут связаны общей целью. Их также будут связывать основные социальные, экономические и политические институты, действующие в стране.
Таковы наши планы на будущее. Хотя мы еще далеки от того, чтобы воплотить их в жизнь, все-таки важно, чтобы люди понимали, чего мы хотим для них добиться, и представляли свои естественные права. Таким образом, выдвинутый нами лозунг «Вся власть народу» суммирует то, что мы хотим сделать для чернокожих, равно как нашу глубочайшую любовь и преданность по отношению к ним. Вся власть исходит от народа, и, в конечном счете, она должна возвращаться к нему. Все остальное будет кражей.
Наша непоколебимая вера в свой народ основывается на наших предположениях касательно того, что ему нужно и чего он заслуживает. На первом месте здесь стоит честность. Когда стало очевидно, что «Черные пантеры» набирают силу, нашлись люди, которые стали убеждать нас либо скорректировать нашу позицию для получения мелких выгод, либо полностью перейти на политику «черной линии», основанную исключительно на расовом подходе, нежели чем экономической или социальной стратегии. Эти люди вели разговор о «черной игре», в которую они на самом деле не верили. Зато они подметили веру людей в нее и учли, что «черная линия» могла бы помочь мобилизовать народ. Мы отказались от таких предложений. С нашей точки зрения, обманывать людей — это неправильно и к тому же это напрасная трата сил, ведь, в конце концов, мы должны будем держать ответ перед ними.
В метафизическом смысле наш лозунг «Вся власть народу» основывается на представлениях о человеке как о Боге. У меня нет другого Бога, кроме человека, и я твердо верю в то, что человек является величайшим и главным сосудом добра на земле. Если ты обязался быть искренним и честным со всеми, значит, ты дал это обещание перед Богом, а если каждый человек богоподобен, следовательно, ты должен быть искренен именно с ним. Если ты веришь в то, что человек — наивысшее существо на планете, то ты будешь действовать исходя из своей веры. Твоя позиция и поведение по отношению к человеку — это своего рода религия, причем религия, требующая огромной ответственности.
Я увлекаюсь изучением иудейско-христианской идеи Бога, и это имеет для меня большое значение, поскольку, если смотреть с исторической точки зрения, эта идея оказала чрезвычайное влияние на жизнь негров в Америке. Принятие ими веры в иудейско-христианского Бога означало подчинение и привело к формированию устойчивого представления о том, что в загробном мире они получат награду за все страдания, которые выпали в их реальной жизни. Христианство ведь начиналось как религия отверженных и угнетенных. Если первым христианам удалось подорвать власть их правителей и доверие к ним, а также выбраться из рабского состояния, то с чернокожими все обстояло с точностью до наоборот. Когда они были уже рабами, им было навязано еще и христианство, в связи с чем на их плечи легло дополнительное бремя, эдакая тирания будущего — надежда на счастливую жизнь на небесах и страх перед адом. Христианство только усилило у них ощущение безнадежности. Идея спасения и счастья отодвинулась на дальний план, точнее, стала связываться исключительно с миром иным, где Бог вознаградит негров за все перенесенные ими на земле мучения. Правосудие свершится позже, на земле обетованной.
Лозунг «Вся власть народу» был призван изменить такое отношение к жизни, убедить чернокожих в том, что вознаграждение они должны получать в настоящем, что им вполне по силам создать землю обетованную здесь и сейчас. «Черные пантеры» никогда не собирались совсем отваживать негров от религии. Мы всего лишь хотим подтолкнуть их к изменению самосознания и к тому, чтобы они поменьше ориентировались на представление о Боге, принятое у белых людей. Это Бог угнетенных, слабых и не заслуживающих чего-то. Мы хотим, чтобы наши братья воспринимали себя в качестве призванных, избранных и достойнейших.
Еще до того, как мы сформулировали лозунг «Вся власть народу», я долго размышлял об идее Бога. Меня не устраивала библейская версия; в Священном писании встречается слишком много противоречий и иррациональных моментов. Либо ты принимаешь все это и веришь, либо не соглашаешься и не веришь. Я не мог верить. Я пришел к собственному пониманию Бога другим путем — через философию, логику и семантику. По-моему, понятие Бога связано со множеством различных идей, и само существование этого понятия зависит от человека. Если Бог не существует до тех пор, пока не появится человек, то, должно быть, человек послан на землю, чтобы создать Бога. Отсюда логически вытекает, что человек создал Бога, а если считать, что создатель величественней своего творения, то мы должны признать, что человек — это высшее благо.
Я понимаю причины, по которым человек чувствует необходимость создать Бога. Особенно эти причины очевидны на начальном этапе исторического развития человеческого общества, ведь в ту пору окружающий мир воспринимался отнюдь не с научной точки зрения. Явления, которые мог наблюдать человек, иногда ошеломляли и потрясали его до глубины души, при этом он был еще не способен найти объяснения для них. Поэтому он создал у себя в сознании нечто, что было «могущественней» непонятных ему явлений, и это нечто несло ответственность за все загадки природы. Но я думаю, что если человек слишком сильно уповает на Бога, созданного им самим и помещенного на небеса, то на самом деле он ограничивает себя и свой собственный потенциал. Чем больше он приписывает Богу, тем сильнее он ощущает свое подчиненное состояние, тем меньше ответственности берет за свою судьбу. Человек говорит, обращаясь к Богу: «Я слаб, но Ты можешь все». И после этого человек принимает вещи так, как они есть, и он доволен тем, что оставил управление миром сверхъестественной силе, могущественней его. Такая позиция несет в себе какой-то фатализм, враждебный всякому росту и переменам. С другой стороны, чем сильнее становится человек, тем слабее его Бог.
Все вышесказанное совсем не означает, что я совершенно не принимаю многие прекрасные и восхитительные вещи, связанные с религией. Когда я говорю о некоторых аспектах общественного устройства с чернокожими, использование религиозной лексики для меня естественно, и реакция слушателей очень искренна. Я также часто читаю Библию и не только из-за ее поэтичности, но и потому, что нахожу там много мудрости и прозрений. И все-таки мне кажется, что большая часть Священного писания приходится на безумные вещи. Я не могу согласиться, например, с понятием божественного закона и ответственности перед «Богом». Я считаю, что, если люди в принципе ответственные существа, то они должны быть ответственны друг перед другом. Поэтому, когда мы говорим «Вся власть народу», мы хотим передать свое глубокое уважение и любовь по отношению к людям, а также идею того, что люди заслуживают всей правды и честного к себе отношения. Суд истории — это суд людей. В этой идее заключается мотивация самого нашего существования и контроль над ним.
23. Кризис — 28 октября 1967 года
С животной мощью наносит нам удар
Невиданная сила и заставляет цепенеть;
Долгое, тщетное ожидание в ночи -
Лишь бы услышать голос в защиту справедливости.
Джеймс Уэлдон Джонсон. Пятьдесят летВ 1964 году меня обвинили в нападении на Одела Ли. Суд приговорил меня к трем годам условного освобождения на поруки. При этом первые шесть месяцев срока я должен был отсидеть в окружной тюрьме. После освобождения из тюрьмы я регулярно сообщал о себе тому человеку, который осуществлял за мной надзор. Так продолжалось все время, пока мы создавали партию и начали работу в общине. За мной наблюдал отличный человек, он был интереснее, чем обычные люди, умный и справедливый, и мы с ним ладили. Тем не менее, я вздохнул с облегчением, когда в начале октября 1967 года он объявил мне, что надзор за мной заканчивается 27 октября, после чего начинается срок условно-досрочного освобождения. По одному из требований условно-досрочного освобождения мне было запрещено посещать некоторые районы Беркли. В любом случае, мне уже было не надо ни перед кем отчитываться. Так что 27 октября должно было стать особенным днем, в связи с чем я договорился со своей подружкой Ла-Верне Уильямс отпраздновать это знаменательное событие.
На 27 октября у меня было назначено выступление на форуме «Будущее движения за освобождение негров». Форум финансировался Союзом чернокожих студентов из Сан-францисского колледжа. Просьбы выступить на форуме приходили к нам уже с конца лета. Выступление в Сакраменто принесло нам большую известность, благодаря чему несколько инициативных групп из разных колледжей просили нас подробнее рассказать о нашем подходе к проблемам чернокожих. Им было бы также интересно услышать объяснение причин, по которым мы выступали против спонтанных возмущений в негритянских общинах, и узнать наше отношение к недавним беспорядкам в Ньюарке и Детройте. Бобби сидел в тюрьме, и выступать приходилось мне. Я старался удовлетворить как можно больше присланных заявок, несмотря на то, что у меня не очень хорошо получается выступать перед большой аудиторией, к тому же я делаю это без особого удовольствия. Больше всего меня интересуют умозрительные и теоретические идеи, но в них недостает огня, чтобы держать внимание аудитории. И все-таки я поехал в Сан-Франциско, потому что очень хотел расширить наши контакты с чернокожими студентами Сан-францисского колледжа. В тот день вместе со мной выступал доктор Хэрри Эдвардс, профессор из колледжа Сан-Хосе. Он был организатором бойкота чернокожих спортсменов на Олимпийских играх.
Этот форум был особенно многообещающим, поскольку предоставлял возможность для активной дискуссии с людьми, которые не соглашались с моими идеями. (Это был 1967 год. Недавно закончилось убийственное лето, одно из самых долгих и жарких за всю американскую историю. Студенческое сознание находилось на небывало высоком уровне.) Я говорил о необходимости для негров добиться контроля над социально-политическими институтами в их общинах с конечной перспективой превращения их в кооперативы. Я также упомянул о каждодневной работе с другими этническими группами, для того чтобы совместными усилиями изменить систему. После завершения моего выступления началось обсуждение. Почти все вопросы и критические замечания студентов были направлены на готовность «Черных пантер» сотрудничать с белыми. Наша партия настаивала на том, что это сотрудничество вполне возможно, пока мы контролируем все программы. Но студенты ни за что не соглашались работать вместе с группами белых, да и вообще с любыми другими этническими группами. Такая точка зрения была мне понятна, но в ней отражалась неспособность чернокожих студентов увидеть предел наших сил. Нам были нужны союзники, и мы считали, что ради союза с белой молодежью — студентами и рабочими — стоило рискнуть.
Я указал на то, что многие молодые белые ребята внезапно открыли для себя окружавшую их фальшь и лицемерие. Их отцы, их предки писали и громко говорили о братстве и демократии, хотя в действительности в Америке царили страсть к наживе, империализм и расизм. Пока они рассуждали о правах человека и равенстве этих прав для всех людей, пока превозносили «свободное предпринимательство», «систему прибыли», «индивидуализм» и «здоровую конкуренцию», на самом деле они грабили весь мир и поработили негров в Америке. У белой молодежи словно пелена с глаз упала, и теперь они пытаются добиться перемен через традиционную работу с электоратом. Но реальность, как правило, не прислушивается к идеалистическим идеям. Эти белые юноши и девушки вдруг узнали то, что негры знают от рождения, — что военно-промышленный комплекс практически непобедим и именно на его основе было создано полицейское государство, которое лишает идеализм возможности что-нибудь изменить. Осознание этого факта вызвало у них глубокое разочарование в собственных родителях и подорвало доверие к властным структурам Америки. Разочаровавшись, они стали идентифицировать себя с угнетенными людьми всего мира.
Когда «Черные пантеры» заметили эту тенденцию, мы поняли, что недовольство белой молодежи можно использовать для нашего дела. Через несколько лет молодежь будет составлять почти половину населения в Америке. Если мы наладил прочный и значимый союз с белой молодежью, она поддержит наши цели и нашу работу против Истэблишмента.
Везде, где я выступал в 1967 году, чернокожие студенты здорово критиковали меня за такую позицию. Вместе с тем немногие были способны высказать объективные аргументы в пользу их критики. Их реакция была, скорее, эмоциональная: все белые считались злом во плоти, и с ними не хотели иметь никаких дел. Я был согласен с тем, что некоторые белые действительно способны быть настоящими дьяволами, но я также отвечал, что мы не можем относиться так ко всему человечеству. Для нас гораздо важнее было использовать ситуацию в свою пользу. На эти вопросы нельзя дать ответ сразу, в один день, и даже за десять лет вряд ли удастся. Так что снова и снова мы со студентами спорили часами и так ни к чему не приходили. То, что мы говорили друг другу, пролетало мимо наших ушей. Между нами плотной стеной стоял расизм. Под гнетом расизма прошла вся жизнь этих студентов. И рациональный анализ пал жертвой. Когда я уезжал из Сан-Франциско после встречи со студентами колледжа, я размышлял о том, что многие из студентов, которые, как от них ожидалось, учились анализировать явления и проникать в их суть, на самом деле попались в ту же ловушку, что пленники из платоновского мифа о пещере. Хотя они уже учились в колледже, их до сих пор держала в плену эксплуатация и расизм, которым негры подвергались в течение столетий. Образование в колледже было далеко от того, чтобы подготовить их к встрече с реальностью, в колледже их разум по-прежнему оставался закован в цепи. В тот день я с особенной остротой ощутил, что партия должна будет взяться за дополнительную разработку пункта пятого в нашей программе, чтобы поставить себе целью обеспечить настоящее образование для нашего народа.
Я вернулся домой примерно в полседьмого вечера, и меня уже ждал отличный обед с моей семьей — кукурузный хлеб и овощи с горчицей. Ужин подарил всем ощущение счастья. Мы обсуждали студентов, занятую ими позицию и трудности, с которыми придется столкнуться, чтобы достучаться до них. Это был наш последний семейный обед на последующие тридцать пять месяцев. Но у меня не было никаких предчувствий на этот счет, и я спокойно ушел из дома и пешком отправился к Ла-Верне. Друзья, ездившие со мной в Сан-Франциско, забрали машину после того, как подбросили меня домой. Пока я шел к своей девушке, я думал о том, как мы проведем вечер, а также о том, что я теперь могу делать с учетом того, что я не должен больше никому и ни в чем отчитываться. Меня ждало разочарование: придя домой к девушке, я обнаружил, что она приболела и потому ей не хотелось пойти со мной куда-нибудь. Хотя я хотел остаться с ней, она настояла на том, чтобы я взял ее машину и поехал отпраздновать важный для меня день. Она знала, насколько важно для меня окончание срока надзора. Уже был поздний вечер, где-то около десяти, так что я решил посетить несколько своих любимых местечек.
В тот вечер все было как обычно. Сначала я поехал в «Bosn's Locker», бар, где я начал собирать людей для партии. Большинство посетителей этого бара были моими друзьями или знакомыми, и я посидел с ними, поговорил, обсудил мою долгожданную свободу от надзора и отпраздновал ее поистине раскрепощающим напитком «Свободная Куба» из рома и «кока-колы». Покинув бар, я направился в ближайшую церковь, где полным ходом шло собрание. Каждый вторник, по вечерам, в этой церкви проводились занятия по истории афро-американцев, а по вечерам в пятницу здесь проходило собрание с танцами и пуншем. Собрание пользовалось большим успехом и собирало много народа. У меня было еще одно место, куда я собирался пойти, — вечеринка, которую устроили мои друзья на Сан-Пабло стрит в Окленде. Около двух часов ночи, когда собрание в церкви подходило к концу, я собрался на вечеринку в компании с Джином Мак-Кинни. Это мой друг, которого я знаю со времен средней школы. Уже наступило 28 октября, я официально стал свободным человеком, и ощущение свободы наполняло меня восторгом. Хотя все угощение на вечеринке у моих друзей давно было съедено, когда мы туда, наконец, добрались, это меня совсем не волновало. Мне было приятно просто пообщаться с народом и поговорить о «Черных пантерах», ответить на вопросы собеседников. На вечеринке мы оставались до самого конца, т. е. до четырех часов утра.
От друзей мы с Джином поехали на Седьмую-стрит. Это место в Западном Окленде служит своеобразным центром активности. Здесь находятся бары и рестораны с негритянской кухней, есть также несколько ночных клубов, и не проходит и часа без того, чтобы ты не увидел на этой улице чего-нибудь интересного. В некоторых ресторанах готовят барбекю, а это кое о чем, да говорит. Мы с Джином умирали от голода, так что Седьмая-стрит была для нас подходящим местом, где можно было отыскать славную негритянскую еду.
Поворачивая на Седьмую-стрит и высматривая место для парковки, я заметил красную мигалку полицейской машины в зеркале заднего вида. Я не знал, что мне на хвост села полиция, и в первый момент подумал, ну вот, приехали, опять меня беспокоят. Впрочем, меня столько раз уже останавливали полицейские, что я был готов к этому. У полиции имелся список номерных знаков машин, которыми часто пользовались «Черные пантеры», поэтому мы понимали, что нас могут остановить в любое время. Мой кодекс всегда лежал у меня между сиденьями, и я знал, начни я читать закон «исполнителю закона», т. е. патрульному, он будет вынужден отпустить меня. Я только не мог понять причину, по которой меня остановили на этот раз, потому что я соблюдал все правила дорожного движения.
Я загнал машину на обочину тротуара. Полицейский остановился позади меня и не выходил из машины еще примерно минуту. Наконец, он соизволил выйти и подошел к окошку моего автомобиля. Посмотрев на меня долгим взглядом, патрульный просунулся в окно. Его голова была в дюймах шести от моего лица. С ядовитым сарказмом в голосе он сказал мне: «Так, так, так, и кто же у нас здесь такой? Великий, великий Хьюи П. Ньютон». Я не ответил, а просто посмотрел полицейскому прямо в глаза. Он вел себя, словно удачливый рыбак, который вытащил такой улов, что ему никогда и не снилось. Потом он попросил меня предъявить водительские права. Я передал ему права. Тогда он спросил, кому принадлежит машина. Я сказал ему, что владелицей машины является мисс Ла-Верн Уильямс, и показал ему регистрацию. Сверив этот документ с водительскими правами, полицейский вернул мне права и пошел к своей машине, взяв с собой регистрацию. Я сидел и ждал, пока он закончит с проверкой, а в это время подъехала вторая полицейская машина и остановилась рядом с первой. В этом не было ничего необычного, и я не придал появлению второго полицейского никакого значения. Он подошел к машине первого, и они о чем-то быстро поговорили. После этого второй полицейский приблизился к окну моей машины и обратился ко мне с вопросом: «Мистер Уильямс, есть ли у вас еще какие-нибудь документы, удостоверяющие вашу личность?» «Что вы имеете в виду под «мистером Уильямсом», — спросил я патрульного. — Я уже показывал мое водительское удостоверение первому полицейскому». Он взглянул на меня, кивнул головой и сказал: «Да, я знаю, кто ты такой». Я знал, что оба полицейских узнали меня, потому что моя фотография и мое имя были знакомы каждому полицейскому в Окленде, как и фотография и имя Бобби, а также большинства других членов нашей партии.
Тем временем первый офицер вернулся к моей машине, открыл дверь и приказал мне выйти, а второй подошел к пассажирской стороне и то же самое сказал сделать Джину Мак-Кинни. Потом он привел Джина к дороге. Между тем я подобрал свой кодекс и стал вылезать из машины. Я думал, это был сборник законов о доказательствах в уголовном деле, в котором содержались законы, касающиеся достаточного основания для ареста, а также законы, на основании которых проводится обыск и задержание. Я собирался зачитать оттуда пару законов в случае необходимости, как я делал уже много раз. Однако как выяснилось, я по ошибке захватил с собой кодекс по уголовному праву, — эти книги оказались так похожи.
Я вышел из машины, в правой руке у меня была книга, и спросил полицейского, нахожусь ли я под арестом. В ответ я услышал: «Нет, ты не арестован, просто обопрись на машину». Я оперся на крышу машины (это был «Фольксваген»), обе руки положив на кодекс, давая полицейскому возможность обыскать меня. Он производил обыск намеренно унизительным образом: вытащил из брюк низ рубашки, провел рукой по всему моему телу, а потом он стал похлопывать по моим ногам и при этом положил руки на область моих гениталий. Он делал свое дело очень тщательно и одновременно вызывал жуткое отвращение. Все это время мы, четверо, стояли на улице, второй офицер находился рядом с Мак-Кинни. Мне было не видно, что они там делали.
Наконец, полицейский, обыскивавший меня, велел мне пройти к его машине, поскольку он хотел побеседовать со мной. Он взялся за мою левую руку своей правой и пошел или, точнее, потащил меня к своей машине. Но, поравнявшись с его машиной, мы не задержались, а пошли дальше — к машине второго полицейского, к задней двери. Тут полицейский заставил меня резко остановиться. Воспользовавшись моментом, я открыл свою книгу и сказал: «У вас нет достаточной причины для моего ареста». Полицейский стоял слева от меня, чуть-чуть позади. Пока я открывал кодекс, он прорычал: «Можешь взять эту книгу и запихать ее себе в задницу, ниггер». С этими словами полицейский сделал шаг, оказался передо мной и двинул своей левой прямо мне в лицо. Удар смазался и был, скорее, похож на крепкий тычок. Этот удар на мгновение ошеломил меня, и я отступил назад, отойдя от полицейского фута на четыре, на пять, да еще упал на одно колено, все еще сжимая книгу в руке. Когда я начал подниматься, то увидел, как полицейский вытащил свой служебный пистолет, нацелился на меня и выстрелил. Казалось, мой желудок взорвался изнутри, словно кто-то залил мне в рот целый горшок кипящего супа. И мир подернулся туманной дымкой.
Быстрой очередью раздалось еще несколько выстрелов, но я понятия не имел, с какой стороны летели пули. Мне казалось, что они летят отовсюду. Я смутно помню, как опустился на землю, опираясь на руки и колени. Я перестал понимать, что происходит, у меня все шло кругом перед глазами. У меня было такое ощущение, что меня куда-то везут или толкают. Что было после этого, я не помню.
24. Последствия
Ты думаешь, о чернокожий брат,
Что жизнь вот так прекрасна
И выжить даст тебе любой ценой?
Или, быть может, что само существование
Сравнится с твоей великой жертвой?
А, может так случиться, что ты испытываешь страх
Перед могилой — такой страх,
Что можешь жить и умереть рабом?
О Брат! Уж лучше так сказать -
Когда уйдешь ты, и слезы горькие пролиты будут,
Пусть на твой могильный камень
Креститься будут внуки.
Люди умирают, чтобы
После них жизнь продолжалась -
Так посмотри же всем врагам в лицо!
И если нужно, отдай ты жизнь свою
За что-то, прежде чем напрасно ты умрешь.
Рэй Гарфилд Дэндридж. Время умиратьПосле ранения я то приходил в себя, то опять проваливался в небытие, и так продолжалось довольно долго. Какие-то вещи я помню, а какие-то прошли мимо меня. Это был ужасный момент для меня: в голове пульсировала кровь, боль накатывала волнами, и все окружающее расплывалось. Я потерял всякое ощущение времени. Следующий эпизод, который я помню после падения, — как меня привезли в Кайзеровскую больницу. От места происшествия до этой больницы ехать где-то пять миль. Понятия не имею, как я туда добрался. Помню площадку перед входом в больницу, по высоте она доходила мне до пояса. Кажется, никаких ступенек там не было, и я еще подумал, как бы мне забраться на нее. Несмотря на то, что я не мог разогнуться от нестерпимой, мучительной боли, я умудрился перекатиться на площадку. Затем я встал и, пошатываясь, вошел в больницу, где попросил позвать врача. Я не помню, с кем я разговаривал, но кто бы это ни был, он отказался послать за врачом и упомянул полицию. Казалось, время тянулось бесконечно, я все больше слабел. Наконец, кто-то помог мне зайти в комнату и уложил меня на кушетку, пришел ко мне и долгожданный врач.
Не успел врач приступить к осмотру моей раны, в комнату ворвалась полиция. Несмотря на то, что я страдал от боли и был абсолютно беспомощен, полицейские заломили мне руки за голову и приковали меня наручниками к кушетке. Эти движения растревожили мою рану, и я просто забился в агонии. Но полицейские на этом не остановились. Он стали колотить по наручникам, которые и без того уже врезались в мою плоть (после этого я еще больше года страдал защемлением нерва в тех местах, где сталь впечаталась в мои запястья). В скором времени боль в растянутых руках стала нестерпимей, чем от ранения. Я не мог ее вынести, это было выше моих сил, и я закричал, умоляя врача, который видел все происходящее со мной, попросить полицейских ослабить наручники. Врач сказал мне заткнуться.[45] В комнате была еще чернокожая медсестра. Увидев, что со мной делают, она очень расстроилась, но ничем не могла мне помочь. Полицейские окружили меня со всех сторон, били меня по лицу и по голове и называли мне имена. По их словам выходило, что я убил одного полицейского — Джона Фрея — и ранил другого — Герберта Хинса, и теперь моя жизнь не стоит ни гроша. Они клятвенно пообещали, что за такие деяния я умру. «Если ты не сдохнешь в газовой камере, — сказали они, — то отправишься за решетку, а уж там мы тебя достанем. Если же ты выберешься из тюрьмы, мы убьем тебя на улице». Кто-то из полицейских плюнул в меня, и я плюнул в ответ, стараясь избавиться от скопившихся у меня в горле крови и слизи. Каждый раз, когда полицейские приближались ко мне, я плевался кровью им в лицо и на униформу. В конце концов, доктор закрыл мне рот полотенцем, и полицейские продолжили свою атаку. Я все еще кричал от боли, когда окончательно потерял сознание.
Я пришел в себя в Хайленд-Аламедской окружной больнице в Восточном Окленде. Меня перевезли сюда, потому что Кайзеровская больница не должна была меня обслуживать. Я увидел, что моя рана обработана, а сам я лежал в постели с катетером в половом члене и трубками в носу и брюшной полости. Стоявшие около постели медицинские аппараты откачивали по трубкам избыточную жидкость и слизь. Полицейские разбудили меня. Стоило мне заснуть, они снова и снова заставляли меня очнуться.
Меня так накачали лекарствами за первые несколько дней, что я с трудом вспоминаю, что вообще происходило со мной. Когда я пришел в чувство в первый раз, кажется, я задумался о своем состоянии и о его безнадежности. Я боялся не смерти как таковой, а бессмысленного ухода из жизни. Я хотел, чтобы моя смерть стала таким событием, которое всколыхнуло бы людей, стало основой для дальнейшего сплочения общины для освободительной борьбы. Помню, как в палате играло радио и диктор объявил песню, заказанную для министра обороны. Но я не уверен, что слышал это на самом деле. Возможно, все это происходило лишь в моем воображении. В этот момент в палату вошла медсестра и, заметив, что я проснулся, спросила, хотелось бы мне услышать песню, заказанную для меня. Тогда я понял, что со мной не все так плохо и безнадежно и, как бы там ни было, люди узнали об инциденте и поддерживают меня. Эта мысль очень порадовала меня, несмотря на то, что я находился в руках моих угнетателей. Я знал, что Истэблишмент приложит все свои силы, чтобы уничтожить меня, но песня, этот маленький знак, поданный мне общиной, помог мне начать разговор с полицией.
Я не мог постоянно находиться в сознании и периодически опять проваливался в сон. Вскоре я обнаружил на своих ногах настоящие кандалы: лодыжки были связаны между собой цепью и обе были прикреплены к кровати. Довольно странно просыпаться и видеть, что твои ноги закованы в цепи. Поначалу я подумал, что это, наверное, мне приснилось в кошмарном сне, но потом я вспомнил и офицера на улице, достающего пистолет, и сцену в Кайзеровской больнице, и понял, что это не сон. Меня действительно приковали, а рядом стояли полицейские и сторожили меня. Они намеревались убить меня, они давно жаждали пустить мне кровь, что и пытался сделать ранивший меня полицейский. В таких условиях тот факт, что я выжил, кажется настоящим чудом.
Довольно скоро я получил письмо, написанное врачом по фамилии Агилар с ученой степенью доктора. Письмо было напечатано в нашей газете «Черная пантера». Там я прочел следующее:
«На своей медицинской практике я не припомню такого случая, когда пациента с сильным ранением в брюшную полость, страдающего от жестокой боли и кровоизлияния, «лечат», приковывая к кушетке для осмотров таким образом, что спина у него оказывается выгнутой, а живот напрягается. И все-таки именно такая фотография, отразившая процесс осмотра пациента на «скорой», появилась на первой странице местной газеты в прошлый выходной. На переднем плане с нарочито серьезным видом стоит полицейский, такой здоровый, что кажется карикатурным. Может быть, это он сказал проводившему осмотр врачу, что с пациентом следует обходиться таким необычным образом?
Как ни странно, но эта фотография, возможно, почти не нарушила обычный и приятный выходной, которым наслаждались мои соседи. Не слишком возмутила она и моих коллег — они обратили на нее лишь минутное внимание. Что касается меня, эта фотография намертво отпечаталась в моем мозгу. Я считаю этот снимок важнейшим свидетельством современной истории, он знаменует собой конец и начало. Я поняла, что лично для меня хватить слушать, читать и размышлять. Пришла пора говорить, действовать и давать отпор.
Я прочла несколько эссе, автором которых является пациент, т. е. Хьюи П. Ньютон. Я слышала, как он со всей страстью и старанием пытался донести свои идеи и надежды до того множества людей, которые обращались к нему с вопросами. Час за часом он продолжал говорить с теми, кто поддерживал его, и с тем, кто питал к нему недоверие, и делал это в одинаковой манере, без всякой злобы. Я слушала, как он пересказывает идеи из книг д-ра Фэнона, передавая их всего лишь несколькими потрясающе последовательными предложениями. Услышав его выступление, я была потрясена до глубины души. Как этот молодой человек двадцати пяти лет может прекрасным научным языком изложить тенденции развития современного общества в историческом, социально-экономическом и политическом разрезе? Как это у него получается, если я в свои сорок пять лет, из которых семнадцать лет я проучилась в колледже и потом продолжила образование после получения докторской степени, если я прихожу к выводу о том, что знаю ничтожно мало о ценности человеческой личности и должна начать все сначала.
Начать сначала я решила, когда несколько недель назад увидела пациента, говорившего с группой людей на улице, многие из которых подходили просто так и, послушав немного, шли своей дорогой. Один такой молодой человек позвонил вечером и сказал, что он попал в тюрьму. Полиция задержала его, потому что полицейским показалось, будто он совершил какое-то незначительное нарушение Автомобильного кодекса. Как выяснилось, они ошиблись, поскольку быстро установили, что никакого нарушения не было. Недовольные, полицейские устроили длиннющее расследование и, в конце концов, установили, что год назад молодой человек неудовлетворительно ответил на обвинение в том, что он водит машину с недействительными водительскими правами. Из-за этого он оказался за решеткой. Залог назначен в сумму 550 $. На заполнение заявки, уплату надлежащих денежных взносов и встречу с нужными людьми ушло три часа, и только после этого бедный чернокожий парнишка выбрался из тюремной камеры.
Через пару дней после этого случая мы с подругой ехали по шоссе. Так ее останавливали четыре раза за нарушение Автомобильного кодекса, включая отсутствие разрешения на трейлер, который был прицеплен к нашей машине. С нами ничего не случилось, хотя через несколько миль нас опять остановила полиция, на этот раз за нарушение правил дорожного движения. Несмотря на это, мы преспокойно вернулись домой к обеду, мы, две белых леди, проживающие в комфортабельном «белом» районе. Потом моя подруга сказала мне, что залог за все эти нарушения составил всего-навсего 15 $! Так что, пожалуйста, дорогие мои белые братья и сестры, не тратьте мое время, доказывая мне, что все американцы одинаково получают по закону. Я вам не поверю.
Я приношу вам извинения, мистер Ньютон, за дополнительные страдания, которые вам пришлось перенести, пока ваши раны осматривал врач. Я извиняюсь за все ужасы гетто и нечеловеческие условия, в которых из-за безнравственной политической и социальной системы… в подобных вам людей будут неизбежно стрелять на улицах нашего города.
Мэри Джейн Агилар, доктор медицины».
Все время, пока я находился в больнице, полицейские изо всех сил старались измучить меня до смерти. Стоило мне отключиться, как они толкали кровать или трясли меня. Один из них держал перед моим лицом дробовик с отпиленным стволом, предупреждая, что дробовик может выстрелить случайно. Другой махал передо мной бритвой и грозился перерезать трубки, чтобы оставить меня задыхаться. Еще один предсказывал, что я совершу самоубийство, нечаянно выдернув трубки из носа. Иногда они даже двигали трубки. Полицейские говорили мне, что я «сгорю в аду». Они без конца повторяли свою угрозу насчет того, что я умру в маленькой газовой камере с зелеными стенами в Сан-Квентине. Если уж я спасусь от камеры, они пообещали все равно достать меня и лишить жизни. Они даже бились об заклад, споря о том, светит ли мне газовая камера или тюряга. Они то и дело говорили что-нибудь вроде: «Ниггер скоро сдохнет. Он конченый человек. Он скоро отдаст концы в газовой камере».
Я не отвечал на это, но жаловался медсестрам на жестокое обращение. Начальница над младшим персоналом больницы заглянула ко мне, извиняюще улыбнулась полицейским и спросила, тревожат ли они меня. О, конечно же, нет, ответили они, улыбаясь женщине в ответ. Когда она вышла из палаты, оскобления посыпались на меня с новой силой. Полицейские даже не давали чернокожим медсестрам ухаживать за мной. Белые медсестры приходили и уходили по желанию, но стоило чернокожей медсестре начать мерить мне давление, как полицейский схватил ее, и она с ужасом выбежала из палаты. Тут вернулась начальница. «Ну вот, теперь вы знаете, что эта медсестра здесь работает, — сказала она. — Вам не следует так с ней обращаться». Жестокие игры продолжались до тех пор, пока моя семья, хотя она с большим трудом могла себе это позволить, не наняла для меня частных сиделок, которые находились рядом со мной все время. После этого мое положение улучшилось, поскольку сиделки наблюдали за полицейскими и добивались того, чтобы те меня не трогали.
Как только моя семья узнала о том, что со мной случилось, мои родные и близкие стали делать все возможное, чтобы помочь мне. Они сразу же поспешили в Кайзеровскую больницу и оставались поблизости, пока мне зашивали рану. Потом они наняли сиделок, чтобы защитить меня от жестокостей полицейских в Хайлендской больнице. Мой брат Мелвин, сестра Леола вместе с Элдриджем Кливером и другими «Черными пантерами» начали готовить мою защиту в суде. Они хорошо понимали, насколько трудно мне будет защищаться, ведь полиция твердо вознамерилась добиться обвинительного приговора для меня и уничтожить нашу партию. Полиции представился превосходная возможность для этого. Бобби сидел в тюрьме, а у полиции было на руках простое судебное дело, исход которого, по их мнению, был предрешен.
Старания моих родных по обеспечению самой лучшей защиты в суде довольно скоро дали ободряющие результаты. Как-то после полудня (я лежал в Хайлендской больнице уже несколько дней) я услышал шум, доносившийся из-за двери моей палаты. Судя по всему, полицейские кого-то не хотели пускать ко мне, кажется, женщину, и она ругалась на чем свет стоит. Это была Беверли Аксельрод, юрист, которая так много сделала, чтобы вызволить из тюрьмы Элдриджа Кливера. С ней пришел чернокожий адвокат. Я был еще очень слаб, поэтому в тот день Беверли не стала со мной долго разговаривать. Она лишь заверила меня в том, что делается все возможное, чтобы достать для меня лучшего адвоката. Беверли чувствовала, что для нее мое дело окажется слишком тяжелым, но я видел в ней человека, который будет защищать меня до последнего, чего бы это ни стоило.
Беверли не предала моего доверия ни разу. Чаще всего я не думал о ней как о белой женщине. По своим политическим взглядам Беверли принадлежала к «левым», но что более важно, она была великодушным и открытым человеком, способным на личностный рост и изменения. Я знаю ее уже много лет. В прошлом я нередко подмечал, что в процессе беседы Беверли могла бессознательно говорить с оттенком расизма. Когда ей указывали на это, она всегда тщательно проверяла свою позицию и разбиралась с ней таким образом, что от этого менялась ее жизнь. Именно ее способность к изменениям убедила меня в искренности Беверли и в том, что ей можно доверять. Поэтому, когда она заговорила об адвокате Чарльзе Гэрри, я знал, что могу доверять ее мнению о нем. С Чарльзом Гэрри Беверли познакомилась в начале 1950-х, тогда она наблюдала за условно-досрочно освобожденными. Беверли стала его протеже. Адвокат начал давать ей дела для защиты и помог ей наладить собственную юридическую практику.
Беверли сообщила мне, что Чарльз Гэрри уже давно защищает и политически угнетенных, и социально угнетенных, и пострадавших от расизма. Стремление к социальной справедливости он унаследовал от отца. Отец Чарльза Гэрри бежал из Армении после резни 1896 года и обосновался в городке Бриджпорте, штат Массачусетс. Здесь он примкнул к зарождавшемуся рабочему движению. Под его руководством даже прошла забастовка на фабрике, где рабочим платили низкую заработную плату. В 1915 году семья Чарльза переехала в Сан-Франциско, и там Чарльз поступил в юридическую школу. После окончания школы его специализацией стало трудовое законодательство. В начале своей карьеры, когда профсоюзы еще не пользовались тем уважением, которое они приобретут позже, Чарльз Гэрри представлял интересы шестнадцати профсоюзных объединений. Год от года он стал все больше заниматься политическими делами, защищая инакомыслящих и активистов. Гэрри брался за непопулярные, но важные случаи. Он стал сильно ощущать обязательства по отношению к тем, кто был обделен правами или чьи права были недостаточно защищены. Поскольку на инакомыслящих, уголовных преступников и первых организаторов профсоюзного движения смотрели как на общественных изгоев, Гэрри утверждал, что именно эти люди большее всего нуждаются в справедливом правосудии и должны получать самых талантливых защитников. Гэрри приобрел репутацию блестящего адвоката, выступающего в суде первой инстанции. Он был известен своим поразительным даром вести перекрестные допросы свидетелей, кроме того, он, как никто, понимал важность роли присяжных на процессах по политическим делам. Чарльз Гэрри считал, что на судебных слушаниях по политическим делам адвокат должен пытаться сам выбирать присяжных, чтобы жюри больше всего было озабочено не формальным соблюдением закона и порядка, а руководствовалось главным принципом закона — моральным.
Во время Второй мировой войны Гэрри настоял на том, чтобы его отправили на фронт пехотинцем несмотря на то, что он был очевидным кандидатом на должность в Корпус судей-адвокатов. Он сделал свой выбор, потому что не терпел фашизм и хотел непосредственно помочь его уничтожению. Невооруженным глазом видно, что Чарльз Гэрри был исключительным человеком.
В тот же день, когда меня навестила Беверли, ко мне пытался пройти Джон Джордж, чернокожий адвокат, который прежде помогал мне несколько раз. Полиция не пустила его в мою палату. Это довольно типично для расизма, свойственного полицейским: белый адвокат может потребовать встречи со мной и получить на это разрешение, а вот чернокожего прогоняют прочь. Взгляды или образование роли не играли, все решал цвет кожи. Однако в скором времени Джон ухитрился прорваться ко мне и как раз привел с собой Беверли. Он тоже, вслед за Беверли, чувствовал, что взрывоопасное дело наподобие моего требует более опытного адвоката, чем он сам, адвоката с большим количеством помощников и возможностями проведения собственного расследования.
В промежутках между посещениями полицейские громко обсуждали Беверли и Джона. Они ненавидели Беверли Аксельрод с бешеной силой за то, что она вытащила из тюрьмы Элдриджа. По-моему, тот факт, что она была белой, в глазах полицейских добавлял ей вины. Он злобно высмеивали ее и издевались над Джоном Джорджем, потешаясь над его характерной для всех негров внешностью. И все это время я лежал, прикованный к кровати, напичканный лекарствами, страдающий от боли, а полицейские расхаживали передо мной с важным видом и потрясали своими пистолетами. Они дожидались, пока посетители уйдут из палаты, и принимались угрожать мне убийством.
Ко мне приходили разные люди. Я плохо помню свою первую неделю в больнице, но знаю точно, что мои близкие навещали меня регулярно, и я вспоминаю, как время от времени видел в палате моих братьев и сестер. Моя мать ужасно переживала по поводу всего происходящего и не могла прийти в больницу. Для всех остальных посетителей, которые не являлись моими родственниками или адвокатами, было почти невозможно проникнуть ко мне в палату. Все же был один такой случай, когда, проснувшись, я узрел в палате совершенно незнакомого мне человека. Этот чернокожий не был ни моим адвокатом, ни родственником. Возможно, он был полицейским агентом, которому надлежало соблазнить меня сделать заявление себе во вред. Но он начал выполнять свое задание так неуклюже, что все стало сразу ясно, и он ничего не добился. Я-то знал, что его бы не пропустили в палату без особой цели, так что позволил ему говорить.
Наконец, ко мне пришел сам Чарльз Гэрри. Пока Беверли не упомянула его имя, я ничего не слышал о нем, но уважение и доверие, которые я питал по отношению к Беверли, автоматически перенеслись и на известного адвоката. С юридической точки зрения, партия и моя семья решили целиком и полностью доверить мое дело Чарльзу Гэрри. Я еще не совсем пришел в сознание, и Гэрри с пониманием отнесся к моим физическим страданиям. В тот первый раз мы не стали обсуждать стратегию защиты. Гэрри просто сказал, что он на моей стороне и с гордостью будет представлять мое дело в суде. Я сделал ему ответный комплимент.
Пока я лежал в постели, выздоравливая от полученных ран, я пытался со всех сторон оценить положение, в котором оказался, обдумать, что можно сейчас сделать, чтобы это положение поправить, и важность этих действий. Без сомнения, у меня были большие проблемы. Я находился под полным контролем своих угнетателей, и меня обвиняли в серьезном уголовном преступлении, за которое можно было получить смертный приговор. На самом деле, я думал, что мне придется умереть. Пока не начались слушания по делу, я действительно не надеялся на спасение. И все-таки смертная казнь в газовой камере не обязательно означала поражение. Она могла бы стать еще одним шагом на пути к повышению уровня сознательности общины. Я не пытался играть в героя, но на протяжении долгого времени готовил себя к смерти.
После создания партии я думал, что не проживу и года. Мне казалось, нас взорвут прямо на улице. Но я надеялся на то, что у меня будет хотя бы год на укрепление партии, и все время сверх этого года воспринимал как награду. Когда я лежал в Хайлендской больнице, я уже жил этим «позаимствованным» временем. За прошедший год много было сделано из того, о чем мы с Бобби мечтали, составляя наши «Десять пунктов» в Центре социального обслуживания Северного Окленда. Несмотря на мое нынешнее положение и даже перспективу гибели, я не чувствовал себя удрученным или несчастным. У меня еще оставалось время выступить с несколькими политическими заявлениями и сделать мой суровый опыт частью коллективного сознания чернокожих.
Вот эта, последняя, вещь была очень важна. Уже больше трехсот пятидесяти лет в нашей стране негры гибли как храбрые и достойные люди за дело, в которое они верили. Эта сторона нашей истории всегда была хорошо знакома нашему народу, однако многие воспринимали это историческое знание как-то смутно. Мы знали имена нескольких наших мучеников и национальных героев, но зачастую мы не были знакомы с обстоятельствами или точными подробностями их жизни. Белая Америка относилась к нашей истории так, что она замалчивалась в школах и в книгах по истории Соединенных Штатов. Смелость и отвага сотен наших предков, принимавших участие в восстаниях против рабства, так и осталась затерянной во времени. Это рабовладельцы-плантаторы постарались: они сделали все возможное, чтобы помешать любым записям о восстаниях рабов. Миллионы чернокожих школьников так никогда и не узнали о двух великих героях XIX столетия — Денмарке Веси и Нэте Тернере по прозвищу Пророк, которые погибли за свободу своего народа.[46]
У белых людей была веская причина на то, чтобы уничтожить нашу историю. Чернокожие мужчины и женщины, отказывающиеся жить в условиях угнетения, представляют собой опасность белому обществу, ведь они становятся символами надежды для своих братьев и сестер, вдохновляя их следовать героическому примеру. В наше время таким величайшим примером является Малькольм Икс. Его жизнь и его достижения воспламенили поколение чернокожей молодежи. Он помог нам сделать огромный шаг вперед, подарил нам новое самовосприятие и ощущение нашей судьбы. Насколько большое значение имела его жизнь, настолько значимой стала и его гибель. Смерть Малькольма зажгла в нас новый боевой дух. Этот дух зародился в объединенном сознании чернокожих, в охваченном гневом сознании. Нас объединило сознание того, что дело, начатое Малькольмом, осталось незавершенным.
В свете вышесказанного, я мог немного посмотреть на себя со стороны и поразмышлять на тему собственной смерти. Партия «Черная пантера» была создана в духе Малькольма; мы боролись за те цели, которые он поставил перед собой. Если бы негры увидели, что «Черных пантер» убивает не только полиция, но и судебная система, они почувствовали бы, что круг замкнулся, и сделали бы следующий шаг вперед. В этом смысле моя смерть не была бы бессмысленной.
После двухнедельного пребывания в Хайленд-Аламедской больнице мое состояние улучшилось, и меня переправили в санитарную часть блока для смертников в Сан-Квентине. По официальной версии, я находился здесь для собственной же безопасности. Когда «скорая помощь», на которой меня транспортировали в тюрьму, подъезжала к Квентину, полицейские сказали мне хорошенько посмотреть на тюремные стены, потому что мне предстоит пробыть там очень и очень долго. Пока меня везли на каталке по коридорам Сан-Квентина по направлению к блоку смертников, один за другим охранники кричали мне «покойник, покойник, покойник». Заключенным не разрешается говорить с человеком, помещенным в блок смертников.
Больничные тюремные камеры в Квентине находятся по соседству с камерами, где содержатся психически больные заключенные. Если моя запиралась на целых три замка, то большая часть их камер была вообще открыта, потому что эти заключенные становятся беспокойными в маленьком пространстве. В коридоре для них стояли тренажеры, карточные столы со стульями, несколько игр, чтобы они могли себя занять.
Среди этих душевнобольных был один мексиканец, кажется, его звали Робилар. Мы с ним поладили, так как он думал, что мусульманин, а я его не разубеждал. Каждый день он стоял около моей камеры, играл на гитаре, пел мне и говорил: «Не беспокойся, все будет хорошо».
Всю жизнь Робилар то и дело попадал в тюрьму. На этот раз парень убил своего сокамерника. Как и я, на суде он защищался самостоятельно и проиграл дело. Однако смертный приговор был отменен, когда Робилар был объявлен неспособным вести самозащиту. После этого его заперли в психушке в Квентинской тюрьме. Он пытался резать себе вены, так что его камеру перестали закрывать и позволили ему свободно перемещаться по тюрьме. Робилару нравилось смотреть, как перевязывают мою рану. Когда приходили врачи и снимали мне повязку, чтобы наложить новую, Робилар ходил вокруг моей кровати и заглядывал под руку врачам, прищелкивая языком от возбуждения.
На третий день моего пребывания в Квентине в соседнюю камеру поместили новенького — белого. Мы так и не узнали его имени, но нам было известно, что его должны освободить через полгода. Весь тот день, когда привели нового заключенного, Робилар пел мне, а вечером он прокрался в камеру к новичку, перерезал ему горло и пробил череп спортивной гирей. Потом он вернулся в свою камеру и стал петь одну и ту же песню:
Печалься же, Том Дули, Печалься и плачь; Печалься же, Том Дули, Бедняга, ты должен умереть.Он все еще пел, когда я заснул. Было это около десяти вечера. Хотя убийство случилось в соседней с моей камерой, я и понятия об этом не имел, да и никто не догадался, пока на следующее утро охранники не нашли новичка бездыханным. Робилара окончательно объявили неизлечимо больным. Он совершил седьмое убийство, четвертое в тюрьме. Три предыдущих раза он убивал своих сокамерников.
Полежав две недели в Сан-Квентине, я почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы встать с больничной койки. Мне хотели помочь, но я пошел сам. Из Квентина меня переправили в Аламедскую окружную тюрьму в центре Окленда, где мне уже приходилось бывать раньше. На этот раз я должен был просидеть там одиннадцать месяцев — до и во время слушания по моему делу.
25. Стратегия
Лицемерие американского фашизма заставляет его прикрывать атаку на политических преступников юридической фикцией из правовых норм об ответственности за преступный сговор и в высшей степени изощренными ложными обвинениями. Массы должны научиться понимать настоящую функцию тюрем. Как они могут существовать в таких количествах? Каков на самом деле основной экономический мотив преступления и на какие типы в действительности официально делятся преступники или жертвы? Люди должны узнать, что, когда кто-нибудь «оскорбляет» тоталитарное государство, то он совершенно точно не совершает преступления против тех, кто живет в этом государстве. Он нападает на привилегии, которыми пользуются немногие привилегированные.
Джордж Джексон. Кровь в моих глазах13 ноября 1967 году большое жюри Аламедского округа выдвинуло против меня обвинения. Меня обвиняли в совершении трех преступлений: убийстве патрульного Джона Фрея, нападении на патрульного Герберта Хинса с угрозой применения смертельного оружия и в похищении чернокожего по имени Дел Росс, находившегося поблизости от места преступления. Я заставил его отвезти меня на машине в Кайзеровскую больницу. Кажется, именно так я и попал в больницу. Согласно показаниям Дела Росса перед большим жюри, я и еще один человек забрались в его машину, наставили на него пистолет и сказали ему ехать в больницу. Но, как сказал Росс, не доехав до больницы, мы выпрыгнули из машины и растворились в ночи.
Среди представленных большому жюри вещественных доказательств были: пуля, извлеченная из спины патрульного Фрея; пуля, извлеченная из колена патрульного Хинса; револьвер Хинса; две девятимиллиметровые гильзы, найденные на улице; два спичечных коробка с марихуаной, обнаруженные под сиденьем машины, за рулем которой я ехал; разные фотографии, сделанные на месте происшествия; ксерокопия записи об оказании мне первой помощи в Кайзеровской больнице. Пистолет патрульного Хинса оказался единственным оружием, найденным на месте преступления. Девятимиллиметровые гильзы были не от него, что было слабым доказательством. Большое жюри заслушало показания Хинса, Дела Росса, прибывших к месту перестрелки полицейских, медсестры, которая принимала меня в Кайзеровской больнице, а также экспертов, проводивших баллистическую экспертизу. Было установлено, что утром 28 октября было сделано семь выстрелов. Патрульный Хинс получил три ранения, в патрульного Фрея попали дважды — пули угодили ему в бедро и в спину. Совершенно расплющенная пуля, которая, возможно срикошетила от какой-то другой поверхности, была найдена в двери «Фольксвагена», принадлежащего Ла-Верне.
Показания по делу большое жюри стало заслушивать после того, как меня перевели из Сан-Квентина в окружную тюрьму в Окленде. Несмотря на полученное всего лишь несколько недель назад тяжелое ранение, я быстро шел на поправку и окреп настолько, что мог приступить к планированию политической стратегии на суде. Я не хотел вникать в юридические тонкости, меня занимала исключительно политическая стратегия. Решение номер один, принятое партией, гласило, что все адвокаты остаются в стороне от политических вопросов, касающихся моего дела. Разумеется, мне необходимо было знать всю юридическую подоплеку, но я не собирался задавать много вопросов на этот счет. Юридические тонкости определенно стояли для меня на втором месте. Самым важным было идеологическое и политическое звучание судебного процесса.
Под термином «политическая стратегия» я подразумеваю следующее: я хотел использовать суд как средство политической дискуссии, чтобы доказать, что необходимость борьбы за мою жизнь логически и неизбежно вытекала из всех наших усилий, направленных на борьбу с угнетателем. Разнообразная деятельность и программы «Черных пантер», наблюдение за полицией и сопротивление жестокому обращению полицейских не на шутку встревожили властные структуры, после чего власть стала копить силы, чтобы навеки задушить нашу революцию. Общественное внимание мне было обеспечено. Так почему было не использовать зал судебных заседаний и средства массовой информации с целью преподать еще один урок чернокожему народу? Для нас ключевым моментом в деле была жестокость полицейских, но мы надеялись пойти дальше, чем просто подчеркнуть это. Мы также хотели обратить внимание и на другие проявления жестокости, от которых страдали бедняки, — на безработицу, плохие жилищные условия, подчиненное образование, недостаток объектов общественного пользования (средств связи, городского транспорта, коммунальных услуг и т. п.), несправедливый призыв на военную службу. Эти явления стояли рядом с жестоким обращением полиции. Если мы смогли организовать людей на борьбу с последним, что мы были просто вынуждены сделать, возможно, нам удалось бы сподвигнуть их и на борьбу с другими формами угнетения. На самом деле, гораздо чаще система уничтожает нас своим пренебрежением, чем при помощи полицейского пистолета. Огнестрельное оружие — это только coup de grace, завершающий смертельный удар так сказать, всего лишь исполнитель. Ликвидировать условия, которые делают возможным этот coup de grace, — вот в чем состояла наша цель. Тогда следствие этих условий — оружие и убийство — исчезли бы сами. Поэтому предстоящий судебный процесс заботил партию «Черная пантера» не столько с точки зрения спасения моей бедной жизни, но сколько как возможность организовать людей и оказать содействие их борьбе.
Да, наша цель заключалась отнюдь не в спасении моей жизни, поскольку я уже смирился с тем, что мне казалось неизбежным, — с мыслью о том, что они меня непременно убьют. Все, чем мы занимались в последующие одиннадцать месяцев, исходило из предположения о моей гибели. Моя жизнь в любом случае должна была когда-нибудь подойти к концу, но народ должен был идти вперед, в нем была скрыта возможность бессмертия. Диалектика говорит нам, что все люди страстно хотят быть бессмертными и это желание есть одно из противоречий между человеком и природой. Человек пытается отсрочить смерть, обратив время вспять, поставив его под контроль, что является одной из форм проявления воли к власти.
Я видел, как момент моей собственной смерти становится все ближе и ближе. И как я только мог спокойно к нему готовиться! Человек никогда не может знать наверняка, как он поведет себя непосредственно в этот момент. Я осознавал, что самой ценной для любого человека вещью является его жизнь, и не был уверен в том, как я буду с ней расставаться, особенно с учетом угрожающей перспективы газовой камере. Прежде я уже сталкивался со смертью, но совершенно в других обстоятельствах. В каждом случае смерть была непредсказуемой и внезапной, к тому же существовала возможность ее перехитрить. Но когда тебя собирается убить государство, то у тебя не остается никаких шансов, неизбежность смерти становится абсолютной. Чтобы принять наказание, подготовленное для тебя государством, требуется особая смелость, иначе говоря, способность вести себя со всей возможной учтивостью и достоинством в ситуации, унизительней которой быть не может. Такова конечная форма истины.
Прежде всего, Чарльз Гэрри решил до начала судебного разбирательства подать несколько ходатайств в суд штата и в федеральный суд, поставив в них под сомнение юридическую силу самого большого жюри. Это нужно было для того, чтобы доказать, что вынесенное мне обвинение было как незаконным, так и незаслуженным. Гэрри не только представил аргументы против способа составления большого жюри, при котором редко удается представить весь срез общества, но и показал, что сама такая система не согласуется с Конституцией. Вынесенное большим жюри обвинение, как доказывал Гэрри, угрожает самому праву человека на справедливое правосудие. На заседаниях большого жюри, которые всегда проводятся за закрытыми дверями, не присутствуют ни обвиняемый, ни его защитник. Улики против обвиняемого членам жюри представляет окружной прокурор, при этом проведение перекрестного допроса свидетелей не позволяется, и ни одно доказательство не может быть представлено обвиняемым. Показания свидетелей, данные перед большим жюри, не доходят до суда, но стенограмма заседаний большого жюри может быть опубликована в прессе. Впрочем, это мало способствует появлению объективного отношения к обвиняемому в обществе. Влияние этих стенограмм на общественное мнение может быть очень сильным, особенно если принять во внимание тот факт, что все улики и свидетельские показания представлены там с точки зрения окружного прокурора, а уж он делает все возможное, чтобы доказать вину подсудимого. Поэтому едва ли можно назвать справедливой ту ситуацию, в которой жюри присяжных для судебного процесса набирается из граждан, слышавших или читавших о доказательствах, на основании которых было выдвинуто обвинение. Как ни крути, а вынесенное большим жюри обвинение означает лишь то, что жюри нашло предъявленные ему доказательства вины подсудимого достаточными для того, чтобы привлечь подсудимого к суду.
Гэрри также доказывал, что, попросив большое жюри собраться для обсуждения моего дела, прокурор совершил необычный и необъективный шаг. Статистика Аламедского округа показывает, что большим жюри было рассмотрено всего лишь три процента всех судебных дел. Остальные дела начинались процедурой «изложения фактических обстоятельств дела». Во время этой процедуры обе стороны выступали перед судьей, и судья был единственным человеком, который принимал решение о передаче дела в суд. При изложении фактических обстоятельств дела свидетелей можно подвергать перекрестному допросу, что не разрешается делать на заседаниях большого жюри. Очевидно, что в моем случае прокурор намеренно хотел, чтобы свидетельские показания были представлены именно большому жюри. Таким образом он намеревался повлиять на общественное мнение, настроив его против меня.
Помимо прочего, Гэрри подверг критике всю процедуру избрания членов большого жюри. В Калифорнии каждый из двадцати судей Высшего суда рекомендует трех человек в большое жюри. Предполагается, что судьи лично знают своих кандидатов. Совершенно ясно, что немногие судьи Аламедского округа знакомы с 200.000 и больше негров, проживающих в этом округе. На самом деле получилось так, что единственный чернокожий, который был в составе большого жюри, заслушавшего мое дело, отсутствовал в тот день, когда жюри были представлены свидетельские показания. Обычно судьи склоняются к тому, чтобы выбирать в жюри белых представителей высших слоев и среднего класса, т. е. бизнесменов, консервативно настроенных домохозяек, брокеров, банкиров, армейских офицеров в отставке и т. п. По большей части это люди средних лет, не имеющие ни малейшего представления о жизни чернокожих бедняков. Добавим, что большинство из них в душе питают враждебное отношение к неграм. И после этого скажите, пожалуйста, разве они способны хотя бы чуть-чуть понять события или причины, по которым такой обвиняемый предстал перед ними?
Гэрри сделал любопытный вывод, обратив внимание на то, сколько времени потратило большое жюри на рассмотрение моего дела. Он изучил официальные стенограммы заседания жюри и доказал, что, возможно, большое жюри вообще не рассматривало или не обсуждало ни одну из представленных ему улик. Гэрри провел тщательный поминутный анализ последнего заседания жюри. Результаты оказались просто удивительны. Из официальной стенограммы заседания, где отмечалось, что и когда делало жюри в тот день, вытекало, что члены жюри не могли как следует обсудить мое дело. После того, как им были представлены все улики, члены большого жюри проследовали в комнату, где они должны были все обдумать, и закрыли за собой дверь. Они вышли оттуда почти сразу. Поскольку прямых доказательств моей вины не существовало (ни один человек не мог подтвердить, что у меня был пистолет или что я из него стрелял), жюри не стало тратить время на обсуждение, увидев, что случай просто неправдоподобный. Уличив жюри в равнодушии и мошенничестве, Гэрри усилил свои позиции по обвинению членов жюри в нечувствительности к проблемам бедных и угнетенных.
После подачи в соответствующие инстанции документов, в которых ставилась под сомнение конституционность системы большого жюри, Гэрри обратился к несправедливым элементам судебной системы как таковой. Вместе со своими помощниками адвокат проанализировал процедуру выбора присяжных. В Аламедском округе, как почти везде по стране, присяжные избираются по окружным регистрационным спискам избирателей. Как и везде, количество зарегистрированных в этих списках избирателей от негритянских общин гораздо меньше, чем от белого населения. Кроме того, если чернокожих и выбирают в жюри присяжных, то многие из них отказываются по совершенно законным причинам, в том числе и из-за финансовых сложностей и неудобств. В связи с этим лишь немногие представители различных меньшинств решают судьбу тех, кто похож на них. И вновь Гэрри поднял вопрос о том, доступно ли негру в Америке настоящее правосудие.
Начиная с ноября и до июля следующего года, когда проходили судебные слушания по моему делу, Гэрри был по горло занят подачей всех нужных документов в суды штата Калифорния. Девять месяцев, которые прошли с момента вынесения обвинения до начала суда, — это необычно долгий срок. Задержка с судом была не только неизбежна из-за требующих времени предварительных разбирательств. Эта задержка была еще и желательна. Благодаря средствам массовой информации — телевидению и истерическим газетным статьям — я приобрел настоящую известность. Смерть полицейского всегда заставляет довольно значительную часть населения требовать отмщения. Многие люди поверили в то, что я был виновен. К тому же полиция Окленда пришла в состояние неописуемой ярости. 17 октября, за две недели до того, как был застрелен Фрей, полицейские в очередной раз продемонстрировали свою жестокость на митинге протеста, который собрал 4.000 демонстрантов. В тот день они разгоняли митингующих с такой злостью, что вся пресса, даже газета «Трибьюн» Уильяма Ноуленда, была единодушна в критике поведения полицейских. Тот день стал известен под названием «кровавый вторник». В результате полицейские заняли оборонительную позицию, затревожились и стали ломать голову, как бы им оправдаться в глазах общественного мнения. С этой целью им было необходимо представить демонстрации как угрозу обществу, особенно если среди участников протеста были «Черные пантеры». Наступление полицейских на братьев усилилось, что не обошло стороной и наших: прямо на улице был арестован Дэвид Хиллиард за распространение листовок, в которых сообщалась информация по моему делу. Насколько мне известно, раздача листовок никогда не являлась противозаконным действием. В любом случае, Гэрри хотел, чтобы эмоции общественности пошли на убыль. Он считал, что более спокойное отношение улучшит мои шансы на более справедливое судебное разбирательство.
Пока полиция с завидным усердием не давала спокойной жизни «Черным пантерам», другие жители Окленда и его окрестностей объединялись, чтобы помочь мне. Партия решила, что широкая поддержка будет необходима для поиска союзников и сбора денежных средств на мою защиту. Так что в декабре наша партия объявила о коалиции с партией «Мира и свободы». Эта организация, в основном, состояла из белой молодежи, протестовавшей против войны во Вьетнаме и чувствовавшей, что двухпартийная политическая система больше не работает. Эти молодые люди увидели необходимость в третьей партии, которая бы сумела выдвинуть сильных лидеров с антивоенной программой на выборах 1968 года, а также бороться с пороками нашего общества. В конце концов, когда партия «Мира и свободы» стала легальной в большинстве штатов, она выдвинула Элдриджа кандидатом в президенты и Джерри Рубина[47] — кандидатом в вице-президенты. Но самое главное, что союз между «Черными пантерами» и партией «Мира и свободы» был призван показать, — это то, что за мое пребывание в тюрьме и ошибочное обвинение в убийстве патрульного Фрея были ответственны расизм и полицейский гнет. Лозунг «Свободу Хьюи!» стал плодом нового союза. Он превратился в объединяющий призыв для всех людей, веривших в мою невиновность.
Между тем, все чернокожие жители Америке не остались равнодушны к тому, что я попал за решетку. «Черные пантеры» набирали новых членов в каждом крупном городе и даже кое-где в сельской местности. Случалось так, что люди просто собирались вместе, называли свою группу «Черными пантерами» и даже не пытались связаться с нашим центральным штабом. Иногда группы брали за основу нашу программу из десяти пунктов и придумывали себе другое название. Способ создания группы был не так уж важен, поскольку, в любом случае, община повышала свою образованность, ее сознания поднималось на новый уровень развития.
Мы также сумели вызвать международный резонанс. Вскоре группы из других стран стали обращаться к нам с просьбой прислать наших лекторов. В то время мы по-прежнему считали себя революционными националистами, другими словами, чернокожими националистами в Соединенных Штатах, занявшими революционную позицию. Мы еще не разработали свою международную политику. Однако некоторые члены нашей партии уже выступали за пределами Штатов и объясняли нашу политическую платформу, а также сущность американского варианта угнетения. В том числе представители нашей партии посетили и Японию. Группа революционно настроенных японских студентов «Дзенгакурен» пригласила «Черных пантер» выступить на нескольких конференциях, организованных «левой» молодежью. Для поездки в Японию мы выбрали Кэтлин Кливер (недавно она стала женой Элдриджа) и Эрла Энтони из нашей партии. Эрл был бакалавром из Лос-Анджелеса. Несмотря на проблемы, которое Лос-анжелесское отделение партии с ним имело, Эрл считался компетентным, четко выражающим свои мысли человеком, и поэтому подходил на роль оратора. На Гавайях Кэтлин и Эрл задержались, у них возникли проблемы с получением виз в японском консульстве. Кэтлин решила вернуться, и Эрл отправился дальше в одиночку.
Однако в Японии все пошло не так, как планировалось. Вместо того, чтобы изложить позицию партии, Энтони познакомил японцев со своим личным мнением об отношениях черных и белых и рассказал им о том, как черный мир будет бороться с белым и как белому миру придет конец. Его речь была довольно проста и была полностью созвучна позиции Стокли Кармайкла. Энтони не высказал заинтересованности проблемами классовых взаимоотношений и даже не пытался описать их применительно к Америке. Для него вся проблема заключалась в расизме, что не могло не привести к сепаратизму.
Я прослушал запись нескольких японских конференций, которую принес мне друг, и очень рассердился. Японские студенты разгромили Энтони направо и налево. Они задавали ему хорошие вопросы — вопросы, в которых противоречия рассматривались с точки зрения диалектики, тогда как Энтони привык к вещам абсолютным. Он зациклился на том, что белые угнетают черных. Разумеется, расизм не в последнюю очередь виноват в наших проблемах, но он вписан в более широкий контекст. По иронии судьбы, именно японские студенты выразили подлинную позицию нашей партии, указав другие, кроме расизма, причины и обстоятельства, осложняющие отношения черных и белых в Америке. Энтони не оправдал возложенных на него надежд, увлекся индивидуализмом и тем самым сузил возможности международного сотрудничества. Не удивительно, что японские студенты разочаровались в нашей партии. И по сей день я не знаю, была ли Кэтлин Кливер как-то причастна к провалу Энтони в Японии. Кэтлин действительно любила партию, но я сомневаюсь, что она или Элдридж когда-либо принимали нашу идеологию полностью.
Так или иначе, прослушав записи, мы почувствовали отвращение. Центральный комитет осудил Энтони и освободил от всех обязанностей, имеющих отношение к щепетильным вопросам. Энтони вернулся в Лос-Анджелес и какое-то время продолжал сотрудничать с партией, но потом ушел от нас и написал о нашей партии поверхностную книгу оппортунистического содержания. За этого его исключили. Да, нам были нужны писатели, которые помогли бы нашему делу, но мы не нуждались эгоисты.
Подобного рода инциденты действуют угнетающе, если ты не можешь разобраться с ними лично. Впрочем, возможно, это было и к лучшему, что тогда я сидел в тюрьме, ведь я пал жертвой полицейского заговора. В этом смысле, мое пребывание в тюрьме служило внешнему миру постоянным напоминанием о возмутительных поступках полиции. Каждый день, что они держали меня за решеткой, я все больше и больше превращался в символ жестокого обращения полиции с бедняками и неграми, а также служил живым укором обществу, упрекая его в равнодушии к несправедливым моментам судебной системы. Лозунг «Свободу Хьюи!» набрал большую силу, и эти слова уже касались не только лично меня, а стали призывом к освобождению всех негров.
Однако те одиннадцать месяцев, которые я провел в Аламедской тюрьме в ожидании суда, дались мне нелегко. Тюремный режим просто убивал меня, кормежка была ужасной, а охранники — продажными. Большую часть своего срока я провел в одиночной камере в наказание за то, что протестовал против плохого обращения с заключенными. Моя камера была шириной в четыре с половиной фута и длиной в шесть футов. В ней не было окна, никакого окошка не было даже в двери (в конце концов, они прорезали маленькое отверстие в двери и забрали его толстой проволокой). В камере было так душно и жарко, что зачастую я снимал с себя всю одежду, чтобы почувствовать хоть какое-то облегчение. Даже дышать там было трудно, потому что вентиляция в камере отсутствовала начисто. В моем распоряжении была койка, раковина и унитаз — больше ничего. Я покидал камеру всего лишь три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, когда меня навещали родные или когда я виделся с моими адвокатами. Даже свидания не приносили мне удовольствия. Они проходили в крошечных кабинках, в которых заключенные и посетители разделяла стальная стена. Говорить ты должен был в круглое экранированное отверстие и прикладывать свое ухо к другому отверстию в стене, если хотел услышать ответ. Обычно из-за этого общение выходило натянутым. К счастью, через своих адвокатов я мог посылать письма и кассеты друзьям и партии. (Послания на кассеты я наговаривал в комнате для свиданий с адвокатами.) Меня постоянно держали в курсе событий, и у меня никогда не возникало желания все бросить, главным образом, потому что я чувствовал огромную поддержку не только своих собратьев, но и Чарльза Гэрри, а также других адвокатов, которые работали вместе с ним над моим делом. Это были Александр Хоффман, специалист по защите гражданских прав в районе Залива; Фэй Стендер, который впоследствии участвовала в деле Джорджа Джексона в Соледаде; Джон Эскобедо, тоже адвокат, мексиканец; Карлтон Иннис, чернокожий адвокат. Позже к этой группе присоединился адвокат Эдвард Китинг, основатель журнала «Рэмпартс».
Оставшиеся на свободе братья проделали огромную работу в пользу моей защиты. Они ездили по негритянским общинам Залива и собирали деньги; посещали кампусы в колледжах и говорили со студентами; выступали, проводили разные форумы и митинги. После выхода из тюрьмы в декабре Бобби Сил посвятил все свое время организации моей защиты (его освободили досрочно). Полиция так и не оставила его в покое. Однажды, дело было в феврале, они ворвались в его квартиру и арестовали за хранение оружия, которое полицейские ему подбросили. Это была настолько очевидная фальсификация, что судья отпустил Бобби. 17 февраля, в день моего рождения, и на следующий день было проведено два крупных митинга, один в Окленде, другой в Лос-Анджелесе. На них выступили многие лидеры революционного движения негров в Соединенных Штатах, включая Эйч Рэп Брауна, который впоследствии стал председателем Студенческого координационного комитета, и Джеймса Формана, будущего главу офиса комитета в Нью-Йорке.
Среди выступавших был и Стокли Кармайкл, он даже пришел в тюрьму повидать меня. Он только что вернулся из мирового турне с заездом в Африку, Вьетнам и на Кубу, и было заметно, что многие его идеи претерпели изменения, причем за короткое время.
Наше свидание продолжалось достаточно долго для того, чтобы мы успели поссориться. Стокли начал высказываться насчет мероприятий, которые помогли бы вытащить меня из тюрьмы. По его мнению, единственным средством здесь было вооруженное восстание и расовая война как его кульминация. Я не согласился с ним. Я действительно признавал, что расизм пропитывает все наши проблемы, но считал, что их следует рассматривать все-таки в контексте классовой эксплуатации и капиталистической системы. С учетом происходящих в стране событий, продолжал я, мы будем должны найти побольше союзников и сотрудничать с любыми людьми, борющимися с нашим общим угнетателем. Стокли не одобрил союза «Черных пантер» с партией «Мира и свободы» и сказал, что нам не следовало бы связываться с белыми радикалами или позволять им приходить на наши собрания или участвовать в наших митингах. Стокли предупредил меня, что белые разрушат наше движение, отдалят от нас чернокожих братьев и снизят эффективность нашей деятельности в общине. (Как выяснится позже, Стокли был прав, прогнозируя то, что случится с партией, но он ошибся по существу. В результате коалиций с другими политическими группировками «Черные пантеры» оказались вовлечены в движение за свободу слова, психоделические фантазии и пропаганду наркотиков, которые мы резко критиковали и продолжаем критиковать. Все это не относилось к нашей работе, которая касалась более глубоких и фундаментальных проблем, по сути дела — выживания.) А когда все это случится, закончил предупреждение Стокли, белые попытаются отнять у нас лидерство.
Я не поверил всем этим утомительным разговорам. Я сказал Стокли, что расизм же не запер нас наглухо и все его, Стокли, предсказания не обязательно сбудутся. Я почувствовал, что Стокли боялся самого себя и собственной слабости. На его анализ с точки зрения расизма я ответил анализом с точки зрения классовой теории. Из моих рассуждений вытекало, что мы могли сотрудничать и иметь дружественные отношения с другими группами в нашей общей борьбе с нашим общим угнетателем без того, чтобы эти группы взяли над нами верх. Однако вышло так, что за тридцать пять месяцев моего пребывания в тюрьме наши лидирующие позиции действительно пошатнулись и между «Черными пантерами» и белыми радикалами возникли серьезные трения. И только лишь после моего возвращения мы смогли начать восстанавливать утраченные позиции.
Одно из самых печальных переживаний, которое я испытал, пока сидел в тюрьме и ждал суда, было связано с убийством Малыша Бобби Хаттона 6 апреля 1968 года. Эта новость была передана по тюремному радио. Я был потрясен, но удивления не испытал. Полиция утверждала, что Малыш Бобби был застрелен при попытке бегства, но мы-то знали, что это была ложь, в стиле той, что обычно выдавали шерифы на Юге. Остальные негры тоже не купились на этот обман. Община ужасно расстроилась и была охвачена гневом. Малыш Бобби был подло убит лишь два дня спустя после убийства Мартина Лютера Кинга, и люди еще не отошли после такого удара. После убийства Кинга начальник полиции Гейн отменил все увольнительные в своем ведомстве и удвоил количество полицейских в нашей общине, что только усилило гнев и отчаяние общины. Убийство Бобби привело к возрастанию напряжения в Окленде, и появились опасения того, что негритянская община может взбунтоваться. Утром 7 апреля Чарльз Гэрри и Бобби Сил пришли ко мне в тюрьму. После перестрелки был арестован Элдридж, и Гэрри собирался его защищать. Из тюрьмы они собирались пойти на пресс-конференцию в полицейском участке и хотели получить от меня послание народу. Я отдал им кассету с записью своей речи. Я призывал людей не подниматься на спонтанное восстание. Это не привело бы ни к чему, лишь дало бы полиции еще одну возможность продолжить резню. Люди должны были вооружаться с целью самозащиты, на случай, если полицейские применили бы по отношению к ним жесткие методы. Но им не следовало превращать себя в беззащитные мишени и идти на верную смерть. Чарльз Гэрри дал прослушать мою запись присутствовавшим на пресс-конференции, а также сделал заявление для журналистов о намеренном убийстве Малыша Бобби, совершенном полицией. Конечно, при этом начальник полиции Гейн просто взорвался от негодования и обвинил Гэрри по радио и телевидению в том, что адвокат позволяет себе выступать с несдержанными и ложными утверждениями. Однако недавно бывший сотрудник Департамента полиции Окленда, один чернокожий, в частной беседе с нами подтвердил, что Малыш Бобби был откровенно убит. Он сам был этому свидетелем. Гибель Бобби разрывала мне душу. После этого я еще больше укрепился в намерении использовать предстоящий судебный процесс как средство организации людей против этих безжалостных убийц.
Между тем, Чарльз Гэрри упорно продолжал подавать документы, в которых подвергалась сомнению конституционность процедуры выбора присяжных. На самом деле, он занимался этим вплоть до начала суда по моему делу. Его расследования имели весьма значительные последствия для всей судебной системы в целом, и результаты усилий Гэрри сейчас можно увидеть в любом уголке нашей страны. В большей степени это именно заслуга Гэрри, что в судах Соединенных Штатов стали обращать внимание на право обвиняемого быть судимым присяжными с таким же цветом кожи, социальным статусом, образованием и т. д. и т. п. Однако летом 1968 года Гэрри еще только отвоевывал это право, а дата моего суда тем временем неуклонно приближалась.
Часть пятая
Давайте превзойдем самих себя; революционер всегда стремится превзойти себя, в противном случае, он и не революционер вовсе. Поэтому мы всегда делаем то, что от себя требуем, или больше того, на что, как нам кажется, мы способны.
26. Процесс
Еще до начала суда над Хьюи в середине июля мы знали, что власть предержащие горя6 т страстным желанием его повесить. Мы хорошо представляли себе, насколько велико вероломство Уильяма Ноуленда (издателя оклендской газеты «Трибьюн»), мэра, местных политиков, окружного прокурора и полицейских. Мы понимали, что они сделают все возможное, чтобы добиться обвинительного приговора и послать Хьюи в газовую камеру.
Мы без конца спрашивали Чарльза Гэрри о том, чем, по его мнению, все закончится. Он разберется с этим делом и докажет, что Хьюи был действительно невиновен и что полицейские перестреляли друг друга в попытке убить Хьюи.
Бобби Сил. Схватить времяСудебное разбирательство началось утром 15 июля 1968 года в здании Аламедского окружного суда. Чтобы выразить свою поддержку, к зданию суда пришло пять тысяч демонстрантов и около четырехсот пятидесяти «Черных пантер». Со всего города приезжали набитые битком автобусы с демонстрантами, и вновь прибывшие вливались в толпу, заполнившую улицы и тротуары вокруг здания суда. Вдоль улицы, ведущей к зданию, стояла группа «Черных пантер». Они выстроились в колонну по двое и представляли собой внушительную и сплоченную силу. У входа в здание суда находилась группа чернокожих сестер из партии, они скандировали лозунги «Свободу Хьюи!» и «Освободите нашего воина!» Перед сестрами, по обе стороны от входа, стояли два члена нашей партии и держали голубое знамя «Черных пантер» с надписью «Свободу Хьюи». Патрули «Черных пантер» с рациями окружили здание суда со всех сторон.
Здание суда очень хорошо охранялось. У каждого входа и на каждом этаже прохаживались вооруженные помощники шерифа, по всему зданию были размещены переодетые полицейские. В первый день суда около пятидесяти полицейский в шлемах стояли в вестибюле главного входа. На крыше было полным-полно копов с мощными винтовками. Они следили за улицами. Суд проходил в зале на седьмом этаже, в маленьком унылом помещении, в котором все время было очень прохладно. Охрана была настолько строгой, что зал суда тщательно проверялся перед началом каждого заседания; перед входом в зал всех, даже моих родителей, обыскивали. В распоряжении публики было всего лишь около шестидесяти мест, из них два ряда было забронировано для моих родных. Журналистам выделили мест двадцать пять. Остальные места предназначались для общественности. Желающие попасть на заседание с рассветом выстраивались в очередь перед зданием суда.
Председательствовал на суде Монро Фридман, судья из Высшего суда, семидесяти двух лет, непреклонный и лишенный чувства юмора человек. Разумеется, никто не станет признаваться в том, что он предвзято настроен. Однако судья Фридман доказал свою предвзятость во время суда бесчисленное множество раз. Понятное дело, что с самого начала я знал, что он считает меня виновным и все его симпатии на стороне обвинения. Начать с того, что он нарочито снисходительно отнесся к чернокожим свидетелям. Судья говорил с ними так, словно считал их не способными понять дело. Очевидно, что он пребывал в полнейшем неведении относительно того огромного шага вперед, который сделало в своем развитии сознание негров за последнее десятилетие. Судью выдавал даже тон, в каком он разговаривал. По мере продвижения судебного разбирательства судья Фридман все чаще отклонял протесты моего адвоката и принимал почти каждое возражение прокурора. Порой, когда судью не устраивало направление, которое вдруг принимал процесс, он смотрел в сторону стола прокурора, словно приглашая его выступить с протестом, а потом неизменно принимал этот протест. Во время процессуального толкования судья был невероятно строг. Если юридический вопрос не мог быть механически решен на основании правовых норм, судья отметал его как несущественный или, в противном случае, переадресовывал его более высокой судебной инстанции или оставлял для политического заявления на основе законодательства. Ни одно утверждение не рассматривалось, если для него не находилось объяснения в своде законов. Судья признавал, что некоторые законы действительно хороши, но с большой неохотой апеллировал к тем законам, которые были ему не по нраву. Даже на одну секунду я не мог поверить, что от такого судьи можно дождаться справедливости.
Решающим аспектом судебного процесса был вопрос о выборе присяжных. В день начала судебного разбирательства в суд пришло несколько сотен людей, из которых следовало выбрать присяжных. Мой адвокат, Чарльз Гэрри, искал определенный тип присяжного, но он столкнулся с огромной проблемой. Во-первых, в Окленде не нашлось бы ни одного человека, не читавшего или не увидевшего по телевизору предвзятых сообщений о перестрелке. Было чрезвычайно трудно отыскать кого-нибудь, у кого еще не сформировалось собственное мнение о моем деле. Во-вторых, мы, конечно, хотели видеть среди присяжных несколько чернокожих. Для нас было очень важно этого добиться, однако, когда мы прощупали почву, то поняли, что преодолеть это препятствие будет очень и очень непросто. Мы навели справки и выяснили, что помощник окружного прокурора и обвинитель на моем процессе, Лоуэлл Дженсен, разработал очень хитрую систему. По этой системе чернокожие якобы могли войти в число присяжных, но на само судебное разбирательство они никогда не попадали. По распоряжению Дженсена, тот негр, который отчислялся из кандидатов в жюри по какому-либо поводу или отводу без указания причины, впоследствии вновь попадал в число присяжных, из которых шел набор на конкретное слушание. Благодаря этой системе получалось, что негры становятся активной частью системы, несмотря на то, что было едва ли возможно ожидать появления чернокожего в кресле присяжного в зале суда. К моменту моего процесса в этой процедуре набора присяжных произошли изменения: прокуроры из ближайших округов не вывели негров из общего числа присяжных, из которых отбирались присяжные для конкретного суда. Поэтому, пока проходили слушания по моему делу, в других судах были такие жюри присяжных, количество негров в которых достигало шести человек.
Партия дала Чарльзу Гэрри указание использовать все его отводы без указания причины при отборе присяжных. По законам штата Калифорния, при рассмотрении дела о преступлении, за которое может быть назначена смертная казнь, каждая сторона — обвинитель и защитник — имеют по двадцать отводов. Другими словами, каждый из них может отклонить двадцать кандидатов в жюри присяжных, не объясняя причины отказа. Это указание мы дали Гэрри для того, чтобы таким образом дать людям понять, что с судебной системой творится что-то не то, если она отказывает обвиняемому в праве быть судимым различными представителями того социума, в котором он живет. Мы действительно использовали все отводы, чтобы акцентировать эту проблему. Обвинение использовало не все свои отводы, потому что ему не составляло труда подобрать для жюри присяжных нужных людей. (Чарльз Гэрри угадывал расистские настроения почти в каждом кандидате в жюри, с которым он беседовал.)
На составление жюри присяжных ушло довольно много времени — около двух недель. В конечном счете, было опрошено примерно 180 человек по трем спискам присяжных, прежде чем было сформировано жюри и выбрано четыре человека заместителей. Присяжные набирались из почти двух сотен человек, а среди них было всего лишь шестнадцать негров, несколько азиатов и один-два чикано.[48] Это притом, что негры составляют 38 % населения Окленда.
В окончательном варианте жюри присяжных на моем процессе состояло из одиннадцати белых и одного чернокожего. Этого единственного чернокожего присяжного звали Дэвид Харпер. Я сразу почувствовал в нем своего, хотя до суда мы друг друга в глаза не видели. В то время он был руководителем одного из отделений Американского банка, но впоследствии стал президентом какого-то негритянского банка в Детройте. Странно, что окружной прокурор не дал ему отвод. Возможно, прокурор надеялся на то, что присутствие хотя бы одного негра в жюри присяжных сыграет в его пользу при передаче дела в апелляционный суд. Кроме того, прокурор хотел заполучить в жюри эдакого безобидного негра. Догадываюсь, что он видел в Харпере «домашнего ниггера», чернокожего банковского служащего, «добившегося успеха». Возможно, обвинитель считал, что Харпер будет на его стороне, поскольку у него был определенный социальный статус и он хотел продолжать карьеру в мире белых.
Во время заседаний я изучал Харпера, пытаясь понять его. Пойдет ли он за сумасшедшей системой? Насчет присяжных всегда приходится гадать. Что касается судьи и прокурора, ты точно знаешь, что они твое враги и сделают все, чтобы уничтожить тебя. Все остальные сотрудники суда, независимо от цвета кожи, — рабы системы. Однако с присяжными дело обстоит несколько иначе. Я следил за каждым движением Харпера, хотя и не мог точно определить, что он делал. Постепенно я начал сомневаться в том, что работа в банке, пусть и хорошая работа, приносила ему удовлетворение. Я задавался вопросом, неужели Харпер, окажется настолько ослеплен подачками системы, что пойдет вместе с расистами из жюри и коррумпированной государственной машиной, только чтобы обеспечить себе будущее — или то, что, как он надеялся, станет его будущим.
Эти вопросы почти каждый день крутились в моей голове, пока слушание медленно продвигалось вперед. Временами, размышляя о Харпере, я не обращал никакого внимания на всю эту утомительные выступление свидетелей обвинения, например, экспертов по баллистической экспертизе. Еще до того, как я стал выступать перед судом сам и обращаться к присяжным, я почувствовал, что Харпер знает своих друзей лучше, чем мог предположить окружной прокурор. Когда я выступал со свидетельскими показаниями в последний раз, свою речь я адресовал Харперу. Он был моей целью. Между нами создалась невидимая связь. Она убедила меня в том, что Харпер не только понял меня, но и согласился со мной. Лишь после этого я разглядел проблеск надежды, связанный с присяжными. Эту надежду олицетворял Харпер. Вместе с тем я не очень верил в способность Харпера переубедить остальных присяжных.
Моим обвинителем был Лоуэлл Дженсен. (Впоследствии он станет прокурором Аламедского округа.) Дженсен — очень остроумный и способный человек, достойный оппонент, когда дело касается закона. Похоже, он обладает фотографической памятью, и что касается знания законов, то он действительно хороший юрист. В моем деле он хотел добиться обвинения в убийстве первой степени, и ему было не важно, что законы придется притягивать за уши, чтобы доказать мою виновность. С этой целью он игнорировал появлявшиеся основания для пересмотра дела. Дженсену было все равно, что высшая судебная инстанция потом опротестует вердикт, вынесенный на суде. Его заботил лишь обвинительный приговор. Дженсен знал, что, если он выиграет дело против меня, т. е. человека, которого ненавидел Истэблишмент, он будет вознагражден славой и богатством. Что означал пересмотр дела в высших судебных инстанциях? На это ушло бы от двух до пяти лет. За этой время Дженсен добился бы желаемого. Мое дело не значило для него ничего, кроме того, что было способом удовлетворения эгоистических стремлений.
На протяжении всего процесса между Дженсеном, судьей и мной продолжалась «игра без слов», иначе говоря, поединок, хотя большинство людей, особенно присяжные, даже не подозревало об этом. Возможно, присяжные искренне считали обвинителя и судью благородными людьми, пекущимися исключительно о правосудии. Но вместе с моими адвокатами я чувствовал постоянное присутствие каких-то подводных течений, чего-то трудно уловимого. И мы знали, что, если бы присяжные почувствовали то же самое, то они увидели бы подлинную политическую природу многого из того, что происходило в зале суда. К примеру, мы с самого начала предположили, что Дженсен изобрел расистскую процедуру выбора присяжных, когда чернокожие формально включены в списки присяжных, но вычеркиваются оттуда перед началом судебного процесса. И еще мы знали, что Дженсен вовсе не думал о правосудии, а собирался выиграть дело любой ценой, чтобы удовлетворить собственные амбиции. Вот лишь несколько причин, по которым все судебное разбирательство превращалось в своеобразную игру — довольно мрачную, если учесть, что на кону стояла моя жизнь. Тем не менее, это была игра.
В открытом заявлении к жюри присяжных Дженсен обвинил меня в намеренном убийстве офицера Джона Фрея, в нанесении огнестрельных ранений офицеру Герберту Хинсу и в похищении Дела Росса. Дженсен рассказал присяжным свою версию происшествия. Когда первый полицейский остановил меня, я предъявил ему фальшивое удостоверение личности, но, когда подошел второй офицер, я назвал свое истинное имя, после чего первый офицер, Фрей, сказал мне, что я арестован. Прокурор утверждал, что как только Фрей пошел назад по направлению к своей машине, я достал пистолет и открыл огонь. По словам Дженсена, я застрелил офицера Фрея из моего собственного пистолета, который вытащил из-за пазухи, а потом подобрал пистолет полицейского и продолжил стрелять. Меня обвиняли в том, что я выстрелил в офицера Фрея пять раз и в офицера Хинса — три раза. Считалось, что офицер Хинс попал в меня один раз. После перестрелки, подвел итоги прокурор, я скрылся с места преступления и принудил Дела Росса отвезти меня в другую часть Окленда.
Самая большая проблема, с которой столкнулось обвинение, было доказать мотивы моих предполагаемых действий. Дженсен утверждал, что у меня было три мотива для совершения преступления. Во-первых, я уже был обвинен в уголовном преступлении и находился под надзором. Я знал, что ношение запрещенного оружия станет поводом для нового обвинения, если полицейские найдут у меня пистолет. Второй мотив был связан с марихуаной, которая была обнаружена в машине, а также в кармане моих брюк. Марихуана тоже могла послужить еще одним поводом для вынесения обвинения. И, в-третьих, я предъявил полицейскому ложное удостоверение личности, что является нарушением закона. По словам прокурора выходило, что из-за всего вышесказанного я пришел в такое отчаяние, мне так не хотелось получить новое обвинение, что я убил одного полицейского, ранил второго и похитил гражданина. Как я уже говорил, мой обвинитель не останавливался ни перед чем, чтобы выиграть дело.
На самом-то деле, останавливая меня, Фрей прекрасно знал, с кем имеет дело, равно как знал меня в лицо каждый полицейский в Окленде. Он пытался наказать меня, используя городской вариант линчевания, с давних пор применявшегося на Юге. Мои адвокаты подняли сведения, касавшиеся прошлого Фрея, и обнаружили множество случаев, когда этот полицейский преследовал негров и жестоко с ними обращался, а также делал расистские заявления о чернокожих, в том числе и в присутствии самих чернокожих. К несчастью для Фрея, на этот раз его привычки сыграли с ним злую шутку. Я не знаю, что там случилось, поскольку потерял сознание, но все пошло не так, как Фрей хотел или как ожидал. Мне кажется, он думал, что если бы прикончил меня, то получил бы повышение.
Обвинение, связанное с марихуаной, было сущей фальсификацией. Прежде всего надо сказать, что ни один член партии «Черная пантера» не употребляет наркотики. Это абсолютно запрещено. Если выясняется, что кто-то нарушил этот запрет, этот человек исключается из партии. Запрещение употреблять наркотики — это одно из следствий принципа «Черных пантер» соблюдать закон в точности. И Чарльз Гэрри, и я сам были уверены в том, что найденная в машине и в моих брюках марихуана была подброшена полицией. В прошлом году полиция останавливала меня больше пятидесяти раз — и чего ради мне стоило рисковать и брать с собой марихуану? Зная, что в любой момент дня и ночи меня могут подвергнуть тщательному обыску и заодно проверить мою машину, я бы никогда не совершил столь безрассудный поступок, даже если бы я и собирался покурить марихуану, чего, в действительности, не было. Если бы коробки с марихуаной по-настоящему были у нее в машине в ту ночь, то невозможно было бы установить, откуда они взялись. Ее машиной пользовались десятки людей, многих из которых она едва знала, так как они были друзьями ее друзей. Но больше похоже на то, что полиция повела себя, как обычно, и использовала все возможности, в том числе и марихуану, чтобы упрятать меня за решетку.
Что касается обвинения в ношении оружия, то, разумеется, никакого оружия у меня не было, ведь той ночью я праздновал окончание надзора. У меня не было никаких причин брать с собой пистолет и тем более избегать ареста по этому поводу. К тому же я не считал себя опасным преступником. Изначально обвинение в уголовном преступлении было сложным и в любом случае было связано с делом Одела Ли 1964 года. По законам Калифорнии, подсудимый считается «уголовным преступником» или «лицом, совершившим судебно-наказуемый проступок» в зависимости от меры наказания. Если он отбывает срок в тюрьме штата, то он уголовный преступник, тогда как виновный в совершении судебно-наказуемого проступка обычно попадает в окружную тюрьму. Когда меня обвинили в нападении на Одела Ли с применением смертельного оружия, мне назначили три года условного освобождения под надзором с пребыванием первых шести месяцев срока в окружной тюрьме. Это значило, что я относился к числу совершивших судебно-наказуемый проступок. Однако на суде по обвинению в убийстве судья сказал, что я был осужден отбывать наказание в тюрьме штата и только потом эта мера пресечения была изменена. За то, что меня условно освободили под надзор, мне пришлось полгода отсидеть в окружной тюрьме. С формальной точки зрения, штат считал меня уголовным преступником. В конце концов, если бы я попал в уголовные преступники, то это решение можно было бы пересмотреть. Теоретически я мог подать в суд прошение о пересмотре моего статуса, но я никогда не обращался в суд с таким прошением, потому что не считал себя уголовным преступником.
Но обвинение считало меня таковым и собиралось построить все дело вокруг этого. Обвинение намеревалось не только показать, что я совершил убийство во избежание ареста. Мои обвинители хотели еще сыграть на том, что свидетельские показания уголовного преступника могут быть подвергнуты сомнению, к тому же уголовному преступнику суждена более строгая мера наказания. Несмотря на все возражения Чарльза Гэрри и приведенные им аргументы, судья постановил, что в 1964 году я был обвинен в совершении уголовного преступления, и это обвинение добавилось к трем, выдвинутым на происходящем процессе. Этот вопрос с обвинением по делу Одела Ли периодически всплывал на судебных заседаниях, потому что обвинение нуждалось в укреплении мотива. Когда я сам стал давать свидетельские показания, я, конечно, сказал присяжным, что не считаю себя уголовником. Это было просто смешно — строить обвинение на этом неверном допущении, ведь несколько десятков свидетелей могли подтвердить, что видели, как я праздновал ночь с 27 на 28 октября. Без сомнения, этот факт говорил, что у меня не было причин сопротивляться аресту и я не был уголовником.
С началом судебного разбирательства по моему делу Элдридж Кливер выпустил листовку, которая широко распространялась в негритянской общине. В листовке Элдридж обвинял полицию в том, что она, задумав убийство, нарушила территориальную неприкосновенность негритянской общины. По мнению Элдриджа, я разобрался с этим нарушением необходимым образом. Главная мысль листовки состояла в том, чтобы оправдать негров, убивающих полицейских за вторжение в общину. Эта мысль подразумевала, что я убил полицейского, даже если в действительности я не совершал убийства.
Листовка не могла быть использована против меня в суде. Тем не менее, мои родители очень расстроились из-за нее и выразили резкое несогласие с Элдриджем. Они чувствовали, что он мало заботился обо мне, а на самом деле пытался подстегнуть меня. Как можно мягче я постарался объяснить родителям, что не могу разбираться ни с Элдриджем, ни с кем бы то ни было из партии во время суда, потому что их действия не могут стать доказательством, которое можно использовать в судопроизводстве. По-моему, Элдридж был волен писать любые вещи и сплачивать общину любыми средствами, которые считал нужными. В этом я его поддерживал. Издание листовки было политическим действием. Элдридж использовал шумиху вокруг моего процесса, чтобы повысить уровень сознания общины. Я сам хотел идти вместе с партией и поддерживать ее мероприятия, проводившиеся с целью просвещения людей, мобилизации общины и перемещения противоречий на более высокий уровень. После этого разговора моя семья перестала вмешиваться в политическую деятельность партии.
Судебный процесс принес много горя и беспокойства моей семье. Мои близкие хотели спасти меня, но я чувствовал, что смерть моя близка, поэтому в то время меня волновала только община. Поскольку семья продолжала надеяться на положительный исход дела, я не мог сказать им о моих предчувствиях, однако их вера и поддержка очень меня трогали. На самом деле, единственное, что напрягало меня во время суда, — то, что мне приходилось заниматься двумя противоположными вещами: с одной стороны, пытаться успокоить и обнадежить родных, с другой — выполнять политическую работу, проведение которой, как я знал, было необходимо. Теперь понятно, что я отлично с этой работой справился, но тогда она огромным бременем лежала на моей семье и на мне самом.
Я столкнулся с еще одной проблемой — называть моим адвокатам имя Джина Мак-Кинни, моего пассажира той ночью, или нет. Полиции не удалось арестовать Джина, несмотря на усердные поиски. Больше того, они не знали даже его имени. С самого начала Джина ни в чем не подозревали, и, давая свидетельские показания перед большим жюри, Хинс сказал, что мой спутник не совершил никаких противозаконных действий. Сразу после моего ареста полиция объявила по всем радиостанциям Калифорнии о том, что она арестовала «виновного» и хотела бы побеседовать с пассажиром. При этом полицейские постоянно заверяли, что моему спутнику ничего не грозит, поскольку он не причастен к преступлению. Я подозревал, что полиция хотела использовать Джина против меня, и поэтому сначала отказался называть его имя адвокатам. Я не видел смысла в том, чтобы втягивать в это дело Джина, хотя и знал, что его показания, возможно, помогли бы мне. И лишь после того, когда адвокаты заверили меня в том, что, с юридической точки зрения, обвинение ничего не может сделать с Джином, я согласился сказать им его имя. Насколько я мог судить, суд действительно не мог причинить Джину какой-либо вред. Однако Джину так не казалось, и настроен он был скептически. Когда мои адвокаты, наконец, встретились с ним, они очень подробно объяснили ему, что ему ничего не будет за дачу показаний в пользу защиты, и, в конце концов, Джин выступил в суде, несмотря на все свои сомнения. Он продемонстрировал недюжинную смелость, потому что нельзя было исключать, что обвинение попытается пойти на какие-нибудь уловки с целью привлечь его к делу.
Обвинению потребовалось около трех недель для представления дела в суде. Со стороны обвинения было вызвано примерно двадцать свидетелей. Среди них были медсестра, принимавшая меня в Кайзеровской больнице; врач, делавший вскрытие трупа офицер Фрея; специалисты по баллистике из полицейского участка; полицейские, прибывшие к месту перестрелки, и т. д. Однако самыми главными свидетелями обвинения были патрульный Хинс, Генри Гриер, водитель автобуса, который предположительно видел перестрелку, и Дел Росс, утверждавший, что вместе с Мак-Кинни я его похитил. Первым из этих свидетелей давал показания Герберт Хинс.
Когда офицер Хинс занял место для дачи показаний, вскоре стало ясно, что он невероятно волнуется. Он стал говорить о повторяющихся снах, в которых «Черные пантеры» нападали на него. У Хинса не очень хорошо получалось ладно рассказывать, и все его старания говорить связно создавали ощущение, что он совсем сбит с толку. Стало понятно, что прокурор репетировал с Хинсом это выступление, но Хинс был так напряжен, что делал ошибки. С каждой такой ошибкой он опускал голову, словно говорил, что снова попытается следовать сценарию. У Хинса не получалось импровизировать, и он никак не мог пригладить противоречия в своих показаниях.
По словам Хинса, после того, как Фрей приказал мне выйти из машины, мы вместе с ним пошли к машине Хинса (припаркованной позади «Фольксвагена» Ла-Верны), тогда как сам Хинс оставался рядом с машиной Фрея, около передней двери, т. е. где-то на расстоянии тридцати пяти футов от нас. Когда мы с Фреем подошли к машине Хинса, обогнув ее сзади, я, как явствовало из показаний Хинса, «развернулся и открыл стрельбу», а потом мы с Фреем начали «драться» около машины. Как сказал Хинс, он был ранен в правую руку, после чего перебросил пистолет в левую. Сразу после этого, боковым зрением Хинс заметил, что ехавший со мной пассажир (Мак-Кинни) выбрался из «Фольксвагена» и стоит на обочине с поднятыми руками. Хинс направил на него свой пистолет, но, получив от человека заверения в том, что он безоружен, Хинс повернулся в нашу с Фреем сторону. К этому времени, сказал Хинс, мы с Фреем расцепились, хотя полицейский все еще продолжал висеть на мне. И, когда я повернулся к нему лицом, Хинс выстрелил мне в живот. Хинс не сказал, что видел, как пуля в меня попала, он сказал лишь, что целился мне «в центр тела». После этого Хинс помнил только две вещи: как он послал по рации сигнал «940Б» — экстренный вызов, и две фигуры, убегающие в темноту.
Когда Гэрри приступил к перекрестному допросу свидетеля Хинса, в его показаниях обнаружилось немало противоречий и вопросов, оставшихся без ответа. Хинс постоянно твердил, что он не видел пистолета в моей руке, и в то же время он говорил о том, что я развернулся и начал стрелять. Он так и не смог сказать, кто же попал ему в руку, хотя он сам утверждал, что стрелял в меня, когда я повернулся к нему лицом. Он не стал утверждать, что я стрелял в него, хотя вообще-то полицейских учат замечать такие вещи, как пистолет в руке подозреваемого. Хинс не смог толком описать одежду Мак-Кинни. Некоторые подробности в его показаниях противоречили описанию Генри Гриера, водителя автобуса.
В показаниях Хинса нашлось самое слабое место, на которое Гэрри мастерски обратил внимание присяжных. И почему, спрашивается, Хинс повернулся к Мак-Кинни спиной, поверив последнему на слово, что он не вооружен? Если принять во внимание тот факт, что оклендская полиция не доверяла всем без разбору «Черным пантерам» и ненавидела их, если учесть, что Мак-Кинни, которого Хинс не знал и который разъезжал в одной машине с министром обороны «Черных пантер», мог с большой вероятностью тоже быть членом партии «Черная пантера», становится непонятным, как мог Хинс оставить себя беззащитным, тем более, если он не понимал, откуда шли выстрелы. Как предположил Гэрри в ходе перекрестного допроса Хинса, Хинс повернулся к Мак-Кинни спиной, поскольку его больше волновало то, что будет делать Фрей. В полицейских кругах Фрей был известен как человек, испытывавший потребность в патрулировании негритянской общины. Он был хуже обычного копа, и это делало его чрезвычайно опасным.
Из показаний Хинса и инструкций, данных ему прокурором, стало ясно, что были приложены колоссальные усилия, чтобы избежать любого намека на то, что Фрей и Хинс стреляли друг в друга. Первый вопрос, который Чарльз Гэрри адресовал свидетелю на перекрестном допросе, звучал так: «Вы стреляли в офицера Фрея и убили его?» Хинс сказал, что нет. И все же несколько фактов указывали именно на это, и все попытки Хинса увильнуть от этого признания не помогали обвинению. К примеру, Хинс особенно упирал на то, что выстрелил в меня лишь после того, как, по его словам, мы с Фреем расцепились, подравшись около машины. Более веские доказательства были получены из отдела баллистической экспертизы при полицейском участке. Эксперты пришли к выводу о том, что пли, которые попали и в Фрея, и в Хинса, были выпущены из полицейских револьверов. Это были свинцовые пули без медных оболочек в отличие от двух девятимиллиметровых гильз, найденных на земле на месте перестрелки. Показания экспертов повредили обвинению, потому что Дженсен с самого начала утверждал, что я стрелял в Хинса и Фрея из своего пистолета тридцать восьмого калибра, пули которого совпадали с обнаруженными гильзами. Естественно, этот мифический пистолет нигде не нашли.
В конечном счете, показания Хинса мало что дали обвинению. На втором слушании его речь стала еще запутанней, а на третьем он вообще не мог объяснить несоответствия в своих показаниях. Потом он все-таки сломается и признает, что видел «третью силу» в перестрелке. Но даже первое выступление Хинса с показаниями было настолько расплывчатым и противоречивым, что его трудно было принять всерьез.
Поэтому показания чернокожего Генри Гриера, одного из главных свидетелей обвинения, были крайне важны. Это был единственный человек, за исключением Хинса, который утверждал, что во время перестрелки у меня был пистолет. Гриер был водителем автобуса и работал в Окленде, в компании, обеспечивающей перевозки пассажиров между Аламедой и Контра-Костой. Согласно его показанием, около 5.00 утра 28 октября 1968 года он вел автобус по Седьмой-стрит, потом остановился и в ярком свете фар увидел, как стреляли в Хинса и Фрея. За происходящим он наблюдал с расстояния примерно в десять футов или меньше. Когда Дженсен попросил свидетеля опознать стрелявшего человека, Гриер покинул место для дачи показаний, подошел к тому месту, где со своими адвокатами сидел я, и положил руку мне на плечо.
Когда Гриер давал свои первые свидетельские показания днем 7 августа 1968 года, я почувствовал, как меня захлестывает отвращение. Очевидно, что Гриера подкупили. Он пошел на это из страха перед белой властью и, возможно, потому, что окружной прокурор обещал ему какие-то подачки. После расследования у моих адвокатов тоже появилась причина подозревать, что у Гриера были проблемы с его работой или с законом, и лишь сотрудничество с окружным прокурором могло помочь ему выпутаться из затруднительного положения. Но чем дальше тянулось первое слушание, острое отвращение, которое я поначалу питал к Гриеру, стало уступать место жалости. Как-никак, Гриер был моим чернокожим братом. Будучи негром, я понимал, что беднягу принудили променять чувство принадлежности к черной расе на выживание. Я знал, что он, должно быть, отвратителен самому себе. На первом слушании я чувствовал, что Гриер не может жить в мире с сами собой. Но, когда он повторил свои показания на втором и на третьем процессе, я понял, что его полностью уничтожили как личность. Он окончательно продался и уже не мог чувствовать стыд за свои поступки. Гриер остался для меня настоящей загадкой.
Показания Гриера были чрезвычайно важны для обвинения. Это доказывается тем, что о существовании этого свидетеля Чарльз Гэрри узнал всего лишь за шесть дней до появления этого свидетеля в суде — 1 августа. В этот же день было завершено формирование жюри присяжных, и по правилам судопроизводства, обвинение должно было назвать защите имена и адреса всех своих свидетелей, которых оно собиралось вызвать в суд. Именно в тот день Гэрри впервые увидел в списке свидетелей фамилию Гриера и узнал, что это был за человек. На протяжении всех девяти месяцев подготовки к суду Дженсен тщательно следил за тем, чтобы Гриер вообще не упоминался в деле. Водитель автобуса не давал показаний перед большим жюри. Во всех полицейских рапортах, во всех официальных заявлениях, в которых рассматривалась каждая деталь происшествия, фамилия одного из самых важных «свидетелей» перестрелки замалчивалась. Дженсен продемонстрировал выдающееся мастерство в применении тактики Макиавелли. Лишь тогда, когда скрывать Гриера было больше невозможно, мой адвокат узнал о том, что этот человек будет свидетельствовать в суде.
В тот момент, когда мои адвокаты получили от обвинения список свидетелей, куда был включен Гриер, им предоставили еще одну поразительную улику — расшифровку записанного на кассету разговора между Гриером и полицейским инспектором Фрэнком Мак-Коннеллом. Беседа свидетеля и инспектора состоялась в полицейском участке спустя полтора часа после перестрелки. Полиция забрала Гриера в участок для дачи показаний почти сразу после происшествия, и тогда он описал все, что он якобы видел. Он также идентифицировал меня как стрелявшего по фотографии из полицейской картотеки, которую инспектор Мак-Коннелл показал ему.
Когда мои адвокаты познакомились с показаниями Гриера, которые он дал по свежим следам, мы поняли, почему полиция и обвинение скрывали от нас этого свидетеля. Если бы Чарльзу Гэрри удалось поговорить с Гриером пораньше, то довольно быстро адвокат убедил бы его в том, что его показания в суде не пройдут. Начать с того, что Гриер не давал «показания» полиции. Его допрос в полицейском участке был классической устной провокацией. Инспектор взял Гриера, который не только слабо представлял себе случившееся, но и во многих случаях был вообще не уверен в том, что видел, в оборот и так формулировал вопросы, что они подразумевали нужный полицейским ответ. Стоило Гриеру заколебаться или остановиться и попытаться подробнее вспомнить увиденное, как инспектор Мак-Коннелл подсказывал ему готовый ответ, предлагая свой сценарий развития событий. Гриер покорно соглашался. Некоторые моменты в показаниях Гриера были настолько губительны для обвинения, что казалось невероятным, как Дженсен мог сделать ставку на Гриера как на главного свидетеля. Должно быть, прокурор вдохновился тем, что Гриер поклялся — пистолет был у меня в руке.
Во-первых, описывая стрелявшего (позже Гриер опознает в этой личности меня), Гриер сказал, что он был не выше пяти футов ростом, или, как сказал инспектор Мак-Коннелл, «его можно было бы назвать типичным коротышкой». Мой рост — пять футов и десять с половиной дюймов. Как видно, Гриер порядком ошибся насчет моего роста. Свидетель также показал, что я был одет в черную рубашку, светлую куртку желто-коричневого цвета, плюс был чисто выбрит. Полиция забрала всю одежду, которая была на мне в ту ночь. В протоколе было зафиксировано, что я был одет в черную куртку, белую рубашку и у меня была двухнедельная щетина (что подтверждается крупноплановой фотографией, сделанной полицией в тот момент, когда я лежал на кушетке в Кайзеровской больнице). Многое из сказанного Гриером противоречило показаниям офицера Хинса.
Гриер сказал инспектору Мак-Коннеллу, что ехал на своем автобусе в западном направлении по Седьмой-стрит. По его словам, подъехав к перекрестку Седьмой-стрит и Уиллоу-авеню, как раз где шло строительство нового здания почты, он увидел две припаркованные патрульные машины, а рядом с ними двух полицейских и двух гражданских, стоявших на дороге. Гриеру показалось, что полицейские, скорее всего, выписывали гражданским штраф или проводили программную проверку. Поэтому водитель почти не задумался об этой сцене и поехал дальше, к месту, где заканчивался его маршрут. (Это утверждение противоречит показаниям Хинса, согласно которым второй пассажир [Мак-Кинни] оставался в «Фольксвагене» до тех пор, пока Хинса не ранили.) Потом, как продолжал рассказывать Гриер, он доехал до конца своего маршрута, развернулся и поехал обратно — в восточном направлении по Седьмой-стрит, при этом в автобус село три пассажира. В тот момент, когда он снова проезжал мимо патрульных машин, по его словам, Фрей и я шли по направлению к одной из машин, а офицер Хинс следовал за нами. (Хинс же сказал, что стоял позади машины Фрея, пока мы шли к другой машине, и не сопровождал нас.) Согласно показаниям Гриера, пока Фрей рядом со мной, я полез в куртку, вытащил пистолет и выстрелил в Хинса, который шел сзади. Хинс упал на землю. К этому моменту, сказал Гриер инспектору Мак-Коннеллу, он уже остановил автобус на расстоянии тридцати-сорока ярдов от нас. Потом мы начали с Фреем драться, и Гриер услышал второй выстрел. Водитель бросился к телефону в автобусе, чтобы позвонить в центральную диспетчерскую автопарка, а когда оглянулся назад, то увидел, как Фрей падает, я встаю над ним и стреляю в него, лежащего на спине, три-четыре раза. Потом, по словам Гриера, я повернулся и побежал на запад, а через несколько минут к месту перестрелки со всех сторон прибыла полиция и сбежались люди. Гриер сообщил инспектору Мак-Коннелу, что он не видел второго гражданского, когда ехал мимо нас обратно в восточном направлении. По словам Гриера, во время перестрелки «этого второго» нигде не было видно. (Хинс показал, что Мак-Кинни стоял у обочины, подняв руки вверх.)
Как только Гэрри и другие мои адвокаты ознакомились с письменной расшифровкой показаний водителя автобуса, а также получили от обвинения имя и адрес свидетеля 1 августа, они попытались связаться с Гриером. Он не появлялся на работе в течение следующих шести дней. Адвокаты снова и снова звонили ему домой, но не могли дозвониться. Каждый раз они слышали в трубке записанное сообщение, в котором говорилось, что номер не в порядке. Около дома Гриера постоянно дежурили. Но там никого не было. Невозможно было найти ни самого Гриера, ни членов его семьи. Гриер как в воздухе растворился. Ни один из адвокатов не видел Гриера в глаза до того, как этот человек вошел в зал суда 7 августа, чтобы свидетельствовать со стороны обвинения. В тот день, когда его имя было объявлено защите, Гриер был взят под охрану сотрудниками окружного прокурора. В условиях строгой секретности его поселили в отеле «Озеро Мерритт» в центре Окленда, что полностью обезопасило свидетеля от расспросов защиты. После того, как Гриер, наконец, объявился, у Чарльза Гэрри было всего лишь несколько часов, чтобы подготовить вопросы для перекрестного допроса свидетеля на основании показаний Гриера, предоставленных обвинением. Впрочем, у Гэрри было шесть дней для изучения показаний Гриера, данных им инспектору Мак-Коннеллу. И Гэрри хватило времени подготовиться для того, чтобы полностью дискредитировать показания Гриера, когда тот оказался в суде на месте для свидетелей. А все потому, что в суде, когда его допрашивал Дженсен, Гриер изменил многие моменты в своих показаниях. Невероятно, но факт.
Присяжные не были ознакомлены с письменной расшифровкой показаний Гриера, снятые с него под присягой инспектором Мак-Коннелом. Поэтому, когда 7 августа Дженсен предъявил суду Гриера в качестве свидетеля, присяжные впервые слушали рассказ Гриера о перестрелке. Прокурор провел допрос свидетеля очень ловко и сделал особенный упор на ту часть показаний, где речь шла о том, как я вытащил пистолет из-под рубашки, выстрелил в Хинса, а потом встал над Фреем и убил его, выстрелив в него три-четыре раза или больше. Когда Гриер подошел ко мне с целью подтвердить, что стрелял именно я и никто другой, присяжные, должно быть, поверили в мою вину, поскольку Гриер предстал перед ними спокойным и уверенным свидетелем.
Однако Дженсен допустил грубейшую ошибку. Он подумал, что не стоит больше беспокоиться о расхождениях в показаниях Гриера, данных им спустя полтора часа после перестрелки, и тех, которые прокурор вложил в его уста. Дженсен велел Гриеру сказать присяжным, что он находился на расстоянии меньше десяти футов от участников перестрелки, тогда как в сделанном под присягой заявлении инспектору Мак-Коннеллу Гриер сказал, что он был от нас в тридцати-сорока ярдах. В суде Гриер показал, что я полез за пистолетом под рубашку, тогда как сначала он сказал, что за пистолетом я полез в карман куртки или пальто. На суде Гриер заявил, что Фрей упал вперед, лицом к земле, а Мак-Коннелу он сказал, что Фрей упал на спину. В суде прозвучало, что фары автобуса освещали место перестрелки и Гриер мог хорошо видеть происходящее, но инспектору Гриер сказал, что затрудняется определить возраст стрелявшего, так как голова у него была опущена и Гриер «не мог хорошенько его рассмотреть». На суде, когда его допрашивал Дженсен, Гриер сказал, что я побежал по направлению к стройке, однако, когда его об это спрашивал Мак-Коннелл, Гриер ответил, что я побежал не к стройке, а к северу, по направлению к заправке.
Чарльзу Гэрри понадобилось три с половиной часа перекрестного допроса, чтобы подорвать доверие к Гриеру. В своих вопросах к свидетелю и в своем заключительном слове Гэрри показал, что между первой и второй версией показаний Гриера существует, по меньшей мере, пятнадцать противоречий. «Какое-то время, — сказал Гэрри присяжным под конец слушания, — я полагал, что мистер Гриер просто заблуждается. Я действительно так думал, причем довольно долго. Но теперь я пришел к выводу, что этот человек либо намеренно лжет, либо он психопат и на него нельзя полагаться, когда речь заходит о фактах. Что касается Хьюи Ньютона, то любой из этих вариантов для него смертелен».
Во время перекрестного допроса свидетеля Гэрри сначала указал на то, что не было абсолютно никакой необходимости брать Гриера под охрану. Несмотря на все энергичные возражения Дженсена, который то и дело вскакивал с места и называл вопросы Гэрри к свидетелю «неправомочными, не относящимися к делу и несущественными», Гэрри заставил Гриера признать, что никто из сотрудников окружного прокурора не удосужился ему объяснить причины, вследствие которых его взяли под охрану до суда. Кроме того, Гриер чувствовал себя в полной безопасности, ему никто не угрожал, и он не ощущал потребности в защите. Это было эффектное начало, поскольку присяжные получили возможность увидеть, что суд ведется безжалостным прокурором, который нарушил законное право адвокатов обвиняемого задать вопросы предполагаемому свидетелю.
Потом Гэрри продолжил мастерски развивать свою стратегию. Его целью было уличить Гриера в обмане. Гэрри заставил свидетеля повторить то же самое, что он рассказывал присяжным, когда вопросы ему задавало обвинение. Гэрри хотел, чтобы присяжные очень четко поняли, что происходит (присяжные все еще оставались в неведении насчет первых показаний Гриера инспектору Мак-Коннеллу). Когда Гриер закончил, Гэрри взялся за дело. Одно за другим он продемонстрировал расхождения в показаниях Гриера. Вот отрывок из перекрестного допроса Гриера защитой:
Гэрри: Во что был одет гражданский?
Гриер: Ну, сэр, на нем была темная куртка и светлая рубашка.
Гэрри: На самом деле, сэр, не был ли он — не был ли гражданский одет в темную рубашку и светлую желто-коричневую куртку?
Гриер: Нет, сэр.
Гэрри: Я хочу, чтобы вы подумали прежде, чем давать ответ на этот вопрос. Я собираюсь задать его повторно. Разве не верно, что человек, которого вы назвали гражданским, не был одет в темную, черную, рубашку и светлую желто-коричневую куртку?
(Молчание)…
Гэрри: Светлая желто-коричневая куртка?
Гриер: Нет, сэр. Она была темная.
Судья Фридман: Какой был ответ?
Гриер: Темная.
Судья Фридман: Что была темная?
Гриер: Верхняя одежда была темного цвета.
Гэрри: Какого роста был тот гражданский?
Гриер: Я смотрел из автобуса, сэр, под каким-то углом, так что я не могу сказать, сэр.
Гэрри: Разве тот гражданский не был ниже пяти футов ростом?
Гриер: Я не знаю, сэр.
Гэрри: Вы можете сказать, был ли гражданский крупного телосложения или худой, или еще какой-нибудь?
Гриер: Я не обратил на это внимания, Советник.
Гэрри: Мистер Гриер, вам известно, что вы находитесь под присягой?
Гриер: Да, сэр, мне известно.
Дженсен: Возражения, Ваша честь. Вопрос имеет косвенное значение.
Гэрри: Мистер Гриер, вы давали показания инспектору Мак-Коннеллу 28 октября 1967 года в 6.30 утра?
Гриер: Совершенно верно, сэр.
Гэрри: И в это время разве вы не сказали инспектору Мак-Коннеллу, что тот человек был ниже пяти футов?
Гриер: Я мог, пожалуй, сэр.
Гэрри: Так вы сказали это или нет?
Гриер: Я не помню, чтобы делал какое-то особое заявление, сэр, что касается этого факта, сэр.
На этом слушание было прервано и перенесено на следующий день. На следующее утро, это было в четверг, 8 августа, в отсутствие жюри присяжных, Гэрри выступил в суде с двумя ходатайствами, предметом которых стали нарушения закона в ходе судебного разбирательства. Первое ходатайство было связано с фактом сокрытия от защиты свидетеля. «Вчера мы впервые узнали о том, — сказал Гэрри судье Фридману, — что сразу после предъявления нам списка свидетелей обвинение упрятало этого человека [Гриера] и скрывало его неизвестно где под предлогом защиты. Его отправили в отель «Мерритт», и мы не знали об этом вплоть до появления этого свидетеля вчера в зале суда. Наше ходатайство построено на том факте, что обвинение приложило все силы, чтобы помешать защите реализовать свое право и выполнить свои обязательство и свой долг, связанные с подготовкой и представлением такого серьезного дела, каким является данный случай. Я чувствую себя так, будто я хромой, я связан по рукам и ногам. И я обращаюсь к суду за помощью».
Дженсен тут же ответил, что, если бы Гэрри хотел побеседовать с любым свидетелем обвинения, то ему следовало бы прийти в офис окружного прокурора на следующий же день после ознакомления со списком свидетелей обвинения и поговорить с этим свидетелем прямо там.
На что Гэрри ответил: «У меня есть право видеться со свидетелями тогда, когда я сам этого хочу, и на моих условиях… Я потратил не один час, для того чтобы выяснить местонахождение этого человека, а все это время он жил в режиме секретности». После чего мой адвокат перешел к представлению второго ходатайства:
«Причиной моего второго ходатайства послужила атмосфера, создавшаяся в здании суда. Я вынужден обратить внимание суда на следующее. Дело в том, что здание суда, начиная с входа, наводнено и окружено помощниками шерифа Аламедского округа и прочими полицейскими агентами, чье присутствие приводит людей в замешательство и является оскорбительным. На мой взгляд, присутствие полиции оказывает непосредственное давление и воздействие на жюри присяжных.
С учетом обстоятельств нашего дела я вынужден призвать суд обратить внимание на то, что мы не можем быть уверены в том, что мы добьемся справедливого судебного разбирательства в таких условиях, когда присяжные заходят в суд, а помощники шерифа спрашивают их имя и цель пребывания в здании суда, и все в таком духе. По той же самой причине я возобновляю ходатайство о нарушениях закона в ходе судебного разбирательства».
Судья Фридман: Ходатайство отклонено. Пригласите присяжных.
После этого присяжные вернулись на свои места, и Гэрри продолжил перекрестный допрос Генри Гриера.
Гэрри: Мистер Гриер, разве вы сначала не увидели этого полицейского и этого гражданского, как вы и сказали, стоявшими рядом друг с другом, когда ваш автобус находился, по крайней мере, на расстоянии тридцати-тридцати пяти ярдов от места событий?
Гриер: Нет, сэр.
Гэрри (зачитывает расшифровку записи показаний Гриера): «…И потом я заметил, когда подошел, увидел полицейского, идущего с каким-то парнем ко второй патрульной машине, и этот парень был невысокого роста, коротышка какой-то. Он — как раз тогда, когда я подъехал на тридцать, тридцать или сорок ярдов, я заметил, что мужчина начинает лезть в свою куртку…»
Гэрри: Вы дали такой ответ инспектору Мак-Коннеллу в то утро, не так ли, сэр?
Гриер: Да, сэр.
Гэрри: Мистер Гриер, этот человек был ниже пяти футов, не так ли? Могли бы вы ответить на этот вопрос однозначно — либо «да», либо «нет"…
Гриер: Я не знаю, Советник.
Гэрри (зачитывает отрывок из расшифровки):
«Вопрос: И какого роста, как вы думаете, он был?
Ответ: Не выше пяти футов.
Вопрос: Очень невысок?
Ответ: Очень невысок».
Гэрри: Вы так сказали тогда, разве нет?
Гриер: Да, сказал.
Гэрри: Мистер Гриер, какой вес был у этого человека?
Гриер: Я не знаю.
Гэрри: Как по-вашему?
Гриер: Я не знаю, Советник.
Гэрри (зачитывает расшифровку):
«Вопрос: Примерно сколько он весил, как вы считаете?
Ответ: Ну, 125».
Гэрри: Такой ответ вы дали на вопрос?
Гриер: Такое могло быть, Советник.
Гэрри: Был ли этот парень, этот мужчина, которого вы видели в то утро, был ли этот парень крепким или худым, или среднего телосложения, или каким он был?
Гриер: Среднего телосложения, я бы сказал.
Гэрри: На самом деле, человек, которого вы описывали, был коротышкой, не так ли?
Гриер: Да не был он таким, сэр.
Гэрри (цитирует расшифровку):
«Вопрос: Он был крупный, здоровый?
Ответ: Нет.
Вопрос: Стройный?
Ответ: Его можно было бы назвать допустим, коротышкой».
Гэрри: Разве не так вы сказали?
Гриер: Такое могло быть, Советник.
Гэрри: Именно так вы сказали, сэр?
Гриер: Возможно, и так. Я мог это сказать, да, сэр.
Гэрри: Мне нужен более точный ответ. Именно это вы сказали, сэр?
Гриер: Как я уже говорил, Советник, без всякой ошибки, я мог так сказать.
Гэрри: Это была правда, не так ли, сэр?
Гриер: Правда, сэр.
После этого, пока Дженсен просил занести в протокол свое неодобрение, Гэрри в полном объеме зачитывал присяжным расшифровку записи показаний Гриера, данных инспектору Мак-Коннеллу. В сознание присяжных не могло не закрасться какое-то подозрение насчет главного свидетеля обвинения, а, может быть, они даже почувствовали, что здесь дурно пахнет.
Самое драматическое и одно из самых существенных опровержений, касавшихся показаний Гриера, Чарльз Гэрри сделал в заключительном слове от лица защиты. Адвокат подошел к столу, на котором были разложены все вещественные доказательства по делу, и взял черную кожаную куртку, которая была на мне 28 октября. Потом он взял револьвер тридцать восьмого калибра, принадлежавший Хинсу, и направился к скамье присяжных. Гэрри остановился перед присяжными и зачитал первоначальные показания Гриера, где говорилось, что я полез в карман моей куртки или пальто и вытащил оттуда пистолет. Гэрри сказал, что пистолет, который, как утверждало обвинение, я прятал, — пистолет тридцать восьмого калибра, не мог быть значительно меньше, чем револьвер Хинса, и с этими словами адвокат положил пистолет в карман куртки. Пистолет сразу же из кармана вывалился. Гэрри положил его в другой карман, но пистолет и там не удержался. Адвокат предпринял еще несколько попыток запихивания пистолета в карман куртки, однако он неизменно вываливался оттуда, потому что карман был слишком мал для такого оружия. Гэрри вновь напомнил присяжным показания Гриера. «И если это не дьявольская ложь, — сказал Гэрри, — тогда я вообще не знаю, что такое ложь. Именно поэтому он переложил пистолет из своего пальто под рубашку. Можно ли исправить дело еще более элегантным образом? Попробуйте. Это небольшой карман, где-то три с половиной дюйма глубиной. Поэтому его показания изменились. И обвинение знало об этих изменениях и потворствовало им. Чтобы добиться обвинительного приговора».
В понедельник, утром 12 августа, для дачи свидетельских показаний со стороны обвинения в суд прибыл Дел Росс, сопровождаемый собственным адвокатом. В этот момент Дженсен отчаянно нуждался в этом свидетеле. Два основных свидетеля по делу — Хинс и Гриер — не были настолько убедительны, как надеялся окружной прокурор. Росс был последним шансом для него. Согласно показаниям Росса, которые он давал перед большим жюри в ноябре 1967 года, сразу после перестрелки я прыгнул в его машину в сопровождении еще одного человека и под дулом пистолета заставил его отвезти нас подальше от места событий. Этот свидетель был вторым человеком, утверждавшим, что я держал в руке пистолет. Обвинение в похищении тоже имело значение, поскольку данный поступок свидетельствовал о том, что знал, что совершил преступление и предпринял отчаянную попытку спастись бегством. Росс сказал большому жюри, что я запрыгнул на заднее сидение его машины, а мой спутник сел на переднее. По словам Росса, сначала он отказался выполнить приказ, но, когда я наставил на него пистолет, подчинился. По словам Росса, я сказал ему следующее: «Я только что застрелил двух пижонов» и «Я бы пострелял еще, если бы пистолет не заело». Когда свидетелю показали мою фотографию, он опознал меня как человека с пистолетом.
Приглашая Росса 12 августа на место для дачи показаний в суде, Дженсен и думать не мог (у него не было никаких причин так думать), что Росс не станет повторять в точности то, что он говорил перед большим жюри. Свидетель ответил на несколько первых вопросов: где он живет, имел ли он машину в октябре 1967 года, какой модели была машина и т. д. и т. п. Но, когда Дженсен спросил Росса о том, где тот находился в пять часов утра 28 октября, свидетель не дал ответа на этот вопрос. «Я отказываюсь отвечать, потому что это может быть мне поставлено в вину», — сказал Росс. Дженсен не мог поверить своим ушам. Он попросил судебного стенографиста зачитать ему ответ свидетеля, словно хотел удостовериться, что он не ослышался. Росс был свидетелем обвинения. Больше того — он был потерпевшим, а не обвиняемым. На потерпевших же пятая поправка не распространяется. Росс продолжал отказываться отвечать на вопрос, что привело Дженсена в ярость. С его точки зрения, настойчивый отказ свидетеля отвечать мог серьезно повредить обвинению и к тому же сделать ему плохую рекламу. Создалось бы такое впечатление, что происходит нечто сомнительное (что, на самом деле, имело место). В итоге офис окружного прокурора был бы выставлен в неблагоприятном свете. Дженсен обратился к судье Фридману и сказал, что свидетель обязан отвечать на все его вопросы, указав на то, что девять месяцев назад свидетель уже давал показания по делу перед большим жюри. В этот момент судья распорядился, чтобы присяжные покинули зал суда. Адвокат свидетеля заявил, что Росс делает личное заявление о том, что он находится под защитой пятой поправки. По словам адвоката, вопросы, задававшиеся во время суда его клиенту, могут выйти за пределы фактических ответов, которые Росс давал большому жюри, и вызвать новые вопросы. Вот эти вопросы могут нанести клиенту вред. Адвокат Росса предположил, что его клиент, возможно, знает больше о произошедших утром 28 октября событиях, чем он рассказал большому жюри.
И прокурор, и судья столкнулись с настоящей дилеммой. Судья Фридман решил ответить на поведение свидетеля тем, что сократил слушания в тот день. На следующий день судья гарантировал Россу юридическую неприкосновенность и заявил, что свидетель не будет преследоваться в судебном порядке в связи с его показаниями по данному делу, за исключением лжесвидетельства или проявление неуважения к суду отказом отвечать на заданные вопросы. Теперь Росс, как ни крути, должен был отвечать на вопросы Дженсена и больше не мог ссылаться на пятую поправку. Однако стоило прокурору опять начать допрос свидетеля и задать ему те же вопросы, на которые Росс не дал накануне ответа, как свидетель повторно отказался рассказать, где он был в 5.00 часов утра 28 октября 1967 года на том основании, что это может быть поставлено ему в вину. Судья рассердился не на шутку и повторил, что Росс должен отвечать на вопросы, раз ему гарантирована неприкосновенность. В противном случае, пообещал судья, свидетель отправится в тюрьму за неуважение к суду. Но Росс твердо стоял на своем, по-прежнему отказываясь отвечать на вопросы. Судья Фридман как раз готовился оформить Росса в тюрьму, когда Дженсена осенило, что можно сделать с непреклонным свидетелем и обернуть все в пользу обвинения.
«Мистер Росс, — спросил прокурор свидетеля, — вы помните, что произошло утром 28 октября 1967 года?» Росс молчал. Судья Фридман быстренько вмешался и спросил Росса: «Если вы не помните события того утра, тогда вам следует так и сказать, что вы не помните. Суд не хочет вас ни к чему принуждать. Может быть, вы не помните того, что тогда произошло?» Росс подтвердил, что не помнит.
Невозможно было смотреть, как судья помогает Дженсену. Было ясно, что они задумали. Судья решил показать, что свидетеля нельзя наказывать то, что его подводит память. Поэтому обвинение собиралось помочь освежить Россу память, зачитав ему его собственные показания перед большим жюри, которые обычно никогда не считаются доказательством в суде. Чарльз Гэрри активно протестовал против этого, однако судья Фридман был непоколебим. Дженсен прочел показания Росса перед присяжными, и эти показания вошли в судебный протокол.
Еще никогда поддержка судьи Фридмана, оказанная им прокурору Дженсену, не была настолько очевидной, как в эпизоде с Делом Россом. Для моего процесса такой произвол был обычным явлением. Когда свидетель обвинения не смог давать показания, опасаясь повредить себе, они гарантировали ему неприкосновенность, чтобы все, что он скажет, не могло быть использовано против него. Потом судья хитростью добился, чтобы Росс признал, что он не может вспомнить свои показания перед большим жюри, и тогда обвинение получило возможность зачитать его показания. Зато когда через двадцать дней наш свидетель, Джин Мак-Кинни, отказался давать невыгодные для себя показания, они не стали предлагать ему неприкосновенность или упрашивать его, они просто бросили его в тюрьму. Полиция уже освободила Мак-Кинни от причастности к делу, тем не менее, ему не предложили неприкосновенность для самозащиты. Это был единственный раз, когда на открытом слушании так ярко проявилось противоречие между правосудием и тем, что вытворяли судья с прокурором. Нужные им люди получали неприкосновенность, если знали, что их показания могут повредить им. Наши люди, хотя и освобожденные от причастности к делу, но не доверявшие системе, попадали за решетку. Судебный процесс был не чем иным, как большой шарадой. Цель этой игры состояла в том, чтобы отправить меня в газовую камеру.
Однако все их уловки с показаниями Дела Росса, в конечном итоге, ни к чему не привели, потому что Чарльз Гэрри выложил последний козырь. За две недели до начала суда он беседовал с Россом в своем офисе и записал разговор на пленку. Во время этой беседы Росс признал, что солгал большому жюри. Он решил быть заодно с властями, поскольку у полиции на него были ордера за нарушения правил парковки, и он боялся. Росс сказал Гэрри, что той ночью у меня не было пистолета, что я был почти без сознания и ничего Россу не говорил. Разумеется, когда Гэрри приступил к перекрестному допросу Росса, свидетель не вспомнил беседу с моим адвокатом. Поэтому Гэрри включил магнитофон и дал присяжным возможность прослушать всю пленку целиком, несмотря на страстные протесты Дженсена.
В результате обвинение в похищении с меня было снято за недостатком улик. Теперь меня обвиняли по трем пунктам, а не четырем, как раньше. Вызов Росса в суд в качестве свидетеля обвинения окончился полным провалом. И все-таки Росса вызвали на второе и третье слушания по моему делу. Оба раза он отказывался от своей позиции, занятой на первом слушании. Несмотря на это, я не приходил в раздражение от Росса. Как и Гриер, он был раздавленным и сломанным человеком, запуганным могущественным государством и не вызывавшим ничего, кроме жалости. Гораздо больше меня выводило из себя поведение прокурора, который одурачил и использовал Росса. На самого Росса, не сумевшего защитить себя, я не сердился.
Росс был последним важным свидетелем со стороны обвинения, и после выступления Росса в суде обвинение закончило изложение своей версии дела. В любом судебном разбирательстве бремя поиска доказательств лежит на обвинении. Именно обвинение должно собрать доказательства вины подсудимого, чтобы эта вина была признана без малейших сомнений. Многие обвинительные заключения, сделанные прокурором, были построены на допущениях и намеках, а не на фактах. Несмотря на целенаправленное желание прокурора сделать из меня человека с пистолетом, немало его доказательств обернулись для него не тем, что он ожидал. В дополнение к слабым местам в показаниях Гриера и Хинса, которые к тому же не согласовывались в основных моментах, в построениях окружного прокурора был целый ряд упущений и ошибок.
У Дженсена никак не выходила картина перестрелки. Например, он не мог разобраться с местонахождением двух девятимиллиметровых гильз, обнаруженных полицейскими на месте перестрелки. Дженсен предположил, что эти гильзы, которые не подходили к пистолетам полицейских, были от пуль револьвера тридцать восьмого калибра, который якобы был у меня в ту ночь. Гильзы были найдены на расстоянии двадцати-двадцати пяти футов друг от друга, одна лежала между полицейскими машинами, вторая — около заднего левого крыла машины Хинса, как раз там, где был застрелен Фрей. Гриер и Хинс сходились в том, что мы вместе с Фреем подошли к машине Хинса со стороны заднего багажника и пока мы не дошли до этого места, никакой стрельбы не было. Спрашивается, как могла вторая гильза оказаться на расстоянии двадцати пяти футов оттуда? Я же не мог быть в двух местах одновременно. Это была неразрешимая головоломка в аргументах обвинения. Единственное возможное ее решение состояло в признании того, что на месте событий был кто-то третий, и он стрелял. Однако обвинение полностью исключало такую возможность, потому что оно хотело получить одного субъекта преступления — меня.
Кроме того, мои адвокаты пришли к выводу, что записи разговоров полицейских в то утро выглядят очень загадочно. Они внимательнейшим образом изучили письменную расшифровку записи всех разговоров между патрульными в машинах и диспетчерской в здании полицейской администрации. Запись начиналась с запроса офицера Фрея, с которым он обратился в диспетчерскую сразу после того, как остановил меня около 5.00 утра. Фрей запрашивал информацию обо мне и о машине, которую я вел. Переговоры полицейских продолжались и после прибытия других полицейских машин на место преступления. Анализируя обмен информацией между патрульными и диспетчерской, мои адвокаты обнаружили указания на то, что из диспетчерской посылались сообщения в другой полицейский участок Окленда, и эти сообщения не проходили по рациям полицейских на месте перестрелки. Отсюда вытекало, что, либо пленки были подделаны, либо в полицию звонили свидетели перестрелки и давали такие сведения, которым полицейские, участвовавшие в перестрелке, не обладали.
К примеру, получив от Фрея запрос обо мне, диспетчер предположил, что я был связан с криминалом, и около 5.15 разослал информацию обо мне как о «подозреваемом», где говорилось, что я одет в дубленку. Через полчаса он по непонятным причинам рассылает другую сводку, где сказано, что на мне была «одежда темного цвета». В диспетчерскую об этом не поступало никаких сообщений от полицейских. В записи нет указаний на источник подобной информации. Откуда диспетчер узнал, что на мне была темная одежда? Ведь Генри Гриер тоже упомянул в своих показаниях инспектору Мак-Коннеллу, что стрелявший был коротышкой в желто-коричневой куртке. Был ли кто-то третий на месте перестрелки, который дал наводку на темную одежду? На суде Дженсен ни разу не обмолвился присяжным о такой возможности, хотя полицейские опрашивали свидетелей, услышавших выстрелы и прибежавших к месту перестрелки буквально через несколько секунд после того, как все было кончено. Мои адвокаты даже предположили, что какое-то количество людей находились достаточно близко к месту событий и могли видеть происходящее. Одна женщина, чернокожая проститутка, сказала полиции, что видела трех человек, убегавших в направлении автозаправки на углу Седьмой-стрит и Уиллоу-авеню. Еще одни свидетель, молодой человек, видел две машины, уносившиеся в северном направлении по Седьмой-стрит. Дженсен не вызвал этих людей в суд в качестве свидетелей, потому что хотел создать впечатление, будто я был единственным человеком, который мог убить Фрея. И все же отчеты других свидетелей противоречили его теории (впоследствии, на третьем слушании, даже Хинс признается, что на месте перестрелки был кто-то третий).
Была еще одна улика, которую Дженсену было трудно отклонить, — сборник законов, который был у меня в руке, когда Фрей приказал мне идти к машине Хинса. Чарльз Гэрри указал присяжным на то, что вряд ли я мог одновременно нести в правой руке и пистолет, и книгу. Но еще существенней была причина, побудившая меня взять с собой эту книгу. Зачитывание полицейским отрывков из законодательства было для меня единственным средством защиты в случае незаконного ареста. Я уже прибегал к этому средству бесчисленное множество раз, и сотни жителей в негритянской общине подтвердили бы, что видели, как я это делал, и могли бы засвидетельствовать, что чтение полицейским законов было моей обычной практикой. Я собирался проделать это и утром 28 октября, т. е. прочитать отрывок из законодательства офицеру Фрею. Уж этот факт Дженсен никак не мог извратить.
Возможно, самое серьезное упущение Дженсена на протяжении всего судебного разбирательства было связано с показаниями Гриера. Дженсену так и не удалось доказать, что важнейшее слово в письменной расшифровке записи беседы Гриера с инспектором Мак-Коннеллом было изменено. Лишь по счастливой случайности Чарльз Гэрри обнаружил, что это слово было неверно записано машинисткой из офиса окружного прокурора при расшифровке записи. Это слово было настолько важным, что могло поставить под сомнение опознание меня Гриером по фотографии, которую ему показали в полицейском участке. Что было хуже, так это то, что Гэрри наткнулся на эту ошибку уже после завершения слушаний, когда присяжные обсуждали свой вердикт.
5 сентября присяжные попросили письменную расшифровку показаний Гриера. Судья Фридман вызвал Гэрри и Дженсена в свой кабинет и попросил у них копию показаний. У суда не было копии (судебный секретарь забыл потребовать копию в качестве улики), а Чарльз Гэрри одолжил свою копию кому-то еще. Так что Дженсен принес подлинную рабочую копию расшифровки. Гэрри быстро пробежал глазами по документу и замер от удивления, когда прочел показания Гриера. Самое решающее слово было исправлено ручкой, отчего смысл предложения полностью менялся. Вот этот отрывок:
«Вопрос: Сколько ему лет?
Ответ: Даже не знаю, ведь я видел все лишь в свете фар. Я не мог — я хорошо его РАССМОТРЕЛ, запомнил его лицо, но — поскольку фары светили прямо ему в глаза, он опустил голову, и я не мог хорошенько его разглядеть».
Напечатанное машинисткой слово «рассмотрел» было кем-то исправлено на правильное слово «не рассмотрел». Однако на протяжении всего процесса Дженсен, прекрасно знавший, как этот момент важен, не проинформировал ни Гэрри, ни присяжных, ни суд о том, что при расшифровке показаний возник вопрос, насколько хорошо Гриер мог рассмотреть подозреваемого. На самом деле, Дженсен утверждал, что Гриер хорошо разглядел стрелявшего и потому смог опознать меня. С морально-этической точки зрения, как только у него появились малейшие сомнения насчет «рассмотрел» или «не рассмотрел», он должен был сообщить об этом суду и адвокату подзащитного. И если у прокурора была хотя бы капля совести, он бы прослушал запись показаний еще раз, чтобы удостовериться в том, какое же слово сказал Гриер. Но Дженсена это совершенно не волновало.
В этом существенном вопросе, равно как во всех других сомнительных случаях (местонахождение гильз, запись переговоров полицейских, сокрытие Гриера до суда, не приглашение в суд важных свидетелей, изменение первоначальных показаний Гриера) Лоуэлл Дженсен оказался недостоин уважения. Ведь работа прокурора заключается в том, чтобы выносить приговор виновному, а не осуждать не виновного человека. При разбирательстве моего дела у Дженсена было много причин поверить в мою невиновность. Он решил проигнорировать их все.
После того, как обвинение закончило излагать свою версию дела, утром 19 августа Чарльз Гэрри подал еще одно ходатайство с указанием на нарушения закона в ходе судебного разбирательства. Свое ходатайство Гэрри аргументировал тем, что для его подзащитного ни о каком справедливом суде в Окленде речи идти не может ввиду царящей атмосферы ненависти, жестокости и разногласий. В качестве конкретного примера проявления ненависти Гэрри прочитал суду несколько отрывков из писем, которые мы с ним регулярно получали. Так, например, одно из писем прислали четверо моряков в отставке, утверждавшие, что они знали Фрея. В письме было заявлено, что ни я, ни Гэрри не выживем и десяти дней после завершения процесса независимо от того, каким будет приговор. А вот и другое письмо с подписью «ККК»:
Поклоннику ниггеров.
Догадываюсь, что наш преступничек-негр собирается дешево отделаться, потому что присяжных и свидетелей так всех запугали, что они не осмелятся вынести обвинительный приговор. Надеюсь, его пристрелят на улице кое-какие друзья бедного полицейского, которого он убил. «Черные пантеры» разгуливают повсюду при полном параде, и я не понимаю, почему бы ККК и Американской нацистской партии не сделать то же самое. Кажется, мы живем в свободной стране. Чертовски плохо, что мы прекратили линчевание. По крайне мере, тогда эти проклятые ниггеры знали свое место и не вызывали никаких проблем. Помню, читал когда-то, как однажды вздернули несколько негров и штопором выковыряли куски плоти из тел. Должно быть, это было очень смешно. Как жаль, что там не было меня и я не смог принять участие в такой хорошей работенке. Надеюсь, что расовая война начнется прямо сейчас. Нас больше чернокожих в десять раз, так что можно не сомневаться в победителе. И среди них будет лежать много чертовых поклонников ниггеров. Жаль, что Гитлер не выиграл, а то мы бы отбросили клюшки и начали бы бить негров.
ККК
Судья Фридман отклонил ходатайство Гэрри и отказался признать, что меня ждет что-нибудь другое, кроме справедливого суда. Судья не придал письмам никакого значения.
После этого Гэрри приступил к изложению своей версии событий и утром 19 августа стал рассказывать присяжным, как на самом деле все было. Адвокат представил группу свидетелей, чьи показания были важны с точки зрения тех политических аспектов дела, которые мы оговорили с самого начала. Это были люди из негритянской общины — простые, честные работяги. Со всей искренностью и убежденностью в своей правоте они могли засвдительствовать, как мешает им жить армия оккупантов в лице полицейских-расистов. Эти люди рассказали, как их останавливают, задают вопросы, запугивают, третируют и оскорбляют без всякой на то причины, а лишь из чувства садистского удовольствия, которое этот процесс доставляет некоторым белым «босякам» с Юга, питающим лютую ненависть к чернокожим. Это были люди, с которыми незваные гости жестоко обращались на территории их же общины. Этих людей объединяла одна вещь — все они сталкивались с офицером Джоном Фреем.
Даниель Кинг, юноша шестнадцати лет, рассказал на суде о своей встрече с Фреем. Он навещал сестру в Западном Окленде. Около четырех часов утра они вышли купить что-нибудь поесть на Седьмой-стрит и там, в это сложно поверить, столкнулись с белым человеком без штанов. Человека сопровождал Фрей. Фрей сказал Кингу, что он нарушил комендантский час, а другой белый заявил, что Кинг знает девушку, забравшую у него брюки. Кинг все отрицал, и оба белых человека стали называть его «ниггером», «продажным гомиком» и другими «грязными словами». Фрей держал Кинга, пока второй белый его бил. Потом Кинга затолкали в машину и отвезли в арестный дом для несовершеннолетних, где юноша провел остаток ночи. Фрей даже не позаботился о звонке родителям Кинга.
Лютер Смит старший. Работает с молодежной организацией в Окленде. У него было несколько стычек с Фреем. Смит показал, что Фрей был «ужасной придирой» и в разговорах со свидетелем неоднократно использовал определения ярко выраженной с расистской окраской. Фрей называл брата Смита «маленьким черномазым ниггером», а жену его сына — «чернокожей сучкой».
Белфорд Даннинг, служащий страховой компании «Благоразумная жизнь», описал свою встречу с Фреем, которая состоялась за день до смерти последнего. Фрей издевался над Даннингом, пока другой полицейский выписывал ему штраф за какое-то мелкое нарушение, связанное с машиной. Даннинг сказал Фрею: «Да что с вами такое? Вы ведете себя, как гестаповец или кто-то в этом роде». Фрей потянулся к своему револьверу. «Я и есть гестаповец», — сказал он.
Молодая белая учительница, Брюс Бисон, преподававшая Фрею в средней школе, пригласила его прийти в класс и рассказать школьникам о трудовых буднях полицейского. По словам свидетельницы, пока Фрей беседовал с ее учениками, он называл жителей негритянской общины исключительно «ниггерами» и в унизительных выражениях отзывался о них как о преступниках и правонарушителях.
Гэрри хотел заставить присяжных понять, чего натерпелись чернокожие от таких копов, как Фрей, наделенных властью. Кроме того, Гэрри хотел, чтобы присяжные поняли: к смерти Фрея привела его собственная кровожадность. Страховой агент Белфорд Даннинг напророчил Фрею накануне его гибели: «Мужик, если ты с этим не справишься, долго ты здесь не продержишься». На самом деле, начальники Фрея уже решили перебросить его из негритянской общины на какой-нибудь другой участок, где он представлял бы не такую смертельную угрозу невиновным людям. Но они запоздали, и Фрей сам осуществил пророчество Даннинга. Во время защиты Гэрри все время подчеркивал «особенности» поведения Фрея (и, предполагается, большинства других полицейских). Фрей не только задирал беззащитных людей; он всегда был готов размазать по стенке любого, в котором он чувствовал своей сомнительной мужественности. В своем заключительном слове Гэрри сказал присяжным: «Вы знаете, с того самого дня, как я взялся за это дело, меня беспокоит одна вещь. Почему, спрашивается, офицеру Фрею так хотелось остановить машину Хьюи Ньютона? Я просыпаюсь по ночам, пытаясь понять что к чему, но никак не могу найти ответ на этот вопрос. Он по-прежнему мучает меня. И дело не только в том, что этот вопрос имеет непосредственное значение для судебного процесса. Дело не в том, что он важен для понимания справедливости. И не в том, что без него не получится составить представление о том, каким должно быть правосудие. Честно говоря, это не тот образец полицейской работы, которую я сам лично видел, но, опять же, я не чернокожий. Я не принадлежу к «Черным пантерам». Я являюсь частью обычного общества. Я не думаю о том, что любой полицейский может меня остановить до тех пор, пока я в действительности открыто и откровенно не нарушил закон».
«Что же такого сделал Хьюи Ньютон между 4.50 и 5.00 часами утра, когда он ехал по Седьмой-стрит? Что же такого он натворил, что побудило полицейского позвонить и попросить сведения из картотеки уголовной полиции: «Вижу машину одного из «Черных пантер». Посмотрите, есть ли что-нибудь на нее».
«В своем открытом заявлении я сказал вам, что существовал план, согласованный между Полицейским управлением Окленда с другими полицейскими участками Аламедского округа, целью которого было достать Хьюи Ньютона, достать партию «Черная пантера». Но прежде всего — Хьюи Ньютона…»
«Есть еще кое-что насчет доказательств преступления, что не дает мне покоя и очень, очень сильно меня тревожит. Это должно тревожить и вас, когда вы приступаете к анализу дела. Если офицер Фрей действительно собирался арестовать Хьюи Ньютона и на самом деле сказал фразу «Сейчас я тебя арестую», — давайте нужды ради допустим, что именно так все и было, хотя мы оспариваем этот факт, в этом случае я просто не понимаю, почему полицейский не надел наручники на подозреваемого, если «Пантеры» считаются такими отчаянными?»
«Я также не в силах понять, если полицейский арестовал подозреваемого, почему он прошел мимо своей машины. Я не понимаю, почему офицер Фрей повел мистера Ньютона к третьей машине, к заднему багажнику. Почему? Он хотел его избить? Вы же знаете, у него это очень хорошо получается. Он был потяжелее мистера Ньютона, весил фунтов 200. Он регулярно посещал спортзал, как сказал нам офицер Хинс. Хьюи весит 165 фунтов, и у Хьюи держал в руке сборник законов».
Пожалуй, самым важным комментарием, который можно было сделать насчет показаний свидетелей защиты, вызванных из негритянской общины, было молчание Дженсена. Он не выступил с опровержением. Его молчание было красноречивей всяких слов. Думаю, не нашлось бы ни одного человека, который хорошо бы отозвался о Фрее. Да что можно сказать о полицейском, владевшем тремя пистолетами и носившем вагон боеприпасов на патронташе? А еще Фрей был единственным полицейским в Окленде, кто не пользовался обычными пулями, которые выдавались в участке, а тратил собственные деньги на покупку специальных пуль с повышенной скоростью полета.
24 августа Чарльз Гэрри вызвал Мак-Кинни давать свидетельские показания. Когда Мак-Кинни вошел в зал суда в сопровождении своего адвоката Гарольда Перри, публику охватило чувство возбуждения, она переполнилась ожиданием, ведь это был самый важный свидетель перестрелки Хинса и Фрея. Вплоть до этого момента все могли только догадываться, знают ли адвокаты подзащитного имя его спутника в то утро. Журналисты и обозреватели постоянно спрашивали Чарльза Гэрри о том, будет ли таинственный свидетель приглашен в суд.
После того, как Мак-Кинни занял свидетельское место, Гэрри поднялся и сначала попросил его назвать свое имя и сказать, был ли он вместе со мной в «Фольксвагене» на углу Седьмой и Уиллоу утром 28 октября 1967 года. «Да, был», — ответил Мак-Кинни. От этого ответа все присутствующие пришли в напряжение. Однако свидетель только и ответил, что на два эти вопроса. Гэрри задал следующий вопрос: «Теперь, мистер Мак-Кинни, скажите, тогда, примерно в пять часов утра, вы стреляли в офицера Джона Фрея случайно или как-нибудь еще?» На что Мак-Кинни сказал: «Я отказываюсь отвечать на вопрос, потому что это может быть поставлено мне в вину». Тут возмутился Дженсен. Он вскочил с места и потребовал, чтобы судья Фридман приказал свидетелю отвечать. «Ввиду того, что свидетель уже начал давать показания, — сказал Дженсен, — и подтвердил, что он был на месте событий, очевидно, он отказался [воспользоваться правом хранить молчание]. Давайте послушаем, что он нам скажет из того, что знает. Он сказал, что был там, и я прошу зачитать заданный ему вопрос, а также прошу суд обязать свидетеля ответить».
Затем между прокурором, Перри и судьей начался спор по поводу конституционных прав Мак-Кинни. Перри, адвокат свидетеля, утверждал, что Мак-Кинни можно спрашивать только по двум вопросам, на которые он согласился ответить — насчет имени и насчет его местонахождения 28 октября. Что касается остального, то его клиент имеет абсолютно законное право апеллировать к пятой поправке, сказал Перри. Когда Дженсен стал настаивать на проведении перекрестного допроса свидетеля, Мак-Кинни отказался отвечать. Здесь Гэрри попытался поднять вопрос о «разумном сомнении» — сомнении в том, что на месте событий был лишь один человек, который мог стрелять, т. е. я, как утверждало обвинение.
У Гэрри и Гарольда Перри был разработан блестящий план, но Дженсен сразу понял, куда они клонят. Обвинение посчитало, что Мак-Кинни попросит у судьи Фридмана неприкосновенность за свои показания (такой статус был дан Делу Россу), до того как он скажет что-нибудь такое, что может быть использовано против него. Потом, находясь под защитой своего иммунитета, Мак-Кинни мог бы сказать, что это он убил Фрея и ранил Хинса, после чего скрылся с места перестрелки вместе со мной. Поскольку на суде не было представлено никаких улик, доказывающих, что это было не так, Мак-Кинни нельзя было обвинить в лжесвидетельстве. Таким образом, Мак-Кинни мог освободить меня от обвинений. Ему тоже не грозило никакое наказание, потому что со статусом неприкосновенности его показания не могли быть использованы против него. В итоге оба мы выйти из зала суда — на свободу.
Дженсен и Фридман, посчитав, что таков план защиты, сами, однако, никакой стратегии не имели. Судья спросил Мак-Кинни, хорошо ли он осознает, что оскорбляет суд, и приказал немедленно отправить свидетеля в тюрьму за отказ давать показания по делу. Позже судья приговорил Мак-Кинни к шести месяцам лишения свободы. Но Высший суд Калифорнии пересмотрел это решение и пришел к выводу, что Мак-Кинни действовал в пределах своих закрепленных в Конституции прав. Мак-Кинни провел в окружной тюрьме несколько недель, после чего его выпустили под залог. Как я уже говорил, Мак-Кинни — мужественный человек.
Наконец, утром 22 августа место для дачи свидетельских показаний занял я сам. Кое-кто сомневался, что я стану давать показания. Они думали, я не смогу выдержать безжалостного перекрестного допроса Дженсена. Но на самом деле, я ждал этого момента с большим нетерпением. В течение шести недель я сидел рядом с Чарльзом Гэрри в зале суда и слушал, как Дженсен утверждает, что я хладнокровно убил Фрея. Я наблюдал, как он пытается убедить присяжных в том, что я люблю насилие, что я уже много раз провоцировал полицейских и что есть причины мне не верить. Я хотел исправить судебный протокол и доказать присяжным свою невиновность. Я также намеревался показать Дженсену, что значит быть негром в Америке и почему возникла необходимость в создании такой организации, как партия «Черная пантера». Я надеялся, что после этого присяжные поймут, почему Фрей незаконно остановил мою машину утром 28 октября.
Гэрри начал допрос с двух важнейших вопросов: убил ли я офицера Джона Фрея и стрелял ли в офицера Герберта Хинса, ранив его. Я ответил единственно возможным способом — сказал правду. Нет, я не убивал и не стрелял. После этого мы прошлись по всей предыстории происшествия, которая в этом случае начиналась с момента моего рождения. Я рассказал суду о моей семье, о моем детстве и юности, проведенных в Окленде, где у меня и моих сверстников не было другого места для игр, кроме как заваленных мусором мостовых и незастроенных участков земли, потому что у чернокожих детишек нет ни плавательных бассейнов, ни парков, ни игровых площадок. Я рассказал им об унизительной практике в государственной системе образования, от которой страдали и продолжают страдать тысячи чернокожих детей, живущие в равнодушном и угнетающем их мире. Я рассказал им, как полиция вторгается в негритянскую общину и безо всяких оправданий притесняет и запугивает ее жителей. Я рассказал им, что по окончании Оклендской технической школы я не умел ни читать, ни писать, равно как большинство моих одноклассников, а все потому, что никого в школе не интересовало, научились мы читать и писать или нет. Потом я рассказал им о том, что под влиянием своего брата Мелвина я научился читать самостоятельно, раз за разом одолевая «Республику» Платона. Я постарался объяснить, какое огромное впечатление оказала на меня Платоновская аллегория пещеры. Я говорил, что пленники из этой пещеры могут служить символом того печального положения, в котором оказались чернокожие в нашей стране. Я объяснял, что знакомство с Платоном дало мне очень много, именно после этого я начал думать, читать и искать способ освободить чернокожих. Потом я рассказал о встрече с Бобби Силом в Оклендском городском колледже и о том, как из наших с ним разговоров выросла партия «Черная пантера».
Гэрри вел допрос так, чтобы позволить мне объяснить цели «Черных пантер» и нашу программу из десяти пунктов. Я полностью озвучил нашу программу в зале суда и прокомментировал каждый пункт. Я сказал, что негры — это народ, который был подвергнут колонизации и который властная структура использовала исключительно для получения прибыли всякий раз, когда ей это было выгодно. Почти целое столетие они были или безработными, или выполняли самую презренную работу, поскольку промышленность предпочитала пользоваться услугами более подходящих эмигрантов: ирландцев, итальянцев и евреев. Однако после начала Второй мировой войны негров вновь взяли на работу — они понадобились на фабриках. Белое мужское население ушло на фронт, и промышленность ощутила нехватку рабочих рук. Но стоило войне закончиться, как негров опять вышибли вон с «плантации» и оставили без средств к существованию, показав, что им нет места в индустриальном обществе. Я рос в конце сороковых годов и видел, как это происходит в Окленде. Ведь во время войны здесь были построены крупные предприятия, работавшие на нужды обороны, а после войны очень много негров столкнулось с безработицей. Я процитировал второй пункт нашей программы, доказывающий наше желание изменить такое положение: «Мы хотим добиться полной занятости для нашего народа. Мы считаем, что федеральное правительство обязано обеспечить каждому человеку рабочее место или гарантированный доход и несет за это ответственность. Мы полагаем, что, если белый американский предприниматель не обеспечивает полной занятости, следует изымать у таких предпринимателей средства производства и передавать их общине, чтобы она смогли организовать своих жителей, предоставить им работу и обеспечить им высокий уровень жизни».
Иногда, пока я рассказывал об истории чернокожих и о целях «Черных пантер» в суде, я забывал, что присутствую на процессе, от исхода которого зависит моя жизнь. Все эти темы были настолько близки мне и так важны для меня, что я полностью отдался своему выступлению. Наступали моменты, когда я даже получал наслаждение от происходящего, особенно, когда у меня появлялся шанс обставить судью Фридмана и прокурора Дженсена.
Увидев возможность продемонстрировать свое неуважение судье, я не преминул ею воспользоваться. Я рассказывал о том, как некоторых эмигрантов, впервые прибывших в нашу страну, подвергали угнетению и дискриминации. Однако после того как они начали получать прибыль, кое-кто из них вступил в ряды угнетателей, несмотря на то, что угнетатели продолжали притеснять людей, из которых они сами выдвинулись. В качестве примера я использовал поступок евреев, которые стали членами «Клуба лосей»,[49] хотя они прекрасно знали, что эта организация состоит из расистов и антисемитов. Судья Фридман стал первым евреем, принятым в «Клуб лосей» Окленда, причем этот факт получил широкую огласку. Члены клуба хотели избавиться от своей антисемитской репутации, хотя все знали, кто они были на самом деле.
В другой раз, рассуждая о современном расизме в американском обществе, я намеренно использовал для примера мормонов как одних из самых яростных поборников этнической дискриминации. Я знал, что Дженсен был мормоном, и, когда говорил о мормонской церкви, посмотрел прямо на него, а не на присяжных. Он ответил мне притворной улыбкой, я же продолжал смотреть в его сторону. Он не мог ничего сказать, иначе присяжные узнали бы о нем всю правду, чего он категорически не хотел.
Дженсен часто приходил в нетерпение, пока Гэрри опрашивал меня, и часто прерывал мои показания, но даже прокурора, казалось, заинтересовало мое выступление. Однако на протяжении всей моей речи прокурор и судья обменивались многозначительными взглядами: судья Фридман намекал, что нужно выразить протест, а Дженсен вставал и протестовал. Фридман едва мог скрыть свое недовольство всем, что я говорил, и неоднократно просил меня говорить по существу дела. Потом Гэрри напомнил ему, что все мое выступление имеет отношение к защите. Так или иначе, нам удалось пройти по всем самым важным политическим аспектам дела, и это было существенней всего. Только когда я закончил с политической стороной, только тогда я приступил к рассказу своей версии событий того утра. Я описал все так, как было на самом деле, до того момента, когда Фрей выстрелил в меня. После ранения я потерял сознание, поэтому мог описать лишь те немногие вещи, которые помнил, и свои смутные ощущения от них.
Я провел на свидетельском месте почти целый день, прежде чем Гэрри передал меня в руки врага. Впервые за все восемь недель мы с Дженсеном встретились лицом к лицу.
Моя сестра Леола рассказала мне о разговоре, который она случайно услышала в день начала процесса. Она стояла на крыльце здания суда и выглядела, как одна из многих демонстрантов. Рядом с ней, ничего не подозревая, со своим коллегой стоял Дженсен. Леола слышала, как прокурор сказал своему другу, что намеревается заставить меня выйти из себя — прямо перед присяжными, после чего, по словам прокурора, все демонстрации в мою поддержку будут бессмысленны. Так что в тот день, когда Дженсен приблизился ко мне, я знал, чего от него ожидать: он хотел заставить меня взорваться, а не вовлечь в хорошую дискуссию. Я чувствовал, что мне просто предстоит очередной спор с той лишь разницей, что ставки будут необычно высоки. Я потратил слишком много времени, простаивая на углах улиц, просиживая в барах, да и в колледже я обсуждал довольно сложные проблемы, чтобы волноваться по поводу разведки боем, которую собирался провести Дженсен. Он был достойным противником. Но я также знал, что мои ответы его удивят, раз он стал ориентироваться исключительно на тактику давления. У Дженсена сложилось обо мне ложное впечатление, и он ожидал, что я начну отвечать в такой манере, на какую не имел права. На протяжении почти двух дней, пока длился перекрестный допрос, мы боролись друг с другом. Каждый из нас хотел, чтобы его подход к делу победил. Я чувствовал, что почти всегда контролировал ситуацию. Отвечая на вопросы Дженсена точно так же, как я до этого отвечал Гэрри, я не критиковал систему или ее агентов. Хотя речь шла о моей жизни, я хотел показать свое презрение. В противостоянии с ними я искал способ использовать их собственный аппарат против них. Такой подход совпадал с революционной практикой, которую я попытался сделать неотделимой от своей жизни.
Весь допрос Дженсена был нацелен на то, чтобы выставить меня как человека, любящего жестокость и оружие. Дженсену хотелось, чтобы во мне видели угрозу полицейским, которые всего-то и делали, что выполняли свой долг. Прокурор начал спрашивать меня о нашем патрулировании общины в Окленде. Причем Дженсен хитрым образом постоянно заострял внимание присяжных на том, что, между прочим, мы носили дробовики. Тем самым он как бы говорил, что я любил брать с собой запрещенное оружие, патрулируя улицы общины, хотя по условиям освобождения под надзор я не должен был этого делать. Свои предположения прокурор подкрепил тем, что заставил меня прочитать стихотворение «Пистолеты, детка, пистолеты». Я написал это стихотворение для нашей газеты «Черная пантера». В нем очень много символов и метафор, которые имеют особенное значение для чернокожих, но смысл которых для большинства белых полностью теряется. В стихотворении я упомянул револьвер «П-38». Дженсен предположил, что именно из этого пистолета я и застрелил Фрея, если уж я написал, что мне нравится такой пистолет и я его использую в случае необходимости.
«Что это за пистолет «П-38»?» — спросил Дженсен.
«Это автоматический пистолет», — ответил я.
«Этот пистолет стреляет девятимиллиметровыми патронами Люгер?» — таков был следующий вопрос.
Я объяснил прокурору, что не очень-то много знаю о ручном оружие. Я всегда предпочитал дробовик и вообще не брал в руки пистолеты, находясь под надзором. Я сказал ему, что в этом случае, равно как и во всех других, «Черные пантеры» соблюдают закон.
Здесь прокурор спросил, помню ли я инцидент в Ричмонде в 1967 году, когда я не стал соблюдать закон и, как выразился Дженсен, «ввязался в бой с ричмондской полицией». Дженсен имел в виду тот момент, когда около 5.00 часов утра полиция сидела в засаде, поджидая нас рядом с домом, куда мы приехали на вечеринку. Наоборот, тогда я согласился на арест, чтобы избежать боя, хотя он назревал, после того как молодой полицейский прошелся по ногам всех чернокожих братьев, а еще один чуть не задушил меня. Я со всей тщательностью объяснил Дженсену и присяжным подробности того случая. Также я рассказал, как на суде в Ричмонде консервативное жюри присяжных, состоявшее из одних белых, поверило версии полицейских, как они всегда делают, и приговорило меня к шестидесяти дням отработок на окружной ферме. Я больше чем уверен, что присяжные знали о том, что сказал полицейский, закончив жестоко избивать чернокожего брата: «Я должен идти, потому что обещал жене и детям отвезти их в церковь в девять».
Потом Дженсен завел разговор еще об одном случае, когда «Черные пантеры» откликнулись на призыв о помощи, с которым к нам обратился прибежавший в штаб «Пантер» маленький мальчик. Полиция ворвалась в его дом, отца при этом не было, и устроила обыск под выдуманным предлогом поиска дробовика. Мы попросили полицейских удалиться, ведь у них не было ордера на обыск. В приступе бешенства полицейские арестовали меня за ношение кинжала в кобуре, обвинив меня в «демонстрации оружия в оскорбительной и угрожающей манере».
Пока я рассказывал об этом происшествии, я извлек пользу из своего положения. Прокурор находился справа от меня, когда задал свой первый вопрос, а присяжные сидели по левую руку от меня. Дженсен хотел, чтобы я говорил, глядя на него, но я повернулся к нему спиной и начал описывать подробности того случая присяжным, что заняло какое-то время. Если уж он спросил меня об этом случае, то не мог остановить мой рассказ без того, чтобы не выглядеть глупо. Так что я воспользовался моментом и взял инициативу в свои руки.
Казалось, присяжные пришли в восторг от моего рассказа и были на моей стороне. Дженсен, понятное дело, очень досадовал, что все так обернулось. Он отошел от стола секретаря и сел на свое место. Вид у него был очень удрученный, как мне потом сказали. Во всяком случае, я, откинувшись назад, спокойно дорассказал историю и повернулся направо, чтобы услышать следующий вопрос Дженсена. Но прокурора там не было. Я удивился от неожиданности, не найдя Дженсена на том месте, где он стоял. Поэтому я сказал вслух: «Где он?» Затем я увидел прокурора за его столом, улыбнулся ему и сказал: «О, вот вы где. Я-то думал, вы ушли домой». Зал взорвался смехом, услышав такое, и судья сделал мне замечание.
Во время перекрестного допроса Дженсен постоянно ссылался на официальные рапорты и прочие документы, в которые он то и дело заглядывал, пока я давал показания. Чтение отчета, который составлен по определенным правилам и снабжен официальной печатью «одобрено», может быть очень впечатляющим: напечатанный текст предполагает, что в этих словах содержится правда, что все описанное действительно имело место. Поэтому, когда Дженсен принес с собой составленные в полиции документы, касающиеся моего прошлого, — арестов, судов, судебных слушаний, — он думал, что тем самым предоставит присяжным доказательство моего буйного криминального прошлого. Но у него не получалось поставить меня в затруднительное положение или смутить. Каждый раз, когда прокурор начинал на меня наступать, у меня появлялась возможность рассказать присяжным правду и вдобавок выйти на более широкую проблему — положение чернокожих в нашей стране. Таким образом, я мог описать, как полиция преследовала «Черных пантер» и выискивала любую возможность, чтобы арестовать нас и уничтожить нашу организацию.
Надо отдать должное Дженсену — он почти ничего не упустил. Но я парировал каждый пункт из его «официальных» доказательств, и мои объяснения выходили за пределы того, что было написано в бумагах прокурора. Мне кажется, присяжные начали понимать, что не всегда в официальном документе содержится вся истина. События происходят под влиянием некоторых смягчающих обстоятельств, к тому же невозможно передать на бумаге всю систему ценностей и обычаев.
Дженсен допустил еще одну ошибку — начал анализировать мои выступления и сочинения, усматривая в них призывы к насилию. Здесь он быстро потерял почву под ногами. Он не чувствовал особенностей языка чернокожих и часто понимал буквально то, что было символом. Каждый раз, когда он упоминал что-нибудь написанное или сказанное мною, что, по его мнению, звучало опасно, я терпеливо объяснял, что это значило в контексте организации негритянской общины. Таким образом, у меня появлялась возможность объяснить присяжным цели нашей партии. Я надеялся сделать именно это — перехватить инициативу у Дженсена и поговорить на отдельные политические темы в зале суда. Просто удивительно, как часто мне это удавалось.
Наконец, Дженсен подошел к событиям утра 28 октября. К изложению своей версии происшествия он подготовился со всей тщательностью, вооружился фотографиями и картами. Он осторожно вел меня, заставляя описывать каждое мое движение и жест. Так, меня даже попросили изобразить, как Фрей «вмазал» мне. Дженсен решил вспомнить нашу с Бобби Силом встречу с двумя полицейскими, состоявшуюся в 1966 году, поскольку он полагал, что она имела отношение к убийству офицера Фрея. По словам Дженсена выходило, что я вступил в драку с полицейским и хотел отобрать у него пистолет. Если бы прокурору удалось доказать, что все тогда было именно так, то он получил бы своеобразный фон к событиям 1967 года. Получилось бы, что то же самое я пытался проделать с Фреем. Не знаю, где Дженсен раздобыл такую информацию. Я сказал суду, что полицейский, пристававший к нам тогда, признал в суде, что он был пьян, когда встретил нас с Бобби. И об этом имеется соответствующая запись. Дженсен спросил меня: «Мистер Ньютон, вы признали себя виновным в избиении того полицейского, человека в униформе?» Я ответил: «Я принял дело так, как мне предложили в офисе окружного прокурора».
«Понятно. И вы признали свою вину?»
«Я считаю, это было просто нападение».
(Саркастичным тоном.) «Неужели? Мистер Ньютон, вы видели, как кто-то застрелил Джона Фрея?»
«Нет».
«Вы видели, как кто-то стрелял в офицера Хинса?»
«Нет, не видел».
«У вас нет объяснений тому, как был убит Джон Фрей?»
«Никаких».
«У меня больше нет вопросов».
Дженсен завершил перекрестный допрос. Он прошел не так, как планировал прокурор. Я ни разу не потерял самообладания. На самом деле, именно Дженсен лишился спокойствия.
Гэрри искусно привел свои неоспоримые доводы. Адвокат защиты должен уметь это делать, потому что первым с неоспоримыми доводами выступает обвинение. После приведения неоспоримых доводов защиты последнее слово произносит обвинитель. Гэрри еще раз прошелся по всем доказательствам, указав на пропуски и противоречия в показаниях свидетелей обвинения. Мой адвокат принес в суд несколько больших плакатов. На них напротив друг друга были записаны все эпизоды, в которых два варианта показаний Гриера расходились. При помощи указки Гэрри показал все противоречия, не пропуская ни одного. Все последнее выступление Гэрри было нацелено на то, чтобы наглядно проиллюстрировать, что представленные обвинением доказательства вызывают немало «разумных сомнений».
Но Гэрри сделал еще больше. В своем волнующем и прочувствованном заключительном слове он воззвал к сознанию присяжных и обратился к их пониманию социальных условий, которые привели к гибели офицера Фрея:
«Сегодня негритянская община, чернокожее гетто, борется за право выживания. Белое общество сидит, такое самодовольное, и говорит: «Давайте у нас будет больше полицейских! Давайте у нас будет больше пистолетов! Давайте сами вооружимся против негров!»
Это не ответ. Если вы думаете, что это — ответ, мы все уничтожены. Если вы полагаете, что ответ есть у мэра Далея, мы все уничтожены. Если вы считаете, что наша нация со всей своей властью и со всей своей силой может справиться с насилием на улицах еще большим насилием, то они думают по-другому.
Мой клиент и его партия выступают не за разрушение. Они хотят созидать. Они хотят лучшей Америки для чернокожего народа. Они хотят, чтобы полиция убралась с их территории. Они хотят, чтобы полицейские исчезли с их улиц. Каждый из вас, присутствующих здесь, возможно, знаком с вашим местным полицейским. Я знаю нескольких человек из полицейских управлений. Я нахожу, что они замечательные люди. Я живу в Дэли-сити, и у меня с этими людьми прекрасные отношения. Эти полицейские проживают со мной по соседству, в трех-четырех кварталах. Я знаю, где живет один из них. Я могу позвонить ему в случае необходимости. Но ни один из полицейских не живет в гетто. Почему они не живут в гетто? Потому что человек, зарабатывающий восемь-десять тысяч долларов, не станет жить в такой дыре, как гетто.
Кто-нибудь думал о том, как поднять уровень жизни в гетто? Чтобы оно не прозябало так, как прозябает сейчас? Именно это пытается делать Хьюи Ньютон, «Черные пантеры» и другие люди…
Слушай, белая Америка! Слушай, белая Америка! Отправить Хьюи Ньютона в газовую камеру — это не ответ. Засадить Хьюи Ньютона и его организацию за решетку — это не ответ. Ответ состоит в том, что нужно ликвидировать гетто, сами условия гетто, с тем чтобы чернокожие братья и сестры могли жить с достоинством, чтобы они могли пройти по улице с достоинством».
Красноречие и пламенную вдохновленность, с которыми Чарльз Гэрри произнес свою заключительную речь, трудно описать. Он защищал принципы и убеждения, важность которых для него была несомненна и которым он посвятил всю свою жизнь. Когда он говорил о справедливости, истине и терпимости, он не просто защищал человека, чья жизнь была в опасности. Он говорил за всех втоптанных в грязь и угнетенных всего мира, и он просил присяжных подумать и о них тоже. Считанные люди в зале суда остались равнодушны к тому, что сказал Гэрри.
В отличие от Гэрри Дженсен большую часть своего заключительного выступления говорил о деталях процесса. Он попросил присяжных признать меня виновным в убийстве Джона Фрея и уделил много внимания защите показаний Гриера и Хинса. Однако что касалось значения закона и отправления правосудия, о которых завел речь Дженсен, то об этом он не мог сказать лучше Гэрри. Именно за это боролись мои адвокаты и я. В то же время я уверен, что Дженсен не понимал всей иронии своих слов:
«Мы, присутствующие в суде, объединены идеей того, что каждое право, положенное каждому гражданину, соблюдается в наших судах. Я думаю, что так и есть. И я считаю, что вы должны поразмышлять над этой идеей: общество дает право отдельному человеку, но есть и еще кое-что, потому что не существует такой вещи, как право без обязанности, которая сопровождает любое право. Другими словами, если закон говорит, что у человека есть право, это значит, что любой другой человек должен уважать это право. Его обязанность — уважать это право.
Что может быть важнее, леди и джентльмены, чем право на жизнь? Что может быть главнее, чем право на мирную работу и на жизнь?
В суде мы ищем и утверждаем истину. Мы должны, как я сказал, провозглашать эти истины в суде. Если мы не можем утвердить эти истины в суде, мы проигрываем.
В суде должна выполняться обязанность по обеспечению соблюдения права, равно как сам суд должен существовать на основе провозглашения истины».
Объявив меня убийцей, Дженсен исчерпал запас аргументов. Борьба между защитой и обвинением закончилась, судья начал инструктировать присяжных насчет того, что они должны сделать, чтобы вынести решение. «Функция присяжных, — сказал судья Фридман, — заключается в том, чтобы разрешить спорные вопросы по делу, которые представлены в обвинительном акте и в заявлении подсудимого о непризнании себя виновным. Эту обязанность вы должны выполнить, не руководствуясь ни жалостью, ни пристрастием или предубеждением к обвиняемому. Вы сами не должны допускать, чтобы у вас возникли какие-либо предубеждения по отношению к подсудимому из-за того, что он был арестован за совершение этих преступлений, или из-за того, что против него выдвинуто обвинение, или из-за того, что его вызвали отвечать перед судом. Ни один из этих фактов не является доказательством его вины, и вам не разрешается делать вывод или думать на основе любого или всех этих фактов, что он скорее виновен, чем не виновен».
Когда присяжные по одному вышли из зала во главе с Дэвидом Харпером, я ощутил, что для меня все закончилось. Некоторых присяжных впечатлили мои показания, и они поверили мне. Я наблюдал за ними, пока шел суд, и чувствовал, что они симпатизируют защите, однако я не надеялся на их стойкость во время прений. Часто в таких обстоятельствах бывает, что люди больше склоняются к одной точке зрения, но меняют ее, столкнувшись с напором противоположных мнений. Так что я вернулся в свою камеру, готовый к тому, что меня пошлют в газовую камеру. Моя работа хорошо подготовила меня к ожиданию смерти. Организация групп по обороне в общине заставила меня понять, что меня могут убить в любой момент. Я знал, когда против тебя начинаются серьезные действия, надо быть готовым ко всему. Если ты готовишься к смерти, когда тебя уже вот-вот отведут в газовую камеру, ты опоздал. Твой плот может быть готов до начала прилива — это одно. Когда ты пытаешься построить его, видя перед собой высокую волну, — это совсем другое. Когда ты смотришь прямо в лицо смерти, ты принимаешь самые тяжелые вещи.
Присяжные совещались четыре дня — с 5 до 8 сентября. Несмотря на то, что мои адвокаты постоянно находились со мной, время тянулось ужасно медленно. Тем не менее, настроение у меня было неплохое. Меня занимали мои мысли. Я передумал обо всем, что я сделал до и во время суда, и пришел к выводу, что мне не о чем сожалеть, я сделал все, что мог. Деятельность нашей партии стоила всех проблем, всей боли, которые нам пришлось пережить, и не было смысла думать, что мы все потеряли. Если бы у меня была возможность начать все сначала, я бы сделал то же самое.
Я представлял себе газовую камеру. Меня волновало лишь две вещи: какой окажется последняя минута для меня и как моя смерть подействует на моих близких. Прежде всего, я решил держаться достойно до самого конца. Во-вторых, я беспокоился за свою семью, которой предстояло пройти еще через одно суровое испытание. Этот судебный процесс и без того был ужасным для них. И все-таки я знал, что при необходимости я повторил бы это снова, несмотря на то, что принес бы моим родным еще больше страданий. Я очень любил их всех и ценил их поддержку. Я причинил им много мучений, но меня поддерживала мысль о том, что однажды мой народ победит, и этот момент триумфа принесет хотя бы какое-то удовлетворение тем, кого я любил.
Многих людей заботило, что будут делать «Черные пантеры» после оглашения вердикта присяжных. Братья не уставали повторять, что, если угнетатель не освободит меня, то лишь небо станет последним пределом, который их остановит. Это значило, что в случае неблагоприятного решения, мы дойдем до самых высших судебных инстанций. Однако это заявление звучало намеренно двойственно. Его можно было трактовать по-разному, и мы так и хотели, чтобы вся структура власти Окленда почувствовала себя в напряжении. Этот план безошибочно сработал. Свободная интерпретация нашего обещания не только привлекла внимание широкой общественности, но также позволила нам принимать особые решения после решения присяжных, а не до этого.
Ранним вечером 5 сентября, в первый день совещания присяжных, нас уведомили, что присяжные возвращаются в зал заседаний. Сначала мы подумали, что они вынесли вердикт, но мы ошиблись. Присяжные хотели, чтобы им еще раз предоставили для прочтения показания Гриера инспектору Мак-Коннеллу, также они поинтересовались, могут ли они посмотреть на мое ранение. Когда все присяжные собрались, я подошел к их скамье и задрал свитер, чтобы показать шрам на животе, а потом повернулся к присяжным спиной, чтобы они увидели выходное отверстие. (Позже мы выяснили, что у присяжных возникли разногласия насчет расположения моей раны. Если показания Хинса были достоверны [а он утверждал, что он стрелял с колена, тогда как я стоял], то рана около моего пупка должна находиться ниже, чем выходное отверстие раны у меня на спине. Однако, если Фрей стрелял в меня стоя, тогда как я был на коленях, то входное отверстие раны должно быть выше выходного на спине. Я показал, что Фрей стрелял в меня, когда я упал на колени. Демонстрация моей раны подтвердила мои показания.)
Кроме того, именно в первый день совещания присяжных Гэрри обнаружил ошибку в показаниях Гриера, которую прокурор оставил неисправленной. Присяжные попросили еще раз показать им первые показания Гриера, но после нахождения ошибки Гэрри отказался позволить прислать не откорректированную копию показаний. Судья Фридман заметил, что он не думает, что ошибка имеет большое значение. Однако Гэрри понимал это лучше. Исправление ошибки было жизненно важным для защиты, ошибка была настолько серьезной, что могла привести к новому судебному процессу. Гэрри настаивал на том, чтобы вместе с Дженсеном прослушать оригинальную запись показаний и выяснить, действительно ли Гриер сказал «не рассмотрел», после чего послать исправленную копию показаний присяжным. Сначала Дженсен заявил, что в его офисе нет подходящей аппаратуры для прослушивания оригинальной записи. В тот вечер один из моих адвокатов прослушал копию оригинальной записи на собственной аппаратуре и поклялся, что слово «не рассмотрел» было произнесено. Дженсен прослушал запись лишь на следующее утро. Это было очень напряженное для нас время, поскольку присяжные могли вынести вердикт в любой момент. В пятницу, 5 сентября, мои адвокаты включили оригинальную запись показаний Гриера в зале для пресс-конференций для журналистов и представителей масс-медиа. Большинство из репортеров сочли, что Гриер произнес «не рассмотрел», и в тот день в новостях на телевидении и по радио, в газетах появились репортажи об этом новом открытии. Тем временем мои адвокаты пошли к аудио-инженеру, работавшему на одной из радиостанций Окленда. Он согласился переписать важнейший отрывок из показаний Гриера на другую кассету и потом проиграть новую запись на своем высококачественном оборудовании, чтобы они смогли услышать то единственное слово наверняка и определиться с ним раз и навсегда. После перезаписи произнесенное Гриером «не рассмотрел» зазвучало громко и ясно.
Защита работала в бешеном темпе, стараясь уложиться в срок. Адвокаты готовили ходатайство о возобновлении дела и искали соответствующее оборудование, чтобы принести его в суд и дать прослушать обработанную пленку судье Фридману и Дженсену. Это было по-настоящему трудно сделать, однако, в конце концов, после решительных возражений прокурора, утверждавшего, что уже слишком поздно и что Гэрри должен был все это подготовить во время слушаний, судья все-таки прослушал запись и вынужден был признать, что было сказано слово «не рассмотрел». Исправленные показания были отправлены присяжным под вечер в субботу, однако Фридман не позволил приложить к ним вариант с ошибкой. Мы так никогда и не узнали, заметили присяжные ее или нет. Их оставили одних разбираться, насколько важным и существенным было исправление.
Наконец, на четвертый день совещаний, 8 сентября, около десяти часов вечера, присяжные вынесли решение. Я пришел в зал суда вместе со своими адвокатами, чтобы услышать, как секретарь прочтет следующее:
«Решение жюри присяжных. Мы, присяжные по вышеозначенному делу, считаем вышеупомянутого обвиняемого Хьюи П. Ньютона виновным в совершении уголовного преступления, а именно — в убийстве по внезапно возникшему умыслу, что является нарушением статьи 192 подраздела 1 Уголовного кодекса штата Калифорния и менее опасным преступлением, которое входит в состав обвинения и было внесено в первый пункт обвинительного акта. Дэвид Б. Харпер, старшина присяжных».
«Следующее решение с тем же названием Суда и по тому же делу:
Мы, присяжные по вышеозначенному делу, считаем вышеупомянутого обвиняемого Хьюи П. Ньютона невиновным в совершении уголовного преступления, а именно — в нападении на полицейского с применением смертельного оружия, что является нарушением статьи 245Б Уголовного кодекса штата Калифорния и внесено во второй пункт обвинительного акта. Дэвид Б. Харпер, старшина присяжных».
«Следующее решение с тем же названием Суда и по тому же делу:
Мы, присяжные по вышеозначенному делу, считаем, что обвинение в судимости, идущее четвертым пунктом в обвинительном акте, является верным. Дэвид Б. Харпер, старшина присяжных».
Непредумышленное убийство, а не тяжкое убийство. Вот это было неожиданно. Однако Гэрри и я были расстроены таким двусмысленным решением. Получалось, что присяжные поверили в то, что я убил офицера Фрея, но только после грубой провокации и находясь в состоянии аффекта. Однако совершенно нелепо, что они не подумали о том, что я также стрелял в офицера Хинса. Приходило ли присяжным в голову, что кто-то другой стрелял в него, а если так, то кто это был, и как связаны выстрелы в офицера Фрея и в офицера Хинса? Решение присяжных являло собой компромисс, но в нем не было отражено правосудие, поскольку было совершенно ясно, что у некоторых присяжных появилось разумное сомнение насчет моей вины, хотя у них не получилось оправдать меня. Вся эти вопросы всплыли после того, как я понял, что избежал газовой камеры, хотя и буду должен отправиться в тюрьму. Некоторые люди думали, что такой вердикт был все же лучше, чем если бы присяжные не выработали единогласного решения или в судебном разбирательстве были бы допущены нарушения закона. К тому же штат не мог судить меня за убийство первой степени еще раз. Однако я не был согласен с подобным мнением.
Много недовольных решением присяжных было в негритянской общине. Кое-кто особенно злился на Дэвида Харпера, старшину присяжных. По мнению этих людей, он продался в типичной манере дяди Тома.[50] Я так не думал. В целях противодействия распространению такого мнения я послал в общину свое обращение, как только мне представилась возможность проанализировать вердикт присяжных. Ниже приводится отрывок из моего послания:
«Был поставлен вопрос о том, что я думаю о решении присяжных. На мой взгляд, в этом решении отразился существующий в Америке расизм, действие которого испытывают на себе все чернокожие. Мне бы хотелось сказать кое-что о некоторых присяжных. Во-первых, Брат Харпер и другие члены жюри, верившие в мою невиновность, имели передо мной и негритянской общиной обязательство постоянно помнить о своей убежденности в том, что я не виновен. Я уверен, что они, эти люди в жюри присяжных, согласившиеся с Братом Харпером (этим сильным человеком и старшиной присяжных), были в меньшинстве. Я полагаю, что Брат Харпер был заинтересован в том, чтобы сделать для меня самое лучшее. По-моему, решение присяжных стало компромиссом, компромиссом между убийством первой степени и оправданием или признанием меня не виновным. Почему Брат Харпер пошел на компромисс? Он сделал это, поскольку действительно считал, что так будет лучше для меня. Мистер Харпер принял такое решение, исходя из предположения, что, если присяжные не придут к единогласному решению, то меня будут судить повторно, и тогда жюри будет состоять из одних белых присяжных и, возможно, обвинит меня в убийстве первой степени. Мне кажется, он действовал или принимал решение, основываясь на том, что видел, как относилось к делу большинство присяжных и в какой расистской манере они действовали. Я считаю, что среди присяжных нашлось мало людей, присоединившихся к Брату Харперу и его справедливому выводу о том, что я был не виновен и я есть не виновен, однако он пошел на компромисс. По причине того, что Харперу не удалось убедить жюри, или он почувствовал, что не сможет убедить их либо продемонстрировать им тот истинный факт, что я не виновен, он решил, что добьется минимального для меня наказания. Возможно, он подумал о тех десяти месяцах, которые я уже провел в тюрьме, и о тех новых десяти месяцах, которые мне, может быть, пришлось бы провести за решеткой в ожидании следующего судебного разбирательства, а затем о том, что я бы столкнулся с обвинением в убийстве первой степени только потому, что в Америке существует расизм. Все это мои собственные размышления, и потом я расскажу вам, почему я думал обо всех этих вещах в дополнение к этой беседе с вами.
Как и многие другие люди, Брат Харпер считает, что обвинение в непредумышленном убийстве грозит двумя или, самое большее, тремя годами в государственном исправительном учреждении. Я уже и без того просидел в тюрьме почти целый год. Я мог бы провести за решеткой еще один год в ожидании нового суда в случае, если присяжные не пришли бы к единогласному решению. Между тем этот год будет мне засчитан за срок отбывания наказания. Поэтому раз уж Харпер не смог добиться моего оправдания, он выбрал компромиссное решение и наименьшее наказание. Единственная проблема остается в том, что при политическом деле обвиняемый получает максимальный срок. За совершение непредумышленного убийства с учетом предыдущего обвинения в уголовном преступлении дают от двух до пятнадцати лет. Но я не думаю, что Брат Харпер знал, к чему может привести его решение. Поэтому я хочу искренне попросить негритянскую общину и сына Брата Харпера простить не только его [Харпера], но и других людей, веривших в мою невиновность и согласившихся пойти на компромисс, потому что они не знали, что они делают. Мне кажется, он полагали, что делают самое лучшее для меня и самое лучшее для общины в условиях расизма, в которых им пришлось действовать…
Даже если он неосознанно действовал против этого, все равно он чувствовал, что выполнял свои обязанности в качестве человека, который любит общину. Поэтому я прошу общину, чтобы ему было оказано подобающее уважение как чернокожему, когда он в следующем семестре будет преподавать в Оклендском городском колледже. Ведь он не знал, на что он соглашался…
Я прочно уверен в том… что мы добьемся нового судебного разбирательства и не только потому, что апелляционный суд окажется настолько добрым, а по причине политического давления, которое мы оказали на правящие круги. И мы будем продолжать это делать посредством организации общины. Нужно, чтобы она могла выразить свою волю. Воля чернокожего народа должна быть выполнена, и мне бы хотелось выразить свое восхищение революционным пылом людей, который они до сих пор демонстрировали. Они были поистине прекрасны, и они сделали больше, чем я мог ожидать. Давайте превзойдем самих себя; революционер всегда стремится превзойти себя, в противном случае, он и не революционер вовсе. Поэтому мы всегда делаем то, что от себя требуем, или больше того, на что, как нам кажется, мы способны… В этот момент мне бы хотелось посоветовать моим революционно настроенным братьям и сестрам сохранять самообладание. Нам не следует устраивать сейчас бурное выступление. Правящие круги только и хотят увидеть в общине взрыв насилия, чтобы получить предлог и послать туда две или восемь тысяч солдат. Мэр уже заявил, что был бы очень счастлив, если бы в общине что-нибудь произошло, пока власть находится в благоприятном положении. Они были бы рады уничтожить общину… Именно АВАНГАРДНАЯ ПАРТИЯ должна защищать общину и учить ее самозащите. Поэтому сейчас мы должны уговорить общину сохранить самообладание, чтобы не подставить себя и не быть уничтоженной».
Я призвал свой народ сохранять самообладание, поскольку знал, что полиция только и ждет, когда ей выпадет возможность поубивать негров без разбора. Они уже давно с нетерпением ждали этого дня, и вспышка гнева в общине дала бы им необходимый предлог. Община вняла моей просьбе и сохранила хладнокровие. Любое спонтанный и неорганизованный взрыв причинил бы общине большие страдания. Когда наступившая после оглашения вердикта ночь прошла спокойно, полицейские почувствовали себя обманутыми. Они хотели действовать, другими словами, — убивать чернокожих.
Не получив предлога, которого они так ждали, двое подвыпивших коллег Фрея пошли на намеренную провокацию. На своих патрульных машинах они подъехали к офису нашей партии на Гроув-стрит и стали стрелять по окну. Потом они отъехали на угол, развернулись, опять подъехали к зданию и обстреляли его еще раз. К этому времени кто-то из жителей позвонил в главное полицейское управление. Эти полицейские были арестованы.
На наше счастье, офис был пуст (туда специально никто не пришел), и ни один человек на улице или в близлежащих зданиях не пострадал, пули никого не задели. Но если бы «Черные пантеры» оказались в офисе, полицейские, наверное, стали бы утверждать, что мы начали стрелять первыми, а они пытались с нами справиться. На этот раз, однако, они не смогли спрятать свои вероломные намерения за привычной ложью, прикрываясь «оправданным убийством». Истинная сущность их преступления — ничем не вызванное и неоправданное нападение на наш офис — была явлена общине. В конечном итоге, этих двух полицейских уволили, но их не привлекли к суду за нарушение закона.
Зато этот инцидент показал некоторым сомневавшимся, что я действительно не виновен. Как эти товарищи Фрея, совершенно не стесняясь, отправились на поиски негров с целью их убийства, так и сам Фрей сделал это ранним утром 28 октября 1967 года. Находится немало людей, которые не верят, что без всякой провокации или опасности полицейский вытащит свой служебный револьвер и начнет палить по гражданину. Но в то утро Фрей задумал убийство.
Чарльз Гэрри подытожил все это, когда говорил присяжным, что негритянской общине угрожает постоянная опасность подвергнуться жестокому обращению полицейских:
«Хотел бы я знать, сколько людей уйдет из жизни, прежде чем мы осознаем, что все люди — братья. Хотел бы я знать, сколько пройдет времени, прежде чем полицейские управления в нашем государстве, мэры наших городов, лидеры нашей страны признают, что невозможно жить в таком обществе, 66 % которого приходится на белых расистов, игнорирующих роль чернокожего человека, смуглого человека, краснокожего человека, желтокожего человека…
Офицер Фрей беспокоит меня. Его смерть тревожит меня, и причины, приведшие к его гибели, волнуют меня. Я представляю, как этот молодой человек ходил в школу, играл в футбол и баскетбол за школьную команду, и делал все, что обычно делают молодые люди в его возрасте. Он был в прекрасной физической форме. Он поступил на службу в полицию без надлежащих взглядов и без соответствующей психологической и прочей подготовки, необходимой для того, чтобы быть полицейским. Его отправили работать в гетто. Всего за год он превратился в явного и полного расиста. Дело дошло до того, что, когда он пришел в школу рассказывать о своих подвигах на полицейской службе, учительница была вынуждена подавать ему тайные знаки, сигнализирующие о том, что не следует употреблять слово «ниггер» при детях.
Я просто удивляюсь тому, как много в полиции офицеров Фреев. Его смерть тревожит меня, но Хьюи П. Ньютон не несет никакой ответственности за это».
27. Колония для уголовных преступников
Что касается меня, я работал от рассвета до заката, чтобы прокормить семью, и все это привело к моей смерти… Если взять «больших людей» — президента, губернаторов, судью, их-то дети никогда не будут страдать… По всем Соединенным Штатам тюрьмы переполнены людьми, которые пытались работать и что-нибудь иметь, но не смогли, и это придало им решимости и толкнуло на воровство. Они искали, где лежат деньги. Они оказались в тюрьме из-за той жизни, на которую обречены бедняки.
Из предсмертного заявления разнорабочего Одела Уоллера, написанного перед казнью, Вирджиния, 1940 годПосле того, как меня признали виновным и вынесли приговор, меня вновь отправили в Аламедскую окружную тюрьму до судебного слушания, на котором моя судьба должна была решиться окончательно. Либо меня освобождали под залог, пока я ждал рассмотрения моей апелляции в высших судебных инстанциях, либо отправляли в тюрьму на срок от двух до пятнадцати лет. Слушание состоялось в начале октября, под залог меня не выпустили. Сразу после слушания я попал уже под юрисдикцию Администрации исправительных учреждений штата Калифорния. Тут я понял, какую любопытную власть имел над администрацией тюрьмы. Они беспокоились о той роли, которую я мог сыграть как политический заключенный, и приказали обращаться со мной по-особому.
После слушания заключенный обычно отправляется обратно в камеру, где он расстается с гражданской одеждой и надевает на себя тюремную, а потом автобус везет его к месту заключения. Однако после слушания об освобождении под залог меня погнали в лифт прямо в гражданской одежде и потом по лестнице к машине, которая ждала в подвале. Все происходило так, словно они знали, что мне откажут в освобождении под залог. В подвале я нашел все свои вещи, они были упакованы. На руки мне надели наручники, на пояс — цепь, которую пристегнули к ножным кандалам. Предполагалось, что теперь я был безопасен, чтобы совершить поездку. Машина шерифа в сопровождении еще шести машин рванулась по тоннелю к выходу. Только сейчас помощник шерифа повернулся ко мне и сказал через решетку, куда мы направлялись. Ехали мы в Вакавильский медицинский центр, где заключенные проводили от шестидесяти до девяноста дней. Их там тестировали, распределяли по группам и в зависимости от этого — по различным тюрьмам. Поездка заняла сорок пять минут. Когда мы прибыли в Вакавиль, сотрудники центра нас уже ждали на улице. Охранники на территории центра ходили с дробовиками.
В Вакавиле я подвергся процедуре, знакомой каждому заключенному, — доскональному осмотру. Начиная с этого момента, все годы, проведенные мной в тюрьме, я не мог перейти из одного здания в другое без этой унизительной процедуры. Я снял всю одежду. Они проверили мои уши и нос, провели по волосам, заставили меня покашлять, чтобы проверить, нет ли у меня чего-нибудь во рту. Потом я раздвинул ягодицы, чтобы они проверили мой задний проход. После этого с меня сняли отпечатки пальцев, выдали тюремную одежду и присвоили мне номер, который я носил на протяжении всего пребывания в тюрьмах. Присвоение заключенному номера — это еще один способ подорвать его личность, лишить его человеческого облика. Разумеется, этот «обряд» имеет исторические корни: эсэсовцы присваивали номера заключенным в фашистских концентрационных лагерях во время Второй мировой войны.
Всю мою прежнюю одежду за исключением носков и нижнего белья отослали моей семье. Носки и нижнее белье обычно выбрасывают в тюрьме. Мне стало любопытно, и я спросил, почему так делают, особенно если учесть, что мои шорты новые и я одевал их всего-то раз. Я указал им на то, что шорты были в лучшем состоянии, чем вся моя другая одежда. Никто не мог мне толком ответить. Просто было такое правило, такая традиция, согласно которой заключенный мог послать домой всю одежду, кроме носков и нижнего белья. «Мы лишь следуем правилам». Я был не против, чтобы они выбросили мои шорты, но я негодовал, потому что мне не дали объяснения. Казалось бы, мелочь, но она иллюстрирует ментальность тюремной администрации на каждом ее уровне. Должностные лица и охранники, которым подчиняются заключенные, похожи на жестоких насильников из романа Джорджа Оруэлла «1984»: их выбирают в полицейские из-за того, что они неграмотные, обладают физической силой и выполняют приказы без вопросов, какими бы глупыми или жестокими ни были распоряжения.
Меня определили в одиночную камеру. Но прежде чем меня там заперли, я отправился на встречу с начальником тюрьмы. Это еще одна особая привилегия. Я всегда имел беседу с начальником тюрьмы, причем сразу после прибытия. Он предупредил мен насчет любых попыток подбить на что-нибудь заключенных. В этом случае, сказал он, меня отправят в одиночку. Меня прямо передернуло от такой иронии, ведь и без того меня ждала одиночная камера. Подобная тактика добавляет ощущений в условиях кошмарной нереальности тюрьмы. Затем начальник тюрьмы кинул мне приманку, пообещав, что в случае сотрудничества я буду содержаться так же, как любой другой заключенный, и меня не будут держать взаперти все время. Еще он сказал, что сначала они собираются жестко со мной обходиться, чтобы приучить остальных заключенных к моему присутствию, ну а потом, если все пойдет хорошо, они позволят мне выходить к основной массе заключенных — на «главную линию», как это называется. Я сидел молча и слушал. Я никогда не клюну на эту приманку.
В тюрьмах обожают проводить всевозможные тесты — психологические, на IQ, на определение склонностей. Пока я был в Вакавиле, со мной несколько раз беседовало два или три психиатра. Они проверяли мою склонность к нанесению побоев другому человеку и уровень моего интеллекта. Я набрал мало баллов в тесте на проверку IQ, получилось около третьего или четвертого уровня. Насчет остальных тестов не знаю. Озадаченные этим низким уровнем на фоне моих хороших оценок в колледже, психиатры попросили меня объяснить, в чем дело. Я сказал им, что отказываюсь иметь отношение ко всем этим тестам, поскольку обычно они используются как оружие против негров в частности и против различных меньшинств и бедняков вообще. Эти тесты основаны на стандартах среднего класса белых. Когда мы показываем низкие результаты при прохождении таких тестов, это усиливает предрассудок насчет того, что мы хуже и глупее. Поскольку мы приучены думать, что тесты — это нечто безошибочное, они становятся для нас настоящей бедой, которую мы сами же на себя накликали. Результаты тестов лишают нас инициативы и промывают мозги.
Я сказал психиатрам, что, если они действительно хотят узнать мой IQ, то они должны проверить все мои данные и ту работу, которую я сделал во многих сферах, включая творческую сферу — такую, как музыка. Этот подход казался мне абсолютно логичным и очевидным. Однако психиатры то ли не смогли понять меня, то ли предпочли остаться в неведении. Их подход был настолько механическим, настолько в нем не хватало глубины, что они, врачи, казались мне неразумными и непонятливыми. Они не хотели видеть, что гораздо важнее оценивать человека по его реальным достижениям, чем по результатам абстрактных тестов, которые могут или не могут находиться в связи с фактами его жизни. Из моего тюремного опыта я вывел, что психиатры входят в число самых неподатливых и упрямых сотрудников тюремной системы. Они запрограммированы, как роботы, и не могут относиться к заключенным как к обычным людям. Со всеми их тестами и вопросниками они выглядят так, словно в них уже заложена идея того, каким должен быть «скорректированный» человек. Любое отклонение от данного шаблона будет представлять для них угрозу.
Во время тестирования тюремная администрация была озадачена. Она не могла определиться, куда меня отправить дальше. Об этом очень много думали и, как впоследствии я узнал из третьих уст, они встретились с некоторыми трудностями при решении. Прежде всего, они хотели посадить меня в одиночную камеру. Однако ввиду того, что мое дело привлекло внимание общественности, они также хотели, чтобы место моего заключения предстало в выгодном свете, превратилось бы в своего рода показательное шоу для посетителей. Именно этим отличались для них тюрьмы и исправительные центры от концентрационных лагерей.
Администрация Вакавиля пошла даже на то, что предложила мне выбрать место отбывания заключения, хотя на самом деле у них не было ни малейшего намерения позволить мне сделать выбор. На первое место я поставил Сан-Квентин, дальше шли Фолсом и Соледад.[51] Из этих трех тюрем относительно легко было наладить сообщение с волей. Что касается меня, то я уверен — все тюрьмы являются концентрационным лагерями. Какой-то из них лучше другого, какой-то похуже. Мои предпочтения были основаны исключительно на возможности контакта с внешним миром. Сан-Квентин находится близко от дома, в получасе езды от Окленда и еще меньше — от Сан-Франциско. Находись я здесь, моей семье и моим адвокатам было бы сравнительно легко навещать меня. К тому же у меня были друзья в Сан-Квентине, они помогли бы мне поддерживать связь с адвокатами, родными и со средствами массовой информации. Фолсом я поставил на второе место по тем же причинам: он расположен на расстоянии примерно восьмидесяти миль от Залива, я знал там нескольких людей. Так что и этот вариант был неплох для моей семьи. Соледад находится дальше всего — это около 165 миль к югу от Окленда по сто первому шоссе. Поэтому этот вариант был наименее желательным.
Вышло так, что я не попал ни в одну из этих тюрем. Я изрядно удивился, получив после всего двадцати пяти дней пребывания в Вакавиле (я ожидал, что меня продержат там стандартные два месяца) получил уведомление, где было сказано, что в течение суток я отправляюсь в Калифорнийскую мужскую колонию, относящуюся к Восточным тюремным учреждениям, в Сан-Луисе Обиспо. На этот раз я ехал в автобусе вместе с другими заключенными. Не то чтобы тюремные чиновники перестали обращаться со мной по-особому. Для каждого рейса тюремного автобуса готовится список заключенных, которые будут перевозиться, с пунктом их назначения. В список для нашего автобуса были внесены имена всех заключенных, кроме моего. Автобус пришел из Фолсома, забрал нас и поехал в Сан-Квентин, а потом в еще одну тюрьму в Сан-Хосе. Оттуда мы отправились в Соледад, где я провел ночь в одиночной камере. Брат Джордж Джексон был совсем близко, но я не повидался с ним. Дружественно настроенные попутчики в автобусе ввели меня в курс дела и рассказали, что такое колония для уголовных преступников, так что я был отчасти подготовлен, когда мы туда прибыли.
Хотя власти называют Сан-Луис Обиспо мужской колонией, заключенные знают это место под названием Калифорнийская колония для уголовных преступников. В этом названии отражается суть данного места — то, что оно является тюрьмой, и то, что это колония. Штат верит в силу эвфемизма, считает, что присвоение концентрационному лагерю более приятного названия изменит его объективные характеристики. Тюрьмы называют «исправительными учреждениями» или «мужскими колониями» и т. п. У тех, кто придумывает названия, заключенные становятся «клиентами», будто штат Калифорния является крупнейшим рекламным агентством. Но мы, заключенные, знаем всю правду. Мы называем эти места тюрьмами, а самих себя — осужденными и заключенными. Это не означает, что мы считаем плохими все другие названия, просто мы не хотим быть обманутыми двуличностью штата.
Калифорнийская колония для уголовных преступников находится примерно посередине между Оклендом и Лос-Анджелесом, на расстоянии 250 миль от каждого города. Поездка туда как из Окленда, так и из Лос-Анджелеса будет довольно серьезным делом. Кроме того, что это удаленное место, оно еще отличается от остальных тюрем Калифорнии. Меньше десяти процентов здешних заключенных приходится на негров и чикано, хотя две эти категории составляют половину всех заключенных Калифорнии. Поскольку здесь не случалось бунтов, колония приобрела репутацию образцово-показательной. Властям нравится заявлять, что заключенные в их тюрьмах счастливы. И только оказавшись внутри этой колонии, сразу начинаешь понимать, почему у нее такая спокойная репутация. Колония разделена на четыре изолированных квадрата, в каждом из которых содержится около шестисот заключенных. Планировка и организация колонии делают почти невозможной встречу заключенного из одной секции с заключенными из остальных трех. Кроме того, и это очень важно, 80 % местных заключенных — гомосексуалисты, а гомосексуалисты, как правило, покорны, их легко подчинить. Они склонны в точности исполнять тюремные правила.
Когда меня привезли в колонию, я не знал там ни одного человека. В конченом итоге, я встретил других заключенных и попытался достучаться до них. Но понял, что очень трудно говорить с людьми на политические темы, если они живут от свидания до свидания. Для них секс был всем.
Этих людей эксплуатировали и контролировали охранники и система. Их сексуальность была искажена и превращена в псевдосексуальность, которую использовали для контроля над ними и для того, что подорвать их нормальное желание обладать чувством собственного желания и быть свободным. В данном случае их подталкивала система, и заключенных заставили пристраститься к сексу. Любовь, ранимость, нежность были искажены до неузнаваемости и обернулись властью, конкуренцией и контролем.
Гомосексуальной любви в колонии можно было предаваться запросто. У каждого заключенного, кроме меня, был ключ, так что в течение дня он мог выходить из своей камеры. Свидание могло произойти во время обеда или в душе. Кто-нибудь «стоял на стреме» и предупреждал о появлении охранников. Впрочем, в этом не было особой необходимости. Порой охранники с удовольствием стояли и смотрели, пока все было спокойно. Лишь политическое выступление в тюрьме вызывало немедленные репрессивные действия. Охранникам обычно было достаточно пригрозить «политическому заводиле», что его посадят в автобус и увезут далеко-далеко от его любовника. Подобные угрозы всегда срабатывали. Кроме того, многие из охранников сами были гомосексуалистами. Часто, пока я мылся в душе, в дверном проеме появлялся охранник. Он что-то болтал, при этом его взгляд упирался не в мое лицо, а на мой пенис. «Эй, Ньютон, как поживаешь, Ньютон? — спрашивал он меня. — Не хочешь поразвлечься, Ньютон?» Я смеялся над ними.
Засилье гомосексуализма в тюрьме немного снизилось, когда разрешили посещение жен заключенных. Либералам кажется, что это огромный шаг вперед, но они ошибаются. И здесь царят принуждение и контроль, их действие даже сильнее, потому что охранники могут запретить свидание мужчины с его женщиной точно так же, как они запрещали видеться мужчинам-любовникам. А заключенному нелегко найти другую женщину. Это тюрьма. Каждое желание здесь используется против тебя.
В колонии повторилось то же самое, что в Вакавиле. В первую очередь меня отвели к начальнику. Он сказал мне, что они оставят меня на главной линии, если я буду соблюдать все правила и не буду пытаться подбивать заключенных на какие-нибудь запрещенные действия. Он также сказал мне не жаловаться. Если я хотел жаловаться, мне следовало дождаться того момента, когда я выйду из тюрьмы. И опять я ничего не ответил. Я думал о том, что мне придется провести в этих стенах пятнадцать лет. Этого времени должно было хватить на достижение цели.
После беседы с начальником тюрьмы меня отправили к советнику. По его словам выходило, что мне назначили «воспитательную программу», чтобы подготовить меня к возвращению в общество. Лично я не чувствовал необходимости перевоспитываться. Все мое преступление состояло в том, что я говорил в защиту людей. Но советник пустился в подробности. Он объяснил, что на первом этапе программы я буду должен работать в столовой, причем бесплатно. В конечном итоге, я смогу попробовать себя и в другом качестве, т. е. поработать в различных местах, где зарплата была от трех центов в час минимум и до десяти центов в час максимум.
Меня абсолютно не устраивала подобная эксплуатация, и я не собирался гробиться сначала вообще бесплатно, а потом за такие смешные деньги, которые зарплатой и назвать было нельзя. Я выдвинул контрпредложение. Я буду охотно работать, но за справедливую компенсацию — за плату по профсоюзным тарифам. Если они будут платить мне и всем остальным заключенным установленную профсоюзом заработную плату, то я буду с огромным удовольствием работать там, где они мне скажут. Кроме того, я буду оплачивать мое содержание и перестану быть обузой родному штату, хотя он засадил меня в тюрьму совершенно незаконно. Как и следовало ожидать, персонал тюрьмы отказался рассмотреть мое предложение.
Тогда я предложил им еще один вариант — что в рамках воспитательной программы я буду посещать тюремную школу. Хотя уровень моего образования далеко обгонял тот, что могли предложить мне здесь, я знал, что образовательная программа позволить мне получить свободный доступ к местной библиотеке, где я мог бы продолжить пополнять свои знания. Они отказались разрешить мне и это на том основании, что образовательные программы — это привилегия, которую я должен заслужить, сначала поработав как следует в течение неопределенного времени. Другими словами, сначала кнут — потеря человеческого облика, чего они добивались, а потом — пряник, иначе говоря, соблюдение моих интересов. Я опять отказался. Их требования были насквозь пропитаны ложью. Мне было известно, что другим заключенным разрешали сразу начать с образовательных программ. Я также знал, что мне этого не разрешат, потому что они хотели сломать меня. Но я не собирался сдаваться.
В итоге они посадили меня под замок. Это означало, что я сидел в своей камере почти целый день и у меня не было привилегий в столовой. Камеры в Калифорнийской колонии для уголовных преступников запираются на три замка каждая. Один из замков находится под центральным контролем и приводится в действие лишь на ночь. Этот замок закрывается одновременно на всех камерах. При этом раздается характерный громкий звук, который можно услышать в любом уголке тюрьмы. Мы называем это «опустить решетку». Второй замок можно открыть только ключом, который находится у охранника, а ключ от третьего замка достается заключенному. Каждое утро, после «поднятия решетки» (когда во всех камерах открывается первый замок), приходит охранник и открывает камеры. На протяжении целого дня заключенный может свободно выходить из камеры, пользуясь собственным ключом. Поскольку я сидел взаперти, по утрам охранник проходил мимо моей камеры. Мне разрешалось покидать камеру только для похода в столовую, на свидания или по официальному делу, например, когда меня вызывали на дисциплинарную комиссию. Получалось, что я покидал камеру на завтрак с семи до восьми утра, на обед с двенадцати до часу дня и на ужин с пяти до полседьмого вечера. В это время я должен был еще сменить одежду, принять душ и проделать прочие необходимые вещи.
Когда человек сидит под замком, ему отказывают во всех привилегиях. Я не мог ничего купить в столовой, у меня не было сигарет, мыла, дезодоранта, зубной пасты и жидкости для полоскания рта. Мне выдали лишь казенную зубную щетку и зубной порошок. Каждую неделю я получал шесть листов бумаги. На них я мог писать письма любым десяти лицам, внесенным в мой лист посещения. Я получал сан-францисскую газету «Кроникл», причем всегда с опозданием на день, однако и в этом мне время от времени отказывали. Сначала мне не разрешили иметь в камере никакие другие печатные материалы или писать что-нибудь еще, кроме ограниченного количества писем. Но, в конце концов, мои адвокаты добились в суде разрешения, чтобы мне выдали пишущую машинку, а также книги и документы по моему делу. Я продолжал упражняться, устанавливая контроль над собственными мыслями, в чем я довольно преуспел к тому времени.
Содержание меня под замком было способом «наказать» меня за отказ согласиться на рабство. В мастерских колонии делают обувь и автомобильные номерные знаки, а также стирают белье для других учреждений. За эту работу колонии неплохо платят. Если учесть, что заключенные почти ничего не получают, то такая система оказывается немногим лучше рабства. Тюрьма — одна из самых возмутительных форм эксплуатации, которые только существуют, хотя тюремные власти смотрят на эту систему, конечно, по-иному. Лично я рассматривал свое положение не как наказание, а как освобождение от рабской доли. Раз в месяц меня вызывали в дисциплинарный комитет. Меня спрашивали, готов ли я сотрудничать с ними и получить ключ от третьего замка. И каждый раз я отказывался.
Охранники считали, что я обречен на поражение, что я долго не выдержу в таком режиме. В конце концов, ты сломаешься, говорили они мне. Зачем же сидеть в одиночке? Больше того, если я сопротивлялся тюремным порядкам, я гарантированно оставался здесь на все пятнадцать лет.
Сидеть взаперти было терпимо, даже больше, чем терпимо. Мой мозг активно работал. Мне было над чем подумать, и я заполнял дни тем, что размышлял над идеями, о которых впервые задумался еще в Оклендском колледже. Кроме того, моя семья могла часто навещать меня, несмотря на долгую поездку. Согласно правилам, посетители допускались в тюрьму каждый день, за исключением вторника и среды — это были не приемные дни. Если мои адвокаты хотели повидаться со мной, они специально выбирали не приемный день, так что мои родные могли приезжать ко мне в любой приемный день. Благодаря родным, адвокатам и друзьям у меня было довольно много посетителей. С ними я мог видеться с девяти утра до четырех часов дня.
Семья поддерживала меня. Мне очень было нужно их душевное тепло и новости, которые они привозили из внешнего мира. Кроме как в столовой, мне было запрещено разговаривать с другими заключенными, так что газета «Кроникл» служила для меня единственным источником информации. Перевоспитание не способствует укреплению психического здоровья — наоборот. Ты общаешься лишь с тюремным персоналом, а он не заслуживает того, чтобы с ним общаться. Слушать, как они рассказывают о своей философии, или принять их взгляд на вещи — значит дать возможность разрушить себя.
Одну новость я был вынужден собирать по крупицам, и она оказалась печальной. В начале 1969 года, в январе, когда я находился в тюрьме уже около четырех месяцев, были убиты два достойнейших наших товарища из Лос-Анджелеса — Джон Хаггинс и Олпрентис Картер по прозвищу Горбатый. Они были убиты в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе членами организации Рона Каренги под названием «Соединенные Штаты». Я познакомился с Каренгой, когда еще учился в колледже и состоял в Ассоциации афро-американцев. Потом он переехал в Лос-Анджелес, чтобы создать там культурно-националистическую группировку. Какое-то время деятельность этой группировки была весьма успешной, во многом потому, что Управление полиции Лос-Анджелеса поддержало немало рискованных мероприятий группировки Каренги. Мэр Йорти даже использовал эту группировку как пример прогрессивного развития. На самом деле «Соединенные Штаты» были средством держать негритянскую общину под контролем. Здесь предлагались курсы суахили и что-то вроде религиозной философии. Рекламируя себя как программу по освобождению негров, группировка Каренги в действительности эксплуатировала их.
«Черные пантеры» представляли собой нешуточную угрозу для игры, которую вел Каренга. Он боялся нашей партии, потому что мы были не сектантами, но вышедшими из народа организаторами. Мы начали привлекать в свои ряды людей, которых он хотел заполучить себе. Однако Каренга получил поддержку властей Лос-Анджелеса за то, что сам их поддерживал. Дошло до того, что на выборах нового мэра он помогал тогдашнему мэру Сэмюелю Йорти бороться с чернокожим соперником Уильямом Брэдли.
Серьезные проблемы с Каренгой у нас начались в феврале 1968 года, когда я сидел в Аламедской окружной тюрьме в ожидании суда, а наша партия организовала митинги в Окленде и Лос-Анджелесе для сбора средств на мою защиту. Чтоб объединить как можно больше различных групп и создать прочный единый фронт, в Лос-Анджелесе мы провели митинг через Негритянский конгресс, объединение всех негритянских организаций на определенной территории. Группировка Каренги входила в Негритянский конгресс.
Митинг в Окленде состоялся 17 февраля, в день моего рождения. В нем приняли участие Стокли Кармайкл, Эйч Рэп Браун, чиновник из мэрии Рон Делламс, Чарльз Гэрри, Бобби Сил, Элдридж Кливер и другие. Митинг удался. Митинг в Лос-Анджелесе был назначен на следующий день. Он должен был пройти на спортивной арене. В нем должны были принять многие из тех, что участвовали в оклендском митинге, а также лидеры нескольких организаций из Негритянского конгресса. Когда незадолго до начала митинга прибыла группа «Черных пантер», то они увидели, что делом заправляет Каренга. Это было заметно особенно потому, что охрану митинга обеспечивало Полицейское управление Лос-Анджелеса. Копы были повсюду, как внутри помещения, так и снаружи. Центральный комитет сразу же вызвал Каренгу и сказал ему, что «Черные пантеры» ни за что не войдут в аудиторию, пока полиция не уйдет. На митинг съехалось много чернокожих со всего Залива. Если что-нибудь пошло бы не так и если им стало бы известно об отказе «Черных пантер» присутствовать на мероприятии, Каренга потерял бы доверие. Поэтому он убедил полицейских покинуть здание, и митинг прошел успешно.
Мы согласились с тем, что часть собранных средств пойдет членам Негритянского конгресса для покрытия их нужд, остальное предназначалось для моей защиты. Однако по завершении митинга, несмотря на призывы к Каренге обсудить распределение денег, «Черные пантеры» не получили ничего в фонд моей защиты, хотя в первую очередь именно по этой причине собирались люди. Конгрессу тоже навешали лапши на уши.
Меньше чем через год на собрании Союза чернокожих студентов Калифорнийского университета были убиты Горбатый и Джон. На собрании должно было обсуждаться назначение директора по исследованиям истории негров в Калифорнийском университете. Каренга собирался играть первую скрипку на собрании, а «Черные пантеры», среди которых были Горбатый и Джон, пришли сюда, чтобы составить Каренге оппозицию. Группа последователей Каренги тоже была здесь. Когда «Черные пантеры» обедали в студенческом кафетерии, люди Каренги подкрались к ним и убили Горбатого и Джона.
Когда весть об убийстве достигла меня, я осознал, что все «Черные пантеры» были словно отмечены. Уничтожение «Черных пантер» началось с убийства Малыша Бобби Хаттона. Его убили полицейские Окленда. После убийства Фрэда Хэмптона и Марка Кларка чикагской полицией, многие люди по всей стране начали подозревать, что полиция Соединенных Штатов в заговоре против нас, каждая новая атака на братьев подтверждала это подозрение. При мысли о том, какая развернута против нас кампания, я упал духом. Очень трудно пережить потерю ценных товарищей и близких друзей, даже если мы считаем смерть ценой, которую мы должны платить за революционную борьбу. К этому невозможно привыкнуть.
Кое-кто из партии прислал мне послания, спрашивая разрешения достать Каренгу, однако я отказался дать свое благословение. Открытая война между нами лишь повредит общине. Ее нужды стоят выше нашего желания отомстить. Я знал, что община сама разберется с Каренгой. Так и случилось: община устроила Каренге суд в Лос-Анджелесе. Он был признан виновным в обмане людей. Каренга был вынужден покинуть Лос-Анджелес и перенести свою деятельность в Сан-Диего. В настоящее время его группировка сошла со сцены. Двое его последователей были приговорены к пожизненному заключению за убийство Горбатого и Джона.
Вскоре после этого печального события ко мне приехал некто Роберт Холл из Лос-Анджелеса. Понятия не имею, как ему разрешили увидеться со мной; лишь десять человек имели на это право, и Холл не входил в их число. Он также не был моим адвокатом. Наконец, он прибыл в не приемный день. После того, как в мою камеру пришел охранник и сказал, что меня ожидает посетитель, всю дорогу я пытался выяснить, что это за посетитель такой, которому разрешили со мной свидание в не приемный день. Я не ждал никого из своих адвокатов. Когда я зашел в комнату для свиданий, то был удивлен, увидев совершенно незнакомого человека. Он сказал мне, что пришел узнать, может ли он что-нибудь сделать, чтобы прекратить трения между Каренгой и «Черными пантерами». По словам незнакомца, он хотел быть посланцем мира. Но я ему не поверил, потому что он должен был получить официальное разрешение на посещение. Я сказал ему, что, если Каренга хочет перемирия, то для начала он должен перестать убивать «Черных пантер», мы-то никогда не трогали его парней. Это было короткое свидание, потому что мне больше нечего было добавить. После этого я никогда больше не встречал Холла.
Через шесть месяцев моего пребывания взаперти охранники стали искать признаки того, что я сломался и готов подчиниться. Даже заключались пари на то, когда это случится. Я игнорировал все эти прощупывания, что озадачивало охранников еще больше. Как-то раз один из них подошел ко мне и сказал: «Большинство парней сходят с ума после нескольких недель в одиночке, а ты здесь уже шесть месяцев. В чем дело? Тебя что, это совсем не напрягает?» Другие стали проявлять интерес к моему психическому и физическому здоровью. Когда это началось, я понял, что одолел их так же, как я справился с «душегубкой».
Чтобы выразить свое презрение к их системе, я написал статью под названием «Где твоя победа, тюрьма?» Я тайно передал эту статью через своих посетителей, и она была напечатана в нашей газете «Черная пантера». В то время мне еще было не разрешено иметь канцелярские принадлежности, но я все-таки ухитрился написать это эссе и увидел, что оно дошло до партии. В статье я насмехался над охранниками, полагавшими, что, если человеческое тело оказалось в тюрьме, значит, они одержали победу над теми идеями, которые вдохновляли человека на совершенные им действия. Я поставил себе цель выразить презрение своим захватчикам, а также подбодрить своих отважных товарищей, продолжавших борьбу. Я был очень доволен тем, что статья была опубликована и охранники ее прочли.
Теперь тюремная администрация сменила тактику. Убедившись, наконец, что я не собирался склоняться перед ними, они стали говорить другим заключенным, что единственной причиной моей упрямой настойчивости была ошибочная вера в пересмотр приговора в высших судебных инстанциях. Иначе говоря, лишь надежда поддерживала меня. Без этой живительной надежды я бы непременно упал духом и признал поражение. Но в суды высшей инстанции лично я верил не больше, чем в суды низшей инстанции. Я готовился пробыть в тюремной изоляции полный срок — все пятнадцать лет. Именно это все время ускользало от их понимания.
Далеко не многие люди в Америке имеют полное представление об условиях тюремного заключения и обращении с заключенными. И понятно почему: полностью контролирующие ситуацию власти следят за тем, чтобы правда не выплыла наружу. Заключенные не могут общаться с внешним миром свободно и без надзора. Поэтому все, что большинство людей знают о тюрьмах, — это то, что власти хотят, чтобы они услышали. Миллионы людей были удивлены и шокированы убийством Товарища Джорджа Джексона и резней в Аттике, потому что они не понимали, какой угнетающий режим действует даже в лучших тюрьмах.
Я часто размышлял над сходством между тюрьмой и рабством, в котором пребывал чернокожий народ. Обе системы подразумевают эксплуатацию: раб не получал компенсации за произведенный им продукт, заключенный, как полагается, производит рыночную продукцию или за гроши, или вообще даром. Состояние рабства и тюремную жизнь роднит отсутствие свободы перемещения. Власть стоящих как над рабом, так и над заключенным абсолютна, и они ожидают уважения от тех, кто находится под их господством. Как во времена рабства, постоянное наблюдение и контроль являются частью тюремных порядков, и если заключенным удастся завязать важные и революционные отношения, эта связь тут же разрывается переброской в другие тюрьмы, точно так же, как рабовладелец разделял семьи рабов. Я сам видел, как несколько заключенных, отказавшихся выполнять приказание в столовой держаться от меня подальше, были отправлены в другие места для «удобства учреждения». Обычно признается, что система рабства способствует деградации и хозяина, и раба. Это утверждение применимо и по отношению к тюрьме. Царящая в тюрьме атмосфера страха оказывает деформирующее воздействие на жизнь каждого, кто здесь находится, — от членов тюремной комиссии и суперинтендантов до заключенных в одиночных камерах. Особенно это негативное влияние сказывается на «сотрудниках исправительных учреждений», как эвфемистически называют охранников.
Тюремные охранники — это жалкий народ. Я не так много с ними контактировал, потому что очень долго сидел под замком. Однако они изводили меня при каждой возможности. Когда я уходил на свидания с моими посетителями, охранники обыскивали мою камеру, иногда что-то совершенно бессмысленно рвали, бросали мою мочалку на пол, зубную щетку засовывали в туалет, в общем, создавали полнейший беспорядок. Если они находили какие-то предметы, купленные в столовой, например, дезодорант или масло для волос, они писали докладную, в которой указывали, что я держу в камере «контрабанду», нарушая тем самым тюремные правила. Они получали колоссальное удовольствие от этих мелких притеснений. Через какое-то время я посмотрел на это с другой стороны и стал считать эти «проделки» детским поведением ничтожных людей.
Как-то раз на меня «нажаловались», и я попал в карцер. Я отправился туда без сопротивления. Я и без того находился в изоляции, так что пребывание в карцере только и означало, что есть мне придется теперь в камере, а не в столовой. Это было самое легкое одиночное заключение из всех, что я пережил, потому что здесь мне разрешили читать. В большинстве своем книги были старые и детские — «Рин-Тин-Тин», «Приключения Хопалонга Кассиди» и тому подобные. Но еще у меня была Библия, которую я люблю читать. Тогда я вновь перечитал ее, уже в третий раз. В отличие от «душегубки» в моем карцере была койка, туалет, раковина, стул и оловянный столик.
Охранники не прекращали свои попытки довести меня до бешенства и держать в таком состоянии постоянно. Но я понимал, что у этих попыток есть предел и старался избегать оскорблений — либо я отказывался общаться с ними, либо не делал того, что они хотели.
Очевидно, что охранники тоже являются жертвами. Однако ограниченная и очень грубая власть, которую им дали, разлагает их и доводит до звероподобного состояния. Некоторые из них смутно сознают, что они разрушили свою жизнь, и пытаются достичь компенсации жалким способом. Например, когда весной 1970 года в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре разразились студенческие беспорядки, колония, в которой я сидел, отправила несколько человек из «банды полицейских хулиганов» на помощь — чтобы подавить выступление. Охранники вернулись с потрясающими баснями о том, как они заталкивали в тюрьму профессоров и умненьких богатых ребятишек. Это позволило им ощутить собственную значимость, почувствовать себя выше, чем в реальной жизни. Когда они не говорили о революционерах, словно те были собаками, они хвастливо вспоминали, в каких отличных мотелях они останавливались, когда поехали бить университетскую общественность. Еще их занимала потрясающая еда, которую им подавали в ресторане «Самбо». В жизни, настолько пустой и лишенной смысла, такие события становятся самыми яркими и запоминающимися.
Одно из зол, в которых были повинны охранники, стало насаждение расовой вражды. С помощью нее они пытались разделить нас, заключенных. Многие из белых заключенных не были откровенными расистами до попадания в тюрьму, однако довольно быстро сотрудники тюрьмы делали из них завзятых расистов. Если охранники не хотели, чтобы расовая ненависть вылилась в настоящее насилие, все же они подогревали эту враждебность до той степени, чтобы предотвратить любой союз между заключенными. Этот маневр похож на стратегию политических деятелей из южных штатов, стравливающих белых бедняков с чернокожими бедняками. К несчастью, охранники загоняют в эту ловушку многих негров. Охваченные единственным желанием — выжить, чернокожие заключенные начинают ненавидеть белых заключенных, или «фашистов», как они сами себя называют. В этой ситуации охранники выступают в роли угнетателей, а «фашисты» становятся орудием угнетения. Охранники не только обманывают и используют белых заключенных. Хуже всего, что последние начинают любить своих угнетателей. Они окончательно теряют свой человеческий облик и потому восторгаются теми, кто лишил их человеческих качеств, и идентифицируют себя с ними. Такая психологическая аберрация была настолько частым явлением в нацистских концентрационных лагерях, что вот уже тридцать лет поиск разумных объяснений этого факта является важнейшей проблемой. Согласно одной из теорий, пленники были доведены до такой инфантильной зависимости от своих надсмотрщиков, что между ними возникали совершенно гротескные отношения дети-родители. Заключенные верили, что отождествление себя с угнетателями было их единственной надеждой на спасение. Подобная ситуация в тюрьме и трагична, и взрывоопасна.
Однако расовая враждебность — это лишь одна из причин возмущения и бунтов заключенных. Сейчас большинство попавших в тюрьму негров осознает, что оказалось за решеткой по политическим мотивам, нежели чем за криминал. Они научились воспринимать себя как политических заключенных в классическом — колониальном — смысле: их судили присяжные не равного с ними социального статуса, их судили не представители разных слоев общины, а присяжные, абсолютно не знакомые ни с одной стороной их жизни. Многие действия, которые правящий класс считает криминальными, для бедных, подвергающихся эксплуатации, отчаявшихся людей, не имеющих доступа к различным возможностям, — это нечто иное. Присяжные, которые решают судьбу таких людей, выбираются из привилегированных граждан, из представителей среднего и высшего классов. Они чувствуют угрозу в том, что находящийся вне привилегированной структуры человек может создавать свои собственные возможности. Такое жюри присяжных заведомо некомпетентно и не может судить обвиняемого. Такие присяжные не понимают обстоятельств, толкнувших подсудимого на те действия, которые он совершил. Присяжные в Америке — это люди другого по сравнению с обвиняемым статуса, они часть системы угнетения. В результате бедняки оказываются в тюрьмах в качестве политических заключенных. У них полно причин чувствовать горечь, особенно если учесть, как бросается в глаза снисходительность, с которой относятся такие присяжные к обвиняемым из своего класса, если те вообще доходят до суда.
У заключенных протекает некий процесс самообразования, процесс, выходящий далеко за пределы, в которых желали бы его остановить власти. «Перевоспитавшийся» заключенный может увидеть «неправильную» сущность его прошлых действий. Он может даже счесть, что совершенное им нападение или ограбление, все равно что, было «ошибкой». Однако он начинает видеть эту «ошибку» в определенном свете. Многие заключенные достигают этой точки, преодолевают ее и идут к более глубокой и широкой оценке. Они начинают оценивать общества и приходят к пониманию того, что их «преступления» отчасти были результатом этого капиталистического и эксплуататорского общества. Зачастую они становятся социалистами и признают, что капитализм породил смертоносных близнецов — империализм и расизм. Эти просвещенные и политически сознательные заключенные приходят к таким убеждениям, которые власти считают недопустимыми и угрожающими. И хотя эти заключенные, возможно, и не намерены вновь совершать преступления, их все равно держат в тюрьме подольше — скорее, именно из-за их новых взглядов, чем из того опасения, что они вернутся к прежним своим делам. Когда их вызывают на комиссию по условно-досрочному освобождению, их спрашивают не о прошлом, а о том, что они думают о современных общественных проблемах. Если они честны и говорят правду, им отказывают в освобождении. Их посадили в тюрьму за то, что они сделали, но их держат в тюрьме за то, во что они верят. Это — политические заключенные. Одни из самых известных — Джордж Джексон и Букер Т. Льюис, а есть еще тысячи менее заметных.
Другой тип политического заключенного — это человек, не совершавший преступления, но чьи политические взгляды и убеждения угрожали привилегированному положению правящего класса в Соединенных Штатах. Среди таких заключенных немало доблестных бойцов из партии «Черная пантера», которые хотят добиться справедливости для всех людей и положить конец угнетению люмпен-пролетариата. Их приговаривают к длительному заключению по неубедительным обвинениям. Подобная несправедливость — это очевидная и намеренная попытка задушить борьбу за свободу, которую ведут миролюбивые люди.
Я относился к этой категории политических заключенных. Однако это не лишило меня мужества за двадцать два месяца пребывания в колонии. Я знал, что и в тюрьме, и за ее пределами политическое самосознание народа растет. Я мог это видеть во время разговоров с другими заключенными в столовой, мы втягивались в серьезный мужской разговор, обсуждая сложившуюся в нашей стране ситуацию. Рост политического самосознания был также заметен и во внешнем мире, стоило обратить внимание на движение среди студентов, людей, получающих социальное пособие, сотрудников больничных учреждений, общественных работников, если приводить примеры. Вера в эти подвижки сознания давало мне силы выдержать угнетение. Они могли запереть в камере мое тело, но не мой дух. Мой дух был с народом. В тюрьмах продолжали расти революционные настроения. Я с нетерпением ждал того времени, когда все заключенные вырастут до оказания более сильного сопротивления тюремной системе и откажутся работать, как сделал я. Такой простой шаг затормозил бы всю систему.
Хотя охранники, в конечном итоге, все-таки поняли, что я никогда не сломаюсь под напором их притеснений, остальные сотрудники тюрьмы так и не смогли согласиться с фактом моего сопротивления. Они продолжали искать мои слабые места. Весной 1970 года, перед моим первым слушанием по вопросу условно-досрочного освобождения меня вызывали к тюремному психиатру на обследование. Войдя в кабинет, я тут же прояснил свою позицию. Я сказал врачу, что не верю и не доверяю психиатрическим тестам, потому что они разработаны без учета особенностей жизни бедных и угнетенных людей. Я сказал, что охотно поговорю с ним, но без прохождения каких-либо тестов. Мы стали разговаривать, но психиатр начал играть со мной в игры. К примеру, где-то в середине нашей беседы он пытался незаметно задавать мне всякие психологические вопросы типа «Как вы думаете, люди вас преследуют?» Каждый раз, когда психиатр это проделывал, я говорил ему, что не собираюсь проходить никакое тестирование, а если он настаивает, я покину его кабинет. Психиатр настаивал на том, что у меня предубеждение против тестирования. И он был прав. Отвечая на это, я рассказал ему о недостатках психологических теорий Фрейда, Юнга, Скиннера и прочих системах, недостатках, которые делали невозможным использование этих систем по отношению к неграм. Тогда врач спросил меня о психологической системе, которой я мог доверять. Я назвал ему теории Франца Фэнона. Он никогда не слышал о Фэноне. Так что я сказал врачу названия нескольких книг Фэнона и ушел.
Их психологическая война со мной ни к чему не привела. Мой советник по фамилии Топпер провел со мной предварительную перед слушанием беседу, пытаясь уговорить меня выйти из-под замка. Я отказался. Раньше Топпер говорил мне, что он очень доволен тем, что я сижу взаперти, и он хотел бы, чтобы я и оставался в таком положении. А теперь он изменил свою тактику и ясно дал понять, что, если я соглашусь, то почти наверняка получу условно-досрочное освобождение. Я знал, что он лжет. Возможно, Топпер рассчитывал на то, что если я соглашусь, а потом меня не освободят досрочно, я потеряю свой статус в глазах заключенных. Этот момент был очень важен, потому что мог подорвать мои позиции. С другой стороны, у них мог быть еще один план. Мне могли назвать дату досрочного освобождения, если я не соглашался на свободный выход из камеры. Потом они могли сказать, что, хотя дата освобождения назначена, они не могут ее соблюсти, поскольку я отказался сотрудничать с ними. В этом случае общественность могла подумать, что я мешаю своему же освобождению. Они пытались украсть мое единственное оружие, которое я имел против них, — чувство собственного достоинства.
Из других источников мне стало известно, что Маккарти, заместитель суперинтенданта, сказал людям, что, по его мнению, мое требование получать минимальную зарплату в тюрьме было разумным. И все-таки ни он, ни Топпер не набрались смелости выразить свои чувства публично. Подобно многим и многим другим должностным лицам, они шли вместе с системой. Нужно быть очень отважным человеком, чтобы защищать права заключенного, а они были людьми, лишенными воображения, натурами посредственными и боязливыми. Нет ничего странного в том, что они выбрали работу в тюрьме. Они смешали право, которым они обладают там, с серой тупостью и безликостью тюремной службы.
В конце концов, я предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению, произошло это в апреле 1970 года. И хотя я ничего от этой комиссии не ждал, все-таки я с нетерпением хотел туда попасть, потому что для меня это была возможность подискутировать и выразить свое презрение к их системе. Итак, семь или восемь членов комиссии сели вместе со мной за круглый стол и начали обычный разговор, попивая кофе. Одна из первых вещей, о которой они меня спросили, — были ли в моем личном деле рапорты о нарушениях, где говорилось о наличии контрабанды в моей камере. Я поинтересовался, знают ли они, что за контрабанда имелась в виду. Оказалось, они смотрели мое дело недостаточно внимательно и потому не знали. Когда они удосужились подробнее ознакомиться с этими рапортами, то очень удивились, что так называемая контрабанда — это мыло, дезодорант и туалетные принадлежности, купленные в тюремной столовой. Они перешли ко мне от других заключенных. Я сказал комиссии, что отказываюсь обходиться без каких-то основных вещей и что я буду продолжать приобретать их. Они приказали охранникам позволить мне иметь в камере туалетные принадлежности. Это была маленькая, но очень приятная победа.
Затем мы перешли к обсуждению более сложных вещей — причин моего отказа работать и т. д. Я был готов к этим вопросам. Но когда я им все объяснил, они ответили, что я оказался слишком привередливым по отношению к правилам, которым я должен подчиняться. По их мнению, это был настоящий каприз. В ответ я выразил свое полное недоверие ко всей системе карательно-исправительных учреждений вообще и к комиссии по условно-досрочному освобождению в частности. Я дал им понять, что не жду условного освобождения ни сейчас, ни в какое-либо другое время. Также я сказал, что готов соблюдать правила, с которыми я не согласен, но я никогда не буду соблюдать правила, которые отрицают чувство собственного достоинства, присущее мне как человеку. Кроме того, я стал убеждать их не повиноваться правилам, нарушающим их цельность и достоинство. Один из членов комиссии, негр, кстати, был так шокирован моими словами, что даже усомнился в моем здравомыслии. Это яркий пример умонастроений, с которыми чиновники контролируют тюрьмы на всей земле. Это настолько узкий подход, что он рассматривает проявление человеческого достоинства и силы характера как ненормальное явление.
После этого слушания я решил больше никогда не ходить на комиссии по условно-досрочному освобождению, хотя мои адвокаты и не советовали мне принимать такое решение.
Очевидно, что тюрьмы нуждаются в изменениях, однако этих изменений нельзя достичь, реформируя одни лишь тюрьмы или проводя реформы бессистемно. Тюрьмы являются неотъемлемой частью целого комплекса, который можно назвать американской институциональной сверхструктурой, охватывающей весь мир. Я сказал «весь мир», потому что Соединенные Штаты — это империя, а не нация. Обращение с заключенными и меньшинствами внутри страны имеет определенное отношение к тому, как властная структура Америки обращается с людьми во всем мире. Мир должен стать таким местом, где бедные и угнетенные могут жить в мире и с достоинством. Если после этой трансформации нам все еще будут нужны тюрьмы, то они должны быть настоящими исправительными центрами, а не напоминать концентрационные лагеря. В новом обществе эти центры не будут называться тюрьмами или колониями, они не будут представлять собой неприступные древние крепости из камня. Они превратятся в важный элемент жизни общины. Здесь людям, которым не очень хорошо, или несчастным людям помогут почувствовать, что они часть человечества. Большинство людей, попавших в тюрьму, с самого рождения заставили чувствовать себя ненужными, лишними. Джеймс Болдуин как-то отметил, что Соединенные Штаты не знают, что теперь делать с чернокожим населением, когда «оно перестало быть источником богатства, его нельзя покупать, продавать и разводить, как скот». Особенно наша страна не знает, что делать с молодыми чернокожими. «Это вовсе не случайно, — пишет Болдуин, — что тюрьмы, армия, наркотики отнимают так много людей…»
Сейчас многие признают, что большая часть заключенных не должна находиться в тюрьме. Когда у них появится причина верить в то, что они могут что-либо предложить обществу, что-то чрезвычайно необходимое, что-то, что лишь они могут дать, тогда отпадет нужда в тюрьмах. Но сначала каждый человек должен быть убежден в собственной ценности и уникальности. Он не повторим, он один такой на всем белом свете, и этой неповторимостью он может поделиться с другими. Вот что значит настоящее исправление.
Все время, пока я находился в Сан-Луисе Обиспо, Чарльз Гэрри со своими сотрудниками работал над подготовкой апелляции для подачи в Калифорнийский апелляционный суд. Они построили апелляцию на указании неправомерных действий, которые предприняло обвинение, охваченное желанием добиться обвинительного приговора. Перечислялись следующие факты: у членов большого жюри, равно как у присяжных на суде, были расистские настроения, что незаконно; мое предыдущее обвинение в совершении уголовного преступления не должно засчитываться; доказательств для обвинения в убийстве первой степени было недостаточно; обвинение утаивало вещественное доказательство, а судья не стал возобновлять судебное разбирательство после обнаружения новой улики; судья способствовал усилению настроений против обвиняемого и вынес немало предвзятых постановлений; судья не дал присяжным важную инструкцию. Адвокаты внимательно прослеживали прохождение апелляции и извещали меня обо всем, что происходит, однако я почти не обращал на это внимания, потому что не верил в судебную систему. Они продержали меня за решеткой, не выпустив под залог, почти целый год, пока пришлось ждать начала судебного процесса. А после вынесения приговора они опять отказались выпустить меня под залог на время рассмотрения апелляции. Когда мы подали апелляцию по решению об отказе в освобождении под залог, ее оставили без рассмотрения. У меня не было поводов надеяться на то, что штат пересмотрит мой приговор. Мне придется провести пятнадцать лет в тюрьме, да еще и в одиночной камере — так мне казалось.
В мае 1970 года Фей Стендер, которая вместе с Чарльзом Гэрри работала над моей защитой, известила меня, что решение по апелляции скоро будет принято. Разумеется, она не знала о содержании этого решения, но, казалось, что апелляционный суд написал довольно длинное заключение по моему делу. Обычно, если рассматривается дело какого-нибудь общественного деятеля, пространное заключение означает отказ в пересмотре. Одновременно суд хочет показать общественности, что он тщательно рассмотрел дело по всем пунктам. Можно считать, что Фей сообщила мне об отказе в пересмотре приговора. Другой адвокат, Алекс Хоффман, придерживался противоположного взгляда. Он доказывал Фей, что большое заключение может означать и пересмотр; возможно, суд хочет очень осторожно показать, что решение о пересмотре было принято с соблюдением всех юридических формальностей, а не под воздействием общественного мнения, которое в моем случае ощущалось и в судах, и в тюрьме. Я согласился с точкой зрения Фей и перестал думать об апелляции. У меня были другие вещи, чтобы на них сосредоточиться.
Поэтому, когда 29 мая, в пятницу, Калифорнийский апелляционный суд объявил о пересмотре моего приговора, для меня это было полнейшим сюрпризом. Я провел день в комнате для свиданий и ничего не слышал. Около полпятого я возвращался в камеру, когда меня остановил какой-то заключенный и сказал, что он слышал по радио о пересмотре моего приговора. Я не поверил ему, да и сам он едва в это поверил, так что я попросил его повторить сказанное. Когда я вернулся в свой сектор, охранник, отвечавший за тот ряд, где была моя камера, побагровел при виде меня. Он ничего не сказал, просто стал цветом свежеприготовленного лобстера и никак не мог справиться с ключом, пока запирал меня. Лишь после этого я действительно стал подозревать, что должно было случиться что-то хорошее.
Я услышал, как во дворе, под моим окном, поднялся большой шум. Там собралась группа заключенных, и они бросали в воздух камни и хлопали в ладоши. Они выглядели такими счастливыми и возбужденными, что я тоже ощутил прилив оптимизма. Заключенным не разрешается собираться в тюремном дворе группами более двух человек, но эти, что бушевали внизу, явно нарушили правило. Когда к ним подошли охранники, заключенные достали свои идентификационные карточки и бросили их на землю, нарушив тем самым правило, согласно которому заключенный должен отдать свою карточку по первому требованию охранников. А они бросили свои карточки в грязь и стояли не двигаясь. Охранники так и остались на расстоянии и не стали наступать.
Администрация тюрьмы была расстроена пересмотром приговора и злилась на заключенных за то, что они выступали в мою поддержку. Тюремные власти делали все возможное, чтобы подавить распространившийся по всей тюрьме энтузиазм, но их старания ни к чему не привели. Единственный раз они упомянули пересмотр, когда спросили меня, как же я собрался освобождаться до нового слушания, если, по слухам, залог был назначен в размере 200.000 $.
Решение о пересмотре Апелляционный суд принял на том основании, что судья Фридман дал неполные инструкции присяжным. Он сказал присяжным, что меня можно было признать виновным в убийстве первой степени, убийстве второй степени, непредумышленном убийстве или признать не виновным. Однако он не сказал присяжным, что обвинение в непредумышленном убийстве имело два варианта — намеренное и ненамеренное. Если бы присяжные выбрали первый вариант, то это означало, что они поняли следующее: я действовал в состоянии аффекта и после грубой провокации, но все-таки убил полицейского. Именно так присяжные, в конце концов, и решили. Однако здесь была возможность и ненамеренного убийства. Это означало, что в тот момент я был без сознания в результате наступившего шока и кровопотери и действовал, не осознавая того, что я делаю. Судья не сказал присяжным об этих двух возможностях, хотя мы представили в суде показания, согласно которым полученная мною рана и последовавшая затем потеря крови, что было зафиксировано в больничных записях, вполне могла вызвать шок нервного происхождения. Исходя из вышесказанного, Апелляционный суд постановил, что, поскольку присяжным не были названы все возможности для окончательного решения, мой обвинительный приговор должен быть пересмотрен и я должен предстать перед судом еще раз. Однако меня нельзя было повторно судить за тяжкое убийство — только за непредумышленное. Если присяжные признали бы меня виновным в совершении ненамеренного убийства, суд не мог отправить меня в тюрьму.
Несмотря на то, что мне предстояло ждать еще девяносто дней до вынесения окончательного решения, я сразу же начал строить планы ухода из тюрьмы. Стоит ли говорить, как я хотел выбраться оттуда. Вместе с тем, я понимал, какой будет моя жизнь по возвращении в Окленд. Я чувствовал, что пока не готов вновь погрузиться в дела, пока как следует не осмотрюсь и не составлю впечатление о ситуации в целом. Мне не было в квартале почти три года.
Сейчас мое освобождение из Калифорнийской колонии для уголовных преступников похоже на сон. Психологически я настраивал себя к более долгому пребыванию там, и получение свободы казалось мне удачным продлением жизни, шансом сделать больше, чем я планировал. Я хотел вернуть «Черных пантер» на верный путь и заниматься политической деятельностью исключительно вместе с моими товарищами и Центральным комитетом партии.
В начале августа пришло сообщение от моих адвокатов. Они обещали, что скоро меня вытащат, потому что вот-вот, уже 5 августа, в среду, состоится слушание об освобождении меня под залог. В пятницу я начал паковать вещи на тот случай, если они добьются моего освобождения под выходные, но ничего не произошло. Зато в понедельник я прошел через всю процедуру освобождения, правда, уехать в тот же день мне не удалось. Казалось, никто, включая начальника тюрьмы, не знал, что происходит. Он просил меня сказать время и дату моего отъезда. Наверное, начальник тюрьмы думал, что мои адвокаты шепнули мне что-то, поскольку, по его словам, ведомство шерифа Аламедского округа ничего ему не сообщило ни насчет способа, которым меня будут перевозить, ни насчет даты. Произошла какая-то юридическая путаница. Хотя мой приговор был пересмотрен, Калифорнийский апелляционный суд дал главному прокурору штата тридцать дней на обжалование своего решения. С формальной точки зрения, мою судьбу все еще решал апелляционный суд, поэтому меня нельзя было перевозить куда бы то ни было до истечения определенного судом месяца. Однако Чарльз Гэрри пытался достичь соглашения с главным прокурором штата насчет моего освобождения. Прокурор не особенно хотел бороться с моим адвокатом, поскольку общественное мнение было на моей стороне. Людям непременно захотелось бы узнать, почему я должен был сидеть в колонии еще целый месяц, когда набор юридических интриг был уже исчерпан. Я находился в подвешенном состоянии.
В тот понедельник, 3 августа, я уже выписался из тюрьмы и был готов ехать. У меня отбоя не было от журналистов с телевидения и из газет, которые приезжали взять у меня интервью. Целый день я ходил из одного угла тюрьмы в другой — через двор в комнату для свиданий, чтобы дать интервью, а потом обратно в камеру. Прошел слух, что меня должны выпустить в двенадцать ноль-ноль. Заключенные пришли в большое возбуждение. Каждый раз, когда я шел на очередное интервью, они говорили: «Ну вот, он ушел; я видел, как он сел в машину». Потом я вновь показывался во дворе, заставляя их испытывать разочарование, потому что я опровергал уже распространившийся слух. И они опять меня спрашивали: «Когда ты уезжаешь? Почему ты то и дело уходишь, но возвращаешься?» В конце концов, чтобы только остановить эти вопросы, я сказал им, что не уеду из колонии до конца недели.
Лично я сам был уверен в том, что ведомство шерифа захочет перевезти меня в условиях секретности, поэтому, возможно, помощники шерифа приедут за мной поздно ночью. Именно поэтому они не назвали начальнику тюрьмы точное время. Им не очень-то хотелось продираться сквозь тридцать-сорок репортеров, толпившихся около ворот тюрьмы. Я сказал лишь нескольким друзьям, что могу уехать этой ночью. Я близко сошелся с одним из заключенных. Он был счастлив, что я освобождаюсь из колонии, но в то же время он был подавлен, потому что несколько дней назад вышел на свободу еще один его друг. Теперь уходил и я, так что он оставался совсем один. Он давно сидел в тюрьме и точно не знал, когда его выпустят. Большинство заключенных, отсидевших долгий срок, становятся замкнутыми и большую часть времени проводят в своей камере.
В тот последний день после обеда я пошел в комнату для свиданий и давал интервью до половины десятого вечера, потом я отправился во двор, чтобы оттуда идти в камеру и успеть до десяти, когда камеры централизованно закрывались. Пока я стоял во дворе, разговаривая с несколькими заключенными, ко мне подошел охранник. Он знал, что мне необходимо вернуться в камеру, но вдруг сказал: «Знаешь, тебя не должны сегодня запирать». Такого еще ни разу не случалось, и я подумал, в этом есть что-то странное. Поскольку до закрытия камер оставалось всего полчаса, я решил, что на этот раз они включат инфракрасное излучение. В общем, я продолжил разговор с приятелями. Минут через десять во дворе появилось пятеро или шестеро охранников — так называемая «Красная команда». Охранники из этой группы обходили тюрьму, отыскивая нарушителей. Они подошли ко мне со словами: «Вот что, мы должны запереть тебя в камере». Это была очевидная ловушка. Их возмутил тот факт, что я уезжаю из колонии, и они хотели устроить мне неприятности в последнюю минуту. Друзья поощряли меня оказать сопротивление и отказаться идти в камеру. Но я знал, что, если развяжу драку, то вовлеку в разборку и своих друзей. Я был не против драки с охранниками. Мне то что — я покидал колонию, но вот мои друзья… Они оставались здесь. Я вовсе не хотел, чтобы на них было наложено взыскание, что, возможно, привело бы к отсрочке их условно-досрочного освобождения или даже к новой жалобе на них. Кроме того, до закрытия камер оставалось совсем чуть-чуть, поэтому мы могли мало чего добиться дракой. Так что я отправился в свою камеру, сказав своим друзьям еще пару слов. Охранники действительно собирались качать свои права до конца. Они не могли получить удовольствия от последнего удара, потому что он был за мной, я нанесу его, когда выйду за тюремные ворота. Но они старались отравить мне жизнь, как могли.
День выдался на редкость утомительным, так что сон ко мне пришел быстро. Казалось, будто я спал всего лишь несколько минут, хотя на самом деле было уже полтретьего ночи, когда охранники открыли дверь моей камеры и сказали мне «сворачиваться». Я сложил свою тюремную одежду, кроме нижнего белья, брюк, рубашки и моей собственной обуви. Все это я одел на себя. Коп спросил меня насчет куртки, потому что на улице было довольно прохладно, но я оставил ее. Когда я вышел из тюремного сектора во двор, то почувствовал, что было холодно, немного туманно, но этот холод был освежающим. Я вышел в холодный ночной воздух и понял, что больше никогда или, по крайней мере, очень и очень долго не повторю этот путь из камеры в центральную зону, где меня должны были осматривать. Опять мне пришлось пройти осмотр с полным раздеванием, и опять они осматривали мой рот, уши, нос и задний проход. Они не забыли обыскать и мои карманы. Понятное дело, я мало что хотел забрать с собой из тюрьмы, но правила есть правила. Потом мне выдали стандартную одежду, которую получают все, покидающие тюрьму, — штаны и рубашку цвета хаки, зато забрали нижнее белье и носки. Я подписал документы по освобождению, после чего меня отвели в другую комнату ждать прибытия людей из ведомства шерифа. В комнате со мной остался один из охранников. Он попытался завязать разговор. Сначала он рассказал мне о своей коллекции звукозаписей, крутом стереоприемнике и мультиплексной системе. Потом стал вспоминать свою молодость: он был страшным драчуном, и ему несколько раз ломали нос. Когда он начал работать в тюрьме, продолжал охранник, он много дрался с заключенными, но потом понял, что лучше позвать напарников, чем ждать, когда заключенные нарушат правила и набросятся на тебя. Трудно сказать, почему охранник вдруг решил заговорить со мной. Думаю, он хотел дать мне знать, что понял одну вещь: он больше не мог смотреть на меня как на низшее существо. Коль скоро наши отношения вышли за рамки отношений между заключенным и охранником, он хотел, чтобы я понял, что он тоже человек со своими мыслями и чувствами. Охранник даже предложил мне сигарету, но я сказал, что не курю. Потом он стал рассказывать долгую историю о том, как он чуть было не заработал рак от курения и как ему вовремя вылечили плеврит. Он говорил без остановки, повествуя, главным образом, о себе.
Странные они, эти охранники. Лично я не в силах понять, как человек может жить такой бессмысленной жизнью день за днем, год за годом, и при этом казаться довольным. Их главные интересы скучны и мелковаты, их воображение занимают лишь выход в отставку, газоны, рыбалка и качественная звуковая аппаратура. Заговоривший со мной охранник готовился оставить службу и уйти на покой. Люди вроде него находятся почти в потерянном состоянии, как очень многие, оставшиеся без цели в жизни или возможности иметь отношения с другими людьми.
Наконец, в полчетвертого утра, мне сказали, что прибыли люди шерифа. Я взял две коробки с юридическими материалами — это было все, что я мог унести, и пошел по коридору. За мной следовал обиженный охранник, он нес мою пишущую машинку и еще одну маленькую коробку. Я недалеко ушел от комнаты, когда ко мне приблизились начальник тюрьмы и его помощник и пожелали мне удачи в достижении окончательного освобождения. Происходящее напоминало сцену из книг Кафки или из произведения Женэ «Балкон»: чисто внешне все было нормально и логично, но суть происходящего была ужасной, от нее веяло фантасмагорией. Это было признаком символического ритуала; никто не был увлечен им по-настоящему, никто не переживал. Мы просто проделывали определенные движения.
Я миновал комнату для свиданий и вышел через открытые ворота. Я впервые прошел через ворота, ведь в колонию меня привезли на автобусе. Затем мы спустились по ступенькам и направились к главным воротам тюрьмы — последнему препятствию на моем пути. Когда мы подошли к электрическим воротам, они зажужжали и перед нами открылась земля. От этого все происходящее приобрело еще более нереальный характер, ведь было не видно, кто открыл ворота, они просто разъехались в стороны при нашем приближении. За воротами меня ждали два помощника шерифа в штатском, рядом стояли два охранника колонии в форме. Я подписал несколько последних документов, подтвердив, что я получил всю свою собственность. И вновь я оказался во власти шерифа Аламедского округа.
Часть шестая
Есть такое древнее выражение у африканцев: я — это мы. Если бы вы встретились с каким-нибудь жителем Африки в стародавние времена и спросили бы его, кто он, он бы ответил вам: «Я — это мы». Это и есть революционное самоубийство: я, мы, все мы вместе — это нечто одно и одновременно каждый из нас самостоятелен.
28. Освобождение
Что заставляет меня внутренне холодеть, когда я думаю обо всех этих событиях, — это окрепшая уверенность в том, что тысячи невинных жертв томятся сейчас в тюрьме, потому что у них нет ни денег, ни достаточного опыта, ни друзей, которые могли бы им помочь. Глаза всего мира были прикованы к нашему судебному процессу, несмотря на все отчаянные попытки прессы и радио замалчивать факты и затуманивать реальные вопросы. Смелость и деньги друзей, а также незнакомых людей, рискнувших отстаивать принципы, освободили меня. Но лишь одному Богу известно, сколько таких невиновных, как я и мои коллеги, томятся сейчас в аду. Каждый день они нетвердой походкой выходят из тюрьмы, ожесточенные, жаждущие мести, лишенные надежды и опустошенные. Количество негров в этой армии несправедливо обиженных внушает страх. Мы защищаем сенсационные дела, в которые вовлечены чернокожие. Но огромная масса арестованного или обвиненного негритянского народа не получает защиты. Существует острая необходимость в создании общенациональных организаций, которые выступили бы против национального рэкета, когда бедных, одиноких и чернокожих запихивают в тюрьмы и заковывают в цепи.
Автобиография В.Е.Б. Дю-Буа[52]Когда я вышел за тюремные ворота, мне не дали ни секунды, чтобы почувствовать облегчение, не говоря уже об иллюзии свободы. Прежде чем мне сказали, куда меня повезут, ко мне подошел один из помощников шерифа и произнес: «Нам нужно надеть на тебя кандалы». Я не стал отвечать. Они обмотали цепь вокруг пояса и пропустили ее через промежность. От пояса шли две цепи к запястьям, кроме того, была еще одна цепь, связывавшая между собой обе руки. Потом они обмотали цепью мои ноги и протянули цепь от промежности к цепям на ногах. Наконец, мои ноги соединили цепью шести дюймов длиной, так что мне приходилось подволакивать их при ходьбе. Я едва мог пошевелить руками. Полицейские несли мои коробки, пока я ковылял примерно двадцать пять ярдов до обычной машины без всяких признаков, обозначавших ее принадлежность к полиции. Я залез в машину и постарался усесться поудобнее. Это было сделать нелегко.
Два помощника шерифа сели на передние сиденья. Пока один из них начал заводить машину, другой сказал: «Погоди немного, мне нужно достать пистолет из багажника». Я повернулся назад и понаблюдал, как полицейский обогнул машину и приладил к ремню что-то похожее на короткоствольный револьвер тридцать восьмого калибра. Да уж, мы были поистине на равных — он с пистолетом, а я в цепях.
Я не ездил на машине двадцать два месяца. У меня возникло какое-то странное ощущение, когда мы гнали по шоссе со скоростью восемьдесят миль в час. Мы проехали мимо большого дорожного знака «Дорога на Хьюи», который указывал поворот направо. Я видел этот знак из окон автобуса, когда мы только направлялись в колонию для уголовных преступников. Помню, как сказал тогда своим спутникам: «Последний раз, когда они видели Хьюи, он мчался на большой скорости по дороге на Хьюи». На этот раз я не стал представлять себя, уносящегося прочь от этой маленькой грязной дороги.
Помощники шерифа обсуждали между собой заявление президента Никсона насчет Чарльза Мэнсона,[53] сделанное накануне.[54] Они считали, что это было очень глупо — выступать с таким заявлением. Я был согласен с ними. Я не удивился, узнав, что он сказал нечто такое, что нарушили этику и принципы профессии юриста. Такому человеку, как Никсон, не следует отступать от написанных спичрайтерами текстов, потому что каждый раз, когда он так делает, он садится в лужу. После этого нельзя было исключить, что Мэнсон должен будет предстать перед новым судом.
Помощники шерифа поинтересовались, что я думаю насчет суммы своего залога. Я сказал, что понятия не имею. Они прикинули и решили, что где-то между 100.000 и 200.000 $, а потому пустились в дальнейшие рассуждения о размере залога и стали гадать, выберусь я или нет. Я заверил их, что выйду на свободу сразу же, даже если сумма залога достигнет миллиона долларов, так как люди не потерпят, если меня оставят в тюрьме. Они согласились с тем, что, возможно, меня освободят. Если будешь вести себя с ними по-другому, они тут же воспримут это как проявление слабости, поскольку ощущают врожденное превосходство над тобой. Когда они остановились около небольшой дешевой кафешки в Кинг Сити, чтобы купить там кофе и пончиков, они спросили, хочу ли я чего-нибудь. Я сказал, что нет. Потом они спросили, где был Х Рэп Браун. Я опять сказал, что не знаю. Не могу понять, почему они спрашивали об этом, потому что я бы им, разумеется, ничего не сказал, даже если бы эта информация была мне известна.
Подъезжая к Салинас, мы миновали одну из тюрем штата — Соледад. Жуткой и мрачной выглядела она ранним утром. Неясные очертания серых стен, молчаливых и зловещих, терялись в смутном свете. Я вспомнил обо всех своих чернокожих братьях, сидевших там, вспомнил Джорджа Джексона. Странное и тревожное чувство охватило меня при мысли о том, что я так близко нахожусь от них, а они не имеют ни малейшего об этом представления. Но, может быть, они не спали в этот час. Помощники шерифа выразили радость по поводу того, что они не работают в Соледаде. Агрессивные заключенные, постоянные неприятности, беспорядки, знаете ли. Они разговаривали о разных тюрьмах в штате и спросили меня о колонии для уголовных преступников. Я описал им план тюрьмы и ее материальное обеспечение. Возможно, оно было лучше, чем в любой другой тюрьме штата, за исключением тюрьмы Шино. В Шино с этим обстояло вообще отлично — там был бассейн и площадка для гольфа, к тому же заключенным разрешалось носить собственную одежду. И охрана была не такой строгой. Колония, в которой сидел я, существует всего лишь десять лет, поэтому она чище, чем остальные. Но все тюрьмы похожи одна на другую: заключенный вынужден жить в пространстве десять на семь с половиной футов, с туалетом, раковиной, столом и стулом, койкой и цементным полом. И так везде. Помощники шерифа признали, что проблемы тюрем, похоже, неразрешимы. Кажется, они думали, что разрешение свиданий с женами может помочь, как, например, это сработало в Мексике, несмотря на плохие материальные условия. Я просветил их насчет гомосексуализма в колонии. Если 80 % заключенных — гомосексуалисты, то свидания с женами тут вряд помогут.
Какое-то время помощники шерифа продолжали говорить про Мексику, как там хорошо летом, какие там красивые парки и здания, особенно в Мехико. Но потом один из них сказал, что стоит ему поехать в любую латиноамериканскую страну, даже в Мексику, как он начинает бояться, что власть в этой стране захватит какой-нибудь новоявленный Кастро и похитит всех находящихся там американцев, не выпустит их обратно в Штаты. Я успокоил «паникера», заверив его в том, что даже если кто-нибудь вроде Кастро придет к власти, то он, скорее, отправит полицейских назад самым быстрым самолетом. Именно так было сделано на Кубе: самолеты, увозившие контрреволюционеров с острова, летали часто. Политика Фиделя была четкой — любой, кто хотел, покидал территорию Кубы немедленно. Позволили уехать даже кубинским националистам — представителям местной буржуазии. Большинство из них теперь живут в Майами. На самом деле, эмигрантов с Кубы там так много, что Майами прозвали маленькой Гаваной. Копы — обычно люди мало информированные и политически наивны, но что касается социализма, тут они особенно не сведущи.
Было полшестого утра, начинало светать, когда мы проезжали через Джилрой, что в тридцати трех милях от Сан-Хосе. Весь обратный путь в Окленд я не мог оторвать глаз от проносившегося за окнами машины пейзажа. Но мои впечатления были расплывчаты, отчасти из-за быстрой езды, но больше потому, что это было выше моих сил — переживать такое. Я вновь почувствовал, что подвергаюсь мощной атаке разнообразных внешних раздражителей. В большинстве своем люди воспринимает их как должное, но после двух лет в ограниченном и монотонном пространстве невозможно усваивать все, что видишь. Мы проезжали мимо домов, полей, сельских работников, животных, и все, что попадало в поле моего зрения, начинало тускнеть в памяти. Горы, видневшиеся на горизонте, небо, движения жизни — я хотел впитать это все, но не мог удержать, и это тревожило меня.
Вскоре после Джилроя мы заехали на заправку, чтобы наполнить бак. Водитель спросил, не хотелось ли мне пройти в уборную. Я ответил отрицательно, и он легким шагом направился к заправке, тогда как второй полицейский остался со мной в машине. Служащий на заправке оказался молодым пареньком, который, видно, не очень хорошо знал, что надо делать с машинами именно на заправке. Он включил подачу бензина, а потом открыл переднюю дверь, сказав, что у нас были включены фары. Когда он нажал на кнопку, чтобы их выключить, полицейский сильно напрягся, но парнишка ничего не заметил. Вдобавок он пошел проверять воду и масло. Когда парень открыл капот, вернулся второй полицейский, который ходил в уборную, и спросил у напарника, что это такое, указывая на парня под открытым капотом. Когда полицейский сказал пацану, что это была сирена, тот отчаянно покраснел, быстро захлопнул капот и пошел выключать подачу бензина. Потом он украдкой заглянул в машину, увидел мои цепи и еще больше заволновался. Когда мы покидали заправку, я смотрел на парня в заднее окошко машины: он застыл в удивлении.
Около Сан-Хосе мы натолкнулись на пригородное движение, но ничего серьезного. В семь часов утра мы, наконец-то, приехали в Окленд. Улицы города были еще пустынны. Я мгновенно отметил, как много изменений произошло здесь; в городе появились здания, которых я прежде никогда не видел. Мы ехали мимо стройки нового здания, где должна была разместиться контора городского общественного транспорта всей территории Залива. Проехали мы и мимо нового музея. Он начал строиться, когда я еще сидел в тюрьме в ожидании процесса. На протяжении тех одиннадцати месяцев я ежедневно наблюдал за стройкой из окон окружной тюрьмы. Помощники шерифа показывали мне новые архитектурные сооружения, рассказывали о них и вообще старались держаться по-своему дружелюбно. Когда они снизошли до маленькой приятной беседы со мной и стали задавать мне вопросы, я не колеблясь ответил им. Не то что бы после этого мы стали ближе друг к другу, потому что такие поверхностные вещи не могут способствовать сближению. Но все-таки это самый легкий путь сохранять спокойную ситуацию. Я на самом деле рекомендую такое поведение. Не важно, что там происходит в голове у человека, все равно ему выгодно держать врага в неуравновешенном состоянии.
Пока мы ехали по улицам Окленда, помощники шерифа связались с полицейскими в окружной тюрьме и сообщили им, что мы направляемся в здание суда через тоннель. Им сказали подъезжать к переднему входу, так как лифт пока был остановлен. Мы стремительно подъехали к указанному входу, как раз через парк на озере Мерритт, где проводился митинг в память Малыша Бобби Хаттона после его похорон в 1968 году. Я вспомнил, как почти год назад смотрел на парк и гулявших там людей из окна окружной тюрьмы.
На улицах уже появились редкие прохожие. Какой яркой показалась мне их одежда! Вот что я имел в виду, когда говорил об одновременной атаке несметного количества внешних раздражителей. Я не мог получить ясного впечатления ни от одной вещи; все вокруг расплывалось, было как в тумане. Общее ощущение было подавляющим. Там, где я пробыл тридцать три месяца, все носили одинаковую одежду, делали одни и те же вещи и ходили по одному и тому же месту каждый день. Вы никогда не задумываетесь, где люди что-то делают или что конкретно они делают. Каждый день вы ожидаете, что все будет происходить так, как было день назад или два дня назад. В первые дни моего пребывания во внешнем мире я был вынужден целенаправленно успокаивать себя, чтобы не впадать в панику, чтобы сдерживать непредсказуемые порывы моей взбудораженной нервной системы. Сам вид обычных вещей, как, например, останавливающихся перед светофором машин, кто-то едет в одну сторону, кто-то — в другую, вид людей на улицах — это было слишком много для меня.
Когда мы остановились перед тюрьмой, с моих ног сняли цепи, хотя на поясе и на руках они остались. Мой багаж несли полицейские, пока я заходил в дверь здания. Тюрьма располагалась на десятом этаже. Оттуда нам навстречу спустился полицейский. Его лицо было мне знакомо. Хотя у нас и случаются стычки, полицейские обычно не оставляют у меня впечатлений; они просто приходят и уходят, запирая меня или выпуская из камеры, вот и все. Однако лицо этого полицейского было слишком мне знакомо, чтобы пройти и не обратить внимания. Я попытался вспомнить, что же за стычка была у меня с ним.
Когда мы зашли в лифт, на лице у показавшегося мне знакомым полицейского появилась трусливая улыбочка. «Ну так что, собираешься получить назад свой старый костюмчик?» — спросил он меня. «Да не знаю, — ответил я. — Зато я могу сидеть в любом месте в этой тюрьме. Я уже делал это раньше и могу сделать это сейчас, особенно с учетом того, что, может, я выйду отсюда через несколько часов». «Я так и думал, — сказал полицейский. — Думаешь, внесешь залог? Сколько, по-твоему, потребуется на это? Пара сотен тысяч, а, может, и все пять сотен тысяч?» Мы это уже проходили. «Я выйду отсюда через два часа», — сказал я. «Да уж, как хорошо быть богатым, не правда ли, Ньютон?» «Может, и хорошо, — парировал я, — Но я не богат. Люди пожертвуют столько, сколько потребуется, и вытащат меня отсюда». Полицейский сменил тему: «Ты большой человек. Должно быть, ты много пахал, чтобы стать таким».
Я не был сосредоточен на разговоре. Я все еще пытался припомнить полицейского, но все-таки сказал: «Да, я работал каждый день». Он сказал: «Да, вот именно это я и делал». Эти слова дались ему с трудом. Внезапно я вспомнил этого полицейского. Он здорово растолстел, но это был тот же полицейский, с которым у нас была разборка, когда я сидел в одиночке, а процесс уже начался. Однажды около часа ночи этот парень делал обход вместе с каким-то чернокожим полицейским. Зашел он и в мою камеру, а я был в таком полусне. Он быстро открыл дверь камеры, а когда начал закрывать, сказал: «Я тебя не разбудил случайно, козел?» Я так и вскочил. Дверь уже закрыли, но думаю, я перебудил половину тюрьмы, пока орал на полицейского, обзывая его по всякому, только не дитем Божьим. Я приглашал его вернуться и открыть дверь, чтобы показать ему, что он за человек.
Пока я надрывался, чернокожий напарник полицейского смеялся, пока они вдвоем шли по коридору. Не знаю, смеялся он надо мной или над коллегой. Некоторые заключенные, разбуженные мной, подумали, что он смеялся от отчаяния. Тот белый полицейский не вернулся к моей камере, он был слишком труслив. На следующий день, когда я вышел во двор, то увидел, что давешний чернокожий охранник все еще на посту: должно быть, он отрабатывал вторую смену. Я спросил у него имя белого охранника. Он сказал, что думал, мы хорошо знаем друг друга и просто шутим. Я сказал ему, что он и сам прекрасно знает, что я не шучу ни с одним из охранников, включая его самого. Единственные отношения, которые могут между нами быть, — это отношения заключенного и охранника, и ничего больше. Я вовсе не был благодарен тому белому охраннику и собирался подать на него в суд. Чернокожий охранник сказал, что в этом случае ему не остается ничего другого, как свидетельствовать в мою пользу, так как правда была на моей стороне, а белый охранник был не прав. Он ничего не сказал тогда, потому что думал, мы дурачились все время. Негр пообещал рассказать белому охраннику о моей реакции. После того, как я напомнил ему, что не играю ни с кем из них, он промолчал. До суда дело не дошло, я так никогда и не узнал, стал бы чернокожий охранник свидетельствовать в мою пользу или нет.
Воспоминание об этом случае пронеслось в моей голове, пока мы поднимались на лифте. Выйдя из лифта, мы прошли в специальное помещение, эдакий тюремный предбанник. С меня сняли оставшиеся цепи, опять раздели и осмотрели. После того, как я оделся, началась долгая процедура оформления. Меня определили в приемный отсек Б.
За углом этого отсека, на расстоянии около пятнадцати футов, располагался больничный отсек. Здесь заключенных держали в полуизоляции. Больничный отсек был рассчитан человек на пять, поэтому заключенных с легкими заболеваниями оставались здесь недолго. Большинство заключенных прибывает в приемный отсек из камер смертников в Сан-Квентине либо останавливается здесь как раз на пути в Сан-Квентин, в те же самые камеры смертников, и ждет здесь приговора после обвинения в убийстве первой степени. Двери обычных камер в окружной тюрьме выходят в «комнату отдыха». В семь утра заключенных выводят из камер в эту комнату и запирают обратно в семь вечера. Целый день они не могут прилечь на свою постель. Однако в больничном отсеке заключенные могут заходить в свои камеры и выходить оттуда, когда они захотят. Заключенных, которым предстоит отправиться в камеру смертников, помещают сюда, потому что многим из них требуется работать с материалами их судебного дела. Им также можно иметь пишущую машинку, что запрещено в обычных камерах. Больничный отсек заключенные прозвали «малой камерой смертников». Заключенные попадают сюда или непосредственно из камеры смертников (их держат здесь, пока они стараются еще что-то сделать в суде), или они оказываются здесь после пересмотра дела в ожидании нового судебного разбирательства. Большая часть заключенных из Аламедского округа, находящихся в камерах смертников в Квентине, так или иначе прошли через больничный отсек окружной тюрьмы. Да и я отсидел в «малой камере смертников» четыре месяца, пока отбывал наказание по делу о нападении на Одела Ли. Я познакомился здесь с несколькими парнями.
За какой-то час я уже переговорил со всеми, кого встретил здесь тридцать три месяца назад. За это время кто-то съехал отсюда, а кто-то вернулся, но уже по новому обвинению. Один из них был молодой парень по кличке Славный малый. Славный малый поправился с тех пор, когда я видел его в последний раз. Он был здоровый — шесть футов три дюйма ростом, 230 фунтов весом, очень сообразительный и интересный, правда, не очень образованный, поскольку большую часть своей жизни просидел в тюрьме. Но у него лучше всех получалось выживать на улице. На этот раз он угодил за решетку то ли за ограбление банка, то ли за похищение человека, не знаю точно. Ему было двадцать два года, одиннадцать из них он провел в разных тюрьмах для несовершеннолетних — в Трейси и Соледаде.
Я поинтересовался у народа насчет еще одного своего дружка — Макферсона. С этим белым парнем я довольно близко сошелся, когда мы вместе сидели в «малой камере смертников», пока его не отправили в настоящую камеру смертников в Квентине. Я что-то слышал о пересмотре его дела. Оказалось, что так и было. Макферсон сидел в больничном отсеке, как раз за углом, так что я прокричал ему приветствие. Он был счастлив услышать мой голос. Потом мы вспомнили старые времена. На мой вопрос о его деле он ответил, что ожидает еще одного приговора к смертной казни. Его опять обвинили в убийстве первой степени, и со следующей недели он начинал ждать нового судебного слушания.[55]
Макферсон был одноглазым. Второй глаз он потерял в тюрьме в Санта-Рите до того, как его обвинили в убийстве. Он был в изоляции, никому с ним не разрешали разговаривать. У Макферсона помутился рассудок, и он воткнул себе в глаз карандаш. Охранник потом рассказывал, что после этого Макферсон упал с криком: «Я убил Гошера». Гошер был немецким инженером, в убийстве которого Макферсон обвинялся и был признан виновным. Однако дело Макферсона было пересмотрено. Апелляционный суд признал его сумасшедшим на момент заявления. Суд посчитал, что, хотя Макферсон и сделал заявление, оно не может быть использовано как признание. Новый суд обвинил его снова, потому что кузен Макферсона свидетельствовал против него. Кузен, которому тоже было предъявлено обвинение в убийстве, нанял себе ловкого адвоката, получил неприкосновенность от обвинения и дал показания. Кузен признался в соучастии в убийстве, но показал, что убийство совершил Макферсон. Тут уж никакие протесты не могли спасти Макферсона. А вот его кузен так в тюрьму и не попал.
Около десяти часов утра ко мне пришли адвокаты, чтобы обсудить слушание о залоге. Им казалось, что залог будет определен где-то в размере 100.000 $. Они пытались договориться об освобождении под мою собственную гарантию, но пока было неясно, получится у них или нет. Окружной прокурор демонстрировал снисходительность и готовность сотрудничать, что было удивительно при любых обстоятельствах. Но это было совсем неожиданно с учетом того, что окружным прокурором был Лоуэлл Дженсен, который был обвинителем на моем процессе. Он сменил Фрэнка Коукли на посту прокурора Аламедского округа. Новое отношение Дженсена нас порядком озадачило. Мы решили, что он знал о неизбежности моего освобождения под залог и потому был таким покладистым, показывая свою «честность». Поражение стало бы для него ударом, но освобождение под залог было неизбежным в любом случае, поскольку меня уже не могли за преступление, караемое смертной казнью. Но какой же будет сумма залога? Сначала мои адвокаты пытались выяснить это в суде, судья отправил их к прокурору. Они поехали к нему, однако Дженсен сказал им поговорить с судьей. Так они и перекладывали ответственность друг на друга. Наконец, окружного прокурора уведомили, что решение принимать ему, с чем он и смирился.
Мои адвокаты указали на то, что я никогда не предпринимал попытки сбежать от правосудия, будучи отпущенным под залог, и всегда приходил в суд вовремя. По словам Дженсена, он верил, что я обязательно появлюсь в суде, следовательно, у него не было повода не удовлетворить ходатайство об освобождении под залог. С одной стороны, Дженсен не хотел огорчать негритянскую общину слишком высоким залогом, с другой — не хотел злить своих друзей назначением небольшой залоговой суммы. Для таких людей, как Дженсен, правосудие имеет дело лишь с политикой, а не юридической процедурой. Мои адвокаты напомнили прокурору, что в делах, подобных моему, когда обвиняемый имеет репутацию человека, всегда являющегося в суд, сумма залога обычно не превышает 5.000 $. С этим доводом Дженсен не стал спорить, но сказал, что должен увеличить залог, поскольку, во-первых, однажды я уже был осужден, во-вторых, из-за серьезности дела, и, в-третьих, потому, что отпущенный под залог Элдридж Кливер в суд не явился.[56] Адвокаты сказали, что согласятся тысяч на десять, хотя, по их мнению, это и было слишком много. Переговоры моих адвокатов с окружным прокурором проходили в его офисе утром 4 августа, во вторник. Мне было назначено явиться в суд на следующий день — в среду. Пока обсуждался размер моего залога, я ждал в тюрьме, время от времени мои адвокаты сообщали, как идут дела.
С момента моего последнего пребывания в Аламедской окружной тюрьме здесь мало что изменилось. Плохая еда, грязные камеры, оскорбления со стороны охранников и еще сотня прочих способов унижения человеческого достоинства — все это было для окружной тюрьмы обычным делом. Со Славным малым у нас получился отличный разговор о партии «Черная пантера». Кстати, у него были привилегии в отсеке, а, значит, больше свободы, чем у остальных.
Одной из обязанностей Славного малого было разносить еду остальным заключенным. За это он получал дополнительный сэндвич и кофе. Каждый день около шести вечера полицейские сопровождали «привилегированных» заключенных с подносами из кухни обратно к камерам. Славный малый принес еду в «комнату отдыха». Прошло двенадцать часов после моего прибытия в тюрьму. В тот вторник некоторые заключенные сидели у себя в камерах, наверное, они неважно себя чувствовали. В этих обстоятельствах полицейский должен был открыть каждую камеру, где сидел заключенный, с тем, чтобы «привилегированный» внес в камеру поднос с едой. В противном случае ему приходилось пропихивать поднос под дверь. Однако была отличная причина не проталкивать подносы под дверью. Решетки в камерах чистотой не отличаются, поэтому очень вероятно, что в еду попадет грязь, когда поднос будут пропихивать под дверь. Больше двух лет назад, когда я впервые попал в окружную тюрьму, ее инспектировало большое жюри. Согласно одной из рекомендаций большого жюри, еду не следовало проталкивать под дверь. Но когда Славный малый попросил охранника открыть камеру, полицейский отказался и велел ему протолкнуть поднос с едой под дверь. Славный малый не стал выполнять приказ и объяснил причины своего отказа.
В этот момент полицейский напустился на Славного малого, что было совсем не к месту. Полицейский сказал, что, если Славный малый ведет себя как человек, то он будет обращаться с ним как с человеком, на что Славный малый ответил, что не хочет, чтобы с ним обращались как с человеком, пусть с ним обращаются как с осужденным, иначе он будет обходиться с охранником как с полицейским. Интересно наблюдать, как этот парень ведет себя в напряженной ситуации: когда он что-то объясняет, он начинает двигаться. Так что и сейчас его руки и ноги немножко подергивались. Какое-то время Славный малый спорил с полицейским. Наконец, он пропихнул поднос под дверь, но на этом спор не закончился. Я попытался остудить Славного малого. Я знаю, что происходит в подобных ситуациях; когда ты сидишь взаперти, о победе речи не идет. Так или иначе, тебе приходится защищать какие-то принципы. Но пока остальные не посягают на основные права, лучше уйти в сторону, воспользовавшись благоприятным моментом. Иными словами, победить очень сложно, поэтому ты почти всегда проигрываешь. Прежде чем зайти слишком далеко, нужно убедиться в том, что за принцип, который ты защищаешь, можно умереть.
Между тем конфликт набирал обороты. Стоило полицейскому что-нибудь сказать, Славный малый отвечал ему. Проталкивание подноса под дверь камеры перестало служить предметом спора. Осталась только злость и взаимные оскорбления. Я вновь попытался утихомирить парня, но он не хотел остановиться. Он стоял около двери в тюремный отсек, препирался с полицейским, ходил туда-сюда и подергивался. Все остальные молча ели и наблюдали за происходящим.
Неожиданно полицейский ушел. Я рассказал Славному малому о рекомендации большого жюри не допускать проталкивания подносов под дверями камер. Он был абсолютно прав, сказал я ему, однако он должен был либо что-то сделать, либо вообще ничего не делать, но только не спорить по данному поводу. Ему следовало позволить мусору упасть туда, куда он мог, потому что спором здесь ничего не решишь.
Через десять минут, когда атмосфера в отсеке опять стала спокойной, вернулся полицейский и приказал Славному малому «сворачиваться», т. е. готовиться идти в карцер. Парень впал в бешенство и отказался. Полицейский отправился за подкреплением. В окружной тюрьме у каждого заключенного есть деревянный ящик, где он хранит свои вещи. Как только полицейский удалился, Славный малый достал свой ящик, прыгнул на него и разнес его на доски размером фута четыре длиной и пару дюймов толщиной. Потом он стал ждать нападения.
Полицейский, спровоцировавший этот инцидент, был чернокожим. Он быстро привел с собой шесть белых коллег. Они открыли ворота, приказали всем остальным убраться в камеры и велели Славному малому пройти с ними в карцер. Тот молча стоял, сжав свою палку. Полный тупик. Если бы мы разошлись по своим камерам, мы бы оставили парня одного против семерых полицейских. Все посмотрели на меня. Я не двинулся с места, остальные тоже остались там, где были. Если бы я пошел в камеру, на наших отношениях со Славным малым можно было бы ставить крест, ведь он был моим другом и при том — абсолютно прав. Я удивился, почему остальные не расходятся по своим камерам. Наконец, до меня дошло, что это все из-за меня. Итак, мы все стояли не шевелясь. Полицейские держали свои длинные дубинки, символы их власти, заключенные смотрели, Славный малый стоял рядом с разломанным ящиком.
Единая акция подобного рода — необычная вещь для заключенных. Я участвовал в нескольких волнениях в Аламедской окружной тюрьме, и каждый раз в рядах заключенных случался раскол: один хотели спокойненько вернуться в камеры, а другие были готовы бросить вызов охране. На этот раз все заключенные держались вместе — и белые, и черные, и чикано. В конце концов, двое полицейских убедили Славного малого пойти с ними. Я вышел за решетку и спросил полицейского насчет разговора со Славным малым. Тот сказал — никакого разговора, а другой полицейский закричал: «Если все не вернутся в камеры, вы знаете, парни, что это означает? Это бунт — восстание — неподчинение приказам. У вас остался последний шанс». По-прежнему никто не двинулся с места. Потом другой полицейский повернулся ко мне и спросил: «Ньютон, ты что-то хотел сказать мне?» Я вернулся назад за решетку и, понизив голос, поговорил с ним. Я сказал полицейскому, что он был не прав и спровоцировал все происходящее. Теперь ему надо было спасать репутацию, и Славный малый тоже должен был сохранить достоинство и не остаться запуганным. Обоим мог помочь компромисс. Я постараюсь уговорить парня перебраться в другой отсек с теми же условиями, что и в отсеке Б. В итоге полицейские сохранят свой авторитет, в то же время Славный малый не будет наказан, что и было самым лучшим вариантом, коль скоро он был кругом прав. В случае отказа полицейских последовать моему плану беспорядки грозили им наверняка. На следующий день я готовился идти в суд и получить освобождение. Естественно, я не хотел схватки. Но я решил участвовать в ней, если обстоятельства меня заставят. Я не собирался позволить им забрать Славного малого в карцер без драки.
Пока я излагал свой план, меня обступили все полицейские и стали слушать. В конечном итоге, они согласились с моими предложениями. Полицейские пообещали, что не набросятся на парня, как только он выйдет из камеры, и не потащат его в карцер. Затем я пошел к Славному малому и объяснил задуманное ему. Поначалу он отказывался, но потом неохотно согласился. Он бросил свое оружие в камере и пошел по коридору. За ним по пятам следовали охранники. Мы напрягли слух в ожидании услышать отголоски потасовки, но все было тихо.
Минут через пятнадцать вернулся тот самый чернокожий полицейский и приказал всем расходиться по камерам. После того, как заключенные были заперты, он подозвал меня к решетке и сообщил, что завтра я буду изолирован. Когда я поинтересовался о причинах, он сослался на только что случившийся инцидент. Я спросил его, значило ли это, что ответственность за происшедшее ложится на меня. Он ответил отрицательно. Однако мое присутствие послужило причиной того, что заключенные не разошлись по камерам, когда им было приказано, а также причиной их единодушного сопротивления. Я выразил сомнение по поводу того, что именно я вызвал такую согласованность действий. Заключенные проявили солидарность потому, что они устали от плохого обращения и постоянного третирования. Что касается меня, то я мог сидеть где угодно, включая карцер, поскольку не собирался здесь задерживаться. «Так что отправляйте меня куда хотите, — заключил я, — никаких споров не будет». Я добавил еще, что полицейскому не нужно было ждать до завтра: я мог перейти и сейчас, потому что хотел, наконец, устроиться нормально. Если я обоснуюсь в камере, мне уже не захочется никуда перебираться. Он начал оправдываться: «Да я тут ни причем, просто уже внесено в ведомость, что тебя нужно в любом случае изолировать. Ты можешь подождать до следующей смены, она тебя переведет утром». Но я сказал ему, что в объяснениях не было необходимости и что они могут перевести меня прямо сейчас.
На самом деле, насчет карцера они наврали. Они перебросили меня в «малую камеру смертников», что была за углом от отсека Б. Я нашел там своего приятеля Макферсона и еще двух ребят. Один из них, чернокожий брат, обвинялся в убийстве и был настоящим психом. Ему бы не следовало находиться в тюрьме, лучше бы в больнице, а еще лучше — в хороших руках, потому что больницы хорошим местом не назовешь. Он уже побывал в больнице, и воспоминания об этом его ужасно мучили: там его чем-то травили и лечили шоковой терапией. Он был уверен, что следующее попадание в больницу грозит ему смертью.
Как-то он убил парня на улице. Тот неправильно себя повел и положил свои руки на него, а это одно из нарушений кодекса поведения в квартале. А для таких людей, объяснил заключенный, у него был припасен острый нож. Вот он сидел на балконе, точил свой нож целыми днями и смотрел, чтобы ни один извращенец не обидел маленьких девочек по соседству. Новое убийство он совершил в похожих обстоятельствах. Он сидел в ресторане, разговаривая со знакомой. Тут врывается какой-то парень, тычет девушке пальцем в грудь и говорит: «Не разговаривай с моей женщиной». Стоило парню сделать это, как брат перерезал ему глотку. Он не хотел быть в тюрьме и боялся, что его вернут в больницу. Насчет больницы — это правильно, что он ее боялся, однако он действительно нуждался в помощи. Он не должен был находиться в тюрьме.
Второй парень, белый, несколько лет просидел в камере смертников в Квентине, прежде чем дождался пересмотра. Он готовился еще раз предстать перед судом. Макферсон был моим старым другом. Его опять признали виновным, и теперь он ждал окончательного приговора. Он считал, что у него мало шансов спастись от «большой (настоящей) камеры смертников».
«Малая камера смертников» производила гнетущее впечатление. Когда я был здесь раньше, я ожидал газовой камеры и чувствовал себя частью этого места. Тогда мы все были в равных условиях: Макферсон, я и еще один парень, который сейчас сидит в «большой камере смертников». В тот момент я воспринимал «малую камеру смертников» как нечто, с чем мне приходится иметь дело. Но теперь через несколько часов я собирался выйти на улицу, где остальные, возможно, не окажутся больше никогда. Я знал, что вряд ли смогу изменить к себе отношение как к чужаку и привилегированной персоне. Мне никогда не нравилось чувствовать себя привилегированным. Но все они желали мне удачи. Я устроился спать, и все эти мысли закрутились у меня в голове. Кроме того, я лег с ощущением, что на какое-то время это будет последняя ночь, которую я проведу в тюрьме. День был длинным, и я хорошо отдохнул.
Меня ожидали в суде в 9.15 на следующее утро. Мои адвокаты пришли пораньше, и мы смогли переброситься парой слов, пока меня не загнали в лифт вместе с другими заключенными. Нас набралось так много, что дышать было невозможно. Все остальные следили за моим делом и, зная, что я скоро выйду на волю, задавали мне вопросы, а также интересовались, могу ли я выполнить их поручения и оказать прочие услуги. Лифт остановился на пятом этаже. Нас поместили в камеры ожидания до начала судебных слушаний. Меня вызвали первым. Когда я вошел в переполненный зал суда, первыми, кого я увидел, были Чарльз Гэрри, Фей Стендер и Барни Дрейфус, стоявшие за адвокатским столом. За ними сидели мои родные и друзья, в зале также было немало журналистов, лица которых я уже успел запомнить за последние два года.
Когда я вошел в битком набитый зал суда, увидел журналистов в одной половине зала, свою семью, друзей и остальную публику в другой половине, я словно вернулся на два года назад, тогда все было точно так же. Казалось, все начнется по новой. Ситуация напомнила мне сцену из романа Кафки «Процесс», она как раз о тех событиях, которые повторяют себя сами. Когда героя романа К. уже собираются казнить, он говорит: «… когда мое дело только-только начали рассматривать, мне хотелось, чтобы это поскорее закончилось, а теперь, когда все подошло к концу, я хотел бы, чтобы все началось вновь». Поначалу К. донимает весь этот путаный процесс прохождения через судебную систему: медленная машина правосудия вовсе не правосудия, допросы, удушающая рутина. Это затянутый, изматывающий процесс, который К. приравнивает к абсурдному тяжелому труду и вечной жажде жизни. Мои эмоции были сродни ощущениям героя Кафки: я хотел, чтобы весь этот абсурд и бесконечный труд закончились. Потом, в самом конце, я оказался не совсем готов к тому, чтобы все завершилось, и почувствовал смутное желание, чтобы все началось заново. Два года были вычеркнуты из жизни. Судья занял то же самое место, как будто он никуда и не уходил, адвокаты стояли за тем же столом. Может, два года были просто кошмаром, привидевшимся мне, пока шел суд. Теперь я очнулся и должен был пройти через процесс снова, а затем снова и снова, не выходя из этого порочного круга.
Но потом волна счастья нахлынула на меня при виде старых друзей в зале, и я понял, что все действительно кончилось. Стоило сохранять стойкость, упорствовать и никогда не сдаваться. Теперь я мог повернуть к ним свою гордо поднятую голову, потому что я не подвел их. И они, они тоже не покинули меня в беде. Вместе мы выстояли и прошли суровое испытание, не позволив изменить нашу внутреннюю суть. Вот что я чувствовал в тот миг. Внезапно дурной сон продолжительностью тридцать три месяца показался пустяковым.
Относительно залога окружной прокурор пообещал выбрать «золотую середину». Его золотая середина оказалась равна 50.000 $. Когда прокурор порекомендовал судье назначить именно такой залог, его предложение было принято. Это была огромная и несправедливая сумма. У кого найдутся такие деньги? Я представлял себе, как трудно будет людям собрать такую сумму наличными. Судья не стал играть в смельчака и не попытался снизить залог — или, наоборот, поднять его. Он полностью согласился с окружным прокурором, следовательно, именно прокурор назначил залог. И вот это называется «правосудием». Окружной прокурор со своей огромной властью распоряжается абсолютно всем. Защитник тоже является судебным исполнителем. Предполагается, что они обладает столь же мощными полномочиями, как окружной прокурор. Однако у прокурора привилегий куда больше вследствие того, что он представляет существующий порядок, иными словами, интересы влиятельных и богатых. А уж этот порядок следит, чтобы прокурору оказывали всестороннюю поддержку. Едва ли окружной прокурор представляет народ.
После решения вопроса о залоге я вернулся в камеру ожидания. Остальные заключенные, которых тоже должны были вызвать в суд, поздравляли меня. Они были рады моему скорому освобождению. Потом меня отвели обратно наверх. Я прошел со своими адвокатами в отдельную комнату для адвокатов, и мы обсудили сложившуюся ситуацию с залогом. Мы собрали какую-то сумму, но ее было недостаточно. Адвокаты высказывались за то, чтобы занять денег у поручителя, но я отверг эту идею. Желание остаться в тюрьме, пока вся необходимая сумма не будет собрана, перевешивало во мне желание выйти из тюрьмы немедленно. Было важно собрать деньги, не прибегая к услугам поручителя. Поручитель взял бы с нас 5.000 $. Если деньги можно было достать и без него, лучше эти пять тысяч было потратить на реализацию программ для общины.
Спор был жарким. Адвокаты и все мои братья доказывали, что гораздо важнее было вернуть меня обратно на улицу, чтобы я придал движению позитивный толчок. Я в свою очередь напоминал, что партия никогда не одобряла трату десяти процентов от суммы залога в случае с другими товарищами. Была установка на то, чтобы сидеть в тюрьме, пока залог не будет собран в полном объеме. За первые четыре года существования партии мы были вынуждены собрать несколько миллионов долларов по всей стране для внесения залогов. Если бы не платили десятипроцентные отчисления от суммы залога поручителям, а пускали эти деньги на программы для общины, мы были бы богаче. Лично для меня остаться в тюрьме было делом принципа, но победу одержали те, кто со мной спорил. В конечном счете, наши споры ни к чему не привели. У поручителя не было выхода на страховую компанию, которая позволила бы ему выдать деньги. Нам все равно пришлось собирать всю сумму целиком.
В камеру я не вернулся, а остался в комнате для адвокатов. Теперь я почувствовал голод. Уезжая из колонии, я решил не есть, пока не выйду на свободу, просто поголодать. В некотором отношении Аламедская окружная тюрьма изменилась. Она не казалась такой грязной, как раньше, однако здешняя еда по-прежнему была невозможной. К тому же все мыли свои подносы в одном пятигаллоновом ведре с водой. После мытья тридцати подносов вода становилась жирной. Отчасти мое решение воздержаться от пищи было вызвано подобной антисанитарией. Просто чудо, что все заключенные здесь не болеют дизентерией или чем-нибудь похуже.
Пока мы ждали, один из моих адвокатов заметил группу полицейских, выходивших из здания. Они несли коробки с дубинками. «Должно быть, тебя собираются выпускать, — сказал адвокат. — Они выходят с дубинками». Несколько заключенных прошли через комнату, среди них была пара братьев из моего отсека. Я сделал им знак руками, символизировавший нашу силу, они ответили мне тем же.
Через несколько минут пришел один из помощников шерифа и попросил меня после освобождения идти прямо через улицу во избежание столкновений с полицией. Снаружи собралась толпа народа для участия в митинге, который должен был состояться в парке на озере Мерритт сразу после того, как я буду освобожден. Помощник шерифа сказал, что люди блокировали улицу, и в интересах суда они должны были ее очистить. На лице у помощника шерифа была неестественно большая, угодливая улыбка. Я посмотрел в его холодные голубые глаза и сказал, что я выхожу из тюрьмы, вот в чем дело. Затем мои адвокаты подписали кое-какие бумаги, я же пошел в свою камеру забрать свои личные вещи и попрощаться со всеми заключенными. Мне нужно было сделать это очень быстро, так как я чувствовал перед ними вину. Мне-то повезло, а вот многим из них предстояло оставаться в неволе еще долгое время, возможно, даже до высшего подъема революции.
Адвокаты взяли мои коробки, а я пошел к воротам и вышел из тюрьмы на десятом этаже. Впереди во весь коридор стояла плотная стена из газетчиков и журналистов с телевидения, повсюду были камеры и лампы. Все кричали, задавали вопросы, требовали ответов. Я пытался пройти к лифту с моими братьями Уолтером младшим и Мелвином. С нами был и Дэвид Хиллиард. Пара «Черных пантер» расчищала дорогу. Нам удалось добраться до лифта, но в последний момент, совершив отчаянный прорыв, журналисты забились в лифт с нами. Мы поехали вниз, но перегруженный лифт остановился чуть ниже четвертого этажа. Остаток пути мы проделали по лестнице.
Спустившись на первый этаж, мы пошли к тому выходу, откуда мы могли выйти к главному входу в парк на озере Мерритт. Денек был хороший, ясный — просто фантастический, как раз такой я и хотел. Впереди я видел тысячи красивых людей и море поднятых рук, махавших мне. Когда я потряс руками в знак нашей силы, море рук взметнулись в ответ и все начали приветствовать меня громкими криками. Господи, Боже мой, это было по-настоящему здорово. Я всем существом чувствовал момент освобождения и обретение свободы. Ощущения были такие, словно жарким летним днем ты снял с себя рубашку и почувствовал себя свободным, ничем не связанным. Позже я действительно снял рубашку, но пока было ясно, что мы не выйдем через парадный вход. Огромная толпа пришедших поддержать меня людей заполнила всю улицу, начиная от ступенек здания суда до входа в парк. Я глотал слезы от восторга. Как прекрасно было выйти на волю! Но еще больше меня воодушевляли участие и искренние чувства людей. Толкотня была настолько сильной, что мы повернули назад и пошли к другому выходу. Но люди быстро обежали здание, поэтому, когда мы спустились по ступенькам и вышли на улицу, они нас сразу окружили с радостными криками и потащили за собой.
Ко мне подбежали сестры Леола, Дорис и Миртл, мы обнялись. Впереди меня шли Фей Стендер, Алекс Хоффман и Эдвард Китинг. На Чарльза Гэрри навалились журналисты. Рядом со мной были братья Мелвин и Уолтер, а также Дэвид и Пэт Хиллиарды, Масаи Хьюитт, министр образования, много товарищей из партии. Это было почти как на большом ежегодном празднике, где всегда полно народа. Я не мог идти, я чувствовал, что задыхаюсь, но все это было не важно. Пребывая в эйфории, я просто держался за своих близких, друзей и товарищей, и меня несли вперед, а мои ноги едва касались земли. Это был прекрасный день.
Когда мы, наконец, добрались до машины, мы не смогли выехать, потому что кругом была толпа. Очистить улицу можно было лишь одним способом — для этого я должен был забраться на машину. В первую очередь я попросил людей разойтись, но они требовали, чтобы я что-нибудь сказал. Я собрался выступить и провести импровизированный митинг прямо здесь и сейчас, но тут со своей выигрышной позиции я увидел, как к толпе незаметно подбирается полиция с дубинками, щитами и в шлемах. У них руки чесались начать разгон людей. Поощрять массовые столкновения с полицией в том случае, если их можно избежать, — значит идти против принципов нашей партии. Поэтому я просто сказал несколько слов и попросил людей очистить территорию. Но они все равно не расходились и требовали больше. Пришлось отослать их в Мемориальный парк Бобби Хаттона, где планировался митинг. После этого народ бросился к своим машинам — как нельзя удачно, потому что это затормозило продвижение полицейских. Теперь мы должны были что-то сделать. Я солгал, чтобы заставить людей уйти с улицы и подальше от полиции. На самом деле, никакой митинг мы не планировали. Я послал в парк одного из чернокожих братьев, чтобы он сказал народу, что мы не сможем прийти сегодня по соображениям безопасности. Все мои знакомые, включая адвокатов, советовали мне не показываться без защиты в местах большого скопления людей. Это стало бы откровенным приглашением для какого-нибудь маньяка, захотевшего меня подстрелить. Накал страстей был еще очень высоким, так что мы решили дождаться более спокойных времен для моего появления перед широкой публикой.
Я хотел было поехать прямо домой, но братья и сестры решили, что мое появление будет слишком большим потрясением для нашего отца. Он не очень хорошо себя чувствовал — сильные переживания были не для него. Наша мать лежала в больнице. Она не знала о моем освобождении, но Мелвин и остальные подумали, что она справится с этим известием лучше отца. Однако прежде чем увидится с матерью, я зашел к одному другу, сменил тюремную одежду и отправился на пресс-конференцию в офис Чарльза Гэрри. Эта пресс-конференция отличалась от всех остальных. Сюда пришло много участвовавших в движении людей, которые стали мне по-настоящему близки за долгие месяцы тюрьмы. Поэтому эта пресс-конференция напоминала все что угодно, но не прохладные встречи, которые у меня случаются с представителями обычных средств массовой информации. Стоило мне начать отвечать на какой-нибудь вопрос, как я внезапно понимал, что с человеком, задавшим вопрос, я бы хотел потолковать лично. В тот день это ощущение не отпускало меня. На пресс-конференции присутствовали и журналисты, работавшие на Истеблишмент, но девяносто процентов гостей представляли альтернативную прессу. На пресс-конференции я предложил бойцов нашей партии Фронту национального освобождения Народной республики Вьетнам.
После пресс-конференции я направился в больницу повидать мать. Произошло счастливое воссоединение матери и сына. Позже, когда я встретился с отцом, он был растроган до глубины души и рыдал. Отец сказал, что он уже и не надеялся прожить так долго, чтобы увидеть меня на свободе.
Первые несколько дней после освобождения я не переставал удивляться тому, что вновь обрел реальность — и в отношении себя, и в отношении окружающего мира, в отношении всего, что со мной происходило. Я действительно забыл, что это такое — жить на свободе.
Я был вынужден заново развивать свои прежние рефлексы, чтобы не вздрагивать и не чувствовать недоумение при виде каких-то вещей. Люди, никогда не сидевшие в тюрьме, не осознают, что их поведение — это, по большей части, ответ на внешнее воздействие, причем этот ответ не контролируется сознанием. Люди инстинктивно реагируют адекватно на те или иные вещи, поскольку они привыкли к ним. Социальное воздействие и социальные факторы не ошарашивают их.
Несколько лет я был отрезан от внешнего мира. Поэтому сначала жизнь показалась мне резкой и порывистой, начисто лишенной какой-либо синхронности. От всех этих звуков, движений, разноцветья, сваливавшихся на меня одновременно, — телевизор, телефон, радио, разговаривающие люди, которые ходят тут и там, звонки в дверь и телефонные звонки — от всего этого голова шла кругом. Обычная жизнь казалась мне лихорадочной и хаотичной и абсолютно подавляющей. Мне даже пришлось выяснять, что есть и в каком часу отправляться спать. В тюрьме все это решалось за меня.
Прогулка по улицам стала для меня неописуемым переживанием, самым интимным из всех тех, что я ощутил, оказавшись на свободе. Кругом были люди, он узнавали меня, приветственно махали мне руками. Я навещал людей по всей общине. Многие из них удивлялись, так как они не ожидали меня увидеть живьем на улице после выхода из тюрьмы, разве что на экране телевизора или в Голливуде. Но я твердо решил вернуться к ним и быть среди них. Я ездил по Окленду, ездил в Беркли, Ричмонд и Сан-Франциско. Я ходил по Седьмой-стрит, Сакраменто-авеню, Портреро-хилл, Хантерс-поинт, Ричмонду, Северному Ричмонду, Западному Окленду, Пералта-стрит, Кипарисовой улице, Восточному Окленду и Парчестер-вилладж. Я заглянул в несколько баров, где набрал немало людей для нашей партии. И где бы я ни появлялся, реакция везде была одна и та же: люди недоумевали, почему я к ним вернулся. Я объяснял, что из тюрьмы меня вытащили не журналисты и не телевизионные камеры, народ освободил меня, и я пришел поблагодарить его и остаться с ним.
В церкви Св. Августина, где служил Отец Эрл Нейл, я поговорил с его прихожанами. Здесь меня тоже ждал теплый прием. Отец Нейл — это молодой чернокожий священник епископальной церкви. Он помогает общине и сотрудничает с «Черными пантерами» с момента своего приезда в Окленд. Мы считаем его своим священником. В начале 1960-х годов он участвовал в правозащитных акциях в Миссисипи, так что он не понаслышке знает о жестокости и насилии. Во время моего судебного процесса он часто приходил в зал суда поддержать меня.
Несмотря на теплый прием, все-таки для людей я был теперь в первую очередь символом. Наши отношения изменились. В них появился элемент поклонения герою, которого не было и в помине до моего ареста. Но я хотел, чтобы все было как раньше, до того, как я оказался в тюрьме. Другими словами, я хотел, чтобы наши отношения были основаны на равноправном диалоге, и были отношениями людей, которые вместе работают на одну цель — на выживание. Думаю, мне удалось восстановить их веру в меня и их доверие ко мне, хотя, возможно, наши отношения никогда не будут прежними: тесные семейные узы, существовавшие между нами в прежние времена, были ослаблены тем моим образом, который был создан в ходе огласки дела. Постарались здесь и средства массовой информации. Столько всего было написано, столько всего было сказано — это отдалило меня от людей, в наших отношениях возник холодок. С этим предстояло бороться.
Все это время я испытывал огромное давление извне: на меня так и сыпались приглашения на интервью, выступления, на ток-шоу и в различные телевизионные программы. За полгода я не принял ни одного из этих предложений. Я даже получил пакет из одной голливудской студии. Там были газетные вырезки со статьями обо мне, а также письмо, где говорилось, что я теперь звезда или что-то в этом роде. Все это было бы на самом деле забавно, если бы это не была очевидная попытка капитализма внедриться в революцию. Слишком много так называемых лидеров движения были превращены в знаменитостей. Масс-медиа уничтожили их революционный пыл. Они попали в объектив Голливуда и утратили связь с реальными проблемами. Задача состоит в том, чтобы изменить общество. Сделать это может лишь народ — не герои, не знаменитости, не звезды. Место звезд — в Голливуде, революционер должен оставаться в общине, со своим народом. На киностудии создают вымысел, но партия «Черная пантера» все свои силы отдает тому, чтобы сказку сделать былью. Мы делаем революцию.
29. Восстановление
Люди, которые вышли из тюрьмы, могут построить страну.
Несчастье — это проверка на верность.
Те, кто протестуют против несправедливости, обладают подлинным достоинством.
Когда двери тюрьмы распахнутся, оттуда вылетит настоящий дракон.
Хо Ши Мин. Каламбур II // Тюремный дневникВернувшись на улицу, я довольно быстро опять втянулся в решение жизненно важных проблем, которые определяют бытие негритянской общины. В то время самым ответственным заданием для нас было освободить Бобби Сила и Эрику Хаггинс. Они находились в тюрьме в Коннектикуте и ждали суда по обвинению в убийстве первой степени.[57] Бобби и Эрика не должны были и дня провести в тюрьме по этим нелепым обвинениям в причастности к убийству Алекса Рэкли. Добиться смертной казни для Бобби или запереть его в тюрьме было частью заговора Истеблишмента. Они пытались сделать это с момента основания нашей партии. После неудачи в Сакраменто и Чикаго Истеблишмент предпринял самую серьезную попытку и предъявил обвинения в убийстве в Коннектикуте. Чтобы одолеть Истеблишмент, нужны были серьезные и эффективные ответные действия. Кроме того, оставались еще Братья в Соледаде — Товарищи Джордж Джексон, Флита Драмго и Джон Клатчетт. Они тоже ждали суда. Их жизни висели на волоске из-за сфабрикованного обвинения в убийстве тюремного охранника. Партия уже сделала первоначальные взносы, чтобы адвокаты могли начать работу, но мы старались изо всех сил, чтобы еще больше поддержать товарищей. Мы также помогали обеспечить защиту в деле Лос-Сьете де ла Раца: семеро чикано находились в ожидании суда в Сан-Франциско, их обвиняли в убийстве полицейского. Продолжавшееся рассмотрение моего собственного дела казалось незначительным по сравнению с тем колоссальным давлением, которое Истеблишмент оказывал на наших доблестных воинов. При неблагоприятном раскладе мне грозило тринадцать лет тюрьмы, а вот моим товарищам всем до одного угрожала смерть.
Ряд других партийных вопросов тоже требовал соответствующих действий. Я вышел из тюрьмы в августе 1970 года, когда оставалось меньше месяца до предварительного съезда участников Революционно-конституционный съезд, который должен был проходить в Филадельфии на выходных перед Днем труда.[58] Второй съезд был назначен на День благодарения[59] в Вашингтоне, округ Колумбия. Идея провести все эти съезды принадлежала Элдриджу Кливеру. Я никогда не испытывал дикого энтузиазма по этому поводу, но раз партия поддержала Элдриджа, я выполнял ее указания. На съездах предполагалось обсудить положение негров и сформулировать новую Конституцию Соединенных Штатов. Я не видел особого смысла в том, чтобы тратить время и силы на написание Конституции, принятия которой мы все равно не сможем добиться. Элдридж был в Алжире, и мы несколько раз разговаривали с ним об этом по телефону. Я доказывал ему, что самым неотложным делом сейчас было обеспечить надежную поддержку Бобби и Эрике со стороны общины и не забыть про Братьев из Соледада. В какой-то степени Элдридж согласился со мной, поэтому мы договорились насчет того, что на съезд в Вашингтоне приедет и выступит там Кэтлин Кливер. У нее были большие возможности. Что касается меня, то выступление на съезде в Филадельфии было первым моим появлением перед широкой публикой после освобождения. Люди многого ждали от меня, поэтому я напряженно работал над текстом своего выступления.
Между тем, полиция Филадельфии намеревалась помешать проведению конференции. За несколько дней до предполагаемого начала этого мероприятия полицейские ворвались в штаб партии «Черная пантера» и арестовали большинство товарищей. Но община продемонстрировала свою сплоченность: за несколько часов мы все собрались, вернулись в наши офисы, сели на телефоны и продолжили подготовку конференции. Оказанная общиной поддержка явилась наглядным доказательством того, что мы никогда не сможем осуществить революцию без народа.
С другой стороны, многое из увиденного на съезде в Филадельфии обеспокоило меня. Я писал свою речь с таким расчетом, чтобы помочь людям что-то понять для себя и продвинуть их сознание. Я хотел показать, что американская Конституция как законодательная база управления предала интересы чернокожих и прочих меньшинств в нашей стране. Я подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки возникли в то время, когда американский народ занимал лишь узкую полоску земли на восточном побережье континента, а население страны было небольшим и однородным как в расовом, так и в культурном отношении. Экономика страны тогда тоже была иная, основана преимущественно на сельском хозяйстве. Невысокое население и обилие плодородной земли означало, что люди могли добиться успеха и что возможные достижения зависели от их собственной мотивации и способностей. Так что в новой стране стал процветать демократический капитализм. Затем я сказал следующее:
«Время было свидетелем тому, как новое государство быстро превратилось в многорукого гиганта. Растущая страна требовала новых земель и, начав с узкой полоски земли на восточном побережье, заняла почти всю территорию континента. Новой стране требовалось население, чтобы заполнить эти пространства. Людей привозили и из Африки, и из Азии, и из Европы, и из Южной Америки. Таким образом, страна, которая зарождалась как государственное образование с однородным и небольшим населением, занимающее маленькую территорию, превратилась в страну с разнородным населением внушительных размеров, располагающуюся на территории целого континента. Это изменение в основных параметрах страны и ее народа привело к коренным изменениям сущности американского общества. Кроме того, социальные подвижки сопровождались и изменениями в экономике. Сельское хозяйство уступило место городской и индустриальной экономике после того, как промышленное производство заменило аграрный труд. Первоначальный демократический капитализм охватило неослабевающее желание получать прибыль. В итоге эгоистичная погоня за прибылью заслонила бескорыстные принципы демократии. Таким образом, через двести лет мы имеем чрезмерно развитую экономику. Стремление к прибыли настолько проникло в нее, что мы заменили демократический капитализм бюрократическим капитализмом. Неограниченная возможность для всех людей преследовать собственные экономические интересы сменилась принуждением американцев (ограничением) со стороны крупных корпораций, контролирующих нашу экономику и управляющих ею. Они нашли способы поднять свои прибыли за счет народа и, особенно, за счет расовых и этнических меньшинств.
Большинство оставалось свободным, а меньшинства угнетались. Мы можем это доказать, напомнив, что, хотя первые поселенцы в Америке провозглашали свою свободу, они целенаправленно и систематически лишали свободы жителей Африки…
На свет появлялись все новые и новые поколения большинства, они усердно работали и видели, что плоды их трудов обеспечивали жизнь, свободу и счастье их детям и внукам. На свет рождались все новые и новые поколения негров в Америке, они усердно работали и видели, что плоды их трудов обеспечивали жизнь, свободу и счастье детям и внукам их угнетателей, тогда как их собственные потомки увязли в трясине нужды и лишений. Их спасала лишь надежда на будущие изменения. Эта надежда поддерживала нас на протяжении многих лет и привела к тому, что мы страдаем под гнетом коррумпированного правительства. На заре двадцатого столетия эта надежда побудила нас создать правозащитное движение с верой в то, что наше правительство, наконец, выполнит свои обещания, данные чернокожим. Однако мы недоучли, что любая попытка осуществления обещаний революции восемнадцатого века правительством двадцатого столетия обречена на неудачу. Потомки небольшой группы первых поселенцев не принадлежат сегодня к простому народу. Они превратились немногочисленный правящий класс, контролирующий мировую экономическую систему. Их предки принимали Конституцию для того, чтобы она служила интересам народа, но теперь она не выполняет своего предназначения, потому что сам народ изменился. Народ восемнадцатого века в двадцатом веке стал правящим классом, а народ двадцатого века — это потомки рабов и лишенных собственности в восемнадцатом веке. Конституция, которая должна была служить интересам народа в восемнадцатом столетии, теперь служит интересам правящего класса, а живущий в двадцатом веке народ ждет не дождется, когда появится основание для его жизни, свободы и стремления к счастью».
Пока я выступал, мне казалось, что аудитория на самом деле не слушает меня; может быть, ей вообще было не интересно то, что я должен был сказать. Почти каждую произнесенную мною фразу встречали громкими аплодисментами, однако присутствующие больше занимались фразерством, чем были по-настоящему заинтересованы в идеологическом развитии. Признаюсь, что у меня не очень-то хорошо получается выступать перед большой аудиторией: я беру лекторский тон и начинаю всех учить, причем довольно скучно это делаю. Однако главное было в том, что участники съезда не откликнулись на мои идеи, они реагировали лишь на мой имидж. И хотя я был чрезвычайно взбудоражен кипевшей на съезде энергией и энтузиазмом, отсутствие серьезного аналитического подхода меня расстроило.
После Филадельфии мы предприняли попытку провести митинги по всей стране в рамках подготовки съезда в Вашингтоне. Мы рассчитывали на возвращение Кэтлин Кливер и ее помощь в организации этих митингов в поддержку Бобби и Эрики, ведь способность Кэтлин увлекать людей и вдохновенно говорить была нам известна. Мы знали, что она окажет нам содействие, в котором мы нуждались. Но по совершенно непонятным нам причинам Элдридж передумал и отказался разрешить Кэтлин приехать. Это был серьезный удар по нашим планам. Мы уже объявили о выступлении Кэтлин на съезде. Узнав о внезапном решении Элдриджа, я постарался придать предстоящей встрече в Вашингтоне иное направление. Так что съезд стал поворотной точкой в развитии нашей партии. Вместо работы над новой Конституцией, мы сосредоточились на создании программ по организации общины. Я разослал по всем отделениям партии указание подготовить демонстрационные плакаты, где бы в общих чертах объяснялись программы для общины, и сагитировать людей подписать эти плакаты. После возвращения со съезда товарищи располагали бы списком активистов, которых можно было бы привлекать к делу.
Лично для меня темой съезда в Вашингтоне была не подготовка новой Конституции, а организация людей с целью выживания. С того времени мы начали называть программы по работе с общиной программами по выживанию. Саму идею программ по работе с общиной развил Бобби Сил в ту пору, пока я сидел в тюрьме. Блестящий организаторский подход Бобби помог ввести эти программы в действие. Первой стали реализовывать программу «Завтрак для детей». За первой программой вскоре последовали и остальные: центры распределения одежды, школы освобождения, жилищные проекты, помощь заключенным, медицинские центры. Эти программы мы определяли как «программы по выживанию в преддверии революции». Нам нужны были долгосрочные программы и дисциплинированная организация для их осуществления. Программы были призваны помочь людям выжить, пока их сознание поднимается на следующий уровень. Это всего лишь первый шаг революции, в которой родится новая Америка. Я часто прибегаю к метафоре плота при описании программ по выживанию. Плот, которым пользуются в условиях бедствия, не предназначен для изменения условий. Плот помогает человеку пережить трудный момент. Во время наводнения плот служит спасательным средством, но все-таки это всего лишь средство добраться до безопасного места. Так получается и с программами по выживанию — они являются своего рода неотложной помощью. Сами по себе они не изменяют общественных условий, однако они служат средством спасения, пока условия меняются.
Съезд в Вашингтоне мог бы стать большим скачком, однако все пошло не так, как планировалось. Университет Хауарда, согласившийся предоставить помещение для проведения съезда, в последнюю минуту нам отказал. Пришлось искать другой зал. Несколько церквей разрешили воспользоваться их территорией, так что мы смогли провести там наши семинары и собрания. Но планирование и координация были неудовлетворительны, нам не хватало навыков проведения такого масштабного мероприятия.
Слабость подготовки съезда проявилась и в расплывчатости целей его участников, особенно это касалось белых. Мои цели отличались от их целей. Их привлекло в нашу партию краснобайство Элдриджа, и их взгляды начали оказывать слишком большое влияние на нашу деятельность. Я твердо решил, что мы не можем позволить белым радикалам определять направление борьбы за нас. Они слишком мало знают о нашем опыте и жизни негритянских общин. Чрезмерно увлеченные идеей насилия в революции, они хотели, чтобы «Черные пантеры» написали новую Конституцию, силой свергли правительство и дали новому законодательству ход. Но в Вашингтоне мы не стали заниматься законотворчеством, после чего мы получили критические отзывы, в которых заявлялось, что мы больше не являемся авангардом движения. Я не обращал на это внимания. На самом деле мы с удовольствием избавились от радикалов. Они ничего не делали, лишь разглагольствовали. Те, кто понимал подлинную суть революции, остались с нами.
Полная неразбериха на вашингтонском съезде обозначала провал и Элдриджа, и партии. Кливер требовал, чтобы мы воплотили его бредовые идеи немедленного захвата власти. Подавляющее большинство участников съезда в Филадельфии представляли негры, и они не давали нам отрываться от земли. Но в Вашингтоне преобладали фантазии белых радикалов и прочих, с кем сошелся Кливер. Мы, «Черные пантеры» оказались слишком мягкотелыми и не могли потворствовать этим ребятам. На вымышленных улицах Кливер и его инфантильные левые стояли на углах и ждали, когда революция сама придет к ним. А мы не могли дать народу манифест подобно Моисею с Синайской горы. Наша серьезнейшая ошибка заключалась в том, что на какой-то момент и мы присоединились к самоубийственному танцу вокруг золотого тельца. Из Вашингтона, этого города лжи, пришла плохая весть: американская революция дошла лишь до конца своего начала, но не до начала конца.
После освобождения из тюрьмы я целыми месяцами разъезжал по разным городам, встречаясь с товарищами и делая все возможное для организации комитетов помощи Бобби и Эрике. Поездки дали мне возможность оценить проделанную работу в десятках общин. Я увидел доказательства того, что «Черные пантеры» создали действительно сильную организацию. Но нам оставалось сделать еще больше, намного больше. Теперь у нас была основа, на которой можно было создавать мощную общественную силу в стране. Вместе с тем некоторым нашим руководящим товарищам недоставало комплексной идеологии, необходимой для анализа событий и явлений в творческом, динамичном ключе. Мы старались развивать их способность к пониманию на занятиях по политической грамотности. Мы ощутили потребность в отдельном учреждении, которое целенаправленно занималось бы политической подготовкой. После обсуждения в Центральном комитете партии мы основали Идеологический институт в Окленде. Это случилось в декабре 1970 года. Институт был создан с целью обучения наших самых передовых товарищей оценивать события в соответствии с линией партии «Черная пантера». С момента выхода из тюрьмы я очень много думал о новых идеях и концепциях. Однако я не хотел, да и не мог быть единственным, кто занимался разработкой идей и программ. Если им дали бы возможность, другие товарищи тоже смогли бы предложить творческие программы и свежие решения в условиях социальных изменений. Это очень существенно для продвижения революционной мысли. Идеологический институт преуспел в обучении товарищей пониманию диалектического материализма. Около трехсот чернокожих братьев и сестер посещают занятия в институте, чтобы основательно изучить работы великих мыслителей и философов-марксистов.
Тем временем мы продолжали помогать Бобби и Эрике. В одной из поездок в Нью-Хэвен по делам, связанным с подготовкой судебного процесса, я встретился с Эриком Эриксоном, известным автором многих книг, профессором эволюционной психологии в Гарварде. Его сын Кай, по образованию социолог и глава Трамбольского колледжа в Йеле, посчитал, что для меня и его отца было бы интересно провести серию дискуссий. Я согласился, и в начале февраля 1971 года Кай организовал трехдневный семинар в Йельском университете. В семинаре приняли участие два преподавателя университета и четырнадцать студентов — восемь белых и шестеро чернокожих. Встречи проходили в библиотеке издательства университета.
Мне очень нравился Эриксон, и у нас с ним неплохо получилось провести семинары, несмотря на кое-какие трудности с общением в первые два дня. Сначала мы не попадали в такт друг другу, а студенты говорили такие сумасшедшие вещи, что только затрудняли нашу беседу. Они пришли слушать революционные лозунги и пропаганду насилия, и их не удовлетворяло что-то меньшее, чем радикальные решения социальных проблем. Разговор строился вокруг идеологии «Черных пантер». Эриксон увидел обоснованность идеологического подхода нашей партии. Он указал, что два человека могут любить друг друга, если только оба они обладают чувством собственного достоинства. В противном случае их отношения будут уже чем-то иным. Эриксон отметил необходимость понимания того, насколько сложны все проблемы и все взаимоотношения. Он внес немало ясности в нашу беседу, вспомнил свою молодость, когда он был студентом Фрейда, обратился к своим исследованиям, посвященным Ганди и Мартину Лютеру. Несмотря на некоторые разочаровавшие меня моменты, думаю, мы оба узнали друг от друга много нового.
Во время встречи с Эриксоном в Йельском университете моей секретаршей была Конни Мэтьюс, состоявшая в нашей партии. Конни была родом с Вест-индских островов, но потом она перебралась в Европу и какое-то время жила в одной из скандинавских стран. Она утверждала, что бегло говорит на нескольких языках. Конни вступила в нашу партию после того, как услышала выступление Бобби Сила во время одного из его европейских турне. Тогда я был еще в тюрьме. Сначала она занималась организацией групп «Черных пантер» в Европе, а затем переехала в американское посольство в Алжире и перешла под руководство Элдриджа Кливера. Когда оставалось меньше двух месяцев до моего выхода из тюрьмы, Элдридж отправил Конни в Окленд для работы в центральный штаб партии. Там ей велели заниматься подготовкой моих поездок, выступлений и т. д. Мне она показалась не очень надежной, поэтому я несколько раз предлагал отослать ее обратно в Алжир, но Элдридж настаивал на том, чтобы оставить Конни в Окленде.
В конце 1970-х годов Конни вышла замуж за Майкла Тейбора по кличке Сетавайо. Этот парень был членом нашей партии в Нью-Йорке. Он оказался среди участников того самого цирка, который штат назвал делом о заговоре (всего по этому делу обвинялся двадцать один человек).[60] Сетавайо был отличным организатором и неплохим оратором, однако он пострадал от употребления сильных наркотиков и тюрьмы. Он полностью попал под влияние Конни.
Когда завершились наши с Эриксоном семинары, Конни и Сетавайо исчезли, прихватив с собой немало моих личных документов. Разумеется, когда Сетавайо не явился в суд, будучи выпущенным из тюрьмы под залог, остальные обвиняемые попали в опасную ситуацию. Но еще больше меня озадачивал другой вопрос: куда эта парочка могла отправиться? Конни не являлась гражданкой Соединенных Штатов, и у нее были бы проблемы, останься она на территории страны. Сетавайо бежал из-под суда, и он не мог так легко перемещаться за границей, за исключением Кубы и Алжира. Я не думал, что они рванули на Кубу: они были не похожи на тех, кто готов работать до седьмого пота. Если они поехали в Алжир, то там они попали бы прямо к нам в руки. Однако последняя версия заставила меня крепко поразмыслить. Прикинув все варианты, я начал подозревать, что что-то было не так между Элдриджем Кливером, который находился в Алжире, и Центральным комитетом партии в Окленде. Но я ничего не сказал, у меня не было достаточно доказательств, поэтому я решил подождать и понаблюдать.
Между тем на 5 марта 1971 года в Окленде был запланирован грандиозный митинг. Он открывал крупномасштабную акцию в поддержку всех политических заключенных. Основной упор делался на предстоящий суд над Бобби и Эрикой в Нью-Хэвене. Митинг, получивший название День солидарности всех общин, должен был состояться в Оклендском зрительном зале. Главным оратором на митинге должна была стать Кэтлин Кливер. Музыкальное сопровождение обеспечивали группы «Грейтфул Дед» и «Люмпены»; вторая команда — это была группа «Черных пантер», целью которой было не развлекать публику, а при помощи музыки и песен поднимать уровень политической грамотности слушателей. Мы хотели привлечь многих и самых разных представителей негритянских общин Залива.
Во время подготовки митинга я несколько раз беседовал с Элдриджем по телефону. Несмотря на некоторые разногласия по вопросам стратегии и тактики, мы все-таки сошлись на том, что митинг надо проводить так, как он запланирован. Однако мы начали сильно сомневаться по поводу прибытия Кэтлин. И у нас была на то причина, ведь она не появилась в ноябре прошлого года на Революционно-конституционном съезде в Вашингтоне. Но когда я поделился этими сомнениями с Элдриджем, он заверил меня, что Кэтлин обязательно приедет.
В дополнение к митингу в Окленде мы запланировали проведение серии митингов по всей стране с участием Кэтлин и местных представителей партии. Через эти митинги мы намеревались привлечь людей, которых потом могли организовать в группы. Предполагалось, что эти группы будут привлечены к подготовке защиты на различных судебных процессах, а также примут участие в программах по выживанию, которые осуществляла партия.
Чтобы разрекламировать День солидарности всех общин, я согласился появиться в одном ток-шоу на местном телевидении. Выступить в этой программе означало использовать средства информации, принадлежавшие угнетателю, с целью передачи нашего сообщения народу. Примерно за три часа до начала телепрограммы у меня возникла интересная идея, и я позвонил Элдриджу, чтобы обсудить ее с ним. В это шоу обычно звонили люди и задавали вопросы, но я хотел предложить кое-что другое. Ведущий шоу мог бы позвонить Элдриджу в Алжир, поговорить с ним о митинге в прямом эфире и сделать анонс выступления Кэтлин. Я знал, что это подогреет интерес к митингу и увеличит число участников. Самое главное, что повысить явку на митинг можно было за счет телевидения. Организаторы шоу с энтузиазмом приняли мою идею. Когда я рассказал о своем плане Элдриджу, ему тоже понравилось, и он пообещал подготовиться к звонку. В то утро я приехал на телевидение в оптимистичном настроении. Нас ждала лучшая местная реклама, на митинг придет уйма народу, мы заложили прочную основу для нашей работы по освобождению политических заключенных. Вот что я думал перед началом программы.
Потом начался телефонный разговор с Элдриджем, и все перевернулось с ног на голову. Сначала даже я поверить не мог в то, что он делает. Он вмешался в партийные дела и не просто в партийные дела, а в дела Центрального комитета, затронув вопрос об исключении из комитета Конни Мэттьюс Тейбор, Сетавайо Тейбора, «группу двадцати одного», обвиняемых в нью-йоркском заговоре, а также Элмера Пратта по кличке Джеронимо, члена нашей партии из Лос-Анджелеса. Все эти «Черные пантеры» обвинялись в серьезном преступлении — в совершении действий, которые подвергли опасности других товарищей и партию в целом. Нью-йоркская «группа двадцати одного» написала открытое письмо «Метеорологам», в котором говорилось, что руководство нашей партии потеряло революционный дух. Там также было сказано, что настоящим авангардом революции являются «Метеорологи». Мы спокойно отнеслись к подобному заявлению, если они захотели занять такую позицию — это их личное дело. Однако Центральный комитет посчитал, что этим письмом «группа двадцати одного» сама исключила себя из партии. Официальное исключение было лишь подтверждением этого факта. В остальных случаях действия Центрального комитета тоже были оправданы, поскольку их совершения нашлось предостаточно оснований.
И теперь, на виду у тысяч зрителей, Элдридж решил выразить несогласие с действиями Центрального комитета партии. Впрочем, против меня он ничего не сказал, его атака была направлена на начальника штаба — Дэвида Хиллиарда. Элдридж обвинил Дэвида в том, что тот допустил развал партии, и добавил, что мы исключили многих преданных товарищей без существенной причины. Я не согласился с Элдриджем и стал защищать Дэвида. Дэвид успешно поддерживал единство партии, пока я находился в тюрьме. Нередко получалось так, что Дэвиду мало кто помогал, и все же он не позволил партии распасться. На мой взгляд, если кто и был здесь виноват, то это был я. Какие бы ошибки не совершала партия, всю ответственность за них я беру на себя, сказал я.
Я был вне себя от этой выходки Элдриджа, тем не менее, я постарался сохранить спокойствие, и после завершения телефонного разговора с Элдриджем я отвечал на вопросы слушателей. Но мои мысли были уже далеки от всего происходящего. Я пытался уяснить причины, побудившие Элдриджа так выступить на публике, особенно с учетом того, что три часа назад он согласился участвовать в программе. Что вообще происходило? Даже когда я начал кое-что понимать, когда все детали начали складываться в одну картину, я по-прежнему продолжал верить, что все дело было в противоречии, которое можно было уладить внутри партии. Мне не приходило в голову, что Элдридж, возможно, хотел разрушить партию.
Из телевизионной студии я направился прямо к телефону-автомату и стал звонить Элдриджу. На людях я сохранял хладнокровный вид, но внутри у меня все кипело, и я хотел показать Элдриджу, что я чувствую на самом деле. Когда нас соединили, я высказал ему все: что ему дела нет до политических заключенных, что на этот раз, когда у нас была уникальная возможность сделать огромный шаг вперед в организации поддержки этим заключенным, он поступил крайне эгоистично и говорил невесть что. Суд над Бобби в Нью-Хэвене только что начался, мы понятия не имели, чем все закончится, и, несмотря на это, Элдридж продемонстрировал полнейшее пренебрежение и к Бобби, и ко всем остальным, кто ждал суда. Закончив говорить, я полетел в Бостон и оттуда позвонил Элдриджу опять. Чего я не знал, когда звонил Элдриджу оба раза, так это то, что я говорил не с ним, а с магнитофоном. Элдридж записал мои звонки, а потом отдал запись в телерадиокомпанию Эн-Би-Си в Нью-Йорке, после чего мой «частный, привилегированный» протест услышала вся Америка. Министр информации подставил меня. Он совершал реакционное самоубийство и пытался утащить меня за собой.
Вскоре стало ясно, что Элдридж организовал заговор с целью подорвать работу партии и принести Бобби и Эрику в жертву Истеблишменту. Для осуществления своих замыслов Элдридж подвергал сомнению партийную идеологию и пытался настроить некоторых «Черных пантер» против партии и Центрального комитета. Сразу после публичных обвинений, сделанных Элдриджем в адрес Хиллиарда, ведущие члены партии четырех нью-йоркских отделений и одного отделения в Нью-Джерси открыто заявили о том, что они поддерживают Элдриджа и уходят из партии. Очевидно, что эта кампания была хорошо спланирована заранее. Злоумышленники только и ждали подходящего момента. Окончательным доказательством заговора стало возвращение Конни Маттьюс Тейбор и Майкла Сетавайо Тейбора в Алжир. Все указывало на то, что в октябре 1970 года Элдридж послал Конни в Окленд, уже запланировав заговор, который был проведен в феврале 1971 года. Сейчас измена Элдриджа ни для кого не является секретом.
Следующие несколько недель оказались напряженными, но мы продвигались с подготовкой Дня солидарности всех общин, назначенного на 5 марта. Главным оратором на митинге теперь должен был стать я. Я знал, что все участники митинга будут ждать, что я скажу что-нибудь о Кливере в ответ на все его обвинения, прозвучавшие во время телефонного разговора в прямом эфире. Но в день митинга я решил, что не буду упоминать Элдриджа, просто выступлю с короткой речью без всяких прямых упоминаний того, что случилось в студии. Митинг имел бешеный успех. С его помощью удалось заинтересовать людей в программах по выживанию и оказать широкую поддержку политическим заключенным. Все больше и больше людей из негритянской общины разделяли наше твердое решение прилагать все усилия для освобождения из тюрьмы наших братьев и сестер, несмотря на политическое угнетение, тюремное заключение и даже угрозу смерти.
После митинга, всю весну и лето мне пришлось по-настоящему побегать. Программы по выживанию, Идеологический институт, реорганизация партии — все это требовало моего неусыпного внимания. К тому же в эти месяцы одно за другим происходили очень важные события, как трагические, так и радостные для нас. В конце мая с Бобби и Эрики, которых защищал Чарльз Гэрри, были сняты все ложные обвинения, предъявленные им штатом Коннектикутом. После кратковременной задержки Бобби был освобожден, и они с Эрикой вернулись в Окленд, чтобы возобновить свою работу в общине. Встреча с Бобби для меня стала волнующим событием. Мы не ходили вместе по улицам Окленда с августа 1967 года, когда еще было непонятно, какой станет наша партия. Теперь, почти четыре года спустя, мы вновь оказались в квартале с нашими друзьями. За это время нам довелось пережить много опасностей и боли, мы выдержали и стали еще сильнее и еще преданнее делу, чем когда-либо. За наше дело стоило страдать. Кроме того, за эти годы наша партия из небольшой группы местного масштаба превратилась в крупную организацию с отделениями по всей Северной Америке и за границей. Многие из наших доблестных воинов погибли, другие, кто пришел в партию с самого начала, оказались не способны справиться с тяготами продолжительной революционной борьбы. Но мы были счастливы снова быть вместе, объединенные одними целями во имя нашего народа.
Но Истеблишмент не отступал и намеревался заставить нас держать оборону. Окружной прокурор Аламедского округа предпринял действия, направленные на то, чтобы отдать меня под суд во второй раз. Еще более серьезными были меры, предпринятые прокурором с целью засадить за решетку Дэвида Хиллиарда, начальника штаба. Сфабрикованное против него обвинение тянулось еще с перестрелки 6 апреля 1968 года, когда был убит Бобби Хаттон. Дэвида Хиллиарда обвиняли в нападении с применением смертельного оружия на полицейского, «выполнявшего свой служебный долг». Дэвида арестовали тем же вечером, хотя не было никаких доказательств того, что у него было оружие или того, что он вообще находился на месте перестрелки. Несмотря на это, окружной прокурор, выступавший обвинителем по делу Дэвида Хиллиарда, получил таких присяжных на суде, которых хотел (они обычно так и делают), и смог подвести их к признанию Дэвида виновным по предъявленному обвинению, хотя прокурор сам не сумел доказать, что у Дэвида было оружие. Вновь партия «Черная пантера» получила такое «правосудие», какого мы ожидали. В июле Дэвида отправили в тюрьму штата на срок от одного до десяти лет, но потом быстро переправили в тюрьму Вакавиль, как поступили и со мной три года раньше.
На протяжении пяти лет с момента создания партии постоянно возникало ощущение, что время для нас измеряется не днями, годами или часами, а попаданием наших товарищей и братьев в тюрьму и их выходом оттуда, а также датами судебных слушаний, освобождений и судебных процессов. Наши жизни подчинялись не обычному ритму повседневных событий, а искусственно запущенному часовому механизму судебной процедуры. Дэвид еще не начал отбывать наказание, а наше внимание уже было приковано к приближающемуся суду над Джорджем Джексоном. Его ложно обвинили в убийстве тюремного охранника в Сан-Квентине. Судебный процесс должен был начаться 23 августа. За два дня до начала суда, 21 августа, Джордж Джексон был застрелен насмерть своими врагами. Он пытался спасти своих братьев из того же тюремного блока от резни, которую хотели устроить охранники. Сбылось его собственное пророчество: «Я знаю, они не успокоятся, пока окончательно не вышвырнут меня из этой жизни».
30. Павший товарищ
Человек из «Черных пантер» — это наш брат и наш сын, тот, кто не боялся.
Джордж Джексон. Брат из СоледадаУ Джорджа Джексона был талант. Подлинный талант — сам по себе редкостная вещь, которую следует ценить по достоинству. Но когда в чернокожем человеке талант соединяется с революционным пылом и революционным видением, Истеблишмент непременно избавится от него. Товарищ Джексон это понимал. Он знал, что дни его сочтены и готовился уйти из жизни как человек, искренне верящий в революционное самоубийство. На протяжении одиннадцати лет ему удавалось сохранять свободу в бесчеловечных условиях тюремной системы. Все это время он сопротивлялся тюремной администрации и вдохновлял своих братьев, оказавшихся в тюрьме, последовать его примеру. Штат отвечал соответствующим образом: в условно-досрочном освобождении Джексону постоянно отказывали, на семь лет посадили его в одиночную камеру. Он часто слышал обещания расправиться с ним: ему угрожали охранники, заключенные, называвшие себя «помощниками Гитлера». «Безликие садистские свиньи» пугали его «ножом и заточкой». И, в конце концов, они убили его.
За несколько месяцев до его гибели кольцо вокруг Джексона стало сжиматься. Он был одним из немногих заключенных, на которых надевали цепи и усиленно охраняли во время его нечастых походов в комнату для свиданий. Покушения на его жизнь стали случаться почти ежедневно. Но он не сдался и не отступил. В тюрьме выковался его дух, и Джордж часто цитировал слова Хо Ши Мина, чтобы описать свое сопротивление: «Несчастья закалили меня и превратили мой ум в сталь».
Я знал Джексона, как брата. Сначала я почувствовал его на духовном уровне, познакомившись с его сочинениями и услышав легенду, ходившую о нем в тюрьмах. Тогда я сидел в колонии для уголовных преступников, а он — в Соледадской тюрьме. Вскоре после моего прибытия в колонию я получил по тюремной почте просьбу Джорджа принять его в партию «Черная пантера». Эту просьбу мы охотно удовлетворили. Джордж был включен в ряды Народной революционной армии с присвоением званий генерала и фельдмаршала. В течение последующих трех лет мы поддерживали постоянную связь, обмениваясь сообщениями. Их передавали наши друзья, адвокаты и заключенные, которых перевозили из одной тюрьмы в другую. Несмотря на ограничения, действующие в тюремной системе, мы ухитрялись отправлять друг другу и письменные сообщения, и надиктованные на кассету. В числе того, что Джордж сделал для нашей партии, были статьи, написанные для газеты «Черная пантера». Эти статьи способствовали дальнейшему развитию нашей революционной теории и стали источником вдохновения для всех чернокожих братьев. В феврале 1971 года я получил следующее письмо от Джорджа:
2/21/71
Товарищ Хьюи,
Сейчас все спокойно, сегодня вечером у нас дисциплина и согласие. Завтра все может опять развалиться, но таковы мы.
У меня есть пара статей. Я бы хотел, чтобы их опубликовали в газете, в двух номерах подряд, т. е. через неделю. Сначала статья об Анжеле. Потом, если вы одобрите этот материал, я бы хотел что-нибудь писать в каждый номер или когда у вас найдется для меня место.
Если вы согласны, скажите мне, есть ли какой-то отдельный вопрос, который вы бы мне поручили освещать (комментировать).
Еще момент — я пишу как наблюдатель или как участник?
Окажите мне одну услугу — пожалуйста, не позволяйте никому что-либо убирать из текста или делать исправления, мне не нужен редактор за одним исключением: если то, что я скажу, не будет согласовываться с линией партии. В противном случае не разрешайте никому изменять даже слово. Когда я допускаю идеологическую ошибку, конечно, исправьте ее, чтобы материал соответствовал позиции партии. И не позволяйте им сокращать или сжимать текст; если что-нибудь покажется слишком длинным, разделите на две части.
Если вы захотите, чтобы я говорил неприятные вещи о тех, кто этого заслуживает, в этом случае для меня лучше всего занять позицию наблюдателя, тогда будет меньше противоречий вами и теми людьми, с которыми, возможно, вы должны работать.
Вы сказали, что между нами как-то раз возникло «непонимание», но это мы уже прояснили. Когда это было, чтобы мы неправильно понимали друг друга?
Будьте очень осторожны с сообщениями и вообще любым словом, которое, предположительно, пришло от меня. Я действительно не припомню ни одного разногласия.
Люди лгут по многим причинам.
Постарайтесь запомнить мой почерк, в будущем все сообщения от меня будут приходить написанными от руки (если у нас есть это будущее).
Вы знали о том, что мы с Анжелой поженились некоторое время назад? И что я уже почти привел ее в наш лагерь, когда Элдридж сделал это заявление?
Я действительно так хорошо все сделал, что C.P. попыталась прервать наши контакты. Пока мы разговаривали с ней, своим шепотом и взглядами она действовала мне на психику. К тому же она прервала мою платную подписку на две их газеты.
Странно, что они лучше будут опасаться ФБР, но совсем не боятся Кошки. Возможно, они договорились. Во всяком случае, некоторые из них.
Это — C.P.? Боже ты мой, что с ней случилось. Она совсем не контролирует свою речь. Или свое эго.
Давайте примем меры для надежности или будем писать и запечатывать сообщения отпечатком большого пальца. У меня есть мысли, которые я бы хотел передать вам всем.
Спасибо, Брат, за то, что помогаешь нам. Здесь есть прекрасные, крепкие, дисциплинированные братья. Я бы хотел перебросить их к вам когда-нибудь.
Джордж
Последние три года своей жизни товарищ Джексон чувствовал поддержку со стороны «Черных пантер». Он так долго боролся в одиночку, стараясь поднять уровень сознания чернокожих заключенных. Его пример вдохновил тысячи людей, у которых было меньше силы и бесстрашия, чем у него. Но отчуждение и репрессии, ставшие ценой подвига Джорджа, были поистине устрашающими. После вступления в партию он перестал быть одним, он стал частью быстро растущего и непобедимого революционно-освободительного движения. В своей второй книге «Кровь в моих глазах» Джексон так выразил свою веру: «Партия «Черная пантера» — самая внушительная и самая могущественная политическая сила, существующая вне официальной политики. Свою силу она черпает в народе. Это истинно народный политический авангард».
Джордж попросил партию опубликовать его первую книгу «Брат из Соледада». Однако трудные переговоры через посредников, отсутствие прямого контакта не позволили договориться об издании книги. Чтобы такая ошибка впредь не повторялась, все свое имущество и свои труды Джексон завещал партии. Что более существенно, он передал нам свой дух и свою любовь.
Похороны Джорджа состоялись в Окленде 28 августа 1971 года, ровно через неделю после его убийства. Церемония похорон проходила в епископальной церкви Св. Августина, где служит пастором отец Эрл Нейл. Перед церковью собралось около семи тысяч друзей Джексона, пришедших почтить память нашего павшего товарища. У «Черных пантер» было достаточно людей, чтобы сдерживать толпу и охранять семью Джексона. Я приехал в церковь незадолго до прибытия похоронной процессии. Второй этаж церкви был пуст, но из окна я видел толпу, растянувшуюся больше чем на квартал во всех направлениях. Люди заполнили все свободное пространство вокруг церкви и перекрыли автомобильное движение на улицах.
На нижнем этаже сидели несколько «Черных пантер» и тихо разговаривали. Время от времени они сменяли других товарищей, контролировавших толпу и регулировавших движение людей снаружи. Здесь же были дети из Межобщинного института молодежи. Несмотря на то, что они находились в здании с самого утра, никто из них не жаловался на усталость. Дети глубоко переживали потерю Джорджа. Узнав на прошлой неделе о его смерти, все они отправили письма с выражением соболезнований его матери. Они любили Джорджа. На их лицах была написана решимость побыстрее вырасти и воплотить его мечты об освобождении.
Ситуация была напряженной. На прошлой неделе мы получили множество угроз от тюремных охранников, от полиции и прочих. Все они утверждали, что похороны не состоятся. В противном случае нам следовало приготовиться к новым похоронам «Черных пантер». Мы были готовы ко всему. Эти угрозы невероятно разозлили товарищей, их праведный гнев вызывало и продолжающееся угнетение бедняков и негров, живущих на этой земле. Этот гнев читался на их лицах, в их сдержанной твердой походке, в стиснутых кулаках, он слышался в их голосах, когда они встретили гроб с телом Джорджа криками «Власть народу» и «Да здравствует дух Джорджа Джексона».
Когда похоронная процессия прибыла, мы с Бобби приготовились встречать ее у дверей в церковь. Впервые за четыре года мы с Бобби появились вместе на публике, но поводов для радости не было. Мы ничего не сказали друг другу, мы хорошо знали, что думал в этот момент другой.
Пока гроб с телом товарища Джексона вносили в церковь, играла песня Нины Симоне «Жаль, я не знаю, как это — чувствовать себя свободной». Внутри церкви вдоль стен стояли «Черные пантеры» с дробовиками в руках. Джордж пожелал, чтобы на его похоронах не было никаких цветов, только дробовики. Удовлетворяя его волю, мы в то же время охраняли его семью и всех тех, кто решил продолжить его дело. Любой, кто захотел бы проникнуть в этот храм с дурным намерением, должен был знать, что у него не было шанса зайти слишком далеко. Как в жизни, так и в смерти Джордж думал о том, как лучше всего соблюсти интересы своих соратников.
Отец Нейл произнес короткую, но проникновенную речь, сказав об уроке, которым стала для нас гибель Джорджа Джексона. Джордж показал всем чернокожим, что они должны подняться с колен и взять свою судьбу в свои руки. Бобби прочел несколько из многочисленных посланий, полученных со всего света в связи с гибелью Джорджа. Элейн Браун спела песню «И одного раза будет слишком много, если сказать любому, что он не свободен». Я тоже выступил с речью в честь Джорджа. Привожу отрывок из нее:
«Джордж Джексон был моим героем. На него равнялись обитатели тюрем, политические заключенные, весь народ. Он показал нам любовь, силу, революционный порыв, характерный для любого солдата, воюющего за народ. Он вдохновлял заключенных, которых я встречал впоследствии, на то, чтобы воплощать его идеи в жизнь, так что его дух обрел вечную жизнь. Сейчас я могу сказать, что, хотя тело Джорджа погибло, его дух продолжает жить: он будет явлен в наших телах и в телах этих молодых «Черных пантер» — наших детей. Поэтому мы не погрешим против истины, если скажем, что знамя революции будет передано от одного поколения следующему. Таково было наследие Джорджа, и он будет жить, он станет бессмертным, потому что мы верим в то, что народ обязательно победит, мы знаем, что победа будет за народом, ведь за одним поколением следует другое.
Каким идеалом стал для нас Джордж? В первую очередь, он был сильным и бесстрашным человеком, стойким, с наполненным любовью и силой сердцем, полностью преданным делу народа. Мы должны вознести хвалу жизни, прожитой Джорджем. Никакое угнетение, которому он подвергался, никакое несправедливое обращение не сломило его любовь к народу. Поэтому он не почувствовал боли, отдав свою жизнь в борьбе за дело народа…
И после смерти Джордж Джексон остается легендарной фигурой и настоящим героем. Даже угнетатель осознает это. Чтобы завуалировать его убийство, они говорят, что Джордж Джексон убил пятерых людей, пятерых притеснителей, и ранил троих — и это за тридцать секунд. Знаете, иногда я с удовольствием закрываю глаза на тот факт, что это могло быть физически невозможно. Но как-никак Джордж Джексон — мой герой. И мне бы хотелось думать, что такое можно сделать. Я был бы счастлив при мысли о том, что Джордж Джексон был настолько сильным, что превратился в супермена. (Разумеется, мой герой должен быть суперменом.) И мы будем воспитывать наших детей так, чтобы они выросли похожими на Джорджа Джексона, чтобы жили, как Джордж Джексон, и чтобы боролись за свободу, как это делал Джордж Джексон.
Поведение Джорджа в Сан-Квентине в тот ужасный день стало его последним сообщением для нас. Его поступок стал примером для политических заключенных и примером для всего тюремного общества расистской, реакционной Америки. Джордж Джексон стал примером для всех освободительных армий в мире. Он продемонстрировал нам, как надо действовать. Он показал, как можно осудить несправедливость при помощи оружия. И это, конечно, будет выполнено, народ об этом позаботится. Джордж как-то сказал, что угнетатель очень силен и может сломить его, может поставить нас на колени, может сравнять нас с землей, но угнетатель физически не сможет продолжать делать это вечно. В какой-то момент его ноги устанут, а когда его ноги устанут, то Джордж Джексон и народ сорвут свои наколенники…
Так что мы проявим чудеса практичности. Мы не будем делать заявления и верить тому, что говорят тюремные чиновники, — мы не поверим в их невероятную историю о том, как один человек убил пятерых за полминуты. Мы будем продолжать и будем жить, оставаясь реалистами. Нас ждет много боли и страданий, если мы хотим развивать то, что начали. Но я вижу, как даже в страданиях крепнет наша сила. Я вижу, показанный Джорджем пример продолжает жить. Мы знаем, что когда-нибудь мы все умрем. Но мы также знаем, что смерть бывает разная — реакционная и революционная. Одна смерть значительна, другая — нет. Смерть Джорджа, несомненно, имела значение. Значение его гибели будет очень велико, тогда как смерть остальных, расставшихся с жизнью в тот день в Сан-Квентине, ничего не будет стоить. Даже те, кто поддерживает их сейчас, перестанут оказывать им поддержку в будущем, потому что мы собираемся изменить их сознание. Мы изменим их сознание, в противном случае от имени народа мы будем должны истребить их всех их до единого, целиком, абсолютно, полностью. ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ.
Никакими словами не выразить боль, которая охватывает каждого, кто думает о павшем в бою нашем товарище. Но в этом стихотворении моему брату Мелвину удалось лучше других выразить то, что мы чувствуем, потеряв Джорджа Джексона:
МЫ ЗВАЛИ ЕГО ГЕНЕРАЛОМ Сегодня небо голубое, Погода ясная и ярко светит солнце. Дом, в котором Джордж жил когда-то, Превратился для него в могилу, Пока «Пантера» говорил о духе. Я видел, как человек крадется, Словно кот, по крышам, Скользит вдоль горизонта, Не отбрасывая тени, Лишь цепи сброшены в море, А мозолистые руки и Сломанные ноги продолжают Крушить и отбрасывать барьеры. Ангелы говорят, что его зовут Джордж Лестер Джексон — El General. Все люди возвратились домой, В свои лачуги, А он теперь в мире богов, Героев, великих людей, гигантов. Он был подобен быстрому Ветру, крутящемуся пенному потоку, Грохотанью грома, Вспышке молнии; Он сметал на своем пути Всех бросавших ему вызов И всех чертей, Но у него хватало ласки для листьев, Песка и неба.31. Выживание
То Правосудие — слепая богиня,
Для которой мы, черные, мудры:
Ее повязка скрывает две гнойные раны -
Раньше на этом месте, возможно, были ее глаза.
Лэнгстон Хьюз. ПравосудиеПочти сразу после того, как Дэвид Хиллиард отправился в тюрьму отбывать свой срок, начался набор присяжных для моего второго судебного процесса. Задавшись целью сформировать беспристрастное и честное жюри, Чарльз Гэрри столкнулся с теми же проблемами, что и прежде. Один из кандидатов в жюри только что исполнял обязанности присяжного на суде над Дэвидом. Он клялся под присягой, что ничего не знает о партии «Черных пантер» и ее лидерах. Ему указали на то, что он совсем недавно обвинил Дэвида Хиллиарда. Он ответил, что понятия не имел о том, что Дэвид — один из лидеров нашей партии. Было ясно, что обвинение изо всех сил старается сделать так, чтобы присяжные не пришли к единому решению.
Оказаться на скамье подсудимых во второй раз по тем же самым обвинениям — этот опыт иначе как странным не назовешь. Тебя мучает неизвестность, и одновременно возникает ощущение дежа вю. Большую часть времени я скучал, словно при просмотре давно знакомой и плохо сделанной драмы, которую показывают далеко не первый раз. Второе судебное разбирательство было просто очередной шарадой, оправдывающей их попытки вернуть меня обратно в тюрьму штата еще лет на тринадцать. Основная разница между двумя процессами заключалась в том, что на сей раз я был отпущен под залог. Это означало, что по вечерам я мог заниматься делами партии. Кроме того, меня не могли признать виновным по более серьезному обвинению, чем то, по которому я уже обвинялся в прежний раз, т. е. по обвинению в совершении преднамеренного убийства. Лоуэлл Дженсен, выступивший обвинителем на моем первом процессе, занял пост окружного прокурора, поэтому новым моим обвинителем стал помощник Дженсена — Дональд Уайт. Он был не чета Чарльзу Гэрри, впрочем, это было и не важно, потому что все, что от него требовалось, — это следовать сценарию первого процесса.
Суд начался и продолжился по большей части теми же показаниями свидетелей, что и в прошлый раз. Снова обвинение сделало упор на показания офицера Хинса. Когда Чарльз Гэрри проводил перекрестный допрос этого свидетеля, случился первый большой сюрприз, который много сказал о наших оппонентах. Во время допроса Хинса Гэрри особенно подчеркивал тот факт, что, когда офицер Фрей приказал мне выйти из машины, я вышел лишь с одной книжкой в руках (это был сборник законов, связанных с доказательствами по уголовному делу). На книге моей собственной рукой было написано мое имя, все ее страницы были заляпаны моей кровью. Эта книга была очень важной уликой на первом процессе, поскольку ее присутствие противоречило версии обвинения, согласно которой у меня той ночью был пистолет. Гэрри повернулся к судебному секретарю и попросил у него книгу. Между прочим, книга была занесена в список улик, фигурировавших на первом процессе. Секретарь ответил, что книга была «утеряна». В первый момент я ушам своим не поверил, но очень быстро понял, что они говорят серьезно. У них действительно не было книги. Как могла исчезнуть такая важная улика? Как они объяснили, при пересмотре дела Апелляционный суд забрал все, что к делу относилось. И где-то между Апелляционным судом и Аламедским окружным судом книгу потеряли, хотя все другие вещественные доказательства были на месте. Мой второй процесс, который поначалу казался шарадой, теперь превращался в цирк.
Несмотря на то, что обвинитель клялся и божился, что он «расстроен» «потерей» книги, его слова звучали не слишком убедительно. Он предложил, чтобы в качестве вещественного доказательства была рассмотрена фотография книги. При этом он много говорил о том, что фотография представляла собой точную копию книги и была использована защитой в качестве улики на первом процессе. Но фотография — это все-таки не книга. Обвинение нашло свидетеля, утверждавшего, что 28 октября я начал палить по двум полицейским, а вот улика, которая опровергала это утверждение, единственный предмет, который я держал в руках той ночью, пропала. И теперь они хотели заменить ее точной копией. Присяжные не могли видеть следов моей засохшей крови на страницах книги, не могли прочесть моего имени на форзаце, не могли видеть те подчеркнутые мною отрывки в уголовном кодексе, касающиеся достаточных оснований для ареста, отрывки, которые я всегда читал при встрече с полицейскими и гражданами. Чарльз Гэрри выразил протест в связи с утратой существенной улики со стороны защиты и заявил о нарушении закона в ходе судебного разбирательства. Протест и заявление были отклонены.
Затем вместо шарады суд стал похож на фарс. На следующий день штат устроил еще один фокус, когда группа одетых в гражданскую одежду мужчин ввела в зал суда робкого и запуганного до смерти человека — Дела Росса. Нам и в голову не приходило, что его могут вызвать в качестве свидетеля на второй процесс, поскольку доверие к его показаниям было основательно подорвано на первом. Дел Росс появился словно из ниоткуда. Не совсем, конечно, из ниоткуда: он рассказал, что его разыскали в другом штате и привезли на суд. Точно так же обвинение поступило и с Генри Гриером. Подозреваю, что Росса запугивали и ему угрожали, он ведь из породы пугливых. По бумагам он проходил как «бывший автомобилист». Это, наверное, потому, что на первом суде он сказал, что он «путешествовал».
На этот раз Росс дал такие показания, каких от него ожидали. Он показал, что на первом суде говорил неправду, а потом повторил показания, с которыми выступал перед большим жюри. После признания в лжесвидетельстве суд, тем не менее, согласился принять показания Росса в качестве доказательства по делу. Но все же любой, кто видел, как эта запуганная душа покорно соглашалась с вопросами обвинения, с трудом принял бы такие показания всерьез. И хватило же у них наглости, удивился я, вызвать Росса в суд.
Сначала я опять почувствовал к нему жалость. Но вскоре я порядком разозлился на прокурора за то, что он устраивал такой постыдный фарс и называл это судебным разбирательством. Я с нетерпением ждал того момента, когда Чарльз Гэрри приступит к перекрестному допросу Росса. Однако окружной прокурор не соизволили предупредить нас о появлении Росса на суде. Поэтому Гэрри не подготовился к допросу. Он попросил сделать перерыв, чтобы он мог съездить в Сан-Франциско и привести оттуда пленку и письменную запись беседы, которую он имел с Россом перед первым процессом. Это доказательство было чрезвычайно важным. Оно демонстрировало ненадежность Росса как свидетеля и заставляло сомневаться в его показаниях. Но судья отказал моему адвокату в просьбе прервать слушание и велел ему приступать к допросу свидетеля.
Я не мог больше сдерживаться. Я чувствовал, что по отношению к нам совершается вопиющая несправедливость. Потребность высказаться по этому поводу была настолько сильна, что секретарь, ведущий протокол судебного заседания, ничего не смог сделать. Я встал и заявил, что слушание не может продолжаться, пока нам не дадут как следует подготовиться к перекрестному допросу Дела Росса. Защита имела право попросить время на подготовку, провозгласил я, особенно с учетом того факта, что накануне штат конфисковал важнейшее вещественное доказательство. Теперь они отказывают нам в отсрочке на час, чтобы привести важные сведения, хотя прокурору такие отсрочки обычно разрешают делать. В зале стало расти напряжение, когда я продолжил и сказал, что я стоял между «незнанием своего народа и насилием штата со сборником законов в руке, которую вы якобы «потеряли». Я сказал, пусть возвращают меня обратно в тюрьму. Я обернулся к рассерженной публике и попросил ее успокоиться. «Если они тронут меня, вы знаете, что делать, — сказал я, — но пока ведите себя как положено». Прекрасные люди, они оставались на местах, пока я не попросил их покинуть зал суда. Они вышли и собрались в коридоре, отказавшись покинуть здание. Я пошел за ними в коридор, куда уже начала подтягиваться полиция. Было очевидно, что они жаждут массовых арестов, чтобы поймать нас в сеть обвинений, залогов и судебных процессов. Понимая, что люди должны уйти, я сказал им это сделать, чтобы я мог разобраться с обвинением и использовать время в свою пользу. Они спокойно покинули здание.
Пока все были в полном замешательстве, я вернулся в зал и подошел к Делу Россу, сидевшему на свидетельском месте. У бедного брата глаза округлились от страха. «И почему же ты сидишь здесь, брат? — спросил я его. — Мы боишься?» Тут вмешался детектив и сказал Россу не слушать меня, но я продолжил. «Почему ты подчиняешься ему, когда он затыкает тебе рот? Я тебя вовсе не ненавижу, я люблю тебя, брат». Полицейские увидели, что мои слова воздействуют на Росса, и увели его.
Когда зал суда опустел, Гэрри отправился в свой офис в Сан-Франциско. Мой план сработал. Я добился перерыва в слушаниях, и теперь у Гэрри было время на поездку. Все было под контролем, несмотря на то, что повсюду была полиция и, казалось, судья не понимал, что происходит. Я поднялся наверх в тюрьму и сказал охранникам открыть мою камеру. Но они хотели, чтобы я подписал документы, подтверждающие мое возвращение в тюрьму и, следовательно, отмену залога. Я отказался подписывать какие-либо бумаги. «Просто посадите меня в камеру», — сказал я. Тогда они открыли камеру для меня и сказали, что подождут несколько часов, пока Гэрри ездит за показаниями, а потом, если я не подпишу необходимые документы, они вышвырнут меня отсюда. Я лег на койку и заснул.
Гэрри тщательно искал и пленку, и письменную запись его беседы с Делом Россом в 1968 году, но не смог их обнаружить. Несколько недель назад его офис взломали и ограбили — показания Росса попали в число украденных вещей. Так что он вернулся в Окленд с пустыми руками, но не лишенным уверенности. Суд возобновился, начался перекрестный допрос Росса. У нас не было поводов волноваться. Даже без показаний, данных моему адвокату, свидетель Росс выглядел настолько странно, что доверия к себе так и не вызвал. Для начал он повинился суду, что солгал час назад. Он был виновен в лжесвидетельстве не раз и не два, а семнадцать раз. Далее, он признался в том, что боится окружного прокурора и всех присутствующих в зале — и судью, и присяжных, вообще всех. Словно этих признаний было мало, Росс попросил у судьи разрешения обратиться к суду с вопросом. Судья удовлетворил просьбу свидетеля. В зале воцарилась тишина. Затем, обводя зал взглядом, Росс спросил: «Есть здесь кто-нибудь, кто верит в истину? Не могли бы вы поднять руку?» Уж такого ненормального поведения от Росса никто не ожидал, поэтому все застыли, ошеломленные. Никто не сделал никаких движений и не заговорил, кроме окружного прокурора. Он поднял руку и сказал: «Мистер Росс, я верю в истину». Судья наклонился и сказал Уайту опустить руку. Росс продолжил: «Ведь я не знаю сам, что есть правда».
Этим поступком Росс окончательно дискредитировал себя как свидетеля. Мне жаль было видеть его настолько потерявшим человеческий облик. Росс казался мне живым примером того, что американское общество может сделать с угнетенными и бедными людьми. Недостойное злоупотребление властью — и слабый человек доведен до ужаса. Этому человеку терять-то было почти нечего, но он панически боялся лишиться и этой малости. Жизнь научила его бояться тех, кто контролирует общественные институты, и подчиняться им. Наконец, он столкнулся с решающим испытанием. Оно напоминало все незначительные, но унизительные решения, которые Россу приходилось принимать раньше. У него не было внутреннего источника, откуда он смог бы черпать силу для сопротивления. Он опять сдался, и последнее поражение привело его к страданию и позору.
После такого грома среди ясного неба всем требовалась передышка, так что на выходных суд решил не собираться. В тот же день, когда я размышлял о том, что случилось с Россом и как обвинение им манипулировало, мне пришла идея. Осуществление моего плана должно было привести к завершению суда. Меня даже могли отправить обратно в тюрьму, но зато я чувствовал, что сделаю важное политическое заявление. Как только в понедельник утром суд вновь приступит к работе, я встану и объявлю о наложении гражданского ареста на прокурора за подстрекательство и содействие в уголовном преступлении, а именно — в использовании на суде ложных показаний Дела Росса. Затем я попрошу судью помочь мне арестовать прокурора. Судья непременно откажется, так что я обращусь к присяжным за помощью в наложении гражданского ареста на прокурора и судью. Мои действия были призваны показать публике, насколько трудно обычному гражданину добиться в судах правосудия, когда те, кто обвиняет его, нарушают закон, чтобы добиться обвинительного приговора. Это не была бы просьба о помощи, а обращение к человеческому чувству справедливости. Подобное политическое послание оказало бы сильное воздействие на сознание людей.
Адвокаты скептически отнеслись к моему плану, но согласились проверить его с юридической точки зрения. Я хотел, чтобы у моего выступления в суде была твердая юридическая база. Однако, проконсультировавшись с законом, адвокаты сказали мне, что окружного прокурора или судью невозможно подвергнуть гражданскому аресту. Они были представителями судебной власти, и лишь большое жюри могло предъявить им обвинение. После этого я отказался от своей задумки, хотя по-прежнему был убежден в том, что она была неплоха. Что еще оставалось делать, если служители закона могли безнаказанно его нарушать, а простые граждане не могли найти на них управы? Если бы существовала возможность арестовать окружного прокурора и судью, я бы это сделал, несмотря на то, что, вероятно, потом отправился бы в тюрьму. Зато я бы наглядно указал на необходимость революционного правосудия.
В дальнейшем судебные слушания обошлись без заметных событий. Те же самые эксперты, проводившие баллистическую экспертизу, давали те же самые показания. Слушать их было еще утомительнее, чем раньше. На этот раз наша защита была гораздо короче по сравнению с первым разом. Сначала мой адвокат пригласил меня давать показания, и я рассказал, как все было на самом деле. Потом прокурор Уайт приступил к перекрестному допросу. Он использовал немало чисто судебных фокусов, но он не слишком преуспел в своих попытках подорвать доверие к моим показаниям. Я не отступил от них ни на йоту. Уайту недоставало изысканности и умения Лоуэлла Дженсена. В результате наша беседа не была ни напряженной, ни взаимно стимулирующей.
Присяжные совещались довольно долго в свете того, то это был уже второй процесс и обвинений против меня выдвигалось меньше. Чем дольше они обсуждали решение, тем крепче становилась моя уверенность в том, что кто-то из присяжных настаивает на снятии обвинений. Наконец, присяжные вернулись в зал суда и сообщили судье, что они оказались в безвыходном тупике: одиннадцать из них были за обвинительный приговор, но один выступал за снятие обвинений. Судья объявил, что присяжные не вынесли единогласного решения, закрыл суд и распустил жюри. Меня ждал третий судебный процесс.
На третьем процессе события развивались в нашу пользу. Набившее оскомину шоу началось по новой: опять прокурор Дональд Уайт, свидетели Герберт Хинс, Генри Гриер и Дел Росс и прочая «группа поддержки». Вместе с тем, происходящее все больше стало напоминать сцену из Кафки. На этот раз в сценарии произошел сбой. Сюжет стал развиваться так, как нужно было нам. И первый звоночек, сигнализировавший о переменах, прозвенел тогда, когда офицер Хинс забыл свои слова.
На первом и втором суде Хинс твердил, что Джин Маккинни и я были единственными участниками инцидента, за исключением самого Хинса и Фрея. А на третьем процессе Хинс вдруг сказал, что припоминает еще одну личность, которая была на месте происшествия. Это был мужчина, одетый в светлую желто-коричневую куртку, но он не был пассажиром в машине, которую я вел. Информация об этом третьем персонаже всплыла во время перекрестного допроса Хинса Чарльзом Гэрри. Осознав, что он сказал не положенные ему по сценарию слова, Хинс смутился и от стыда склонил голову. Вскоре после этого, когда суд ушел на перерыв и присяжные тоже покинули зал суда, окружной прокурор схватил Хинса за шиворот и стал ругать его при открытых дверях. Оговорка Хинса меняла все дело, и теперь я знал, что мы переиграем этого свидетеля, несмотря на показания Генри Гриера.
Третий мужчина. Неужели Хинс постоянно помнил о нем, но молчал? Неужели у этого полицейского закончился приступ амнезии? Ведь он был сам не свой с той самой ночи. Был ли третий человек настоящим убийцей Фрея, которого Хинс покрывал все эти годы? Может, штат сдался, и информация о третьем лице была для него единственным выходом из сложившегося положения? Все вопросы стали теперь чисто теоретическими, а предположения о мотивах и заговорах штата — банальными и неуместными.
Пришло время выступать защите. Гэрри приготовил обвинению особый сюрприз: он собирался полностью опровергнуть показания Генри Гриера. Этот наш «подарок» обвинению со всей тщательностью готовился во время первого и второго процесса. Теперь мы окончательно подготовились к тому, чтобы доказать, что Генри Гриер не был на месте перестрелки 28 октября.
Во время перекрестных допросов свидетелей со стороны обвинения, особенно полицейских, прибывших на место происшествия, Гэрри всегда подробно спрашивал о местонахождении каждого человека и каждого предмета в радиусе шестидесяти ярдов от места перестрелки и просил описать их. Он просил каждого полицейского описать все, что он увидел, прибыв к месту событий. Ни один полицейский не сказал, что видел автобус. С чего бы это? Все потому, что автобуса просто не существовало. Никто из полицейских не хотел лжесвидетельствовать, хотя все они как один были готовы позволить водителю автобуса сделать это.
Чарльз Гэрри вызвал на свидетельское место человека, который мог подтвердить маршрут Гриера и расписание движения его автобуса той ночью. Этим свидетелем был диспетчер автобусной компании. Мы хотели, чтобы он выступил со своими показаниями раньше, но опасались, что он может солгать и поддержать ложные показания Гриера. В то же время у нас вызывал удивление тот факт, что обвинение не привлекло диспетчера для поддержки истории Гриера. Мы все еще осторожничали с использованием его показаний на втором процессе, но начали собирать все возможные улики, доказывающие, что в радиусе шестидесяти ярдов от места перестрелки ни один полицейский не видел автобуса. На первом процессе мы откровенно опасались предоставлять эти сведения: мы думали, что обвинение натравит диспетчера на нас. Так что мы все выжидали подходящего момента, а между тем готовили неопровержимые доказательства перед тем, как окончательно опровергнуть показания Гриера.
Гриер засвидетельствовал, что находился на расстоянии десяти футов от места событий, что подъехал к нам на своем автобусе и остановился почти рядом с машинами и хорошо видел перестрелку. Если автобус длиной в шестьдесят футов находился так близко от места перестрелки, то полицейским трудно было бы его не заметить. В то же время никто их них не показал, что видел автобус. Когда мы окончательно убедились в эффективности наших доказательств, мы позвонили директору автобусной компании. Тот показал, что, согласно записям компании о движении Гриера и времени прохождения им положенного маршрута, выходило, что Гриер не мог пройти контрольные точки маршрута и побывать на месте происшествия. По данным диспетчера, во время перестрелки Гриер должен был быть на расстоянии, по крайней мере, полторы-две мили от места событий. Таким образом, диспетчер подтвердил показания полицейских, свидетельствовавших в пользу обвинения: на месте перестрелки не было никакого автобуса.
Позиции обвинения медленно, но верно слабели. Сначала Росс, теперь вот Гриер. Жюри присяжных опять не пришло к единогласному решению. На этот раз присяжные разделились пополам: шестеро — за вынесение обвинительного приговора, шестеро — за снятие обвинений. И вновь судья был вынужден закрыть суд без окончательного решения. Мне было предписано явиться в суд 15 декабря для установления даты четвертого судебного процесса. Но я предчувствовал, что обвинения с меня будут сняты, так как доверия к главным свидетелям обвинения больше не было. Я оказался прав.
На слушании 15 декабря появился сам Лоуэлл Дженсен. Я не видел его со времени слушания по вопросу о залоге, которое состоялось летом 1970 года. После того, как судья открыл заседание, Дженсен сразу поднялся и взял слово. Он сказал, что никогда бы не подумал, что наступит такой день, когда он будет просить суд о прекращении моего дела. Судья посмотрел на окружного прокурора. «Вы просите о прекращении дела в интересах правосудия?» — спросил судья, используя соответствующую юридическую формулировку. На что Дженсен ответил: «Нет, не в интересах правосудия, потому что оно не справедливо. Я никогда не думал, что буду должен сказать об этом, но полагаю, что дело следует закрыть».
Решение о прекращении дела было принято, что положило конец абсурдным и незаслуженным судебным нападкам на меня, начатым более четырех лет назад. Тридцать три месяца я провел в тюрьме, моей семье пришлось вынести столько страданий, а партии — потратить не одну тысячу долларов на мою защиту. Эти деньги могли бы пойти на помощь общине. Дженсен был прав, но только не в том смысле. Правосудие просто не было совершено.
32. Китай
Народы, одержавшие победу в революции, должны оказать поддержку и помощь народам, борющимся за освобождение. Это наш интернациональный долг.
Председатель компартии Китая Мао Цзэдун. Маленькая красная книжечкаСейчас, когда я размышляю о разностороннем опыте, который я получил во время пребывания в Китайской Народной Республике, в стране, которая просто ошеломила меня, стоило мне собственными глазами увидеть ее, этот опыт кажется каким-то размытым, отстраненным. Время отнимает непосредственность ощущений, оставшихся от поездки, память начинает подводить. Однако это обычное явление, не стоящее особого беспокойства. Важнее всего то воздействие, которое Китай и китайское общество оказали на меня, вот оно как раз незабываемо. Находясь в этой стране, я достиг какого-то физиологического освобождения, чего раньше мне испытывать не приходилось. Было бы слишком просто сказать, что в Китае я почувствовал себя как дома; мое ощущение было более глубоким и значимым. То, что пробудилось во мне, — это невероятное ощущение свободы, словно с моей души сняли огромный груз и я получил возможность быть самим собой, причем без всякой необходимости постоянно ощетиниваться, притворяться или что-то кому-то объяснять. Впервые в жизни я почувствовал себя абсолютно свободным, полностью свободным и в окружении друзей. Этот опыт впечатлил меня невероятно, поскольку подтвердил мое убеждение в том, что угнетаемый народ может освободиться, если его лидеры будут стараться пробуждать национальное самосознание и без устали бороться против угнетателя.
В связи с тем, что моя поездка в Китай была очень короткой и к тому же проходила под большим давлением, осталось немало мест, которые я не смог посетить, и много вещей, с которыми я бы хотел ознакомиться, но вынужден был от этого отказаться. Но, несмотря на ограничения, даже из самых обычных встреч я мог извлечь определенный урок, т. е. я что-то открывал для себя, выслушивая вопрос, заданный рабочим, ответ, который давал школьник, или знакомясь с взглядами правительственного чиновника. Эти незначительные и, казалось, маловажные моменты на самом деле несли с собой просвещение, и они многому меня научили. К примеру, поведение китайской полиции стало для меня своего рода откровением. Полицейские в Китае действительно призваны защищать людей и помогать им, а не подавлять. Обходительность полицейских была искренней; между ними и остальными гражданами не существует жесткого разделения или взаимных подозрений. Такие отношения впечатлили меня до глубины души. Поэтому, когда я вернулся в Штаты и увидел, что в аэропорту Сан-Франциско меня встречала боевая группа (ее вызвали для дополнительной охраны, поскольку около тысячи людей приехало в аэропорт, чтобы поздравить нас с возвращением), меня вновь ошарашила мысль о том, что полиция в нашей стране является захватнической, используемой для подавления силой. Я поделился своими мыслями с офицером-таможенником. Он был чернокожий и у него имелось оружие. Я объяснил ему, что испытываю неподдельный страх при виде этих пистолетов, которые окружают меня со всех сторон. Я сказал таможеннику, что возвращаюсь из страны, где армия и полиция не находятся в оппозиции к народу, а служат ему.
Приглашение посетить Китай я получил вскоре после освобождения из колонии для уголовных преступников в августе 1970 года. Китайцы интересовались анализом марксизма, принятым в нашей партии, и хотели обсудить эту проблему непосредственно с нами, равно как продемонстрировать нам конкретное приложение теории к практике на собственном примере. Мне очень хотелось поехать и в конце года обратился за паспортом, который мне оформили через несколько месяцев. Однако в тот момент поездка не состоялась из-за суда над Бобби и Эрикой в Нью-Хэвене. Тем не менее, мое желание посетить Китай нисколько не ослабло. Узнав, что президент Никсон собирается нанести визит в КНР в феврале 1972 года, я решил обогнать его. Я намеревался доставить послание правительству Китая и китайской компартии. Это послание нужно было передать Никсону во время его визита.
В Китай я отправился в конце сентября 1971 года, как раз между вторым и третьим судебным процессом. Я обошелся без всяких уведомлений и общественных заявлений, потому как находился под обвинением. В моем распоряжении было всего лишь десять дней. Хотя у меня было право свободного перемещения, а также имелся паспорт, суды Калифорнии запросто могли задержать меня в любое время, так как я был отпущен под залог и не должен был заезжать в Нью-Йорк, потому что мне полагалось проследовать из Калифорнии прямо в Канаду. Поскольку я понятия не имел, чего мне ждать от властей, прибыв в Нью-Йорк, я продолжал избегать огласки. Возможность постановления об удержании выглядела не такой уж невероятной: мне могли инкриминировать попытку побега. Улетая в Канаду из Нью-Йорка, я избавлялся от надзора федеральных властей, а в Канаде мне удалось сесть на самолет до Токио. Мои намерения не были секретом для полицейских агентов, так что они следовали за мной по пятам всю дорогу, вплоть до китайской границы. Вместе со мной ехали два товарища: Элейн Браун и Роберт Бэй. У меня нет ни малейших сомнений насчет причин, по которым нам позволили уехать в Китай: полиция была уверена в том, что мы не вернемся обратно. Если бы полиция была в курсе моего намерения обязательно вернуться в Штаты, не исключено, что она сделала бы все возможное, чтобы не допустить моей поездки в КНР. Китайское правительство прекрасно понимало сложившуюся ситуацию, и, пока я находился в Китае, мне предлагали политическое убежище. Однако я ответил, что обязан возвратиться, ибо пространством, на котором разворачивалась моя борьба, были Соединенные Штаты Америки.
Прохождение через службу иммиграционного контроля и таможню в империалистических странах было процедурой настолько же грубой, насколько мы могли ожидать от своей страны, где подобное неуважение человеческого достоинства стало повседневным явлением. В Канаде, Токио и Гонконге все содержимое наших сумок было вытащено, а сами сумки были тщательно проверены. В Токио и Гонконге нас даже подвергли личному обыску. Мне казалось, что, выйдя из Калифорнийской колонии для уголовных преступников, я распрощаюсь с такими унизительными порядками, однако я сознаю, что исправительная колония — это лишь один из институтов принудительного заключения, и находится он в рамках огромной тюрьмы, которую представляет собой общество, не свободное от расизма. Когда мы прибыли на свободную территорию, где по всем предположениям охранники должны были иметь непроницаемые лица и подозревать всех и каждого, товарищи в фуражках с красными звездами попросили у нас паспорта. Увидев, что паспорта в порядке, они поклонились нам и спросили, наш ли это багаж. Мы сказали, что он действительно принадлежит нам, и услышали в ответ: «Вы прошли таможенный досмотр». Наши сумки не открывали ни в момент приезда в Китай, ни тогда, когда мы покидали эту страну.
Китайские пограничники приветствовали нас поднятыми вверх автоматами. Китайцы на самом деле живут, руководствуясь следующим правилом: «Политическая власть вырастает из жерла пушки». Поведение китайцев постоянно напоминало нам о соблюдении этого правила. Впервые в жизни я не чувствовал угрозы, исходящей от вооруженного человека в форме; долг китайских солдат заключался в том, чтобы защищать гражданских лиц.
Китайские товарищи разочаровались, узнав, что мы можем пробыть у них всего лишь десять дней. Они хотели, чтобы мы задержались подольше, однако я должен был вернуться в Штаты к началу третьего процесса. И все же за этот короткий срок мы успели немало сделать: совершили поездки в разные регионы страны, посетили фабрики, школы, коммуны. Куда бы мы ни приезжали, толпы людей встречали нас рукоплесканиями, мы отвечали им тем же. Это было прекрасно. В каждом аэропорту тысячи китайцев приветствовали нас, громко аплодируя, размахивая «Маленькими красными книжечками» и показывая нам транспаранты с надписями: «Мы поддерживаем партию «Черных пантер», «Покончим с американским империализмом!», «Мы поддерживаем американский народ, но империалистический режим Никсона необходимо свергнуть».
Мы также посетили все посольства, какие могли. На первом месте для нас стояло все-таки общение с революционными собратьями, а не знакомство с местными достопримечательностями, поэтому китайцы организовали для нас встречи с послами разных стран. Посол Северной Кореи устроил нам роскошный обед и показал фильмы о своей родине. Кроме того, мы увиделись с послом Танзании, он оказался отличным товарищем, а также с делегациями из Северного Вьетнама и Временным революционным правительством Южного Вьетнама. У нас не получилось встретиться с послами Кубы и Албании по той простой причине, что нам не хватило времени.
Когда весть о нашей поездке в Китай разлетелась по всему миру, ей стали уделять повышенное внимание, так что пресса отслеживала все наши шаги, чтобы выяснить мотивы нашего прибытия в КНР. Журналистам хотелось знать, собирались ли мы каким-нибудь образом навредить визиту Никсона в Китай, поскольку мы находились в явной оппозиции к его реакционной власти. Большую часть времени репортеры буквально преследовали нас. Однажды один канадский журналист никак не хотел уходить от моего столика, хотя я просил его об этом несколько раз. Он не переставал кружить поблизости, задавая нам вопросы, несмотря на то, что мы ясно дали понять, что нам нечего ему ответить. В конце концов, его назойливость стала внушать мне настоящее отвращение, и я попросил вывести настырного канадца. Через несколько секунд появились мои китайские друзья вместе с полицией и поинтересовались, хотел бы я, чтобы журналиста арестовали. Я сказал, что ареста не надо, я лишь хочу, чтобы этот человек оставил меня в покое. После этого инцидента мы стали жить на вилле, которую охранял почетный караул из красноармейцев. Было чему удивиться: полиция заняла нашу сторону.
Нам обещали встречу с Мао Цзэдуном, однако Центральный Комитет китайской компартии счел эту встречу не совсем корректной, так как я не являлся главой государства. Вместе с тем мы дважды встречались с главой китайского правительства Чжоу Эньлаем. Одна из встреч длилась два часа, и на ней присутствовали другие иностранные гости. Зато другая продолжалась в течение шести часов, и на ней посторонних уже не было, китайский премьер и товарищ Цзян Цин, жена Мао Цзэдуна, общались исключительно с нами. Мы обсудили международную ситуацию, положение угнетенных народов в общем и проблемы чернокожего населения в частности.
В день годовщины провозглашения КНР, 1 октября, в Большом зале народов был устроен грандиозный прием. Мы посетили это мероприятие вместе с премьер-министром и товарищами из Мозамбика, Северной Кореи, Северного Вьетнама и представителями Временного правительства Южного Вьетнама. Появление Мао обычно становилось кульминационным моментом на самом главном празднестве в Китае, но в этом году председатель компартии не почтил праздник своим присутствием. Когда мы входили в зал, оркестр играл «Интернационал». Мы сидели за столом вместе с ректором Пекинского университета, командующим северокорейской армии и товарищем Цзян Цин, женой Мао. Чувствовалось, что это была большая честь.
Все увиденное мною в Китае, доказывало, что Китайская Народная Республика — это независимая и освобожденная страна, где правит социалистическое правительство. Для людей открыт путь к свободе, они могут сами определять свою судьбу. Что за восхитительное ощущение наблюдать, как развивается революция, к тому же такими быстрыми темпами. Невозможно забыть знакомство с настоящим бесклассовым обществом. Здесь работает известное изречение Маркса «от каждого по способностям, каждому по потребностям».
Однако я прибыл в Китай не только для того, чтобы абсолютно всем восхищаться. Я ехал сюда, чтобы учиться, а также выработать собственное критическое мнение, ибо совершенного общества в принципе не существует. Но найти недостатки было довольно сложно. Китайцы настаивают на том, чтобы ты обязательно нашел повод для критики. Они стойко веруют в самую суровую самокритику и в критику со стороны. Как говорят в Китае, без критики петли дверей начинают скрипеть. Чрезвычайно трудно высказывать в их адрес похвалу. Они попросят покритиковать их, скажут, что Китай — отсталая страна. В свою очередь я всегда на это отвечал: «Да нет же, вы развивающаяся страна». Однажды я просто был должен высказать критические замечания. Произошло это во время посещения сталелитейного завода. Над трубами завода, куда нас пригласили, вились клубы черного дыма. Я сказал китайцам, что в Соединенных Штатах сильные выбросы дыма на промышленных предприятиях считаются загрязнением окружающей среды, поскольку они отравляют воздух. А загрязнение воздуха вокруг этого завода было настолько серьезным, что в некоторых местах люди с трудом могли дышать. Я постарался убедить китайцев в том, что, если они продолжат развивать свою промышленность ускоренными темпами и не будут задумываться о последствиях индустриального развития, то в итоге им не чем будет дышать. Я побеседовал с рабочими завода. Я говорил им примерно следующее: человек есть часть природы, но в то же время он находится в противоречии с природным миром, поскольку противоречия являются основным законом существования вселенной. Поэтому при всем стремлении китайцев повысить уровень жизни, они могут свести весь прогресс на нет, если не сумеют разрешить это противоречие рациональным способом. Продолжая объяснения, я указал на то, что человек противостоит природе, но одновременно является внутренним ее противоречием. Следовательно, пока человек пытается резко изменить направление борьбы противоположностей, основанной на их единстве, он может ненароком уничтожить и самого себя. Похоже, китайцы меня поняли; они сказали, что ищут пути решения этой проблемы.
Полученные в Китае впечатления расширили мое понимание революционного процесса и укрепили мою веру в необходимость конкретного анализа конкретных условий. Китайцы с большой гордостью говорят об истории своей страны, о своей революции и частенько вставляют в разговор не теряющие значение с течением времени мысли председателя компартии Мао Цзэдуна. Но они также скажут вам: «Такой была наша революция, проведенная на основе конкретного анализа конкретных условий, и мы не можем руководить вами, в наших силах лишь дать вам определенные принципы. Правильное и творческое применение этих принципов на практике уже целиком и полностью зависит от вас». Странный и вместе с тем радостный это был опыт: я проехал тысячу миль, пересек континенты, чтобы услышать эти слова. Дело в том, что я и Бобби Сил пришли к точно такому же выводу за лет пять до поездки в Китай. Тогда мы учились в Окленде и вовсю рассуждали о возможных способах выживания американских негров в суровых условиях капиталистической системы. Мы пришли к тому, что одной теории недостаточно. Мы сознавали, что должны действовать, чтобы вызвать перемены в обществе. Еще не до конца понимая весь смысл, мы следовали указаниям Мао, который говорил: «Если ты хочешь познать теорию и методы революции, ты должен стать ее участником. Все подлинные знания рождаются в непосредственном опыте».
33. Измена Элдриджа и реакционное самоубийство
Несомненно, мы должны критиковать все и всякие ошибочные взгляды. Не подвергать критике ошибочные взгляды, давать им возможность повсюду распространяться и беспрепятственно захватывать «рынок», конечно, нельзя. Раз есть ошибки — надо критиковать, раз есть ядовитые травы — надо вести борьбу.
Мао Цзэдун. Маленькая красная книжечкаРеволюционная партия испытывает непрекращающееся давление со стороны как внутренних, так и внешних факторов. По своей природе любая политическая организация, посвятившая себя борьбе за радикальные социальные перемены, навлекает на себя резкое недовольство существующего порядка. Система постоянно подкарауливает момент, когда можно расправиться с угрожающей ей группировкой. Преданный революционер должен без обсуждений согласиться с существованием подобной опасности. Действительно, сначала внешний гнет формирует в человеке стойкое желание сопротивляться, а потом система уже не в силах сломить эту решимость. Но у революционера есть два врага, которые будут пострашнее, чем сама система, с которой он борется, — это политическая близорукость и отход от первозданной революционной концепции. Любое из этих нарушений способно привести революционера к отчуждению от тех, кого он мечтает освободить. Элдридж Кливер виновен в совершении и той, и другой ошибки.
Меня выпустили из тюрьмы в августе 1970 года. Вернувшись к делам, я нашел партию в полном беспорядке. Подобное состояние партии было спровоцировано вполне понятными причинами. Бобби и я долгое время находились в заключении, поэтому не могли активно следить за происходящими на улицах событиями, а также не могли эффективно руководить ежедневной жизнью партии. Кроме того, партию преследовали и осаждали, не переставая. Подразделения спецслужб всей страны были охвачены навязчивым желанием разгромить партию «Черная пантера». Многие наши братья были загнаны в угол и пойманы, взяты под арест или попросту убиты.
Последствия этих атак, обрушившихся на партию извне, были, конечно, ужасающими. Однако была и другая, еще более серьезная причина, которая вызвала в партии внутренние неурядицы и сложности и вообще поставила под угрозу сам смысл существования партии. Речь идет о том, что партию повели по пути реакционного самоубийства. Под влиянием Элдриджа Кливера партия утратила свою первоначальную цель и погрузилась в посторонние дела. Отстранившись от чернокожих, которые не имели к этим делам отношения, партия «Черная пантера» отступила и от негритянской общины в целом.
Партия зарождалась в определенное время и в определенном месте. Она начала создаваться на основе призыва к самообороне против полиции, патрулировавшей наши кварталы. Полицейские обходились с нами грубо и жестоко, оставаясь при этом совершенно безнаказанными. До сих пор угнетателям в полицейской форме оказывалось слабое сопротивление. Мы стали искать возможность для формирования силы, способной нанести ответный удар, а также работать над положительным образом сильного и бесстрашного негра в пределах нашей общины. Упор на использование оружия был необходимой стадией в нашем развитии. Мы исходили из утверждения Франца Фэнона. По его мнению, людям необходимо наглядно показывать, что колонизаторы и их агенты, т. е. полицейские, не наделены таким качеством, как пуленепробиваемость. Мы приняли это руководство к действию и тем самым совершили смелый шаг к выработке своей программы, нацеленной на пробуждение сознания людей.
Однако мы вскоре увидели, что оружие и форма, которые мы использовали, отсекают нас от общины. Нас рассматривали как специальную военную группировку, действовавшую вне общины и к тому же настроенную слишком радикально, чтобы вписаться в общую структуру. Возможно, наши действия в то время отдавали экстремизмом; не исключено, что мы увлеклись военными методами. Мы воспринимали самих себя как революционный «авангард» и не совсем понимали, что только народ может осуществить революцию. Так или иначе, в течение двух-трех лет в общине у нас была запугивающая репутация. Люди не понимали нас и не собирались брать в руки оружие, признав нас предводителями вооруженного сопротивления. Тогда было еще не ясно, как решить эту трудную дилемму. Мы представляли собой молодых революционеров, которые искали ответы на вопросы, поставленные обществом, и способы облегчения проявлений расизма. Мы сделали выбор в пользу сопротивления злу всеми средствами и в пределах закона. Но, возможно, наша силовая стратегия чересчур напоминала «большой прыжок вперед».
Тем не менее, я считаю, что методы борьбы, избранные «Черными пантерами» в 1966–1967 годах, в основном, были неплохим и необходимым этапом в жизни нашей партии. Зато проведенные нами военные операции привлекли внимание к нашей программе и к нашим планам в отношении будущего для чернокожего населения. Тогдашняя стратегия привлекла в наши ряды новых убежденных революционеров, а также помогла завоевать уважение народов третьего мира, ведущих борьбу с угнетателями. Но самый важный итог наших действий заключался в том, что нам все-таки удалось пробудить сознание чернокожих и белых граждан и заставить их задуматься над отношениями между полицией и меньшинствами в нашей стране. Сейчас даже трудно представить, насколько изменились отношения между американской полицией и чернокожими за последние шесть лет. Жестокие столкновения и коррупция все еще случаются в негритянских кварталах, но тем не менее полицейские управления стали на самом деле больше прислушиваться к проблемам городских меньшинств. Сегодня редко встретишь полицейского начальника, который не пытался наладить хотя бы в некой форме публичные отношения, связывающие полицию и чернокожее население. Кроме того, среднестатистический американский гражданин тоже стал проявлять больше внимания к случаям злоупотреблений и превышения полномочий в полиции, а не закрывать на них глаза, как делалось раньше. Прорыв в общественном сознании произошел во многом благодаря нашим действиям как раз той поры, когда мы были увлечены силовыми методами. Можно привести слова Хо Ши Мина, который сказал, что военная тактика, открыто применяемая для достижения военно-стратегических целей, ошибочна, тогда как применение той же тактики исходя из политических соображений будет абсолютно правильным. Мы последовали этому совету Хо Ши Мина. Наши действия теперь широко известны именно из-за политического резонанса.
Однако революция не совершается одним махом, это не единичное действие, а процесс. Времена меняются, и политика, служившая ориентиром в прошлом, не обязательно оказывается эффективной в настоящем. Избранная нами стратегия не была чем-то застывшим. По мере изменения внешних условий менялась и наша тактика. Патрулирование черных кварталов было лишь одним из пунктов нашей программы, которая состояла из десяти положений. Охрана чернокожего населения никогда не рассматривалась нами в качестве единственной задачи «Черных пантер». На самом деле, право на ношение оружия для защиты стояло ближе к концу программы — под седьмым пунктом. Оно шло только после тех требований, достижение которых являлось для нас более насущной целью, т. е. после свободы, обеспечения занятости, образования и жилья. Наши программы — их теперь называют программами по выживанию — с самого начала имели большое значение. Мы всегда планировали свои действия таким образом, чтобы быть участниками каждодневной борьбы негров за выживание, и искали такие средства борьбы, которые принесли бы пользу всем нашим чернокожим собратьям.
Но на партию оказывалось разлагающее воздействие как изнутри, так и снаружи. На протяжении нескольких лет средства массовой информации, находящиеся на службе Системы, раздували наши действия до размеров сенсации, особенно напирая на жестокость и применение оружия. Грандиозные события, такие, как выступление в Сакраменто, столкновение с полицией у редакции журнала «Рэмпартс», выстрел 6 апреля 1968 года, были истолкованы извращенно и никогда не были до конца поняты или проанализированы. Кроме того, нашу программу из десяти пунктов игнорировали, а наши планы по выживанию не принимали в расчет. «Черные пантеры» отождествлялись исключительно с применением оружия.
Имя Элдриджа Кливера связано и с другими отрицательными явлениями в жизни партии. Его вступление в партию именно после столкновения у редакции «Рэмпартс» не выглядит случайностью. Его привлекала сила, мощь оружия и тот звенящий от напряжения момент, когда бойцы стоят на краю гибели. Для него это и было революцией. Идеология Элдриджа основывалась на риторике, превозносящей насилие; его речь изобиловала бескомпромиссными высказываниями в духе «либо — либо», например: «Или взять в руки оружие, или остаться сопливым трусом». Он не поддерживал программы по выживанию, отказываясь рассматривать их как необходимую составляющую революционного процесса, в качестве средства, с помощью которого можно подготовить людей к общественной трансформации. Кливер был уверен в том, что эта трансформация может осуществиться лишь через насилие, для чего, по его мнению, требовалось вооружиться и штурмовать баррикады. Его одержимость насилием все больше и больше отдаляла его от общины. Не захотев отказаться от позиции, пропагандировавшей разрушение и отчаяние, Кливер недооценил врага и вступил на путь реакционного самоубийства.
Задолго до того, как Элдридж по-настоящему отошел от партии, он совершил первые шаги в сторону духовного изгнания. Он не смог установить связь между собой и народом, избегал политической близости, которой люди обычно ожидают от своих лидеров. Когда он скрылся из страны, его изгнание стало физической реальностью. Элдридж отрезал себя от самого главного подпитывающего революцию источника — ощущения единства с народом, разделения с народом смысла всех целей и идеалов. Его побег был похож на самоубийство, а его продолжающаяся ссылка в Алжире стала символом его отхода от общины на всех уровнях — географическом, психологическом и духовном.
С точки зрения диалектики, отступничество Элдриджа в итоге принесло кое-какие благоприятные последствия. Пока он и его последователи отождествляются с той самой деятельностью нашей партии, которая оттолкнула нас от общественности, партия уже избрала для себя другое направление. Элдридж взвалил приписанный нам средствами массовой информации образ прямо на свои плечи. Мы очень довольны тем, что избавились от этого бремени. Из-за действий Элдриджа Кливера доверие к нам несколько утратилось, но взамен мы получили более широкое признание от негритянской общины. Мы достигли более продвинутого состояния. Это был качественный прыжок вперед, подъем в сознании.
Альбер Камю писал, что «подлинная щедрость по отношению к будущему заключается в отдаче всего настоящему». Эти слова относятся и к революционеру. Такое отношение, продолжает Камю, проистекает из большой любви к земле, к нашим братьям, к справедливости. Партия «Черная пантера» придерживается того же правила. Отдавая все настоящему, мы отвергаем страх, отчаяние и поражение. Мы заделываем пробоины, зияющие в прошлом. Мы изо всех сил стараемся претворять в жизнь революционный принцип радикального изменения общества, и посредством долгой борьбы хотим «переделать душу нашего времени», как сказал Камю.
Эпилог
Я — это мы
Есть такое древнее выражение у африканцев: я — это мы. Если бы вы встретились с каким-нибудь жителем Африки в древние времена и спросили бы его, кто он, он бы ответил вам: «Я — это мы». Это и есть революционное самоубийство: я, мы, все мы вместе — это нечто одно и одновременно каждый из нас самостоятелен.
Так много моих товарищей ушло из жизни. Кое-кто из надежных партнеров, криминальных дружков и братьев из квартала просит сейчас подаяние на улице. Другие попали в психиатрическую больницу, оказались за решеткой или в могиле. Все они совершили самоубийство того или иного рода, потому что от природы были восприимчивы и обладали трагическим воображением — они могли видеть угнетение. Кто-то победил — это пример революционного самоубийства. Остальные совершили реакционное самоубийство, те, кто переоценил или недооценил врага. В любом случае, им не хватило сил изменить свое представление об угнетателе.
Разница заключается в надежде и желании. Имея надежду и испытывая желания, революционный самоубийца выбирает жизнь; по словам Ницше, он «стрела, стремящаяся попасть на другой берег». Самоубийцы обоих видов презирают тиранию, но презрение революционного самоубийцы сильнее, как сильнее и его страстное желание достичь другого берега. Реакционный самоубийца должен выучить, как выучил его брат революционный самоубийца, что пустыня не есть замкнутый круг. Это спираль. Когда мы пройдем через пустыню, все изменится.
Ты не можешь подставить свое горло убийце. Как сказал Джордж Джексон, ты должен защищать себя сам и занять позицию дракона, как это делается в карате, и раздавать удары направо и налево, если тебя окружили. Ты не молишь о пощаде, ибо твой враг приходит с мясницким ножом в одной руке и топором в другой. «Он не станет буддистом ни с того ни с сего».
Экклезиаст сказал, что у мудрого и у глупого один конец — они умрут, подобно любой собаке. Кто посылает нас в могилу? Нечто непостижимое, сила, которой подвластны все социальные классы, все пространства на земле, все идеологии. Эта сила зовется смертью, она наш Большой босс. Честолюбивый человек ищет способ лишить Большого босса власти, освободиться и самому решать, когда и как ему расстаться с жизнью.
Есть еще одна поучительная история об умном человеке и о глупце, ее можно найти в «Маленькой красной книжечке» Мао. Глупый старик пошел к Северной горе и начал копать. Мимо проходил старый мудрец и спросил его: «Зачем ты копаешь, глупый старик? Разве ты не знаешь, что ты не сможешь сдвинуть гору при помощи маленькой лопаты?» Однако глупый старик ответил так: «Раз гора не больше не растет, то она будет становиться все ниже и ниже каждый раз, когда я копну. После моей смерти мои сыновья и их сыновья, и сыновья моих внуков будут продолжать делать гору ниже. И кто сказал, что мы не сможем передвинуть гору?» И глупый старик не бросил копать, как и многие поколения после него. Мудрый старик смотрел на это с раздражением. Однако твердость и дух поколений, продолживших дело глупого старика, тронула сердце Бога, и Он послал двух ангелов взвалить гору к себе на плечи и передвинуть ее.
Вот такую историю рассказал Мао. Говоря о Боге, он имел в виду шестьсот миллионов человек, которые помогли ему справиться с империализмом буржуазным мышлением, с этими двумя огромными горами.
Реакционный самоубийца — это «мудрец», революционный же — «глупец», глупец для революции в том смысле, в каком апостол Павел говорил о жизни «глупца для Христа». Подобная глупость может сдвинуть с места гору, т. е. угнетение. Это наш огромный шаг вперед и наша обязанность перед ушедшими в мир иной и теми, кто еще не родился на свет.
Мы растрогаем Бога, мы растрогаем сердца людей, и все вместе мы обязательно сдвинем гору.
Примечания
1
120 см на 182 см. Фут = 12 дюймов = 30,84 см; ярд = 3 фута = 91,44 см (Прим. редактора)
(обратно)2
«Эбони» — самый популярный журнал издающийся для черного населения США. (Прим. редактора)
(обратно)3
Структура, реализующая власть, опирающаяся на экономическую основу, поддерживаемая и дополнительно укрепляемая средствами массовой информации, а также всеми остальными вторичными образовательными и культурными институтами. (Прим. автора)
(обратно)4
Гевара, Че (наст. имя Эрнесто Гевара Линч де ла Серна) (1928–1967) — аргентинский революционер, сподвижник Фиделя Кастро, участник Кубинской революции, позднее министр в правительстве Кубы, политический деятель, военный. Погиб, участвуя в партизанской войне в Боливии. (Прим. редактора)
(обратно)5
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876), теоретик анархизма, один из идеологов народничества. С 1840 за границей, участник революции 1848–1849 (Париж, Дрезден, Прага). В 1851 выдан австрийскими властями России. С 1857 в сибирской ссылке. В 1861 бежал за границу, сотрудничал с А.И. Герценом и Н.П. Огарёвым. С 1868 член i Интернационала, выступал против К. Маркса и его сторонников, в 1872 исключён решением Гаагского конгресса. Труд Бакунина «Государственность и анархия» (1873) оказал большое влияние на развитие народнического движения в России. (Прим. редактора)
(обратно)6
Имется в виду рейд Фиделя Кастро на яхте «Гранма» — в декабре 1956 Фидель, Че и еще 80 революционеров приплыли на яхте «Гранма» на Кубу. Хотя большая часть отряда была разгромлена правительственными войсками, Кастро и Гевара сумели организовать партизанское движение на острове и через два года режим Батисты был свергнут. (Прим. редактора)
(обратно)7
19 апреля 1943 в Варшавском гетто было поднято восстание. Евреи отказались подчиниться немцам и быть депортированными в лагеря смерти. Немцам понадобилось крупная эсэсовская оперативная группировка с бронетехникой и артиллерией и месяц ожесточенных боёв, чтобы подавить сопротивление варшавского гетто. (Прим. редактора)
(обратно)8
Условная граница между Севером и Югом в США проходит по т. н. «Линии Мэйсон-Диксон», разделяющей Пенсильванию и Мэрилэнд. Самоё Юг разделяется на Верхний (Мэрилэнд, Дэлавер, Западная Вирджиния, Вирджиния, Кентукки), Средний (Северная Каролина, Теннеси, Арканзас, Оклахома) и Нижний, или Глубокий (Южная Каролина, Алабама, Миссисипи, Луизиана). (Прим. редактора)
(обратно)9
Хьюи Пирс Лонг (1893–1935) — политический деятель популистского толка. Губернатор штата Луизиана (1928-32), сенатор, с 1934 — единоличный правитель штата. В 1934 выступил с планом «Разделить богатство!», противопоставив его Новому курсу Рузвельта. На выборах победил под лозунгом «Каждый человек — король!», за что получил прозвище «Царь-рыба». Возглявля самое мощное профашистское движение в США. В 1935 намеревался баллотироваться на пост президента США, но был застрелен. Его судьба положена в основу романа Р.П. Уоррена «Вся королевская рать». (Прим. редактора)
(обратно)10
До сих пор семьи моих братьев и сестер живут в районе Залива Сан-Франциско неподалеку от наших родителей. Любые разногласия между нами по-прежнему выносятся на суд матери и отца. Когда у одного из членов нашей большой семьи случается повод для веселья, большинство приглашенных составляют родственники. «Чужаки» редко становятся участниками наших праздников. (Прим. автора)
(обратно)11
Самбо — 1) гибрид негра и индейца (преимущественно в Латинской Америке) 2) Прозвище мужчины-негра, как правило молодого, распространенное в первой половине ХХ в. Книга о приключениях малыша-негра «Негритёнок Самбо» была написана английской писательницей Хелен Баннерман в 1899 и получила мировую известность. (Прим. редактора)
(обратно)12
Братец Кролик и Братец Лис — персонажи рассказов писателя Джоэла Харриса, объединенных под общим названием «Сказки дядюшки Римуса». Старый негр-раб дядюшка Римус рассказывает белому мальчику, сыну своей хозяйки о многочисленных приключениях Кролика и Лиса. В одном из рассказов братец Кролик делает Смоляное чучелко из соломы и смолы и с его помощью обманывает Братца Лиса. В данном случае Ньютон воспринимает чучелко как отсылку к черному цвету кожи. (Прим. редактора)
(обратно)13
Дуглас Фредерик [наст. имя Фредерик Огастес Уошингтон Бейли] (1817–1895) американский аболиционист, руководитель негритянского освободительного движения, общественный деятель и писатель. Родился рабом, бежал на Север; активно участвовал в антирабовладельческом движении. Выступал за революционные методы борьбы. Принимал участие в организации Национальной партии свободы, деятельности партии фрисойлеров, движении негритянских съездов. Играл руководящую роль в негритянской политической организации Национальная лига борьбы за равноправие, являлся в 1870 председателем Национального союза цветных рабочих. Активно выступал за демократизацию общественно-политической жизни США, отстаивал права женщин. Автор книг «Моя жизнь в рабстве и на свободе» и «Жизнь и эпоха Фредерика Дугласа». (Прим. редактора)
(обратно)14
Американские боксеры-негры, чемпионы США по боксу. (Прим. редактора)
(обратно)15
В американской культурной традиции т. н. полное имя (состоящее из нскольких имен и фамилии), употребляется редко, в основном в официальных документах и проч. Как правило, человек обходится одним из своих имен, то есть использует неполное имя. В данном случае полное имя автора читается по английски как Хьюи Пи Ньютон. (Прим. редактора)
(обратно)16
Робсон Поль (1898–1976), американский певец (бас), актёр, общественный деятель. Выступал как драматический актёр в американских и английских театрах. В 1925 дебютировал как певец с исполнением негритянских песен. Получил мировую известность после концертного турне по странам Европы (1926–1928); в 1936-37 выступал перед бойцами-антифашистами в Испании; во время 2-й мировой войны 1939-45 концерты Р. сопровождались страстными призывами к борьбе против фашизма. До 1960-х гг. много гастролировал, в том числе в СССР (впервые в 1934). Придерживался радикальных коммунистических взглядов, за что подвергался критике со стороны других негритянских лидеров. Почётный профессор Московской консерватории, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1953). Автор книги «На том стою». (Прим. редактора)
(обратно)17
Перевод К.Д. Бальмонта. (Прим. переводчика)
(обратно)18
Джеймс Болдуин (1924–1987) — американский негритянский писатель, драматург, публицист, прогрессивный общественный деятель. Автор нескольких романов, пьес, сборников рассказов и книг художественной публицистики. «Блюз для мистера Чарли», «Если Бийл-стрит могла бы заговорить», «Что значит быть американцем», «Комната Джованни». (Прим. редактора)
(обратно)19
Хипстер (разг.) — человек, презирающий условности. (Прим. редактора)
(обратно)20
«Черный Орфей» (orfeu negro (1959), Реж. Марсель Камю, в гл. р. Брено Мелло и Марпесса Дон. Франко-итало-бразильский фильм. История любви Орфея и Эвридики разворачивающаяся во время бразильского карнавала в Рио-де-Жанейро. (Прим. редактора)
(обратно)21
Малькольм Икс — деятель негритянского движения, активист т. н. «Черных мусульман». В отличие от Мартина Лютера Кинга, проповедовавшего национальное примирение, Икс был экстремистом, идеологом «черного национализма», сторонником национальной революции. Погиб от руки экстремиста, считается героем борьбы негров за свои права. (Прим. редактора)
(обратно)22
Битники (от англ. beat — бить, разбивать), возникшее после 2-й мировой войны, главным образом в США и Великобритании, стихийное, анархически-бунтарское движение молодёжи («разбитное поколение»), лишённое какой бы то ни было положительной социально-политической программы. Движение это явилось выражением неудовлетворённости и протеста молодёжи против стандартизованного идеала «преуспеяния» и лицемерия буржуазной морали «благонравия» и «добропорядочности». Порывая с общепринятым, традиционным буржуазным образом жизни, «радикализм» битников в его внешних формах проявлялся в нарушении элементарных норм человеческого общежития. (Прим. редактора)
(обратно)23
Для американских университетов и колледжей характерна система студенческих общественных организций, т. н. братств, обозначаемых греческими буквами. В наименовании и соответственно престижности братств существует негласноая, но строгая иерархия. (Прим. редактора)
(обратно)24
Американские негритянские писатели xix-xx веков. Перечисленные произведения характеризуются акцентированием на проблемах черного населения США. (Прим. редактора)
(обратно)25
Барри Голдуотер (1909–1998) — сенатор-республиканец от штата Аризона. Один из основателей современного американского «просвещенного консерватизма», кандидат на президентских выборах 1964. (Прим. редактора)
(обратно)26
«Черные пантеры» считают, что группировка Каренги и лос-анжелесская полиция устроили совместный заговор против организаторов отделения нашей партии в Лос-Анджелесе Джона Хаггинса и Олпрентиса Картера по прозвищу Горбатый. Они были убиты. Таким образом полиция намеревалась пресечь на корни попытки создания отделения «Черных пантер» в Лос-Анджелесе, а группировка Каренги хотела избавиться от соперника в нашем лице и купить дружбу полиции. (Прим. автора)
(обратно)27
Лэнгстон Хьюз (1902–1967) — один из самых популярных негритянских поэтов, прозаиков и драматургов, классик поэзии черной Америки. (Прим. автора)
(обратно)28
Экклезиаст, гл. 9, ст. 2–4, 11. (Прим. редактора)
(обратно)29
Чемпион мира по боксу негритянский боксер Кассиус Клей принял ислам и т. о. стал называться Мухаммедом Али. (Прим. редактора)
(обратно)30
59 кг. 1 фунт = 0,453 кг. (Прим. редактора)
(обратно)31
Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) — французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма. Известность приобрёл, опубликовав книгу «Что такое собственность?» (1840), в которой утверждал (имея в виду крупную капиталистическую собственность), что «собственность — это кража». В опубликованном в 1846 сочинении «Система экономических противоречий или философия нищеты» он предлагал путь мирного переустройства общества посредством реформы кредита и обращения и резко нападал на коммунизм. Был избран депутатом Учредительного собрания, редактировал ряд газет. (Прим. редактора)
(обратно)32
Моби Дик — персонаж одноименного романа Германа Мелвилла, огромный белый кит, олицетворяющий зло. (Прим. редактора)
(обратно)33
1,89 литра. 1 галлон = 3,78 литра. (Прим. редактора)
(обратно)34
Махатма Ганди (наст. имя Ганди Мохандас Карамчанд) (1869–1948) — один из руководителей национально-освободительного движения Индии, основоположник доктрины т. н. ненасильственного сопротивления, названную им сатьяграхой. Высоко чтил Л.Н. Толстого, который оказал на него большое влияние и которого Ганди считал своим учителем и духовным наставником. Руководил кампанией гражданского неповиновения в Индии, неоднократно подвергался арестам и сидел в тюрьмах, в заключении и на свободе не раз объявлял голодовки. Убит индусским националистом. (Прим. редактора)
(обратно)35
Мартин Лютер Кинг — негритянский проповедник, общественный деятель выступавший за ненасильственную расовую интеграцию. Джеймс Кэгни и Хэмфри Богарт — популярные американские актеры 1940–1950. «Дым из ствола» — популярный ТВ-сериал про ковбоев на Диком Западе. (Прим. редактора)
(обратно)36
Фанон, Франц Омар (1925–1961) — африканский революционер, врач, политик, философ. Служил во Французской армии во Второй Мировой, глава психиатрического отделения госпиталя в Алжире, редактор газеты алжирских националистов el moudjahid, посол Алжира в Гане. Автор книг «Черная кожа, белые маски» и «Несчастье Земли», анализирующих систему колониализма и её последствия. (Прим. редактора)
(обратно)37
Роберт Уильямс был президентом Национальной ассоциации содействия развитию цветного населения в Монро, штат Северная Каролина. Он привлек мужчин из этой ассоциации и создал организацию, члены которой носили оружие в целях самообороны. Этот шаг был продиктован необходимостью защищаться от белых, взявших за правило устраивать кутежи с перестрелками на территории негритянской общины и терроризировать местных жителей. Уильямс стал одним из первых чернокожих, выступивших в наши дни в пользу самообороны. В поддержку своей позиции он писал специальные статьи. В 1961 году он покинул Соединенные Штаты, когда попал в федеральный розыск за похищение людей. По словам участников организации Уильямса, они ненадолго задержали белую парочку, а потом отправили ее вечером в общину, чтобы эти люди принесли в полиции извинения за оскорбления и проявленную жестокость. Уильямс отправился на Кубу, побывал в Китае и Танзании, продолжал писать. В 1969 году он вернулся в США. (Прим. автора)
(обратно)38
В июле 1972 года мы окончательно отказались от всех должностных наименований в нашей партии. (Прим. автора)
(обратно)39
Вечером 6 апреля 1968 года, два дня спустя после убийства д-ра Мартина Лютера Кинга, члены нашей партии везли на трех машинах провизию и другие необходимые вещи для барбекю, которое должно было состояться в общине на следующий день. Полиция устроила засаду. Началась перестрелка, и полицейские загнали Малыша Бобби и еще одного из «Черных пантер», Элдриджа Кливера, в подвал дома на 28-й стрит Окленда. Полтора часа полицейские обстреливали дом из ружей, пистолетов и дробовиков, пускали туда слезоточивый газ. И вот Бобби вышел с поднятыми руками. Совершенно хладнокровно полицейские застрелили его прямо там, на улице. Ему было семнадцать лет. (Прим. автора)
(обратно)40
Мы сами выдумали этот термин. В негритянской общине это тактика нервирования врага посредством неожиданных действий, в результате чего враг завлекается на территорию своего противника. (Прим. автора)
(обратно)41
Кливер был освобожден на поруки из тюрьмы Соледад 12 декабря 1966 года. Его отпустили в Сан-Франциско после того, как он отсидел в тюрьме девять лет за изнасилование, за которое дают от одного до четырнадцати лет. (Прим. автора)
(обратно)42
Анджела Дэвис — негритянская радикальная активистка, член Компартии США. Была осуждена за уголовное преступление, её имя использовалось в 70-е для огромной пропагандистской кампании в СССР. В 1990-х отошла от политики, занимается преподаванием. (Прим. редактора)
(обратно)43
В данном случае — члены легальных вооруженных формирований. Данные группировки, также именуемые «милицией» (т. е. «ополчением») придерживаются взглядов преимущественно правого толка и как правило состоят из белых. (Прим. редактора)
(обратно)44
После нападения Японии на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941, по приказу правительства США в Америке были организованы лагеря в которых без суда и следствия почти до конца войны содержались американские японцы. (Прим. редактора)
(обратно)45
Врача, проводившего осмотр, звали Томас Финч. Он был сравнительно молод, лет тридцати пяти. Так вот, он совершил реакционное самоубийство вскоре после первого слушания моего дела в 1968 году. Он был свидетелем обвинения и давал показания о происхождении моей раны и о том, что случилось в Кайзеровской больнице утром 28 октября 1967 года. Считается, что он покончил с собой, не выдержав угрызений совести и отчаяния, которые мучили его из-за того, что он так себя повел тогда. Он нарушил свою профессиональную этику, так обращаясь с человеком, который нуждался в помощи. Поэтому он не мог найти покоя. (Прим. автора)
(обратно)46
Веси Денмарк (1767–1822) — негритянский проповедник. В 1822 пытался организоавть восстание рабов в Южной Каролине, но заговор был раскрыт. Казнен как изменник. Тёрнер Нат (1800–1831) — американский негр-мятежник. В 1831 организовал и возглавил восстание рабов. После его подавления был повешен. В тюрьме написал историю своей жизни. (Прим. редактора)
(обратно)47
Джерри Рубин (1938–1994) — американский активист, защитник гражданских свобод, основатель движения американских йиппи (youth international party), одна из виднейших фигур контркультуры 60-70-х. В 80-х отошел от радикализма, став бизнесменом. Погиб в автокатастрофе. (Прим. редактора)
(обратно)48
Чикано — американец латинского (преимущественно мексиканского) происхождения. (Прим. редактора)
(обратно)49
Орден Лосей — полузакрытая международная организация масонского типа. (Прим. редактора)
(обратно)50
Дядя Том в современной негритянской культуре — символ раболепия и покорности перед белыми. (Прим. редактора)
(обратно)51
Федеральные тюрьмы строгого режима. (Прим. редактора)
(обратно)52
Дю-Буа Уильям Эдвард Беркхарт (1868–1963) — негритянский общественный деятель и писатель, правозащитник, энциклопедист, преподаватель, социолог, человек повлиявший на массовое сознание негритянского населения. Автор тезисов — «Черное — прекрасно» и «Двойное сознание черного человека». Автор многочисленных книг, статей, эссэ. Лауреат Ленинской премии. Член компартии США. (Прим. редактора)
(обратно)53
Жена кинорежиссера Романа Полански актриса Шэрон Тейт была зверски убита (на восьмом месяце беременности) вместе с несколькими своими гостями. Их убийцы: девушки-хиппи, члены «семьи» Чарльза Мэнсона, самозваного гуру с уголовным прошлым. Кровью своих жертв убийцы, действовавшие по наущению Мэнсона, написали на стене дома слова «хелтер-скелтер», заимствованные из одноименной песни «Битлз». Как убийцы, так и их жертвы в ту ночь были под действием ЛСД (Прим. редактора)
(обратно)54
3 августа президент Никсон выступал в Денвере, штат Колорадо, с речью, посвященной соблюдению законности и порядка. В своем выступлении он упомянул суд над Чарльзом Мэнсоном и тремя женщинами, обвиняемыми вместе с ним. Судебное слушание по их делу было в полном разгаре. Их судили за убийство киноактрисы Шэрон Тейт и ее шестерых друзей, которые были в гостях у нее дома в Бенедикт-Кэньон, в Лос-Анджелесе. Убийство было совершено 8 августа 1969 года. Президент сказал, что Мэнсон «был виновен прямо или косвенно в совершении восьми или девяти беспричинных убийств». Страна оцепенела от страха, услышав такое замечание. Президент Никсон, адвокат, между прочим, сразу же поправился, добавив, что «он не собирался размышлять о виновности или невиновности обвиняемых по делу Тейт… У подсудимых должна сохраняться презумпция невиновности». (Прим. автора)
(обратно)55
По законам Калифорнии, если обвиняемому грозит смертная казнь, он проходит через два суда. Первый суд должен решить, виновен подсудимый или нет. Если его признают виновным в совершении убийства первой степени, он должен предстать перед судом еще раз, причем присяжные должны быть те же. Во второй раз суд определяет меру наказания. Между двумя судебными процессами был перерыв. Вот этот перерыв и предстояло отсидеть Макферсону. (Прим. автора)
(обратно)56
В результате засады, которую полиция устроила «Черным пантерам» 6 апреля 1968 года, когда погиб Бобби Хаттон, Калифорнийское управление по делам совершеннолетних отправило Элдриджа Кливера в тюрьму Вакавиль за нарушение режима условно-досрочного освобождения и на основе других обвинений. Он пробыл в тюрьме два месяца. Чарльз Гэрри подал судье Высшего суда округа Солано Рэймонду Шервину прошение о выяснении правомерности содержания Кливера под стражей. Распоряжение управления по делам совершеннолетних от 27 сентября 1968 года было пересмотрено. Судья Шервин отметил, что условно-досрочное освобождение Кливера было прервано без судебного слушания, кроме того, не были представлены доказательства в пользу выдвинутых против него обвинений. Кливера освободили под залог в $50 000, после чего управление по делам совершеннолетних сразу же начало добиваться пересмотра решения судьи Шервина в Калифорнийском апелляционном суде. Как Апелляционный суд, так и Высший суд штата согласились с решением управления по делам совершеннолетних отменить условно-досрочное освобождение. Кливеру было приказано явиться обратно в тюрьму 27 ноября 1968 года. Но он туда не вернулся и уехал из Штатов сначала на Кубу, а потом в Алжир. (Прим. автора)
(обратно)57
Эрика Хаггинс (вдова Джона Хаггинса, состоявшего в нашей партии) вместе с еще восемью «черными пантерами», среди которых были Бобби Сил, Джордж Сэмс, Уоррен Кимбро и Лонни Маклукас, обвинялись в убийстве и в сговоре о совершении убийства Алекса Рэкли, члена партии «Черная пантера» в Нью-Йорке. Убийство было совершено 21 мая 1969 года. Сэмс и Кимбро признали себя виновными в убийстве Рэкли (это было убийство второй степени) и были приговорены к пожизненному заключению. Маклукаса признали виновным в сговоре и приговорили к тюремному заключению на срок от двенадцати до пятнадцати лет. Суд над Эрикой Хаггинс и Бобби Силом проходил отдельно. Присяжные не пришли к единому решению. Штат отказался судить их вновь, сняв с них все обвинения. (Прим. автора)
(обратно)58
День труда — праздник, отмечаемый в США в первый понедельник сентября. (Прим. редактора)
(обратно)59
День Благодарения — праздник, отмечаемый в США в последний четверг ноября. (Прим. редактора)
(обратно)60
2 апреля 1969 года был арестован двадцать один человек из нью-йоркского отделения нашей партии. Их обвиняли в заговоре, целью которого была подготовка взрывов в нескольких полицейских управлениях Нью-Йорка, в нескольких магазинах, в Нью-йоркском ботаническом саду и на Нью-хэвенской железной дороге. Залог был назначен в размере $100 000 за каждого. В ожидании суда обвиняемые провели в тюрьме десять месяцев. Судебный процесс продлился восемь месяцев, и 13 мая 1971 года тринадцать подсудимых, включая двух сбежавших в Алжир, были единодушно признаны невиновными. Все двенадцать пунктов обвинения были с них сняты. (Прим. автора)
(обратно)



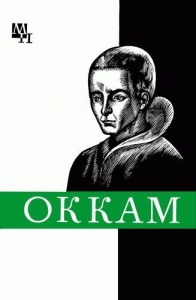




Комментарии к книге «Революционное самоубийство», Хьюи Перси Ньютон
Всего 0 комментариев