Маркус Вольф Друзья не умирают
Леонард
Скорее всего это произошло в сентябре в середине семидесятых, когда Леонард совершенно неожиданно появился в нашем тогдашнем летнем пристанище на Балтийском море. Я особенно люблю этот месяц, когда лето переходит в осень, и каждый год стараюсь оставить на это время хоть часть своего отпуска, чтобы насладиться уединением на балтийском острове Узедом.
В этот день я не ожидал увидеть и Мени -такое ласкательное прозвище с детских лет носила наша мать. И все же я почти не удивился, увидев рядом с ней американца примерно ее возраста. Он не нуждался в представлении. Я сразу же понял, кто он, хотя мы не встречались почти сорок лет. Я узнал его по приметному лицу и высокому лбу, который отличал его уже с молодых лет. Он также сохранил до глубокой старости свою статную фигуру и атлетическую осанку.
Наш домик стоял в непосредственной близости от тогда еще закрытой границы с Польшей. За дюнами открывался морской простор, который при постоянно меняющемся небе мог окрылить любую фантазию. Роща высоких буков, стоящих неподалеку, и убегающие в даль луга подчеркивали прелесть этого времени года. Широкий песчаный пляж, освободившись от толп отпускников, приглашал к бодрящему купанию и продолжительным прогулкам.
Леонард с давних пор был близким другом нашей семьи. Знакомство с ним относится к московскому периоду нашей жизни. Я не знаю, при каких обстоятельствах мои родители встретились с Энн - так звали жену Леонарда -и с ним самим. Однако знаю, что это было связано с готовившейся постановкой в Московском драматическом театре «Профессора Мамлока», тогда самой важной для отца его пьесы. Леонард принимал участие в ее репетициях. В то время отец много путешествовал, и в этот раз он отправился через Скандинавию в США. Отца очень беспокоило, что московские театральные деятели не знают реалий жизни в Германии, и это могло привести к неверной трактовке персонажей пьесы и развития действия в ней. В письмах матери рассказывается, как энергичное вмешательство Леонарда помогло избежать этих ошибок в целом ряде эпизодов пьесы. Хотя он и был американцем, но учился в Германии и безупречно говорил по-немецки. Тогда я впервые увидел пьесу отца на русском языке. Это произвело на меня такое сильное впечатление, что я до сих пор помню фамилию исполнителя главной роли: Любимов-Ланской.
В моей памяти хорошо сохранились воспоминания о нескольких визитах к «американцам». Их квартира была в десяти минутах ходьбы от нашего дома, почти напротив московского Центрального телеграфа, чуть наискосок на другой стороне улицы Горького, которая теперь опять называется Тверской. Они жили в одном из красивых старых домов в стиле модерн. Дом этот должны были передвинуть в глубь квартала -тогда об этом писали как о большом техническом достижении, - чтобы освободить место для новостроек сталинского времени. К тому времени, когда дом действительно передвинули, Энн и Леонард уже покинули Москву.
Я начал интересоваться внешней политикой в двенадцать или тринадцать лет. На меня произвели большое впечатление глубокие знания Леонарда. Обычно он разворачивал на обеденном столе географическую карту Азии и пояснял значки, которыми отмечал Великий поход Народно-освободительной армии Китая. Китай уже тогда захватывал мое юношеское воображение, впрочем, так это осталось и до сих пор. В то время Леонард знал не только имена командующих армией Мао-Цзэдуна и Чжу Дэ, даже сложные для произношения названия китайских провинций не составляли для него никаких трудностей. Конечно же, мы оба не могли предположить, что через полтора десятилетия я сам встречусь со ставшим уже легендарным Мао. И даже пожму ему руку.
Леонард и Энн уехали из России. Позже я узнал, что они встречались с моим отцом во время его вынужденного пребывания на французской Ривьере во время гражданской войны в Испании. Засвидетельствовано это на фотографии тех лет. Сейчас я познакомился с интенсивной перепиской моих родителей с Энн и Леонардом до и во время пребывания моего отца в лагере Ле Берне для интернированных. Однако в то время следы этой дружбы постепенно стерлись из моей памяти. После войны только некоторые из писем, опубликованных в собрании сочинений моего отца, напомнили об этих друзьях из московской жизни.
Леонард и я искренне обрадовались встрече после многолетнего перерыва, а Мени тут же отправила нас на прогулку - подышать свежим воздухом, взявшись за это время приготовить что-нибудь поесть. Лишь позже я понял, что она намеренно создала нам эту возможность побеседовать без свидетелей.
На пляже мы не встретили ни единого человека. Поначалу разговор, в котором мы старались перешагнуть через минувшие годы, не клеился. Леонард знал о моей работе в разведке, и, как мне казалось, у него было что-то на душе, чего он не договаривал. Сначала мы поговорили о деле, которое привело к отставке канцлера ФРГ Вилли Брандта. Оно было свежо в моей и в его памяти.
Моему почтенному по возрасту другу из давних времен было трудно говорить о своей проблеме. Он говорил намеками, вместо того чтобы прямо сказать мне, в чем его дело. Однако затем я все же понял, что речь идет о его сотрудничестве с одной из советских разведывательных служб. Я знал о подобной сдержанности, характерной и для других бывших разведчиков его поколения. После первых публикаций в пятидесятые годы о легендарном Рихарде Зорге прошло много времени, пока его радист Макс Кристиансен-Клаузен, живший в Берлине, согласился рассказать о совместной с Зорге конспиративной работе. Без «благословения» компетентного в этих вопросах члена Политбюро из него невозможно было вытянуть ни единого слова. В случае с другой спутницей нашего великого товарища, Рут Вернер, потребовалось все мое искусство убеждения и согласие Москвы, чтобы побудить ее написать «доклад Сони». Ее воспоминания, предназначавшиеся первоначально для служебного пользования, будучи освобождены от секретных пассажей, в течение ряда лет были бестселлером в ГДР. Аналогичная история произошла у меня и с Клаусом Фуксом, который жил среди нас как признанный физик и академик Академии наук ГДР, роль которого как советского «атомного шпиона» была известна на Западе лишь тем, кто имел доступ к служебной информации. Когда мы хотели взять у него интервью для внутреннего использования, пришлось получить разрешение первого лица ГДР. Для «нелегалов» того поколения однажды данное обязательство хранить молчание было законом. Даже в кругу самых близких друзей они не говорили об этих страницах своей биографии.
Очевидно, что Леонард очень долго медлил, прежде чем решился на эту поездку в Европу. Во встрече со мной он видел единственную возможность как-то разрешить свою сложную ситуацию.
Откровение было кратким. После возвращения в США во время гражданской войны в Испании он несколько лет поддерживал контакт с сотрудниками одной из советских разведслужб. Затем, в пятидесятые годы, некоторые связи были раскрыты, что привело к казни на электрическом стуле Этель и Юлиуса Розенбер-гов. В это время контакты с ним были прекращены. Было оговорено, что он должен переждать, пока к нему снова не обратятся. На этот случай имелись договоренности. С тех пор минуло уже более двадцати лет, но ничего не происходило. По словам Леонарда, он установил в Нью-Йорке интересные связи на предприятиях и в исследовательских лабораториях военно-промышленного комплекса, постоянно получает информацию, в частности о самолето- и ракетостроении, но не может ее никому передать. Что ему делать? Как быть?
Конечно же, я не мог тут же дать ему ответ. Он это хорошо понимал. Молча мы прогуливались по пляжу, сопровождаемые только скрипом песка, свистом ветра и криками чаек.
Фатальная сложность его положения была мне ясна сразу. Он был из числа небольшой плеяды мужественных американских коммунистов-ветеранов, которые подверглись особенно жестоким оскорблениям и преследованиям. Следуя полученным указаниям, Леонард порвал связи с этими товарищами и ушел от активной политической деятельности. И как раз тогда, когда каждый человек был на счету. Старые друзья, должно быть, сочли его капитулянтом, возможно, даже предателем. Это было тогда, когда весь цивилизованный мир требовал: «Свободу Анджеле Дэвис!». Политические активисты становились жертвами кампании ФБР по ликвидации политической оппозиции, аналогичной преследованиям эры маккартизма. Политические заключенные до конца своих дней исчезали за стенами тюрем по ложным обвинениям в убийствах, международные акции протеста за их освобождение оставались безрезультатными. Бездеятельное ожидание для человека его убеждений и характера на закате активной жизни причиняло ему душевные страдания.
Мени, между тем, соорудила одно из своих волшебных вегетарианских блюд. Возможно, она догадывалась о проблемах Леонарда. В конце концов, он ведь должен был ей как-то объяснить свое желание встретиться со мной.
Оба ровесника вспоминали общих знакомых по Москве, многих из которых уже не было в живых.
Меня же больше заинтересовал подробный рассказ Леонарда о настроениях в различных слоях населения США в семидесятые годы. В ходе кампании администрации Никсона по прекращению вьетнамской войны протесты против этого преступления ведущей державы НАТО несколько утратили ожесточенность прошлых лет. Беспорядки все же оставили в среде студенческой молодежи заметные следы. Сохранялась пропасть между значительной частью интеллигенции и правящими кругами. Ожидать присоединения правительства к намечавшейся в Европе разрядке напряженности не приходилось. Антикоммунизм, направленный прежде всего против СССР, определял политику и разделялся большинством избирателей. Очень большая ставка делалась тогда на советско-китайские противоречия.
После обеда Мени и Леонард уехали обратно в Ленитц, где в свое время жили родители. На следующий день Леонард улетел в Нью-Йорк.
Сразу же после окончания отпуска я написал краткий официальный запрос моему коллеге по службе в Москве. Личные данные Леонарда дополнил описанием его положения и просьбой дать мне ответ.
Я не мог рассчитывать на то, что офицеры, отвечавшие за работу с Леонардом, все еще оставались у дел, а непосвященные, естественно, могли испытывать недоверие. У меня же не было никаких сомнений в лояльности и надежности Леонарда.
Прошло несколько недель, когда наконец офицер связи советской разведки передал мне ответ. В нем было всего несколько строчек. Подтверждались данные о Леонарде и лаконично сообщалось о том, что Центр согласен на восстановление связи товарищем Вольфом. Это было странно и звучало почти как анекдот. Выходило, что я должен взять на себя ответственность за продолжение все еще весьма опасной работы с человеком, которому, далеко за семьдесят лет? Такое нельзя было даже принимать всерьез; мне это и во сне бы не привиделось. Тогда я истолковал это чисто бюрократическое послание как согласие на освобождение Леонарда от всех прежних обязательств. В это время мой брат Конрад планировал поездку в США для сбора материалов к своему фильму «Тройка». Я попросил его, пользуясь случаем, посетить Леонарда и передать ему от меня, что он волен действовать по собственному усмотрению. Кони так и сделал.
Леонард обрел свободу действий. Через пару лет я также стал пользоваться большей свободой. После неожиданно ранней кончины моего брата я попросился в отставку и посвятил себя «Тройке» - истории фильма, который Кони не успел снять. Работая над частью фильма, посвященной нашей семье и ее друзьям в довоенной Москве, я наткнулся на свидетельства дружбы с Энн и Леонардом. В массе писем за время после их отъезда из Москвы и до начала Второй мировой войны нашлась интересная фотография двух полуобнаженных мужчин в расцвете лет.
На ней сняты мой отец и Леонард. Фото относится к тому времени, когда отец застрял на французской Ривьере после неудачной попытки перебраться в 1938 году через границу в Пиренеях, чтобы присоединиться к Интернациональным бригадам в Испании в качестве врача.
Отец поселился в курортном местечке Са-нари-сюр-мер по соседству с другими писателями и деятелями искусства, такими, как Лион Фейхтвангер и Франц Верфель. На открытке, которую он послал Энн и Леонарду, есть и дом на набережной. На мансарду дома указывает стрелка, снабженная припиской отца: «моя мастерская». В это творчески очень продуктивное время Фридрих Вольф написал несколько рассказов и прежде всего пьесу о Бомарше, создателе «Фигаро». Как вспоминает Энн, Вольф использовал для интенсивной литературной работы ранние утренние часы и время до обеда, когда никто не смел ему мешать. Напротив, послеобеденное время он проводил в беседах с друзьями, купался и загорал. Глядя на фото этих двух мужчин, можно понять сравнение с маккавеями: евреями, самоутверждающимися в борьбе. Оба были атеистами, но не отказывались от своих иудейских предков.
В этом маленьком французском курортном местечке постоянно проходили встречи эмигрантов левой ориентации. Отец всегда очень удачно умел привлекать членов семьи, друзей и знакомых к распространению своих произведений. Так же было и там. Энн перевела «Профессора Мамлока» на английский язык. Она же принимала участие в переводах других его произведений. В каждом из многочисленных писем, отправленных в 1939 и 1940 годах, Леонард постоянно получал от отца поручения как его литературный агент относительно контракта на экранизацию драмы из жизни эмигрантов «Забытый корабль», которую отец еще только писал. Леонарду также поручались переговоры со швейцарским издателем Опрехтом о контракте на пьесу о Бомарше.
Дружеская близость, которая связывала их, чувствуется уже в обращениях: «Леонардус» или «Мой дорогой Old man river», так же как и в подписях: «твой старый Лупус» и «твой старик Вольф». Последние письма того периода отец писал в 1940 году уже из французского лагеря Ле Берне, куда он был интернирован после начала войны.
Читая эти письма, нетрудно поверить показаниям Леонарда перед комиссиями Конгресса США, что он занимался исключительно литературными делами. Другим подтверждением деятельности такого рода была его антифашистская пьеса «Укроти ветер». Я уверен, что, согласно железным правилам конспирации, даже моему отцу, своему другу, он не сказал ни слова о шпионских заданиях, которые он, вероятно, получил уже тогда.
Во время работы над книгой «Тройка» я попросил кинодокументалистов, снимавших телефильм о моем брате, посетить во время съемок в США многих наших старых друзей. Энн и Леонард, как и другие, приняли их весьма сердечно и передали для меня целый ряд дотоле неизвестных писем родителей. В 1988 году фонды моего архива пополнились еще раз, когда по моей просьбе пресс-атташе представительства ГДР при ООН несколько раз посетил эту пару. Друзья жили в квартире в доме на 57-й улице недалеко от Карнеги-холла. Эта улица на севере примыкает к Бродвею и проходит в непосредственной близости от «немецкого квартала», в котором выходят газеты и журналы на немецком языке. Квартира стариков, по описанию посетившего их, располагалась на четвертом этаже и была обставлена очень просто. Состояла она всего лишь из большой комнаты, куда попадаешь сразу от входной двери, небольшого помещения, напоминающего скорее чулан, из кухни и ванной. Комната, забитая, как архив, книгами и бумагами, при последнем посещении была уже превращена в больничную палату. И Леонард, и Энн выглядели очень бледными, маленькими и исхудавшими. От фигуры когда-то могучего маккавея ничего не осталось. Леонард большей частью сидел в кресле или в инвалидной коляске, но, хотя физическое состояние супругов явно было очень тяжелым, а беседы отнимали - особенно у Леонарда - буквально все силы, их настроение и живость ума оставались на высоте, и они были счастливы получить весточку от нас из Берлина. Моя просьба помочь своими воспоминаниями и письмами в работе над начатой мною книгой их очень обрадовала и явно облегчила их тяжкое одиночество.
Леонард редко поднимался с постели и уже совсем не выходил из квартиры. Его очень беспокоила судьба сокровищ, хранившихся у него на книжных полках, и большую часть своих книг он передал профсоюзной библиотеке в Нью-Йорке. Кроме книг у него было много ценных писем от известных людей. По словам моих посланцев, Леонард с огромным трудом достал чемодан и вынул оттуда несколько пачек писем, главным образом от моих родителей, а также письма Лиона Фейхтвангера и Эрвина Пискатора. Без малейших колебаний от отдал их доброму вестнику для передачи мне.
К этому времени я уволился из разведки и работал над своей книгой. Я просил Энн и Леонарда ответить на ряд моих вопросов об их жизни и о нашей семье. К сожалению, ни один из них не был способен самостоятельно управляться с диктофоном.
Наиболее живы были воспоминания о моих родителях. Отца они знали как очень приветливого, открытого человека и хорошего товарища; по словам Энн, он был «дамским угодником» («lady's man»), и «женщины падали к его ногам». Отец часто спрашивал об их трудностях и проблемах. Однако Энн так и не стала с ним откровенной. В то же время она делилась с моей матерью своими проблемами, а моя мать открылась ей, говоря об увлечениях отца другими женщинами. Эльза, по словам Энн, обладала удивительным характером, достойным уважения, она вела себя «очень, очень по-немецки».
Действительно, наша мать без колебаний приняла в семью нашу сводную сестру Лену, когда в тридцатые годы ее мать, жившая в республике немцев Поволжья, стала жертвой сталинских репрессий. И хотя о таком отношении матери и проявленном ею мужестве я знал давно, рассказ американки меня очень растрогал. С одной стороны, он говорил о близости в отношениях обеих женщин, а с другой - о том, что удивительная терпимость матери давалась ей далеко не так легко, как тогда казалось нам, детям. Именно благодаря такому отношению она сумела сохранить прочные отношения с отцом вплоть до его смерти в 1953 году.
Голос Леонарда на пленке звучит очень слабо, и чувствуется, что рассказ о пошлом требует от него больших усилий. Леонард упоминает, что в начале шестидесятых годов попытался изложить историю своей семьи. Написав немного о доме своих родителей и о своем детстве, он оборвал запись словами: «Революционная дисциплина не позволяет мне писать о подробностях борьбы».
Собственно, этими словами, объясняющими наше красноречивое молчание во время прогулки по пляжу на Балтике, он поставил точку в трагической истории о забытом солдате. Однако его судьба не давала мне покоя, я продолжал поиски и вскоре выяснил детали, не известные мне до тех пор. Они не внесли ясности в странную историю с Леонардом, однако открыли новые для меня страницы тайной войны «на невидимом фронте».
Я воспользовался своими связями со старыми и новыми друзьями для получения дополнительных сведений из архивов разведслужб. Контакт с двумя высокопоставленными сотрудниками ЦРУ я установил гораздо быстрее, чем с Москвой. В российской столице пресловутые бюрократические препоны в получении информации из архивных ведомств, так же как и в доступе к рассекреченным данным, почти непреодолимы, во всяком случае, связаны с огромными затратами времени. Напротив, прошло совсем немного времени, когда я начал регулярно получать из США копии рассекреченных документов. Они содержали точные сведения по делу Леонарда, взятые из документов американской секретной службы и протоколов сенатских комиссий, где им занимались вскоре после окончания войны. Если бы эти данные были известны Москве, логическим следствием должно было бы быть не только прекращение связи с агентом и его разведывательной работы, но и вывод его из США. Этого сделано не было. Он был только «законсервирован», как называется на нашем профессиональном языке временное прекращение связи с агентом.
Самые потрясающие документы поступили из архива «Веноны», одной из самых секретных операций контрразведки США, - таким было кодированное название секретной программы, начатой во время войны Разведывательной службой армии США (US Army's Signal Intelligence Service), позднее преобразованной в Агентство национальной безопасности. Программа была создана для дешифрирования закодированных телеграмм советского посольства и других советских учреждений. Я не знаю, имели ли американцы доступ к сведениям немецкой радиоконтрразведки. Как известно, немецким органам удалось после 1941 года дешифрировать радиотелеграфную переписку между агентами и Центром в Москве. Следствием этого было раскрытие в Германии и странах Западной Европы агентурной сети, которая вошла в историю под названием «Красной капеллы». Переплетение агентурных связей привело к смертным приговорам и казням сотен женщин и мужчин из антифашистского Сопротивления.
В 1944 году службе «Веноны», находившейся в Арлингтоне, удалось проникнуть в шифр КГБ, в 1945 году пришел первый настоящий успех, и, наконец, в 1948 году было дешифрировано уже около трех тысяч радиограмм, отправленных из советских дипломатических учреждений в США начиная с 1939 года. В основном это были телеграммы резидентов КГБ и ГРУ, работавших под прикрытием посольства и консульств.
В судьбе Леонарда решающую роль сыграла телеграмма от 12 июля 1943 года, отправленная установленным резидентом ГРУ Павлом П. Михайловым (псевдоним «Мольер»), который работал под прикрытием генерального консула в Нью-Йорке. В документе идет речь об источнике «Смит», который с 1942 года работал переводчиком русского языка в секретном ведомстве США - Управлении стратегических служб, или УСС (Office of Strategic Services), В телеграмме приведена следующая информация источника «Смит»:
1. «В беседе с заместителем руководителя русского отдела УСС Джоном Моррисоном источник получил следующие сведения:
а) в Военном министерстве США есть группа офицеров, известная под названием «двенадцать апостолов». Группа состоит в основном из офицеров отдела разведки (Джи-2);
б) «Смиту» удалось установить имена только трех членов этой группы: Трумен, Макгу-айр, Клейтон (все из Джи-2);
в) в группе разрабатывают идею войны против СССР (26 следующих групп не дешифрировано). Моррисон считает, что некоторое время тому назад подготовка войны против СССР уже началась, а непосредственная цель состоит в том, чтобы создать возможности сохранения большой армии США по окончании войны, что позволит высшим офицерам сохранить свои высокие звания, высокие доходы и пр.;
г) по мнению Моррисона, этой идеей оправдывается одно из ряда мероприятий, с помощью которых военная клика намерена проложить путь к военной диктатуре в стране (одна группа отсутствует), что трения внутри администрации Рузвельта и между администрацией и Конгрессом (5 групп не дешифрированы) во время войны и соотношение сил после войны приведут к передаче власти в руки военных.
2. Позднее «Смит» вместе с Моррисоном имел беседу со Стюартом Хейденом (сотрудником бюро по подготовке планов управления освобождаемыми странами, известным корреспондентом из Чикаго). Последний также говорил о современных тенденциях развития в сторону военной диктатуры, которые поддерживает часть крупных промышленников.
3. Герберт Воллнер, сотрудник министерства финансов, говорил со «Смитом» по этому же вопросу. Он также назвал эту тенденцию «стремлением к диктатуре фашистского типа».
4. В одном из университетов группа из 81 офицера армии завершила курс изучения русского языка. Предполагается создание при Генеральном штабе специальной криптографической (69 групп не дешифрированы) (54 группы не дешифрированы)».
В материалах «Веноны» есть еще одна телеграмма резидента ГРУ Михайлова от 16 августа 1943 года со ссылкой на информацию от «Смита» о лихорадочной круглосуточной работе русского отдела УСС над срочным докладом для Рузвельта к встрече с Черчиллем. На следующий день, 17 августа 1943 года, Михайлов отправляет в Москву эту телеграмму, которая после дешифрирования будет иметь роковые последствия для Леонарда. Во время нашей прогулки по балтийскому пляжу и до своей смерти Леонард не знал, что эта телеграмма позволила точно установить, что под псевдонимом «Смит» скрывается именно он.
Резидент сообщает в ней, что «Смит» из-за связей с коммунистами накануне был отстранен от работы в УСС, а 16 августа его дело разбиралось в Кассационной палате Организации гражданской службы. Шестеро коллег выступили в его защиту, в том числе руководитель русского отдела Робинсон. «Смит» берет отпуск до принятия решения по его делу до конца августа.
По этим данным о разбирательстве дела, состоявшемся 16 августа, установление личности агента «Смит» было уже детской задачкой.
Леонард, вероятно, исполнял свои обязанности в УСС еще некоторое время, поскольку «Смит» фигурирует еще несколько раз в телеграммах Михайлова.
Легендарный источник советской разведки в британской секретной службе Ким Филби был с 1949 по 1951 год командирован в Вашингтон и должен был знать о результатах работы по осуществлявшейся уже в то время совместной американо-британской программе дешифрирования. Более того, другой агент советской разведки, действовавший под псевдонимом «Жора», Уильям Вайсбанд, который работал в службе дешифрирования Армейского агентства безопасности связи, судя по всему, передавал в 1948 году документальные материалы о том, как продвигается работа по программе «Венона». Поскольку данных из архивов советской разведки пока не получено, многое остается неясным. Кто и что знал, что предполагал? Был ли проведен анализ многочисленных дел и процедур, приговоров и обвинений, рассмотренных в следственных комиссиях Конгресса?
Указатель имен, упомянутых в ныне доступных документах «Веноны», содержит сотни фамилий, многие из которых были использованы для пропагандистских кампаний в годы холодной войны, чем пришлось заниматься и нам. Тем, кто интересуется этим периодом истории, следует взять в качестве отправной точки в своих исследованиях документы «Веноны». Лично меня в этом деле интересует только поведение советской стороны по отношению к Леонарду, которое с трудом поддается пониманию.
Любому сотруднику разведки моего поколения крайне трудно представить себе, почему активный деятель коммунистической партии, известный сотням людей, был завербован в агенты старым дедовским способом.
Естественно, я знаю о многих выдающихся деятелях периода борьбы советского государства с фашизмом, которые пришли в разведку из коммунистических партий и Коминтерна. Для коммунистов тогда как само собой разумеющееся считалось делом чести сотрудничать с секретными службами во имя защиты «отечества трудящихся». В борьбе против немецкой и возможной японской агрессии такие разведчики, как Рихард Зорге, коммунисты - участники «Красной капеллы» из разных стран Европы совершили великие подвиги, получая информацию с риском для жизни.
Когда позднее стало известно, что советские шпионы были коммунистами, это обстоятельство, например в Великобритании, довольно часто использовалось для обвинений коммунистов в предательстве и для дискриминации коммунистической партии.
Естественно, мы, со своей стороны, сделали выводы. Так, для моей службы конспиративная работа с коммунистами в послевоенное время была категорически запрещена. Если в годы войны это еще как-то можно было оправдать, то в наше время это было недопустимо. Могли ли лица, ответственные за работу с Леонардом, исходить из того, что его прошлое не будет раскрыто? Конечно же, нет!
Передо мной лежат оригинальные английские тексты допросов Леонарда в Комиссии по антиамериканской деятельности Палаты представителей от 8 апреля 1943 года. Как принято в подобных случаях и в Германии, Леонарда подробно опросили на первом же допросе о фактах его биографии: родителях, учебе, работе и деятельности. Из них я узнал многие ранее не известные мне подробности о его семье и этапах его жизни. По всей вероятности, на эти вопросы Леонард ответил правдиво, поскольку у него не было никаких оснований что-либо скрывать. Напротив, его ответы в ходе исключительно напряженных многочасовых допросов о бесчисленных фактах его политической деятельности, его пребывании в России и о многих людях, которых, как полагали, он должен был знать, были ответами настоящего профессионального революционера. И так начиная с вопроса: известно ли ему, что мастерская его отца в Нью-Йорке использовалась как место проведения конспиративных встреч и заседаний членами компартии США в период ее становления? Так же последовательно и решительно на вопрос о его членстве в коммунистической партии Леонард неизменно отвечает «Нет». Затем его спросили о работе вскоре после возвращения из России преподавателем в Школе для рабочих, о его сотрудничестве в газете «Дейли уор-кер». При этом были предъявлены статьи, опубликованные за его подписью. Ему было задано множество вопросов, из которых Леонард мог сделать выводы о степени осведомленности членов Комиссии. Телеграмма резидента из Нью-Йорка от августа 1943 года подтверждает, что советской разведке были известны подробности этого расследования, которое продолжалось и после увольнения Леонарда из УСС.
Спустя десять лет, 11 июня 1953 года, процедура допроса была повторена в еще более жесткой форме. В сенатском комитете Леонарда прямо спросили, сотрудничал ли он с советской военной разведкой и, тем самым, нарушил ли клятвенное заявление, данное при поступлении на работу в УСС. В этот раз Леонард отказался отвечать на вопрос, ссылаясь на пятую поправку к американской конституции, согласно которой никто не может быть принужден давать показания против самого себя. Члены комитета настойчиво повторяли этот вопрос в различных формулировках, но Леонард стоял на своем. Все это происходило в июне 1953 года, то есть в том же месяце, когда казнили Этель и Юлиуса Розенбергов, а «Венона» продолжала выстреливать все новые секретные сведения.
Каким образом человек с таким прошлым, как у Леонарда, вообще мог получить доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, остается тайной американской контрразведки.
Одна из перебежчиц и свидетель ФБР в деле против Элизабет Бентли (псевдоним «Мирна»), подозревавшейся в том, что она советский агент, писала позднее об одном примечательном факте: женщина-агент из разведывательной группы неожиданно столкнулась в УСС с Леонардом и испугалась, учитывая его общеизвестное коммунистическое прошлое, что ее могут увидеть рядом с ним.
Другой нелегал из ее же группы, Якоб Голос («Звук»), который также выдал все, что знал, был согласен с ней: совершенная глупость видеть в Леонарде шпиона. Он был настолько известен как коммунист, что «мог бы спокойно разгуливать с серпом и молотом на груди и красным знаменем в руках».
Еще одна тайна: как Леонард, несмотря на сведения, полученные «Веноной», продолжал спокойно жить в Нью-Йорке и устанавливать весьма опасные связи?
Как же тогда объяснить, что его друзья в Москве так непозволительно долго держали его связанным некогда данным обязательством и тем самым подвергали его смертельной опасности?
Если бы тогда на пляже мне это было известно, я, естественно, задал бы Леонарду много вопросов. Но рассказал ли бы он мне более подробно о самом себе и своих сомнениях за все эти годы? Такие бойцы, как он, умели неукоснительно подавлять внутренние порывы и контролировать себя в сложных, конфликтных ситуациях.
Сейчас, глядя на судьбу Леонарда, я не могу уйти от вопросов к самому себе: во всех ли случаях был оправдан риск использования в холодной войне доверенных мне солдат; не был ли кто-либо из этих женщин и мужчин брошен в одиночестве или даже вообще забыт; и всегда ли полученные результаты оправдывали принесенные жертвы?
Сколько же их было - забытых солдат, потерянных в битвах и сражениях всех войн прошедшего столетия и в том числе холодной войны? Легенда рассказывает об одном самурае, который после окончания Второй мировой войны, не зная о наступившем мире, много лет скрывался на одном из островов Тихого океана.
Не чувствовали ли себя ранее и не чувствуют ли себя сейчас «бойцы невидимого фронта», которые с опасностью для жизни доверились мне и руководимой мной службе, такими же «забытыми солдатами» после крушения нашего государства - ГДР?
Мысли об этих людях преследуют меня все эти годы. Вместе с другими коллегами по совместной службе я старался и стараюсь не прерывать контактов с ними, чтобы даже в тюремных камерах они чувствовали, что мы по-прежнему связаны с ними. Но горько сознавать, что у нас нет сил оказать им действенную помощь. После того как перестало существовать наше государт-во, исчезла всякая возможность возвратить им свободу путем обмена агентов.
Я не могу и не хочу снимать с самого себя ответственность за этих людей, которые несут несправедливую кару, оставаясь единственными заложниками прошедшей холодной войны.
Когда я писал странную историю нашего друга Леонарда, чувствами и мыслями я был вместе с теми мужчинами и единственной женщиной в США, которые отбывают там действительно как последние солдаты холодной войны исключительно суровые наказания. А ведь именно они внесли свой так и не оцененный по-настоящему вклад в то, чтобы эта холодная война -во всяком случае для нас, немцев, - несмотря на многие сверхопасные ситуации, не превратилась в горячую.
Так, например, приговор к пожизненному заключению одному турецкому гражданину в возрасте далеко за семьдесят, который сделал то же самое, что сделал бы и любой агент по поручению американцев, - а таких в мире было и есть немало, - негуманен и не может быть назван иначе как мелочная и злобная месть победителя. Я не упускаю ни одной возможности обратиться с просьбой о его помиловании к властям и высшему руководителю США - этой страны-гиганта, которая написала на своих знаменах слово «свобода» как высочайшее достояние человечества, пойти хотя бы на этот единственный акт гуманности. Этот старый человек не должен умереть в тюрьме, не должен быть забыт.
В последний раз Леонарда посетили в Нью-Йорке 20 января 1988 года. В этот день ему исполнилось 88 лет. Юбиляр был уже очень слаб и совсем непохож на себя, где он на Средиземном море снят с моим отцом, которого он пережил на тридцать пять лет. Менее чем через месяц после визита, 16 февраля, пробил его последний час. Я не смог поехать на панихиду, но не оставляю мысли посетить его могилу, чтобы отдать ему последнюю почесть, и не предам его забвению.
Вспоминая его, я вижу сильного мужчину, все еще шагающего рядом со мной по пляжу. Что давало ему силы, как и многим мужчинам и женщинам поколения моих родителей, выдержать все неописуемые трудности и искушения их жизни? Имела ли вообще смысл их жизнь, так же как и жизнь столь трагически-глупо забытого солдата?
У Леонарда были свои убеждения, которые разделяли и мои родители. Принимая все неизбежные при этом следствия, он был верен своим убеждениям и посвятил им всю свою жизнь. Как и многих других, противоречивая история двадцатого столетия привела его на сторону Советского Союза. Он не был предателем своей американской родины, он любил ее трудовой народ и ненавидел ее реакционных правителей. Он считал себя революционным борцом Интернационала, который должен принести человечеству освобождение от эксплуатации и угнетения. Когда я приду на его могилу, я вспомню о могилах павших коммунаров на парижском кладбище Пер-Лашез, о многих могилах на Красной площади в Москве и о памятном камне Розе Люксембург и Карлу Либкнехту на берлинском Кладбище социалистов, где похоронены и мои родители и брат.
Мартин
Дорогая Вальтраут, я только что узнал о смерти Мартина - сегодня, 8 февраля 1993 года, - и сразу же позвонил Вашей дочери.
Хотя такой спокойной смерти можно только позавидовать, эта внезапная новость нас глубоко потрясла. Еще недавно он был здесь, и у нас произошел один из тех разговоров, которые мы любили вести с самой первой нашей встречи и которые, к сожалению, так редко получались из-за постоянного недостатка времени и из-за того, что мы жили далеко друг от друга.
Мартин рассказывал мне про празднование своего семидесятилетия, на которое вокруг него еще раз собралась вся Ваша большая интересная семья. Поговорили мы тогда и о моем дне рождения, который прошел в январе, - мы с ним одногодки.
У меня остались его красивые, увлекательные и зачастую очень подробные письма, в которых он раскрывал мне свои мысли. Они - та ниточка, которая тянется от наших школьных лет через разлуку в пять десятилетий до последних бурных лет…
Пожалуйста, дайте о себе знать! Если Вы окажетесь в Берлине, мы будем очень рады видеть Вас у себя. Это, естественно, относится и к вашим детям. Как только у меня получится выбраться 6 Штутгарт, я с Вами обязательно свяжусь…
Мартин был моим самым первым другом. Наша общая дорога в школу шла по Цепел-линштрассе, улице, расположенной на окраине городка высоко над котловиной Штутгарта. С первого по третий класс мы оба ходили в школу недалеко от Креервальда. О том, что основатель школы Фридрих Шикер был необычным педагогом, который применял новые, нетрадиционные методы воспитания детей, и что, следовательно, мы учились в необычной школе, мы, маленькие мальчишки, и не подозревали. Как и все, мы называли ее просто школой Шикера.
После уроков я часто оставался до вечера в семье Мартина на Ромингервег. Сад, подвал, игры со старшими братьями Мартина, кегли и японское фехтование бамбуковыми палками -все это было куда интереснее, чем идти домой. То, что нам с Мартином доставляло удовольствие и было приключением, братья Мартина считали серьезными занятиями. Об этих старших мальчиках у меня в памяти остались только их прозвища - Голь и Дилл. Третьего из четырех братьев звали Аксель, и он тоже был старше Мартина.
Несколько воинственные привычки старших ребят были связаны с их принадлежностью к полуконспиративной молодежной организации «ДеЙот 1.11» («Немецкое юношество первого ноября»), о которой у меня остались кое-какие воспоминания. Спортивная закалка, чувство товарищества, готовность пойти на жертвы и личное мужество были добродетелями, провозглашенными ее основателем швабом, - у него было загадочное имя Туск, - поэтому Мартин и я старались продемонстрировать свою смелость, прыгая с зонтиком с террасы в сад. Мы закалялись и вместе с братьями Мартина на полном серьезе готовились к походу с палатками в Лапландию, придуманному Туском.
Мы могли бы оставаться друзьями всю жизнь.
Однако после прихода Гитлера к власти в 1933-м наши пути разошлись. Когда в 1936 году школу Шикера закрыли нацисты, мой брат Кони, я и наши родители уже три года жили в эмиграции. Мы жили и учились в Москве, и всякая связь с Мартином прервалась.
В 1945-м мы вернулись в Германию и вместо того, чтобы переехать в Штутгарт, остались в разрушенном Берлине. С самого начала передо мной стояли особые профессиональные и политические задачи, которые вскоре вовлекли меня в самую гущу серьезных противоречий нашей разделенной страны. Мои воспоминания о далеком детстве на швабской родине в Штутгарте и о семье школьного друга поблекли и почти забылись. Я ничего не знал о судьбе Мартина и его братьев. Мои оставшиеся в Москве друзья были мне, конечно, ближе, потом к ним прибавились новые друзья в Берлине и в Восточной Германии, собственная семья, дети, внуки…
Однако спустя полвека крошечный узелок в клубке моих воспоминаний помог возобновить давнюю дружбу двух мальчиков из Швабии. В 1982 году скончался мой младший брат. О нем решили снять документальный фильм, и меня просили назвать людей в Штутгарте, которые могли быть свидетелями нашего детства. Я вспомнил не только наш адрес на Цепеллин-штрассе и название школы, но и своего друга детства и его отца, который в свое время был известным органистом и профессором музыки.
Вскоре после этого я держал в руках первое письмо от Мартина из Штутгарта. Он отправил его по старому адресу моих родителей в Ленитце под Ораниенбургом. Хотя я тогда уже подал заявление об уходе на пенсию, я все еще находился на государственной службе в министерстве, в котором не поощрялись контакты с Западной Германией, и был обязан о них докладывать. Само собой разумеется, что мой адрес был на учете и у западных спецслужб, и я ни в коем случае не хотел, чтобы Мартина из-за восстановления наших отношений заподозрили в связях с генералом разведки ГДР. Мы переписывались и в 1986 году встретились в доме моих родителей.
Странно, как родственники и друзья после десятилетий разлуки могут узнать друг друга с первого взгляда и сразу снова стать близкими людьми. Так получилось и с нами. Мне показалось, что я вижу в Мартине его отца, музыканта. Овальный череп, высокий лоб, внимательный взгляд, но, главное, изящные руки - он тоже стал музыкантом? Это было недалеко от истины. Мартин, как он позже рассказывал, действительно получил музыкальное образование и играл на нескольких инструментах.
Его осанка и одежда выдавали в нем интеллигента. Он был скромен и неприметен. У него тогда - это был конец октября - поверх пуловера была надета спортивная куртка. При ходьбе было заметно, что он носил разные по высоте подошвы ботинки, чтобы скрыть дефект - последствие ранения на войне.
За проведенный вместе день мы взаимно и почти незаметно приподняли пелену, образовавшуюся за десятилетия разлуки. Нас сопровождали жена Мартина Траутел и моя жена Андреа. Они сразу же нашли общий язык и разговаривали о своем, когда мы слишком глубоко погружались в воспоминания. Мы пообедали в ресторане в центре Берлина, потом посмотрели у нас дома тот документальный фильм, благодаря которому мы опять встретились и в котором мой живущий в Америке сводный брат Лукас странным образом больше походил на Мартина, чем на меня, вечером слушали «Волшебную флейту» в «Комише опер».
Как часто случается после долгой разлуки, мы в первую очередь рассказывали о судьбе своих семей. Мартин знал о нас больше, чем мы о нем и его близких. Про нашу жизнь в эмиграции и о послевоенной деятельности он узнал из фильма о Кони и различных публикаций. Он рассказал о том, что несколько лет назад видел новую постановку пьесы отца «Цианистый калий», и вспомнил, какую реакцию по всей Германии вызвала премьера этого спектакля, когда мы еще учились в школе. Дом родителей в Ленитце, библиотека вызвали в нем воспоминания об отдельных эпизодах из истории нашей семьи. Ну, а тему моей работы в качестве начальника разведки мы всячески старались обходить.
Во время войны Мартин потерял всех троих братьев и сам выжил только потому, что был ранен. Но за этим не стояло никакого героического поступка, заметил он вскользь.
Мать Мартина умерла, когда ему было четырнадцать, отец женился во второй раз, и у Мартина появились сводные братья и сестры. Между тем, его собственная семья стала такой же большой, как и у меня. Только у него -к сожалению, этого не было в нашей семье -все занимались музыкой, а некоторые из его детей стали настоящими профессионалами и пользовались успехом. Как отец и дед, он не без основания гордился этим.
Сам Мартин во время нашей первой встречи все еще был целиком поглощен своей педагогической деятельностью, причем его интерес к ней не угасал. Он занимался созданием новой школы в Людвигсбурге и рассказывал о различных методах преподавания и трудностях, связанных с управлением школой. По ходу разговора он упоминал и проблемы, возникшие во время ее строительства.
Ритм своего дня он назвал «непрерывныым образом жизни», что полностью относилось и ко мне.
Я готовился к передаче дел моему преемнику. Сердцем и мыслями я давно уже погрузился в работу над рукописью своей первой книги. Я хотел попробовать воплотить в жизнь, хотя и в несколько иной форме, последние киноидеи моего брата и исполнить его завещание, написав «Историю неснятого фильма».
Мы перепрыгивали с темы на тему. Мартин рассказывал о своей младшей дочери, живущей в Берлине, у которой они с женой остановились. Она была еще студенткой и хотела посвятить себя необычной профессии музыкального терапевта.
Оба родителя остались под большим впечатлением после того, как побывали у своей старшей дочери в Бразилии, у которой там была не менее интересная работа. В небольшом поселке-«бидонвиле», фавеле Сан-Пауло с хижинами из гофрированного железа от бочек, с населением 3 тысячи человек, расположенном на окраине огромного мегаполиса, она помогала создавать ясли и детские сады, занималась обучением подростков, оказывала медицинскую помощь больным и при родах. В своей работе она следовала принципам педагогики Вальдорфа.
Мартин все еще был полон впечатлений от поездки. Он описывал, как в этот раз еще острее почувствовал знакомый по предыдущим поездкам контраст между нищетой трущоб и выставленным напоказ богатством зажиточных кварталов, и говорил, что все неразрешенные проблемы еще более обострились. Огромный внешний долг Бразилии, взрывной, необузданный рост народонаселения, высокая инфляция, разорительная для крестьян индустриализация сельского хозяйства, непобедимая преступность в больших городах. Его рассказ не был похож: на рассказ обычного туриста.
Жена Мартина произвела на меня впечатление спокойного и уравновешенного человека, она внимательно слушала своего мужа и только изредка дополняла его рассказ. Где-то в середине разговора она сказала, что поездки в Бразилию сильно подействовали на Мартина и повлияли на его образ мыслей. Он стал мягче и более открытым в общении с другими людьми. Непринужденное радушие и сердечность большинства бразильцев, независимо от многочисленных оттенков их кожи, произвели на обоих сильное впечатление.
Мартин с нежностью описал свою дочь и ее чернокожего бразильца мужа. С достойным восхищения спокойствием и уверенностью они оба работали среди этой нищеты, чтобы дать женщинам, мужчинам и детям хоть немного надежды и вернуть человеческое достоинство, вполне в духе «помоги другим помогать самим себе».
Для Мартина это понятие имело принципиальное значение. Он удивительным образом связывал его с вышедшей в двадцатых годах и ставшей очень популярной книгой моего отца «Природа - врач и помощник» из серии «Советы доктора». Он нашел этот объемный труд на книжной полке в доме моих родителей. В пропагандируемом моим отцом лечении природными средствами Мартин видел принцип «помоги другим помогать самим себе», который сегодня так важен для стран «третьего мира». Мартин вспоминал, что видел эту книгу у нашего друга сапожника Зеппа. Мы иногда заходили к нему в мастерскую по дороге в наш любимый кинотеатр «Флокисте», и он угощал нас стаканчиком сока и давал полмарки на кино.
Зепп был нашим хорошим знакомым. Он изготовлял на заказ лучшие ортопедические ботинки, к тому же часто играл главные роли в спектаклях, которые мой отец писал для созданного им рабочего театра.
Мы часто переходили к разговору о работе над моей книгой. Мартина тронула история о трех друзьях, которых разъединила жизнь, но которые, несмотря на различные убеждения и географическое местонахождение, строили мосты друг к другу и сами восходили на них. Он понимал трагедию своего старшего друга, который посвятил себя сотворению «экономического чуда» на западе разделенного Берлина и чья жизнь по невыясненным причинам и непонятным образом так рано оборвалась. Причину его трагической смерти Мартин видел в том, что этот испытанный жизнью человек потерял мечту своей юности и у него не осталось цели, ради которой стоило бы жить.
Основную проблему нашего времени Мартин видел в неразрешенных во всем мире социальных вопросах. Он считал, что решение этих проблем должно стоять на первом месте, особенно в компьютерный век, когда, с одной стороны, происходит «интеллектуализация» общества, а с другой - люди становятся безнравственными и безответственными. Именно поэтому он целиком и полностью посвятил себя педагогике, которую хотел максимально приблизить к жизни. При этом он, по его мнению, рассчитывал на чувства, присущие молодому поколению, которые характеризовал тремя основополагающими принципами: «Я не могу быть счастлив и наслаждаться жизнью, зная, что другие люди несчастны. Я хочу сам иметь полную свободу в вере, морали и взглядах и признаю это право за другими. Я хочу жить вместе с другими людьми, основываясь на взаимном доверии, то есть создавать сообщества, основываясь не на традициях, религиозных воззрениях и иных связях, а на взаимной ответственности».
Мартину, по всей видимости, очень хотелось подробно посвятить меня в свою жизненную философию. Помня о моих марксистских взглядах, он все же не всегда был уверен в том, что я правильно его понимаю. Это я осознал в день его отъезда, когда Мартин еще раз изложил мне квинтэссенцию своих мыслей на большом сложенном листе оберточной бумаги. Позднее он признался, что писал этот конспект на скамейке в парке совсем недалеко от моей квартиры.
В основе его идей лежал особый взгляд на понятие свободы. Он связывал его с педагогикой Вальдорфа, которая, как он считал, к сожалению, в ГДР была запрещена. Он серьезно занимался марксистским учением о социализме, который считал исторической необходимостью. Однако у нас, по его мнению, личной свободы в духовной жизни, мягко говоря, не хватает. Он полагал, что наша проблема в том, что мы недостаточно развиваем личную инициативу и не спешим воплощать в жизнь полезные новаторские идеи. Часто цитируемое определение: «Свобода - это осознанная необходимость» не исчерпывает проблемы.
Хотя Запад, напротив, предоставляет определенную степень личной свободы в экономическом плане, однако это, по его мнению, происходит за счет равенства и братства. К сожалению, капиталистическая экономическая свобода лишь делает людей эгоистичными и асоциальными.
Мартин считал, что идеалы Великой французской революции и по сей день остаются актуальными. Везде, где речь идет о личных способностях, фантазии, инициативе, идеях, нужно давать как можно больше свободы - каждому в той области, в которой он работает. Именно умственная и духовная жизнь, которая является не просто идеологической надстройкой, дает новые решающие импульсы для всех сфер жизни. «Вспомни изобретение автомобиля, «Волшебную флейту» Моцарта или картины Ван Гога - сколько людей живут этим и благодаря этому!» В Центральной Европе сегодня не хватает импульса, чтобы преодолеть кажущиеся непримиримыми противоречия между Востоком и Западом, используя перестройку социального организма, когда государство должно освободиться от не свойственных ему функций и ограничиться защитой справедливости в человеческих отношениях.
В экономике нужно реализовывать такой социализм, когда никого не вынуждают продавать себя, как товар, и когда производство ориентируется только на реальные потребности. Вся культурная сфера должна принадлежать тем, кто может и хочет быть созидателем. Эти ни в коей мере не утопические, а скорее диктуемые жизнью идеи были изложены Рудольфом Штайнером, духовным отцом антропософии, еще в 1919 году. Однако ими пренебрегли как левые, так и правые.
В течение последующих шести лет мы продолжали тесно общаться, и Мартин постоянно возвращался к своим идеям и время от времени пытался продолжить обмен мыслями со мной. Его идеи основывались на представлении, что человек обладает способностью развивать заложенные в нем самом душевные силы и расширять присущую ему силу познания.
Как-то Мартин прислал мне некоторые сочинения Штайнера, которые по важным общественным аспектам были схожи с марксистским видением социализма.
Мне показалось необычным и знаменательным, что когда-то насильственным образом прерванные детские отношения и мысли моего старого нового друга вернулись ко мне именно тогда, когда в моей жизни произошли серьезные перемены, связанные с женитьбой на Андреа, и когда в нашей закостенелой системе общества подул свежий ветерок. Хотя при написании своей рукописи я мыслил другими категориями, мое видение отношения между свободой и необходимостью было очень похоже на взгляды Мартина.
За неделю до первой встречи с Мартином, 20 октября 1986 года, в день, когда Кони исполнился бы 61 год, я записал в дневнике: «Как устранить противоречие между идеалом и действительностью? - вот одна из важнейших проблем нашего времени, которую во всех социалистических странах, так или иначе, обсуждают в деталях и в целом все те, для кого святы идеалы наших великих предшественников. Некоторые все больше сомневаются в системе, некоторые не выдерживают и отделяются от нас. Конечно, у нас существует множество объективных проблем в экономической и общественной системах, проблем с демократией, но очень многое зависит от субъективного фактора, от человеческих слабостей тех, кому вверена власть.
Везде, в экономике, идеологии, агитации, в области культуры, многие знают, как сделать лучше, правильнее, как можно достучаться до людей, убедить, сподвигнуть на высокие результаты, качество и, если необходимо, на жертвы, чтобы они отдавали все силы и знания своей работе. Чаще всего речь идет всего лишь об использовании здравого смысла… Нельзя постоянно оглядываться на благоволение тех, кто «там наверху», или на пять - десять зрителей программы «Актуальная камера» - в этом и кроется корень зла.
После двадцатого съезда были попытки создать механизмы, которые бы помогли предотвратить возврат к извращениям культа личности, например, ограничение сроков пребывания на определенных должностях, но из этого ничего не вышло. Как только руководитель при длительном пребывании во власти входит во вкус, привыкает к нашептываниям льстецов, окружающих его, негативные субъективные факторы выходят на первый план и становятся помехой на пути к социалистической демократии, в первую очередь внутри партии. Лозунг «прислушиваться к голосу масс» становится просто громкой пустой фразой, быть честным становится трудно. Эти проблемы - основа для трех больших тем, которыми я хочу заняться. Получится ли у меня и как - покажет время. Это коренной вопрос нашего внутреннего развития. Серьезные внешние вопросы более ясны, хотя тоже зависят от привлекательности социализма. Курс КПСС под руководством Горбачева дает повод для больших надежд. Это начало».
Когда мы встретились с Мартином, мое настроение определялось готовностью к уходу на пенсию, меня удручало, что наше политическое руководство держалось на позициях, давно пройденных жизнью. Мы оба были открыты для обмена мыслями. Мы не могли тогда даже предположить, что нашей мечте о мирном социализме на немецкой земле суждено было умереть ранее, чем через три года, и по меньшей мере мы надолго перестанем о нем мечтать. За это время мы много раз встречались в Берлине и вели активную переписку.
9 ноября 1986 года, сразу после нашей первой встречи, мой вновь обретенный друг написал: «Перед тем, как я опять с головой уйду в школьную работу, хочу тебя еще раз сердечно поблагодарить за встречу и надеюсь, что мы еще увидимся. Я вновь и вновь просматриваю твои книги Фридриха Вольфа и фотоальбом с Конрадом. В них отражается частица XX века -никогда в истории не было такого драматичного и многоликого века».
Мартин, в свою очередь, дал мне некоторые книги Рудольфа Штайнера и материал о Туске, которого на самом деле звали Эберхард Кёбель. Туск, как и мои родители, участвовал в юношеском туристическом движении и состоял в союзах молодежи «Перелетные птицы» и «Союзная молодежь». 1 ноября 1929 года он основал новую организацию «Немецкое юношество 1.11», сокращенно «ДеЙот 1.11» - «Н.Ю. 1.11.». Говорят, что свое прозвище он получил в Лапландии, где на языке живущих там аборигенов Туск значит «немец».
Он поставил себе целью создать общенемецкое независимое молодежное движение. Члены этого движения должны были интересоваться духовной сферой и политикой. Однако на первом плане были романтические мечты об «империи молодых», развитии «спортивного и воинственного духа». «Н.Ю. 1.11.» организовывало путешествия, походы с палатками, песни у костра и все то, что тогда привлекало нас молодых. Туск позднее утверждал, что гитлеровский «Имперский фюрер молодежи» Бальдур фон Ширах при создании организации «Гит-лерюгенд» просто перенял порядки и обычаи, приключенческий характер и даже форму одежды ребят из «Н.Ю.».
Уже с 1933 года Туск сблизился с компартией и антифашистским Единым фронтом. Поэтому для меня, юного пионера коммунистического молодежного движения, было несложно участвовать в «Н.Ю.1.11».
После прихода Гитлера к власти организация «Немецкое юношество» была запрещена, точнее, включена в состав «Н.С. югенд» - Национал-социалистическая молодежь. Мартин и его братья не согласились на такой переход. В 1937 году их арестовали на основании секретного распоряжения гестапо и после допросов обвинили в деятельности «в духе запрещенной организации "Немецкое юношество"». Вскоре братьев освободили, но Мартин рассказывал мне о суровом опыте, который он получил за время ареста. В обвинительном заключении фигурировало также имя Ганса Шоля, который после освобождения продолжал нелегально борьбу против гитлеровского режима. В 1943 году он и его сестра Софи были арестованы как члены группы сопротивления «Белая роза» во время распространения листовок. Спустя несколько дней брата и сестру казнили на гильотине в берлинской тюрьме Плётцензее.
С Эберхардом Кёбелем, эмигрировавшим в Англию, я накоротке встретился после 1945 года, когда работал на берлинском радио. Тогда я даже не понял, что передо мной тот самый легендарный Туск, харизматичный кумир нашего детства.
До 1989 года в письмах Мартина содержалась большей частью спорадическая информация о его работе в школах и о поездках, а я писал, что уединился и сосредоточился на работе над рукописью книги. Потом Мартин завершил свою просветительскую миссию, которую выполнял в многочисленных поездках в США, Бразилию и Европу и связывал с проведением курсов и встречами с инициаторами создания новых школ.
Музыкальное образование почти всегда занимало важное место в его программах, и, когда он посещал своих детей и внуков, всегда звучала музыка.
В 1989 году, когда кризис ГДР, сопутствовавший началу моей писательской карьеры, обострялся с каждым днем, я окунулся в водоворот событий и ограничивался короткими сообщениями и приветами, а Мартин, напротив, более регулярно и подробно излагал свои мысли о «повороте».
Следующее письмо датировано 19 октября, днем, когда я сразу же после отставки Хонеккера отвечал на вопросы крайне возбужденного форума в переполненном зале «Аудиториум максимум» Лейпцигского университета имени Карла Маркса: «Дорогой Маркус! Уже несколько недель я ежедневно вспоминаю о тебе, но пока не писал. Я прочел твое интервью в «Зюддойче Цайтунг» и понял, что твоя книга открывает новые возможности, которых у тебя не было на прежней должности. Теперь ты можешь обсуждать самые жгучие вопросы будущего со многими людьми.
Некоторые коллеги и ученики моей школы добровольно ездили на каникулах в советские трудовые лагеря и были обеспокоены катастрофическим положением в области снабжения, халатным (безобразным) отношением к труду и, с другой стороны, рассказывали о том теплом, глубоко тронувшем их отношении, с которым их принимали. Никто пока не может объяснить, почему за последние два года при Горбачеве положение так сильно ухудшилось -он теряет доверие людей, что опасно, так как на него многие возлагают надежды, хотя он столько сделал, чтобы сдвинуть с мертвой точки многие вопросы внешней политики. Я пишу тебе об этом (хотя для тебя здесь нет ничего нового), потому что для меня при таком развитии событий становится очевидным, что весь этот клокочущий хаос может вылиться в нечто достойное при условии, что все осознают необходимость разделения социального организма на три ветви. После этого государственная власть - на востоке и на западе - должна отойти от руководства и управления экономикой и культурой и сосредоточиться только на отправлении правосудия и обеспечении правопорядка (полиция, охрана границ). Тогда в результате могла бы появиться возможность свободного обмена идеями, родиться инициатива, которой нам так недостает. Тогда благодаря истинной демократии могла бы быть создана правовая база, препятствующая экономике работать на нескольких лентяев (акционеров), прикарманивающих прибыли, и позволяющая покрывать реальные потребности общества».
Мартин разделяет идеалы французской революции 1789 года - как раз отмечался ее юбилей -и считает, «что эти идеалы могут гармонично сосуществовать, если каждый из них осуществляется в соответствующей ему области. Равенство - в отношении нашего правового сознания. Каждый разумный человек должен демократическим путем определять, какие права должны действовать там, где он живет. Каждый работоспособный человек должен участвовать в труде, необходимом, чтобы удовлетворять потребности людей. Здесь потребуется Братство (социализм), а именно в нашем мире, основанном на разделении труда, можно производить только совместными усилиями! Свобода означает, что каждый человек должен иметь право свободно реализовывать свои творческие способности. Если нет такой свободы - нет исходного стимула, чтобы искать новое, обновлять и развиваться. В правовом государстве должны существовать законы, позволяющие деньгам перетекать из экономики в культуру без каких-либо ограничений, как и что рисовать, писать, сочинять музыку, воспитывать, исследовать, во что верить.
Когда я впервые изложил тебе свои мысли, ты сказал, что это близко к тому, к чему вы стремитесь. Я готов как-нибудь до июня 1990 года приехать в Берлин и обсудить с тобой эти вопросы. Конечно, для этого есть другие, более знающие люди, и поэтому я хотел бы предложить собрать небольшой симпозиум с 2-3 людьми из разных ветвей власти от нашей стороны и заинтересованными в реформах - от вашей. Возможно, это иллюзия, из которой ничего не выйдет, ведь пропасть между диалектическим и историческим материализмом и учением Штай-нера о гуманизме очень глубока».
Предложение Мартина действительно было иллюзорным, но не из-за пропасти, названной им. Я тогда как раз общался с некоторыми, в первую очередь молодыми, учеными из университета имени Гумбольдта и мог бы пригласить их принять участие в такой беседе. Но события развивались такими темпами, что времени на теоретические диспуты просто не было.
Должно быть, Мартин это и сам почувствовал, так как в конце письма приписал: «Дорогой Маркус, ввиду настоящих событий я не сразу отправил это письмо. Теперь я его отсылаю и хотел бы узнать, не могли бы мы организовать такую встречу до Рождества, если она вообще возможна. Исторические события развиваются так стремительно, что захватывает дух. Я с большим интересом слежу, в какой связи в прессе опять появится твое имя. В эти решающие дни я хочу пожелать тебе сил, мужества и присутствия духа. Искренне твой, Мартин».
Мой друг и не догадывался, как те качества, которые он мне приписывал, востребуют всего меня. 4 ноября 1989 года я принял участие в демонстрации протеста и выступал на Александерплац в Берлине перед полумиллионной аудиторией решительно настроенных людей, приехавших со всех концов ГДР. Несмотря на то, что я имел уже опыт выступления перед сотнями слушателей, когда я увидел это необъятное море людей, мне стало не по себе. Тем более, что часть моего обращения, где я признался о принадлежности к министерству государственной безопасности, вызвала у некоторых неистовые крики протеста. Когда я после выступления спускался с импровизированной трибуны, от волнения у меня пересохло во рту. Тем не менее, я испытывал чувство выполненного долга.
Тогда у меня еще присутствовало чувство эйфории от «перестройки», провозглашенной Горбачевым, с которой я связывал надежды на демократическое обновление моей страны. Лишь оглядываясь в прошлое, когда заказные проклятия задающей тон прессы беспокоили меньше, чем мучительно сверлившие мозг вопросы о причинах нашего крушения и моей собственной ответственности за него, воспоминание об импровизированной трибуне-грузовике на Александерплац связывается с видением плахи, описанным в романе Чингиза Айтматова, -не как места казни, но как проверки собственной совести.
Конечно, Мартин старался следить за важнейшими событиями в Берлине: «Ты мужественно подвергаешь себя опасности, - написал он 7 ноября, - и, по моему убеждению, по собственной инициативе». Понятие «собственная инициатива» имело для Мартина огромное значение, и он неоднократно писал об этом. «Твоя свободная инициатива вместе с инициативами других людей закладывает фундамент для обновления. Именно инициатива, а не кем-то разработанные программы, которые все должны выполнять. Ты сейчас переживаешь стресс, тем не менее, мне бы очень хотелось побеседовать с тобой, и я готов ради этого приехать в Берлин. Желаю удачи в эти решающие дни. Я думаю каждый день о тебе и твоей ситуации!»
До беседы дело дошло только через год. И после падения границ в ноябре Мартин продолжал следить за происходящим у нас и все еще ждал и надеялся, что еще может удасться соединить социализм, именно гуманный социализм, со свободой. Как бы ни были различны наши позиции и наши оценки действительности, наши надежды были схожими.
20 ноября, когда кампания клеветы против меня в средствах массовой информации набирала обороты, он написал: «Твое интервью в «Шпигеле» - смелый поступок! Как и твоя речь на Александерплац! В твоем настоящем положении независимого писателя есть большие шансы развернуть собственную инициативу и, возможно, добиться большего, чем ты смог бы, занимая какой-либо пост».
Он связывал со мной надежды, как и многие граждане ГДР. Хотя он при этом и уповал на «свободную инициативу», многие сочувствующие нам связывали свои надежды с моим каким-нибудь высоким постом в государстве или партии. Правда, я уже окончательно распрощался с этой идеей и воспринимал свой уход со службы как внутреннее освобождение.
Я остался при этом мнении даже тогда, когда в начале декабря после отставки Центрального Комитета СЕПГ во главе с Эгоном Кренцем неожиданно оказался в президиуме Чрезвычайного съезда СЕПГ и когда меня хотели выбрать в Правление партии, преобразованной в ПДС. Я попросил об отводе меня из списка кандидатов для голосования.
Мартин написал мне незадолго до того, как я принял это решение:
«Вчера вечером я услышал по радио о волнующих событиях в ЦК и т.д. и что ты ведешь теперь активную подготовку съезда СЕПГ. Я все время ждал и теперь желаю, чтобы на этом съезде удалось закрепить курс на гуманный социализм».
В реальности же делегаты съезда находились в таком подавленном настроении, что в ходе круглосуточных заседаний речь шла лишь о выживании и сохранении возможности внутреннего возрождения. Сначала нам пришлось прежде всего принести извинения гражданам ГДР за несправедливости, причиненные партией за годы ее руководства государством.
В конце года наши взгляды на положение в стране оставались довольно отличными друг от друга. Единственную для себя возможность активной деятельности я видел в том, чтобы описать свой опыт и наблюдения, полученные в год «поворота» 1989 года, и начал надиктовывать на кассеты записи из дневника. Уже сделанные ранее записи мыслей о моем собственном «тернистом пути познания» должны были войти в давно задуманную книгу.
После штурма центрального здания министерства госбезопасности в январе 1990 года я на несколько месяцев уехал к сестре в Москву, чтобы уйти от возрастающей истерии и поработать над книгой. Мои знания о происходящем дома я черпал из телефонных разговоров с Андреа и поступавших с опозданием газет. Незадолго до мартовских выборов я встречался с правительственной делегацией, возглавляемой Хансом Модровым. Хотя мое возвращение в Берлин было уже делом решенным, встреча с этой разношерстной делегацией, состоявшей главным образом из защитников гражданских прав, стала для меня по существу прощанием с ГДР.
Мартин же, наоборот, с головой окунулся в бурную жизнь! Он с восторгом описывал, что теперь может выступать перед заинтересованными педагогами в ГДР об основных принципах педагогики Вальдорфа. 31 января он тщетно пытался найти меня в Берлине - я уже был в Москве. Он рассказал, что ненадолго приезжал в Лейпциг на выходные, где, как он написал мне в записке, в Университете имени Карла Маркса собрался «Форум за свободное воспитание», в котором приняли участие 1200 человек. В марте, когда он узнал о моем отъезде, он написал мне длинное письмо о виденном в Галле и Лейпциге на переполненных форумах и беседах в кулуарах заседаний.
Из этого письма я узнал много о его педагогических взглядах и склонностях. Для него очень важной была творческая работа с учениками: акварельный рисунок, графика форм, обучение речи, постановка голоса, ритмика. «Это особенно важно, - писал он, - ведь воспитание - это искусство, а не наука. Новые силы, новые идеи возникают не через получение информации, а через новый опыт, возникающий в результате участия человека в созидательном творчестве. Мы столкнулись с глубокой нехваткой истинной гуманности в воспитании, когда в центре должен стоять ребенок, его сущность, все его развитие, а не программа, предписанная сверху и осуществляемая внизу. Примечательно, что на берлинском Доме учителя сделана надпись: «Жизнь станет программой. Она будет господствовать в мире освобожденного человечества». Я, конечно, отношусь с глубоким уважением к человеческой самоотдаче и идеализму Карла Либкнехта в подходе к социализму, который сформулировал это положение незадолго до своей гибели. Но чем же тогда должно быть это послушное программам человечество? Учителю необходимы прежде всего любовь к ребенку, будущему человеку, не к программе. Дорогой Маркус, я пишу все это не для того, чтобы убедить тебя в достоинствах школы Валь-дорфа, а потому, что меня глубоко беспокоят судьбы тысяч людей, которые страдают из-за представлений об изголодавшемся духовно и умственно человеке, порожденных в девятнадцатом столетии тогдашними материалистическими взглядами. Об этом я писал тебе подробнее, и твой ответ меня очень порадовал».
Представления Мартина и его критика нашей системы коснулись меня и в моих поисках причин нашего крушения. От идеалистического понимания меня отделяло многое, с другой стороны, они дали мне много идей.
Мое пребывание в Москве, вероятно, побудило Мартина к этому, так как большая часть его следующего письма была посвящена Достоевскому, который, по его мнению, постиг «суть души русского народа». Мартин относил это, в частности, к персонажам его произведений, которые «сохранили детскую чистоту и веру в добро в других людях». Подробно цитировал он трогательные слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» о дите и русском человеке, которые побудили его написать мне: «И так, как мы в Центральной Европе должны приникнуть к плодотворным семенам, которые посеяли в нашей культуре Гёте, Шиллер, Новалис, Гердер, Жан Поль и которые мы недостаточно лелеяли (за исключением музыки - она осчастливливает и объединяет людей независимо от расы), так ведь и русский народ может обратиться к тем, кто постиг суть русской души».
Спокойствие и уединение на даче моей сестры в Подмосковье, которых у меня наверняка не было бы в Берлине, позволили мне перечитать главы, глубоко затронувшие Мартина. Должен признаться, что «Легенда о великом инквизиторе» произвела в этот раз большее впечатление, чем рассказы старого монаха. Конечно, они содержат чудесные слова о любви к животным и детям, многое, что отличает душу русского народа, если вообще существует «душа народа». Я все же считаю, как и прежде, что одни только обращения к добру так же мало могут изменить пороки общества, как и единоличное господство власти. Правда, как свидетель крушения перестройки я нашел у Достоевского некоторые объяснения причин притока людей в православную церковь, но не нашел ответа на волновавший меня и многих моих русских друзей вопрос. В отличие от меня Мартин все еще лелеял надежду на будущее ГДР. Он видел ее будущее в «воспитании человеком человека». Тем грустнее звучали последние строки его письма: «Время не терпит. Что касается ГДР, то, боюсь, она слепо на всех парусах плывет к западному материалистическому капитализму. К сожалению, следует сказать: никого нельзя винить в том, что они бежали на Запад. Хочется выть, глядя на безрадостные города с отравленным воздухом и бесчисленными развалившимися зданиями, где крыши провалены, стекла окон выбиты, мусор на улицах… Такого ужаса я никогда не мог себе представить, и все это во имя светлой идеи!» Эти слова глубоко ранили меня, подобно обвинениям за мою работу так называемым «шефом шпионажа». Они требовали от меня ответа на вопрос о собственной ответственности и собственной вине за столь жалкий конец исполненного надежд начинания и за то, что так долго ничего не делалось при столь явственно скверном состоянии дел в нашей стране. При возвращении в Берлин весной 1990 года я получил несколько коротких сообщений Мартина о его педагогической работе в Галле и Лейпциге. Он все еще был полон задора и беспокоился о моем будущем: «Будет ли отменен приказ Ребмана о твоем аресте или он будет распространен на ГДР? Какие формы примет охота на сотрудников Штази, от которой ты предостерегал на Александерплац? Лозунг «Нет социализму навсегда» разрушил надежды на гуманный социализм. Те, кто осенью вышел с ним на улицы, теперь почти совсем замолчали». С сарказмом он добавил: «Если это письмо зарегистрирует служба почтового контроля, начнутся спекуляции о тайном сговоре между коммунизмом и антропософией». В следующие месяцы, когда ГДР неслась к своему концу с ураганной скоростью, встретиться нам не удалось. Я был занят тем, что отбивался от бесчисленных публичных обвинений и клеветы, а также от многочисленных непристойных предложений поделиться своими знаниями секретов службы.
Мартин в июне полетел вместе с женой на педагогическую конференцию в Лиссабон и затем до конца года - в Бразилию. Там из далекого далека он проследил, что я 3 октября в «день немецкого единства» предпочел не участвовать в спектакле моего ареста в Берлине, ожидавшегося многочисленными жаждущими сенсаций репортерами и фотографами. В одном из крупных немецких журналов он прочитал интервью, «данное в гостиничной комнате без окон». До своего отъезда из Германии он оставил мне в длинном письме свои суждения о причинах нашего крушения. Он еще раз перечитал «Тройку» и ощутил серьезность изменения климата со времени выхода книги в 1989 году.
«Возможно, еще появится какой-нибудь режиссер, который снимет фильм, но со всей возможной в настоящее время открытостью показа характеров и их образа мысли, сути жизни этих трех ровесников. Ты, правда, упоминаешь сцены встреч и указываешь на разногласия, но тогда ты еще не мог проследить так глубоко и правдиво за тем, что развилось и образовалось в глубине души этих разделенных судьбой героев».
Мартин высказывает массу соображений, как с большей глубиной представить героев моей книги, и я со всем этим могу только согласиться. Его изображение атмосферы в ГДР завершается констатацией: «От духа октябрьских и ноябрьских дней 1989 года ничего не осталось. Я пытался при этом представить, что ты сам сейчас в эти месяцы чувствуешь, если твоя тяжелая работа вообще оставляет время для этого».
Далее Мартин начинает издалека, излагая свои мысли о приближающемся окончании столетия. Любой прогресс человечества требует появления ответственного человека, который свободен от связей с церковью, партиями и идеологиями. Представления девятнадцатого столетия о сути человека, которые сводили ее полностью только к влиянию окружающего мира и/или наследственных факторов, устарели. Представления о человеке, хорошем по своей природе, оказались иллюзией. «Никто не думал сто лет назад, что люди будут так мучить, пытать и убивать друг друга бомбами, в концлагерях, лагерях ГУЛАГа. Будущим учителям следует сказать: дети по природе отнюдь не дружелюбны, терпимы и полны сочувствия, а скорее жестоки; мораль не возникает заранее, ее нужно прививать воспитанием. «Добрый дикарь», придуманный Жан-Жаком Руссо, просто не существует. Поэтому воспитание (и самовоспитание) имеют огромное значение, однако должно быть "воспитание в условиях свободы, а не предписанное сверху"».
Хотя наши представления о понимании свободы не совпадали полностью, они довольно близки. Критика Мартина о недостатке свободы для каждого отдельного человека в нашей системе, которую мы, греша против истины, декларировали как «демократический социализм», его кредо о свободе индивидуума отвечали многим моим соображениям - тем, что я описал в книге, напрасно ожидавшей публикации со времени моего отъезда из Германии: издательству «Бертельсман» пришлось по указанию руководства концерна расторгнуть договор со мной.
Записи в дневнике о традиционной демонстрации памяти К. Либкнехта и Р. Люксембург 15 января 1989 года стали поводом для моего обращения к текстам работ Розы Люксембург, чтобы глубже понять суть ее высказываний, постоянно напоминавшихся и цитированных партией о свободе, которую она всегда понимала как свободу для инакомыслия. Меня поразила мудрость революционерки, с которой она через несколько недель после установления советской власти в России в споре с Троцким и Лениным указала на опасности, возникающие из-за того, «что несколько десятков партийных руководителей дирижируют и управляют с неиссякаемой энергией и безграничным идеализмом…, а время от времени собирается элита из рабочих на собрания, чтобы, выслушав речи вождей, поаплодировать им и принять единогласно предложенные резолюции, что по сути -хозяйничанье клики; диктатура, конечно, но чья - не диктатура пролетариата, а диктатура горстки политиков». Пророческими мне показались те слова, за которыми следует фраза о свободе для инакомыслящих. Я процитировал их в моей книге: «Не из-за фанатизма справедливости, а потому, что все оживляющее, излечивающее и очищающее политической свободы зависит от этого существа и его действие прекращается, как только свобода становится чьей-то привилегией».
Я рекомендовал Мартину почитать, например, то, что написал профессор литературы Ганс Майер, который, будучи марксистом (хотя он и покинул ГДР в шестидесятые годы), не согласился участвовать в поношении духовной жизни в нашей стране несмотря на свои принципиальные расхождения с ней. Когда Майер констатирует, что «реальный социализм» потерпит поражение прежде всего потому, что ставит интересы общества выше интересов отдельной личности, я не могу с ним не согласиться: гуманизм мыслим лишь тогда, когда он остается гуманизмом не только в масштабах всего человечества, но и «позволяет аутсайдеру жить, сохраняя свое аутсайдерство, и жить гуманистом». В отличие от некоторых великих философов-просветителей и, возможно, наставника антропософии для Мартина Ганс Майер вовсе не считал свою защиту отдельной личности неким признанием абсолютного духа. Иначе мы пришли бы к «мудрствованию по поводу какой-то потусторонности». Насколько сложно будет со «свободой, не предписанной сверху», в условиях другой системы - «свободного рыночного хозяйства», которая должна была надвинуться на Восток, Мартин высказался в письме, где сообщил мне о своем отъезде: «Не было ли это в интересах западного капитализма, чтобы «социалистический эксперимент на востоке Европы» (о котором говорили еще в конце девятнадцатого столетия!) потерпел крушение? И что же теперь из этого выйдет? Не направлены ли масс-медиа (кабельное телевидение, пресса, принудительное потребление) на то, чтобы сделать человека послушным? Лишить его путей к внутренней свободе, если не вообще закрыть их? Люди хотели сбросить мелочную опеку государства, - кто теперь будет их опекать? Я думаю, что основные проблемы будущих десятилетий будут состоять в том, чтобы уменьшить напряженность в «третьем мире».
Но и там неразрешимые проблемы только возрастут, если не будут учтены находящиеся гораздо глубже страсти людей. А они направлены на братство в экономической жизни, на равенство (демократию) в правовой жизни, на свободу в культурной, духовной, религиозной, художественной творческой областях - даже в районах нищеты в Сан-Пауло, где мы хотим сейчас приступить к созданию полноценной школы Вальдорфа. Я очень хотел бы получить весточку от тебя…»
Из-за того, что нас обоих не было в Германии, наступили длительные паузы между нашими встречами. В письме, пришедшем ко мне в Москву к новогоднему празднику 1990/1991 года, Мартин описал трудности, возникшие при осуществлении им своих педагогических представлений в Бразилии. Он с озабоченностью, как и прежде, говорил о будущем развитии Латинской Америки.
В этом письме он мимоходом упомянул о тромбозе на левой здоровой ноге, который он приобрел в Сан-Пауло. Более чем через двадцать лет, во время последней поездки в Бразилию, это заболевание стало роковым.
Письма Мартина после возвращения в Германию отражали его неустанно проводимую педагогическую работу и новые надежды, которые возникали у него в результате деятельности по школам Вальдорфа на востоке и западе. Там он был в своей стихии. С радостью он описал концерт в переполненном актовом зале Свободной школы Вальдорфа в Штутгарте, в которую ходили и его дети: более сотни его учеников исполнили там оркестрованную Равелем версию «Картинок с выставки» Мусоргского. Мартин писал, что чиновник городского управления Москвы, находившийся в числе гостей в зале, растрогался до слез. «Искусство - это не самоцель, а важное педагогическое средство, оно становится все более важным, чтобы усилить созидательность и солидарность (например, в театре, оркестре и хоре), прежде всего уверенность в себе и в идеалах. В частности, при лечении от наркотической зависимости без музыки ничего сделать невозможно».
Реальность же принесла мне при возвращении в Германию заключение в тюрьме в Карлсруэ. Генеральный прокурор ФРГ не оставил сомнения в том, что намерен теперь в объединенном государстве, в которое вошли новые земли страны, добиться моего осуждения по законам, сформулированным во время холодной войны в старой Федеративной республике за «измену стране», к долголетнему заключению.
Хотя я и привез в багаже из Москвы дискеты с выдержками из моих дневников и мыслями о важных моментах истории, для глубокого осмысливания и раздумий о свободе в области культуры в последующие недели и месяцы у меня из-за подготовки к процессу не было никакого настроения.
Уже на четвертый день заключения я получил письмо друга. Перед отлетом на педагогическую работу в Мадрид он спросил меня, может ли посетить меня после возвращения. Он приложил копию своего письма читателя в «Шпигель», в котором протестовал против статьи, появившейся в журнале в том месяце. В статье меня обвиняли в трусости и приписывали «приукрашивание фигуры отца как борца против всякой несправедливости».
Мартин написал в своем не опубликованном редакцией письме: «Я не коммунист, а христианин, но знаю семью Вольф с детства (Фридрих Вольф до 1933 года был нашим семейным врачом), и я знаю, с каким идеализмом эта семья, как и тысячи других правоверных коммунистов, боролась за социальные свободы. Было бы катастрофой, если вместе с крахом большевизма (который заслуженно терпит крах!) социальные вопросы окажутся в помойном ведре истории!» Не нужно убеждать, как высоко я оценил это письмо, видя в нем серьезное доказательство нашей необычно возобновленной дружбы.
По возвращении из Испании Мартин написал мне в Берлин, куда я выехал после выхода из тюрьмы - конечно, с большими ограничениями, которые позволили мне перемещаться только в непосредственном районе проживания: «Большое спасибо за твое письмо! В дороге я прочитал твою книгу, которая захватила меня еще больше, чем «Тройка», возможно потому, что ты более не осторожничаешь так со стилем. Я постоянно ощущаю этот вакуум в общении между людьми. И здесь, и там постоянно слышится озабоченность тем, что с криком «Социализм - никогда снова!» один из важнейших вопросов будущего более никто не задает… Теперь мы уже знаем по собственному опыту, что социализм без подлинной демократии и без гуманной свободы становится негуманным. На Западе и везде, где господствует эта другая система, мы видим, напротив, что демократия со свободой, но без братства также становится негуманной… Позднее нас спросят: вы что, этого не видели? Не знали? Зачем вы это сделали? По этому поводу мы уже обменивались мыслями, и для меня новая возможность поговорить была бы очень важна. Но я понимаю, теперь ты по уши занят процессом».
Наконец-то у Мартина появилась возможность подробно изложить свой философский взгляд на мир. Хотя он не входил непосредственно в Общество антропософов, однако работы Рудольфа Штайнера и его собственный опыт на основе его христианской веры, не искаженной официальной церковью, определяли в значительной мере его мышление. Мартин предполагал, что мой отец, хотя бы из-за своего гуманистического образования и своей первой жены, был близок к антропософии. И так действительно было. Мать моих сводных брата и сестры, до конца дней прожив эмигранткой в Великобритании, была убежденной сторонницей антропософии. Я показал Мартину копию плаката высшей народной школы в Ремшайде, относящегося к 1920 году, на котором объявлены совместные доклады моего отца и его тогдашней жены. Кстати, по воле случая на этом же плакате напечатано приглашение на доклады д-ра Рихарда Зорге - советского разведчика, казненного в Японии в 1944 году. С моей точки зрения, он является самым выдающимся разведчиком двадцатого столетия, и мы избрали его в моей службе в качестве примера для подражания. Моя тетка, Грета, сестра моей матери, показала мне как-то полученное ею письмо первой жены Рихарда Зорге, которая жила после войны в США. Кристиана Зорге писала: «Если бы Ика - так называли близкие Зорге в семейном кругу - остался антропософом, он избежал бы сложностей судьбы». Однако этим своеобразным переплетением линий судьбы исчерпывается отношение моей семьи к мировоззрению Мартина.
Мартин считал себя, впрочем, более антропософом-практиком, чем теоретиком. Несмотря на это склонность к философствованию была у него явно заметна. По ответам на мои вопросы о судьбе его братьев, погибших на войне, я понял, что молодые люди, хотя и очень различные по характеру, в его рассуждениях о ценностях жизни играли большую роль. Мартин рассказал мне о письмах с фронта своих братьев, в жизни которых музыка занимала не последнее место.
Когда война приближалась к Германии и бомбы разрушали города, отец Мартина купил новый клавесин, а сам Мартин начал сочинять музыку, уже находясь в госпитале.
Вероятно, возбужденный предстоящими рождественскими праздниками или моим атеистическим взглядом на мир, Мартин противопоставил проповедовавшееся Иисусом братство, некий вид «идеального коммунизма», в котором жили христианские общины первых столетий нашего летоисчисления, определенным враждебным этому духу силам, например католической церкви. Ибо ее стремлением является воспрепятствовать тому, чтобы была достигнута новая ступень братства. Более того, она упорно предпринимает усилия, чтобы и впредь держать людей в зависимости, глупости, страхе и вере в чудеса. С его точки зрения, эти враждебные силы вплоть до нынешнего времени всегда имели перевес. Настоящее христианское, эзотерическое придет только в будущем.
Социализм стремился к созданию рая на Земле, при этом, однако, насиловал самое человеческое в человеке, его свободу принятия решения. Если когда-нибудь миротворческие силы ООН достаточно окрепнут, чтобы обеспечивать внешний мир, это стало бы предпосылкой достижения предсказанного Библией «мира на Земле людей доброй воли». В каждом человеке на Земле должен стать живым внутренний мир. Мартин опять вернулся к музыке. Ему случалось видеть, что многие люди в произведениях великих мастеров, мессах, ораториях, симфониях, струнных квартетах находили источник надежды, независимо от расы, верования или нации. Поэтому музыка для него - самое важное в мире.
На мои сомнения, удастся ли обуздать «враждебные силы» без изменения реального соотношения сил в обществе, дала ответ Вторая мировая война, которую мы пережили в нашей юности. Можно было почувствовать сдержанность Мартина. После войны ему было трудно, и потребовалось длительное время, чтобы принять вину Германии и поверить в ужасы концлагерей, планомерное уничтожение евреев. Он задавал вопросы о Нюрнбергском процессе, на котором я присутствовал как репортер, и особенно его интересовало, как мой младший брат Конрад пережил, будучи в годы войны солдатом Красной Армии, долгий путь от Кавказа до Берлина.
Выяснилось, что один из братьев Мартина, Голь, воевал в кавказских горах на стороне немецкого вермахта. А другой брат, Дилл, молодым офицером вермахта служил на юге Украины именно в то время, когда мой отец летом 1943 года как уполномоченный Национального комитета «Свободная Германия» вместе со сбитым над Сталинградом правнуком канцлера Бисмарка, лейтенантом люфтваффе и кавалером рыцарского креста графом Генрихом фон Айнзиделем, призывал через громкоговорящие установки к окончанию бессмысленного сопротивления. Обоих потрясли картины оставленной при отступлении «выжженной земли»: расстрелянные из пулеметов стада скота, взорванные фабрики и шахты, масса убитых, по большей части мирных жителей.
В последние месяцы того года отступления оба брата Мартина погибли. Почти в то же время был ранен и сам Мартин, также на Восточном фронте.
Я понял, что своими вопросами затронул старые раны. Неожиданно Мартин заявил мне, что все четыре брата пошли служить на фронт: каждый считал своей обязанностью не уклоняться, сидя дома, а сделать все, что он может, на фронте. Мартин признался, что он, как младший, буквально страдал от того, что ему пришлось ожидать так долго отправки на фронт.
Конечно, я помнил о практике воспитания мужества и самопожертвования, применявшейся в «Н.Ю.1.11», но я знал также, что Мартин и его братья, как и большинство сторонников Туска, не принимали национал-социализма и поэтому сами оказались жертвой преследований гитлеровского государства. Я просто не мог связать этого вместе. Особенно я не мог понять добровольной жертвенной смерти его брата Акселя.
Хотя эта тема не испортила атмосферу нашего общения и мы разошлись с наилучшими пожеланиями друг другу веселого Рождества и здоровья в новом году, Мартин, должно быть, угадал мои мысли. В своем следующем письме он постарался описать своего брата Акселя как человека с особенно динамичным и принципиальным характером. Когда их отец добился после смерти двоих старших братьев, в соответствии с существовавшими тогда правилами, отстранения Акселя от боевых вылетов, тот пустил в дело все возможные средства, чтобы добиться разрешения на вылеты, связанные с опасностью для жизни.
Возможно, чтобы показать мне моральные основы, а также объяснить свое тогдашнее отношение, Мартин процитировал в пассаже, посвященном моему вопросу об Иисусе, в этом своем письме слова последнего: «Ни у кого нет большей любви, чем у тех, кто отдает свою жизнь за своих друзей».
1992 год прошел в коротких приветах и кратких сообщениях о внешнем ходе вещей. Мартин распространил свою просветительскую и педагогическую деятельность далее на восток, провел несколько недель в Чехии, следил за активизацией движения Вальдорфа в России и Грузии и опять уехал на несколько месяцев в Бразилию.
В то же время мне пришлось разбираться с объемистым обвинительным заключением матерых рыцарей холодной войны, которые никак не выпускали меня из своих объятий, хорошенько не потрепав. Влиятельные крупные средства информации сопровождали это предприятие настоящим потоком обвинений и оскорблений, а финансовые ограничения и блокирование пенсии угрожали лишением источников нашего существования.
К счастью, моему британскому литературному агенту удалось заинтересовать крупное американское издательство проектом моей новой книги. Учитывая бойкот многих крупных немецких издательств, я передал американцам права на это издание на весь мир и тем самым поставил сам себя в неблагоприятные условия, обязавшись передать еще до начала процесса, намеченного на следующий год, готовую рукопись моих воспоминаний.
Поэтому осенью состоялась только одна встреча в Берлине, которой было суждено стать последней. В это время я все еще был ограничен в передвижении и дважды в неделю должен был отмечаться в назначенном мне отделении полиции. Мартин привез диапозитивы из Бразилии, но нам не пришлось их посмотреть. Поэтому мы ограничились рассказом и моим сообщением о работе над книгой. Я попытался объяснить, как я изыскиваю возможность объединить требуемое издателем в первую очередь описание моей разведывательной деятельности с изложением моих мыслей о полном противоречий историческом фоне для этой работы.
Мы расстались с надеждой на скорую встречу в ближайшем будущем. Сердечным новогодним письмом Мартин простился тогда с нами в связи с отъездом в Бразилию на полгода. Он писал: «Над горизонтом будущего нависают такие облака, что хочется только пожелать каждому отдельному человеку не позволять обманывать себя, правильно оценивать вещи с высоких идейных позиций, мужественно отстаивать истину». К его новогоднему поздравлению и мыслям о Рождестве относилось и пожелание, чтобы развязались хотя бы какие-то узлы, открывая дорогу и расширяя горизонты для нового.
Потом пришло известие о неожиданной смерти Мартина в Бразилии. 3 февраля 1993 года он сидел в кресле, читал с карандашом в руке и умер совершенно внезапно.
Мартин умер, я думаю, как счастливый человек. Не все свои замыслы он смог завершить, однако его жизнь можно назвать состоявшейся. Он заботился о благе всех людей, я могу это засвидетельствовать. Он источал благостное спокойствие, которое возникало из счастья его семейной жизни, его картины мира. Его педагогическая и социальная увлеченность удовлетворяли его честолюбие и в то же время его стремление к терпимости в отношениях между людьми. Идеи социализма были ему близки, однако для него представлялась наиболее важной гарантия любой возможности свободного развития каждого индивидуума.
Еще из Сан-Пауло Вальтраут ответила на мое письмо:
«Странно, что Мартину пришлось лететь в Бразилию, чтобы умереть. Но я очень благодарна, что ему довелось уснуть так совершенно безболезненно и мирно. Сначала у меня, естественно, был шок, однако сейчас меня окружает так много милых людей, которые помогают мне переносить утрату, прежде всего наши шестеро прекрасных детей со своими семьями, что я чувствую, будто ангелы несут меня на своих крыльях. Мартин все еще как-то здесь вокруг меня! Б последнюю субботу мы отмечали здесь, в Южной Америке, сороковой день ухода Мартина, а вечером была очень трогательная встреча с нашими бразильскими друзьями. Их было много, и, вспоминая о нем, они так верно говорили о событиях его жизни, что воссоздали подлинно достойную ее картину. Мы открыли вечер частью струнного квартета Шуберта, а в конце спели вместе со всеми друзьями канон "Dona nobis pacem"».
Смерть друга и слова его жены меня очень растрогали. Я особенно хорошо помню одно из его писем о «более личных и интимных вещах», которое он когда-то написал мне в разгар всей политической лихорадки.
Поскольку мне не было ясно, верит ли Мартин в переселение души и возврат в жизнь, как это обычно бывает у практикующих антропософов, я хотел вернуться к этому вопросу позднее. Теперь такая возможность исключалась.
«Ты ведь знаешь, - так начал он свое письмо, - что меня серьезно интересуют все вопросы мировоззрения, и тут мне приходит в голову, что вся критика прошлого относится по существу к прагматическим вещам и при этом не касаются некоторых ключевых вопросов. Есть такой опыт, о котором свидетельствуют многие, что, когда умирают близкие друзья или братья или родители, от этого исходит определенное воздействие на нас, живущих. Я упоминаю об этом потому, что под влиянием наших разговоров и твоей «Тройки» у меня возникло впечатление, что смерть брата очень глубоко затронула тебя, более того, из этого возникло что-то вроде «поручения» завершить каким-то образом его работу, и что твой брат при этой работе как-то помогал, давал идеи, давал силы. Я осмеливаюсь предположить это, поскольку одним из моих важнейших переживаний был такой опыт. Мне кажется, я тебе еще не рассказывал об этом подробно. Если я делаю это сейчас, то только чтобы объяснить, откуда у меня это предположение. Итак, представь себе: апрель 1945 года. В течение нескольких месяцев не работает почта. Я лежу в госпитале где-то в южной Германии. Мой брат-летчик Аксель в последнее время находился в Восточной Пруссии. Тогда я ничего о нем не знал. В ночь с 19 на 20 апреля я очнулся от сновидения: мой брат «пришел», «попрощался» и сказал: «Теперь ты должен за меня сделать то, чего я уже сделать не смогу». Мне стало ясно, что это был не страшный сон, не грезы, а сон наяву. Я все точно записал, настолько точно, насколько смог, и контрабандой «вытащил» письмо из последовавшего сразу за этим плена. Оно никогда не приходило, но я запомнил дату. Примерно через два года, когда почта стала более надежной, я получил письмо от друга моего брата с известием о его смерти в полете над Одером, кстати, примерно почти в том же месте и в то же время, когда твой брат «внизу» его форсировал.
Для меня этот случай не доказательство, однако все же достоверное указание на существование какой-то души, которая после смерти или во сне преодолевает ограниченность пространства и времени и проявляется у тех, кто с ней связан. И поскольку по тому, как ты рассказывал тогда о решении завершить дело твоего брата, я вывел предположение, что ты ощутил подобные «влияния» своего умершего брата, я пишу тебе об этом и присовокупляю вопрос: после того, как сотни и тысячи в этом сотрясающем души столетии пережили подобное, можно и должно критически поставить вопрос об одной из основ материализма, а именно той, которая гласит, что тело и душа образуют неразделимое единство и что со смертью жизни и душа обязательно перестает существовать. Не стоит ли связать некоторые противоестественные для человека стороны фашизма и сталинизма с этим односторонним пониманием сути человека?»
В этом письме Мартин также повторяет уже известное мне из наших разговоров мнение, что мировоззренческий материализм является антикварным наследием девятнадцатого столетия. Мартин пишет, что, по его мнению, я тоже приду к вопросу, «какой вид реальности имеет человеческий дух, душа, как возникает и исчезает их взаимоотношение и взаимопроникновение с телом, как мы можем осмысленно понять свое собственное существование в связи с событиями современности. Все эти вопросы находятся в глубокой взаимозависимости с переломом этих недель, с мерзостями и достижениями нашего столетия, с вопросами: как мы можем рационально понять свое собственное бытие в рамках современных событий?»
К сожалению, внезапная смерть прервала наш разговор о земном бытие и продолжении деятельности духа. Тем больше связываются у меня мысли о его смерти с непостижимой для меня смертью его брата. Благодаря подруге семьи мне удалось прочитать последние письма Акселя, они особенно исполнены чувств, переполнены счастьем. С тех пор я лучше стал понимать Мартина.
В середине апреля 1945 года Аксель направил свой самолет, наполненный взрывчаткой, на мост через Одер, чтобы остановить наступательный прорыв Советской Армии. Он должен был, собственно, понимать, что это самопожертвование было бессмысленным. Тем более, что за недели до своего поступка он в пространных письмах описывал чудо вновь обретенной любви. Это была любовь втроем - «самое лучшее из всего, что я до сих пор пережил. Мой друг и я, мы оба любим ее, и она любит нас обоих. Ради нашей любви нам приходится каждый день преодолевать самих себя, отказываться ради общности, и этот отказ ради другого придает всему святое благословение, молчаливый обет нерушимости нашей общности». Со всеми подробностями Аксель описывает черты девушки, события этой странной любви. За неделю до последнего вылета он пишет: «В последние дни меня обуревают мысли о душе немецкого человека и о том, какие разнообразные проявления находит жизнь в эти недели наивысшего напряжения. Не только в ближайшем окружении моих товарищей, нет, я вижу прежде всего у нее, нашей общей подруги, внутренним миром которой я в последние недели так обеспокоен, я ощущаю эту борьбу. Повсюду страх и ужас перед нашим ближайшим будущим».
14 апреля Аксель пишет Мартину, что принял «самое трудное и важное решение» своей жизни. У него было четыре часа на раздумье, однако уже через час он заявил о своем добровольном решении. К нему пришло осознание необходимости этой акции. А к этому добавилось размышление о том, насколько «сегодня велики возможности закончить жизнь смешным, глупым и бессмысленным способом - боевые вылеты, выстрел в затылок в плену, заболевание чумой, голодная смерть; и напротив, здесь ты получаешь уверенность в том, что своей смертью оказываешь действительно очень сильное позитивное воздействие. Такая мысль явно говорит в пользу задуманного».
Последними строками, написанными братом, Акселем, в воскресенье, 15 апреля, я хочу, не ища и не находя никаких объяснений, проститься с главой о Мартине. Аксель пишет: «Из моего переполненного сердца я хотел бы излить тебе еще очень многое в этом письме. Я вчера узнал, что должен сегодня быть в боевой готовности, и провел этот вечер совсем чудесно, совершенно неописуемо красиво. Она украсила наш старый привычный стол и все по-праздничному расставила. Я рассказал ей все перед вечером и попросил отметить этот последний вечер с Оскаром и мной в духе полного жизне-утверждения, без отчаянья и грусти. Глубоко потрясенная, она сначала заплакала, затем явила мне как самый дорогой подарок пример такой силы и душевной твердости в течение всего вечера, что я сам от этого почувствовал прилив сил. После этого мы тихо сидели вместе до глубокой ночи и были глубоко и совершенно счастливы. Ранее никогда не испытанное мною ощущение безмерного счастья жизни заполнило меня. Все мелкое и низменное ушло от меня. Я счастливо и без горечи иду навстречу тому, что я избрал для себя как исполнение всего того, что нам повелевает жизнь. Скажи честно - ты не завидуешь мне безмерно? Пусть другие перемалывают фразы о народе, победе или прусском духе - меня все эти пустяки более не интересуют. Ты хорошо знаешь меня и мою позицию. Живите все! Живите за меня все вместе, и я буду жить вместе со всеми вами, со всеми, кого я любил. Я всегда готов быть с тобой! Твой брат Аксель».
Гельмут
Нежность - можно ли воспользоваться этим словом, говоря о дружбе двух мужчин? Но именно таким было мое отношение к Гельмуту. Среди моих друзей он был тем, кого я знаю дольше всех. Начиная с 1934 года, вскоре после прибытия в Москву, мы оба учились в немецкой школе имени Карла Либкнехта. Ежедневно мы проходили вместе с ним довольно большой кусок пути до школы. Его путь начинался в переулке, где был детский дом, в котором он жил; я шел от дома, где мы жили, к Арбатской площади. Мы встречались по дороге через эту площадь, которая была символом духовного центра города, ставшего нашей второй Родиной. Для Гельмута она осталась такой до старости. В шумной толпе австрийских парней и девушек шли мы оттуда через Гоголевский бульвар к нашей школе-новостройке на улице Кропоткина. Из-за австрийцев мы называли международный детский дом № 6, простоты ради, «детдом Шуцбунда». В нем жили дети павших или преследовавшихся участников восстания рабочих, поднятого в 1934 году в Вене под руководством социал-демократов против надвигавшегося фашизма, которое было утоплено в крови. Мой отец написал об этом по горячим следам пьесу «Флорисдорф», премьера которой прошла в Театре имени Вахтангова.
Гельмут был одним из немногих детей немецких эмигрантов, живших в этом детском доме. Почему Гельмут попал туда, я узнал, как и почти все об истории его семьи, лишь много позже, во время наших встреч после так называемого «поворота», с которого в 1989 году начался конец ГДР.
Дети шуцбундовцев, как и другие соученики, считали Гельмута, пожалуй, сдержанным парнем. В моей памяти не сохранилось наших общих с ним переживаний из школьной жизни. Лишь во время войны и учебы в школе Коминтерна, а после его роспуска на Немецком народном радио мы сблизились гораздо больше и стали друзьями. Там мы работали как журналисты-стажеры и дикторы до конца войны в мае 1945 года. Если бы мне пришлось описать и первое впечатление от Гельмута, и самую запоминающуюся его черту, то я назвал бы его тихим и задумчивым человеком.
К счастью, мне удалось получить сведения о его жизни от него самого, а не иначе, как было с другими друзьями. Можно годами жить бок о бок, говорить об обычных вещах и все же знать друг о друге очень мало. Лишь при наших встречах с конца 1990 года до позднего лета 1991 года в тесных комнатках его крошечной квартиры узнал я из многочасовых разговоров самое существенное.
Когда нас вместе готовили к конспиративной борьбе в Германии против режима Гитлера, я не знал, насколько мой друг был предназначен для этого далее по своему происхождению.
Мать Гельмута жила в Кенигсберге, где он и родился. Бабушка всю жизнь работала уборщицей, его дед, выходец из Литвы, был столяром. Мать была членом коммунистической партии с 1919 года, она работала стенографисткой в окружном правлении партии по Восточной Пруссии. Поэтому не случайно она познакомилась с будущим отцом Гельмута, который, уже будучи разведчиком Советской России, был там проездом. Говорят, что это была любовь с первого взгляда, для молодой коммунистки эта встреча оказалась и путевкой на секретную службу. Связь с мужем сохранялась в течение нескольких лет, а связь со службой, в которую она пошла, сохранилась гораздо дольше. Отец, видимо, был хорошим разведчиком, наряду с русским языком он владел английским, французским и немецким языками. Позднее он рассказывал сыну, что во время Гражданской войны в России по заданию разведки пробился к «зеленым», тогда фанатичным противникам советской власти, под прикрытием американского корреспондента.
Гельмут смутно помнил хоть что-то о полугодовом пребывании с родителями в США.
По возвращении оттуда отношения между отцом и матерью были прерваны. Она познакомилась с художником-немцем, который стал отчимом Гельмута. Смена мужа не означала для матери ухода с советской разведслужбы, а, наоборот, привела в разведку нового сотрудника. В памяти у Гельмута осталась встреча с отцом в Вене, куда он ездил вместе с матерью и отчимом. Очевидно, что это было сделано по оперативному указанию, и они даже совершили совместную поездку на автомашине по Австрии. В 1931 году мать и новый отец Гельмута направились в Базель в Швейцарию, чтобы обеспечивать оттуда более быструю и надежную связь разведслужбы с Германией, выдвинувшейся в центр мировых событий.
Гельмут и я, ничего не зная друг о друге, имели одинаковые склонности. Мы могли бесконечно долго листать остроумные комиксы датского юмориста Якобсона о приключениях Адамсона, оба увлекались детскими книжками нашего любимого автора Эриха Кестнера. В то время, когда я интересовался летным делом и видел цеппелин над Штутгартом, Гельмут сидел у радиоприемника, чтобы не пропустить старт первого полета в стратосферу бельгийского исследователя Пикара.
В это же время у Гельмута начинает проявляться интерес к политике. Иначе, чем у меня, поскольку я уже в Штутгарте вместе с основанным отцом рабочим театром, исполнявшим написанные отцом пьесы на злобу дня, ездил по стране и собирал деньги для бастующих рабочих, а его знание того, что родители - коммунисты, было связано с необходимостью конспирации. Об этом ни с кем нельзя было говорить. Иногда в Базель приезжали курьеры, которых он должен был перехватывать и провожать до квартиры. Характер Гельмута уже с ранних лет позволял ему спокойно хранить молчание, что нередко так трудно дается детям. О тайной работе его родителей на советскую разведку могли бы быть написаны по крайней мере такие же интересные и волнующие истории, как и все еще не раскрытая до конца история берлинской «Красной капеллы» и ее советских филиалов в других странах.
Сегодня во многих случаях стесняются воздать должное как героям тем женщинам и мужчинам, которые отдавали жизнь в борьбе с гитлеровским фашизмом. Многие имена, многие волнующие истории так никогда и не были преданы гласности и попросту забыты. К сожалению, и Гельмут знал немного о заданиях своих родителей; чтобы разобраться в этом основательно, нужно ознакомиться с труднодоступными архивами. На основании изучения этих документов могла бы родиться, видимо, довольно объемистая история, которая помогла бы восполнить «Эстетику Сопротивления». Если время позволит мне сделать это, я хотел бы выступить против их забвения.
В конце 1932 года, когда возможность прихода Гитлера к власти стала реальной, разведчики получили указание отправиться в Берлин. Гельмут вспоминает о пансионе, где он вместе с родителями слушал речь только что назначенного рейхсканцлером Адольфа Гитлера, а также о маршах и факельных шествиях, сопровождавших победные торжества нацистов. Вскоре после этого родители поехали в Кенигсберг, чтобы оставить у родителей художника-отца его тщательно упакованные в ящики картины. Ящики вызвали подозрение полиции, предположившей, что в них могло быть оружие для коммунистического заговора. Обыск квартиры и подвала не дал ожидаемого результата, и отъезду в Советский Союз ничто более не препятствовало.
Гельмут приехал в Москву на несколько месяцев ранее меня и, как и я, проучился некоторое время в школе имени Карла Либкнехта еще до ее переезда в новое здание. В 1935 году его родителей послали за границу с новым заданием, а он по собственному желанию пошел в детский дом шуцбундовцев, которых он уже знал по школе.
Ничего необычного не было в том, что почти все семейные истории наших соучениц и соучеников скрывали волнующие эпизоды. Однако в то время, когда мы называли друг друга просто по имени - Вернер, Мориц или Вольфганг, никому из нас не приходило в голову говорить о них, а уж тем более записать их. Даже трагические истории в наших семьях или в нашем непосредственном окружении не были чем-то из ряда вон выходящим, они были составной частью тогдашней жизни. Мы были нормальными детьми в ненормальное время.
Вольфганг, который тогда был просто Володей, написал гораздо раньше и первым о переживаниях всех нас в Советском Союзе.
Ни Гельмут, ни он не были в моей школьной компании, но в детдоме шуцбундовцев оба были лучшими друзьями. Пути нас троих пересекались в последующие роковые годы самым не-предугадываемым и необычным образом. При этом треугольник наших отношений изменялся коренным образом. Однако в те годы в этом не было ничего необычного.
Еще до основания ГДР Вольфганг в 1949 году отринул наше общее прошлое и опубликовал на Западе книгу о своей жизни в Советском Союзе, которая до сих пор носит некоторый культовый статус. Все известные мне соученики вспоминают свое время учебы совершенно иначе, чем описано в этой книге. Например, мы не испытывали никакого невыносимого чувства принуждения к показателям в учебе, мы не страдали ни от навязываемой нам дисциплины и принуждения к самокритичному оправданию мельчайших ошибок, нас не заставляли отказаться от обычной жизни молодых людей. Естественно, мы должны были следовать правилам игры, принятым в школе имени Карла Либк-нехта, как и в любой школе в мире. Однако это не мешало нам быть веселой пестрой оравой, приводившей иногда учителей в отчаяние. Гельмута называли тогда Гелмерль. Эта венская окраска его немецкого имени была, пожалуй, данью большинству австрийских ребят в доме детей шуцбундовцев. Всегда готовые к проделкам, австрийцы не упускали возможности перед расположенным неподалеку зданием немецкого посольства громко насмехаться над флагом с ненавистной свастикой. Такие выходки Гельмуту не нравились. Когда мы с гомоном отдавались полностью игре в народный мяч (Фёлькербаль-шпиль), в этой компании его не было видно. Соответственно выбирал он и друзей.
Вольфганг и он сблизились в детском доме не случайно. Оба обожали Генриха Гейне и Курта Тухольского, многие из их стихотворений знали наизусть. Оба посещали библиотеку иностранной литературы, где, наряду с классиками, читали и современных авторов тех лет: книги Генриха и Томаса Манна, Стефана Цвейга и Арнольда Цвейга, Лиона Фейхтвангера.
В папке, которую Гельмут передал мне в одну из последних встреч, есть набросок об этом времени. Гельмут рисует Вольфганга человеком, которому уже в те годы в детском доме была свойственна склонность к неумеренной порой увлеченности. «Мы были действительно закадычными друзьями во время жизни в детском доме, и я знал, как легко он воодушевлялся, например, успехами китайской Красной Армии и ее великим Северным походом или же испанскими республиканцами, особенно анархистами, которые импонировали ему своим своеволием. Я вспоминаю, как Володя появился на нашем новогоднем бал-маскараде в черно-красном шарфе.
Конечно, мы все находились под впечатлением гражданской войны в Испании. На стене нашей пионерской комнаты висела большая карта Испании. Испания была нашей надеждой. Мы разыгрывали заседания Лиги наций и Комитета по невмешательству, похоронившего попытки помощи испанскому народу. В выступлениях «за» и «против» высказывались самые разные мнения. И поражение Испанской республики мы восприняли как личное поражение. Володя был одним из самых активных участников этих игр. Так что же объединяло нас, таких разных по характеру, особенно в том, что касалось страстности? Он - человек чувства, а я - скорее человек разума. Очевидно, объединяли нас общий интерес к литературе, истории, политике, склонность к писательству, к критическому осмыслению, любовь к чтению, возможно, некоторые моменты на нашем жизненном пути. В наших отношениях мне мешал его индивидуализм в подходе к делу и стремление к показному лидерству, которые иногда проявлялись довольно неприятно».
Конечно, для нас не проходило бесследно внезапное исчезновение отцов наших школьных товарищей, учителей, а позднее и наших товарищей из старших классов школы. Аресты, принимавшие все больший размах, и процессы стали частью нашей жизни и наших ощущений. Для нас это было необъяснимо, покрыто мраком, запутанно. Это слишком противоречило нашим социалистическим идеалам, в которые мы верили, это было чуждо нашему восприятию Советского Союза. Чудовищные размеры всего этого мы не могли полностью понять и спустя многие годы.
Гельмут в своих воспоминаниях разделяет это чувство. Он пишет о заботе воспитателей детдома о доверенных им детях, директора, в прошлом брошенного родителями юноши, который рассказывал старшим воспитанникам дома о своей жизни и вместе с ними пел песни юных беспризорников.
«Они сделали очень много, чтобы мы воспринимали Советский Союз как свою Родину и вживались в те обстоятельства возможно лучше, быстрее и, по возможности, безболезненнее. Кроме этого, ведь многие из детей были сиротами или полусиротами, и они чувствовали себя в детдомовской среде как в семье», -пишет Гельмут в своих воспоминаниях.
Вольфганг не говорил об аресте матери даже с самым близким другом, так же как и о своем критическом взгляде на политические процессы и своих растущих сомнениях. Гельмут также никому не рассказывал о том, что произошло с его семьей. Это было типичным для того времени. Большинство искренне полагало, что это ошибки, и освобождение некоторых из арестованных питало эту веру.
В 1937 году вдруг исчезла сестра матери Гельмута. Она работала в Коминтерне, и через нее поддерживалась связь с его родителями, которые были за границей, и таким путем иногда присылали письма. Когда он позвонил родственникам в свободный день, предназначенный для встреч с родными, незнакомый мужской голос ответил, что тети нет. Затем он узнал от одной из ее знакомых об аресте. Это был тяжелый удар, с которым юноша едва мог справиться. Что он думал? Он даже не мог поверить в возможность несправедливости.
С потерей контакта с теткой Гельмут потерял и контакт со своими родителями. Лишь позже какой-то представитель какой-то организации восстановил контакт с ним, вручал ему письма от матери и иногда немного денег. О тетке он не знал ничего. Он не знал также, что его родной отец был арестован. Лишь после войны, когда он спросил у своего начальника, ему ответили, что отец мертв.
Хотя в отношении многих людей это было горькой, но правдой, в том числе в отношении его тетки, справка об отце была неверной. Он умер в 1958 году, реабилитированный Военной коллегией Верховного Суда СССР. Гельмут показывал мне заверенную копию этого решения и документ Комитета госбезопасности, подтверждающий, что отец с 1 января 1921 года сотрудничал с ОГПУ. Лишь совсем недавно он узнал, что его тетка в 1938 году была расстреляна в подмосковном Бутово - это именно то место, где расстались с жизнью многие учителя и наш пионервожатый из школы имени Карла Либкнехта Курт Арендт.
Когда я хотел узнать у Гельмута немного подробнее о его встрече с отцом после освобождения последнего, память Гельмута уже очень сильно сдала. Однако его жена Валя все точно помнила:
«В 1954 году, когда только что родился наш младший сын Юрий, в нашей маленькой комнатушке на заднем дворе гостиницы «Люкс» зазвонил телефон. Кто-то попросил Гельмута. Когда я сказала, что он спит, последовал удивленный вопрос: как так? Я сказала, что он прилег после ночной смены. Мне сказали, что я должна его сейчас же разбудить, что это очень важно. Гельмут взял трубку и долго ничего не говорил. Я была очень взволнована, когда он сказал мне, что по телефону звонили знакомые его отца, который, по их словам, должен туда прийти. Я очень испугалась и просила Гельмута оставить свой паспорт дома. «Если ты не вернешься сюда к трем часам, у меня не будет молока и я не смогу грудью кормить нашего ребенка».
После бесконечного ожидания он позвонил и сказал: «Валя, это мой отец! Мы сейчас приедем». И я, и комната были в таком состоянии, что я не хотела их принимать. Представь себе, тринадцать метров на пять человек! Вскоре они оба приехали. Я увидела невысокого округлого человечка и не смогла вымолвить ни слова, пока Гельмут не сказал: «Это мой отец». Лишь после этого я пригласила их сесть. Стульев у нас не было, мы сидели на кроватях. То, что он рассказывал тогда, потрясло меня до глубины души».
В 1933 году, когда отец работал в Вене, выступая как американский бизнесмен, по доносу заместителя его вызвали в Москву и арестовали. Доносчик сбежал с деньгами фирмы, а отца, успешно работавшего разведчика, сослали на Соловки, печально известное еще с царских времен место ссылки. Однажды там появился известный ему прокурор, который добился перевода отца в Москву для выяснения его дела. Это было в ноябре 1934 года. 1 декабря в Ленинграде был убит Киров, и началась большая волна чисток. Все попытки пересмотра дела закончились ничем, а с приговора к десяти годам заключения начался путь через сибирские лагеря. Будучи высоко образован, он читал лекции заключенным и охране - агитировал их за коммунизм. Хотя срок его несправедливого наказания давно закончился, он, как и большинство заключенных, не имел права покидать места ссылки и прожил до 1953 года на севере Эвенкии.
Когда Валя узнала об этом, она начала борьбу за реабилитацию родного отца своего мужа, выстаивала очереди в приемной Верховного Суда, пока не получила наконец нужный документ. Несмотря на весь опыт, ей все еще было трудно понять, как такое могло случиться с коммунистом, который с опасностью для жизни работал на Советский Союз.
Гельмут находился еще в детском доме шуцбундовцев, когда в 1939 году было подписано соглашение, которое позже вошло в историю как пакт Гитлера-Сталина. Гельмут смог понять и это событие с большим трудом. Вступление Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию, включение балтийских республик в Советский Союз, казалось, давали этому шагу приемлемое объяснение. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз в июне 1941 года позволило наконец понять этот шаг как заблаговременное обеспечение советских границ и отодвинуло на задний план все сомнения.
В это время в жизни Гельмута произошли серьезные изменения. В 1938 году школа имени Карла Либкнехта и международный детский дом были закрыты. Таково было одно из следствий подписанного Риббентропом и Молотовым пакта, поскольку нацисты воспринимали близость этой школы к зданию посольства как провокацию. Большинство детей перевели в русский детский дом. Он был значительно хуже в том, что касалось питания и размещения, и главное -дети попали там в крайне недружелюбную обстановку. Виновато в этом было руководство школы и некоторые педагоги.
Как один из старших школьников Гельмут выступил против этого сначала перед директором, а затем и в городском отделе народного образования и добился некоторого изменения распорядка в детдоме. Так Гельмут приобрел доверие младших и в летнем пионерском лагере был избран председателем совета лагеря. В это время его уверенность и самосознание укрепились еще и потому, что мать и отчим возвратились из командировки за границу. Их поселили, однако, не в Москве, а в Саратове на Волге. Когда он посетил их во время зимних каникул 1941 года, надежда на возобновление нормальной жизни семьи исчезла. В комнатенке, которую выделили родителям, для него просто не было места.
В то время, когда я по окончании школы начал учиться в авиационном институте, Вольфганг поступил в педагогический институт иностранных языков, а Гельмуту пришлось одновременно работать токарем в мастерской русского детдома, в котором он продолжал жить. Там вместе с двумя австрийскими друзьями, которых он знал еще по детскому дому шуцбундовцев, он пережил 22 июня 1941 года и начало войны.
До середины октября сообщения о положении на фронтах подавались в аккуратно препарированном виде, а затем на нас обрушилось официальное сообщение, что части немецкого вермахта стоят вплотную под Москвой. Информацию мы могли черпать только из динамиков городской сети, поскольку радиоприемники были изъяты сразу после начала войны.
В Москве разразилась паника, довольно бездумно была начата эвакуация предприятий и институтов. В нашем институте это происходило благодаря энергичным указаниям директора более или менее организованно. С несколькими из моих коллег по институту мы договорились, как и где будем встречаться и скрываться, если появятся немецкие войска. Когда по улице прошли танки чужой конструкции, мы подумали, что час пробил. Гельмут рассказывал, что он со своими австрийскими друзьями намазали мазью лыжи, налили бензин в канистры, чтобы в случае вступления немецких войск поджечь Москву, как во времена Наполеона, и после этого пойти в партизаны. Однако вступление, уже объявленное Гитлером, не состоялось.
В середине 1942 года друзей разделили. Гельмут был советским гражданином, и его призвали в армию. Он думал, что попадет на фронт, но в его паспорте в графе национальность значилось: немец. Поэтому он попал не в регулярную, а в трудовую армию. Там ему еще повезло, так как многих из наших школьных друзей из немецкой школы, в том числе и мою первую юношескую любовь, арестовали. Некоторые другие, как Анарик, друг из поселка писателей Переделкино под Москвой, едва избежал смерти на лесоповале в тайге. Хотя Гельмуту пришлось голодать на строительстве обводной стратегической дороги под Свердловском на Урале и выносить те же лишения на тяжелейшей физической работе, что и большинству рабочих в тылу страны, он жил довольно свободно у крестьян в маленьком домике с садом.
Летом 1942 года мы встретились далеко от Москвы на бывшей усадьбе Кушнаренково, живописно расположенной на небольшом возвышении на берегу реки Белая, примерно в шестидесяти километрах от столицы Башкирии Уфы. Попасть туда можно было только по реке. Каждый новичок из прибывших из разных районов огромной страны получил незадолго до этого приказ в форме таинственно звучавшей телеграммы. Меня призыв застал в казахской столице Алма-Ате, куда я был эвакуирован с моим институтом из находившейся под угрозой Москвы. Я, как немец, в свои девятнадцать лет остался единственным мужчиной на курсе, почти всех остальных студентов призвали в армию.
Телеграмма звучала так: «Обратитесь в Центральный Комитет КП Казахстана для получения содействия в поездке в Уфу в распоряжение ИККИ. Вилков». ИККИ было сокращением от Исполком Коммунистического Интернационала (Коминтерна), а Вилков был начальником отдела кадров.
Подобная поездка для немца в разгар войны без содействия со стороны самых высоких органов власти была бы невозможной. Аналогично, как и у меня, должно быть, обстояли дела и у других. Вольфганга извещение застало в казахском городе Караганда, куда он попал, как и большинство немцев, высланных из Москвы. Там он учился в педагогическом институте и после посещения этого места ссылки Вальтером Ульбрихтом неожиданно был назначен «инструктором для немецких политэмигрантов». В числе более ста других курсантов мы были призваны на курсы Коминтерна для участия в активной борьбе против гитлеровского фашизма и обучались будущей работе после освобождения.
Среди примерно двадцати участников немецкой группы мы встретили хороших знакомых из немецкой школы. Среди австрийцев также оказалось несколько друзей из детского дома. Уже при первой встрече нам пришлось познакомиться с присвоенными нам псевдонимами на время учебы и с основным правилом конспирации. Оно гласит: каждый должен знать ровно столько, сколько необходимо для своего задания. Там было многое довольно необычным и странным. Тем не менее, мы общались друг с другом гораздо нормальнее, чем описывает Вольфганг.
Даже не особенно приветствовавшиеся интимные отношения не считались серьезным нарушением и оставались общеизвестной тайной.
Вольфганг в своей книге вспоминает о действительных событиях, содержании обучения, лекциях, причем некоторые из них вполне отвечали запросам будущего писателя. Ведь мы узнали от компетентных лиц нам дотоле неизвестное из переменчивой истории рабочего движения и Коминтерна. Анализ, сделанный VII конгрессом Коминтерна, причин прихода к власти Гитлера и собственных ошибок коммунистов дали нам на будущее много поучительного и запоминающегося. Мы были убеждены, что по окончании господства нацистов на повестку дня встанет вопрос строительства антифашистско-демократического порядка на очень широкой политической основе и уж никак не строительства социализма. Действительно, шаги, предпринятые непосредственно после гибели гитлеровской империи: образование многих партий, стремление к объединению с социал-демократами, демократическая земельная реформа - первоначально соответствовали этим представлениям.
Состав немецкой группы довольно значительно разнился по возрасту, жизненному опыту и образованию. Там было несколько человек с опытом политической борьбы и знанием конспиративных методов. В большинстве же это были рабочие. Поэтому логично, что каждый по-разному справлялся с этой смесью лекций, семинаров, военной и практической подготовки по конспиративной технике. Два одногодка, дети профсоюзного функционера из Хемница, склонные днем к проказам и остротам на своем ярко выраженном саксонском диалекте, засыпали в библиотеке в поздние часы, отведенные для самоподготовки, над раскрытыми работами классиков марксизма. Привычные к изучению теории «интеллектуалы» сидели также смертельно усталые над книгами, но старались при подготовке к следующему семинару не отвлекаться на льющееся из открытых окон пение целого хора соловьев и на близость противоположного пола.
Гельмут вспоминает об этой стороне жизни в школе:
«Мнение, что преподавание там велось догматически, я не могу разделить. Наоборот, у меня сложилось впечатление, что всей постановкой обучения, дискуссиями об отдельных проблемах, заданиями по самостоятельному изучению источников (Маркс, Энгельс, Ленин, Роза Люксембург, Карл Либкнехт, Август Бебель, Франц Меринг и другие), рассмотрением проблем немецкого рабочего движения стимулировали обдумывание и собственные выводы для будущей работы и принятия решений в определенных ситуациях».
Конечно, в шкафах библиотеки тогда не было работ Троцкого и других ошельмованных как антисоветчики авторов, это была дань времени, но это не снижало, однако, нашей жажды знаний и нашего идеализма.
Значительная часть занятий была направлена на подготовку к возможной нелегальной работе в нацистской империи. Тут многое волей-неволей приходилось моделировать на семинарах.
В одной из тех придуманных ситуаций, как о ней упоминает Гельмут, имело место происшествие с одним из наших старших соучеников. Вилли был берлинским рабочим, который принадлежал к «лейб-гвардии» Эрнста Тельмана. От него мы узнали обстоятельства ареста Тельмана. Последний находился в 1933 году в уже расконспирированной квартире, грыз орехи и плевал на все предупреждения.
И вот, на одном из семинаров был поставлен вопрос, как должен действовать нелегал, внедренный в вермахт, если его включат в рас-стрельную команду. Трудный вопрос совести. Никто из нас не мог себе представить, что будет стрелять в партизан, женщин и стариков, чтобы не провалить задание. Вилли занимал такую же позицию. Его высказывание по такой сконструированной ситуации было злонамеренно искажено одним из преподавателей и стало предметом неприятных ложных обвинений. Поскольку Вилли напрочь отказывался уступить нашим уговорам и дать объяснения по поводу своего высказывания, произошел скандал. Он закончился отчислением Вилли из школы. Годы спустя, на встрече бывших курсантов школы Коминтерна, мы очень обрадовались, увидев его снова, живым и здоровым.
На практических занятиях в школе каждый из нас пытался, насколько мог и насколько позволяло знание реальных обстоятельств в Германии, представить себе акции сопротивления. Занятие весьма сложное. В этих случаях опыт старших и довольно часто практичный подход теоретически менее подкованных курсантов встречал большее признание, чем отшлифованные риторика и логика докладов наших интеллектуальных «гигантов». Так же и на военной подготовке, в спорте и нередких авральных работах результаты отличались соответственно.
Чтобы сохранить школу в рабочем состоянии в суровую зиму 1942/43 года, в то время когда бушевала битва под Сталинградом, нам пришлось вырубить прекрасную аллею из старых дубов, шедшую через овраг к усадьбе. Колоть дубовые чурки топорами и клиньями было ужасно трудной работой.
В деревне оставались только женщины, дети, старики и инвалиды войны. Во время уборки урожая обученные слесарному делу из нашей среды ремонтировали тракторы и комбайны, остальные помогали на уборке. Это было так же жизненно важно, как и разгрузка барж. Мешки весом в 50 килограммов нужно было переносить по узким деревянным ступеням на крутой берег. Естественно, более сильные были в лучшем положении, но пот лился ручьями со всех.
Несмотря на все различия, мы были общностью, в которой каждый знал, о чем идет речь, для чего мы учились и мучались. На фронте сражались и гибли наши русские одноклассники, мы не хотели уступать им. Интернационализм, разделяемый многими нациями, наложил отпечаток на наше мышление, солидарность была не только политическим убеждением, взаимопомощь была частью нашей совместной жизни, в том числе и при физической работе. Все были единым целым, никто не оставался в одиночестве, никто не был исключен.
Вольфганг был и остался аутсайдером. Постоянно стремясь блеснуть своими умственными способностями, он не мог и не хотел на равных войти в нашу группу. Только так Гельмут и я могли позже объяснить, почему это время так искаженно - по нашему ощущению - отразилось в его книге. То, к чему нас готовили, не было игрой. Вольфганг нигде не говорит ни слова о том, что каждый из нас всерьез считался с опасностями работы в гитлеровской Германии и возможностью столкновения с гестапо. Каждый должен был проверить, как он будет вести себя в такой ситуации. Он также не упоминает погибших из групп наших предшественников.
То, что из нашей группы погибли лишь немногие, мы обязаны только тому обстоятельству, что выпускники нашей школы уже при приземлении с парашютом попадали в лапы гестапо и были убиты в концлагерях или по приговорам так называемых народных судов. Только это побудило руководство КПГ в изгнании не приносить более бессмысленных жертв. В результате курсантам немецкой группы после роспуска школы не пришлось прыгать с парашютом над Германией. Некоторых направили выполнять задания в Советскую Армию или к партизанам. Памятник в Польше нашим однокашникам Руди и Зеппу, направлявшимся в Брес-лау, свидетельствует о серьезности тех заданий, которые мы были готовы выполнять.
Парадоксом жизни сталинского времени представляется, что немецко-еврейский эмигрант Вольфганг, мать которого была осуждена за «контрреволюционную троцкистскую деятельность» и долгие годы после окончания войны прожила в лагере и в ссылке, закончил институт и прошел школу Коминтерна, предназначенную для особенно надежных молодых коммунистов, и что именно он после двух промежуточных лет в Москве единственным из курсантов этой элитной школы Коминтерна сопровождал Вальтера Ульбрихта в первой группе функционеров, возвращающихся в Германию.
Из каких соображений, неизвестно, но нас троих с точки зрения Москвы считали достойными высокого призвания. Так, после окончания курса обучения нас направили работать в непосредственной близости от руководящего центра КПГ в изгнании. Вольфганг попал в редакцию радиостанции Национального комитета «Свободная Германия», Гельмут и я были посланы в здание на окраине Москвы, носившее таинственное название «Институт 205».
В этом здании вплоть до роспуска в 1943 году находился Коминтерн. Под его крышей работали радиостанции различных коммунистических партий, которые теперь оказались без прикрытия: Георгий Димитров, до того времени бывший Генеральным секретарем Коминтерна, перешел на работу в Центральный Комитет ВКП(б).
Наше радио называлось «Немецкая народная радиостанция, голос национального движения за мир». Наша станция, как и другие, вещавшие оттуда на языках стран, занятых вермахтом, создавали видимость того, что мы работаем нелегально в каждой из тех стран, для которых предназначались наши передачи. Уже во время гражданской войны в Испании использовался этот метод. Тогда немецкоязычный передатчик, руководимый КПГ, можно было слушать на волне 29,8 метра.
Для нас с Гельмутом в работе для этой радиостанции нашли применение знания по созданию фиктивных групп сопротивления и комитетов движения за мир. В отличие от большинства других станций, которые передавали ориентировки для действительно существовавших в этих странах организаций сопротивления, таких возможностей в Германии, страдавшей под диктатурой Гитлера, давно уже не было. И все же установки московского руководства в изгнании для наших передач имели значение для деятельности трудно выявляемого, но все же существовавшего антифашистского сопротивления.
Мы, молодые стажеры, сначала должны были освоить работу дикторов и редакторов, составлять тексты своих передач на немецком языке, учились и осваивали искусство политической журналистики у целого ряда опытных немецких журналистов, работавших на этом радио.
Вместе с этими старшими коллегами мы принимали участие в еженедельных заседаниях, проходивших в кабинете будущего президента ГДР Вильгельма Пика в эмигрантской гостинице «Люкс». Там мы познакомились не только с Вильгельмом Пиком, но и с Вальтером Ульбрихтом, Антоном Аккерманом и Вильгельмом Флорином. Порядок наших заседаний не имел регламента: свободно обсуждались актуальные тогда темы, шли дискуссии и высказывались противоположные мнения по материалам передач.
Этот метод использовался и в первые послевоенные годы, по крайней мере на радио Берлина, на котором я трудился после возвращения в Германию. Лишь позже аппарат Центрального Комитета ввел практику, по которой редакторы должны принимать указания без обсуждения - это правило соответственно стало обязательным по всем ступеням лестницы до самого низа.
В Берлин я приехал с группой, вылетевшей сразу после группы Ульбрихта, в которой в числе сопровождавших был Вольфганг. Гельмут попал в Дрезден вместе с Германом Матерном, другим лицом из числа руководящих коммунистов, бывших в эмиграции. После этого мы, каждый на своем месте, были так втянуты в гущу событий тех лет и заданий, что наши контакты на время прервались.
Хотя родители Гельмута не были связаны с коммунистической эмиграцией, а как советские граждане состояли на службе советской власти, он вернулся в Германию как сын эмигрантов. Его родной отец находился еще в ссылке, мать умерла в сибирском Томске в 1944 году, куда их, как немцев, переселили вместе с отчимом Гельмута. Когда она была при смерти, Гельмут, в порядке исключения, получил с нашего совместного места работы разрешение на поездку в Томск. Мать он уже не застал в живых. Отчим в более поздние годы имел возможность вернуться в Германию, однако предпочел остаться в Сибири. У него было там много выставок, он женился еще два раза, пережил обеих жен и умер в 1984 году. Как художник он оказал сильное влияние на художественный вкус Гельмута.
Новую встречу с Германией мы пережили в разных местах и по-разному, однако чувства вернувшихся из Советского Союза детей немецких эмигрантов наверняка были довольно похожими. Для нескольких десятков из нас Советский Союз стал второй Родиной, многие, подобно моему брату Конраду, офицерами с Красной Армией прошли свой путь в Германию через опустошенные города и деревни и стали свидетелями преступлений немцев, совершенных во имя Германии. Наши чувства были расколоты: мы пришли как немцы вместе с Красной Армией, но большинством немцев вовсе не воспринимались как освободители. Мы пропагандировали антифашистское мышление и многократно наталкивались на глухое непонимание. Нашему предприятию отнюдь не способствовали внешние обстоятельства - ландшафт развалин немецких городов, голод и духовное опустошение народа.
Гельмут вспоминает, как он вместе с другими членами своей группы остановился в Радебойле и как они в ожидании направления на работу в первые дни бродили по Дрездену, центр которого был превращен в сплошное поле обломков. В теплые дни явно чувствовался трупный запах, проникавший из-под обломков зданий.
Его опыт, приобретенный на «Народном радио», был учтен, и он должен был теперь начать работать в «Зексише Фольксцайтунг». Поскольку создание газеты задерживалось, его направили, как и других наших ровесников, которые одинаково хорошо владели русским и немецким языками, на помощь советским военным комендантам. Так, он ездил по Саксонии в автомобиле с громкоговорителями и читал приказы военных властей для населения и разъяснял наши представления о дальнейшем развитии антифашистско-демократических порядков. При этом он получил возможность поближе узнать настроения населения и менталитет людей, которые стали теперь его соотечественниками.
Затем биография Гельмута, как моя и многих других, в силу одного из самых необъяснимых решений наших «марксистских богов» резко повернула от цивильной журналистики на путь почти военный. Мне даже сегодня очень трудно представить себе «Гельмерля», до мозга костей гражданского человека, в полицейской форме того периода.
Гельмуту досталось рабочее место в полицай-президиуме Дрездена на берегу Эльбы. Его кабинет находился рядом с кабинетом президента полиции Макса Опица, а дверью, ведущей в тот кабинет, мог пользоваться только он один. Ему были поручены функции офицера связи с советскими оккупационными властями, к которым относились, наряду с городской комендатурой, также и советские секретные службы. Позже он руководил отделом полицай-президиума по делам прессы и права. Хотя он сначала был разочарован этими назначениями, однако позже посчитал за счастье, что ему удалось провести несколько лет бок о бок с Максом Опицем.
Опица освободили 1 мая 1945 года из двенадцатилетнего заключения в тюрьме и концлагере, и он сразу же, как и многие его друзья по несчастью, приступил к работе.
Лишь позже Гельмут понял, что его не случайно приставили к этому старому коммунисту. Несмотря на высокое предназначение, кресло полицай-президента стояло на опасно скользком паркете. Остаточные реминисценции внутрипартийного спора давних лет, предшествовавших 1933 году, оказывается, продолжали действовать. От советского гражданина-немца из Москвы, имевшего хорошие отношения с военными властями, очевидно, ожидали определенного надзора за Опицем. В отличие от большинства других офицеров советской военной администрации, шеф советской секретной службы в Дрездене следил за деятельностью Макса Опица -с безграничным недоверием. Его контора везде видела шпионов, диверсантов и саботажников, а бывшие узники концлагерей были для этого офицера потенциальными предателями. Вероятно, руководством для него служили ориентировки, применявшиеся в Советском Союзе в отношении солдат и офицеров, которые побывали в немецком плену.
Гельмуту было ясно, что он не позволит использовать себя ни против Опица, ни против других коллег, ставших его друзьями.
Макс Опиц стал учителем и другом Гельмута. В письме, которое Гельмут написал к его девяностолетию и послал в Берлин, он весьма красноречиво восхваляет характер бывшего полицай-президента. Опиц для Гельмута был одним из тех, кто не забыл своего рабочего происхождения и постоянно поддерживал контакт с простыми людьми, никогда не теряя этой связи. Между человеком, за которым он должен был следить, и его «надзирателем» существовало подлинное доверие. И в последующие годы, когда Гельмут вернулся в Москву, а Опиц стал сначала бургомистром Лейпцига, а потом руководителем канцелярии президента, и позже, уже будучи тяжело больным, жил в Берлине, по-отечески тесные узы дружбы с ним оставались для Гельмута самой интенсивной его связью с Германией.
Гельмут вспоминает также о нескольких дружеских встречах с Вольфгангом в Дрездене. От этих разговоров в его памяти не осталось ровно ничего, что свидетельствовало бы о фундаментальной критике со стороны Вольфганга ситуации в стране. После поездки в Югославию Вольфганг буквально восхищался тамошней политической практикой, которая больше отвечала нашим представлениям, полученным в школе Коминтерна, о широком демократическом преобразовании, чем все решительнее проявлявшееся стремление Социалистической единой партии Германии к единоличному руководству.
Я тоже помню разговор с Вольфгангом в летнем домике, снятом близ Потсдама советскими офицерами, контролировавшими радио. В этом единственном продолжительном обмене мнениями со мной Вольфганг, так же как и в разговоре с Гельмутом, с воодушевлением восхвалял увиденное в Югославии и путь, по которому пошла страна при Тито. Мы договорились о его репортаже для программы, которую я вел на берлинском радио. Никаких его высказываний по поводу «Немецкого пути к социализму», которые он описывает в своей книге, просто не было. Он сам, по его словам, связывал с этим путем большие надежды и был глубоко разочарован, пишет он, когда, якобы, оправдался мой прогноз о том, что по указанию Москвы эти тезисы, сформулированные Антоном Аккерманом, будут отозваны. В описании этой беседы не соответствуют действительности ни слова относительно моего предвидения, ни слова об унижении Аккер-мана.
Напротив, как и все мы, я считал хорошей концепцию Аккермана и был убежден в том, что она согласована с Москвой, как и последующий ее отзыв. Аккерман в результате этих споров не потерял ничего. После образования ГДР в 1949 году он стал госсекретарем министерства иностранных дел, в 1955 году выполнял параллельно функции первого руководителя внешнеполитической разведки ГДР и оставался в Политбюро до конфликта с Ульбрихтом непосредственно до и после 17 июня 1953 года. На всех этих постах он был и остался моим куратором и учителем, и именно он предложил в 1952 году назначить меня своим преемником во главе разведслужбы.
Я долго раздумывал, стоит ли касаться фальшивых свидетельств в книге бывшего соученика через пять десятилетий после ее выхода. Книга была написана во время холодной войны и для этой войны. Я не хотел бы поэтому вспоминать старые счеты, когда открылись новые главы. Однако книгу продолжают выпускать новыми изданиями, и к ней относятся, особенно во многих местах на Востоке, как к откровению, как к достоверному свидетельству современника. Сегодня, я в этом убежден, Вольфганг написал бы свои воспоминания иначе. Тон Вольфганга после «поворота» давно уже не тот, что во времена до него. Он старается восстановить контакты с друзьями юности и их поддерживать, и у меня складывается впечатление, что его, как и многих ушедших на Запад, охватывают временами некие ностальгические чувства. Мы говорим друг с другом, обмениваемся нашими публикациями и мнениями. Как признанный на Западе, а ныне и на Востоке, исследователь современной истории он сумел найти в отношении к ГДР и биографиям людей, действоваших в ней, позицию понимания, честную позицию. Он высказался против уголовного преследования меня, против жесткой изоляции, оклеветания и попыток поставить вне общества именно тех людей, которые работали в ГДР. Его видение прошлого сегодня гораздо более благожелательно, чем то, что написано в его книге, возникшей на пике холодной войны. Тем не менее он не отозвал свою книгу и не извинился перед оклеветанными спутниками по этому сложному времени.
Свидетели, пишущие об этом времени, естественно, не могут не учитывать своего нынешнего положения. В поисках самооправдания мы все безусловно должны как-то сдерживать себя, Мы, «оставшиеся здесь», не хотим простить «предательства» ни тем, кто ушел от нас, ни тем, кто благополучно устраивался на Западе и публиковал там менявшиеся по ходу времени воззрения. Если каждый из нас, ни в чем не уступая, будет упорствовать в своих взглядах на прошлое и на действующих лиц тех лет, тогда бреши, разделившие нас, останутся открытыми и следующим поколениям будет еще сложнее их преодолеть.
Наши книги с якобы аутентичными воспоминаниями позволяют при всем стремлении к честности легко определить позицию автора до «поворота». Остаются свидетельства современников, которые не позволяют просто так «позабыть», как и во имя чего они прожили свою жизнь. Даже труды большой литературной ценности по прошествии времени обретают разную известность и разную меру признания на Востоке и Западе.
Гельмут и я с «преодолением» нашего собственного прошлого испытали каждый свои трудности. Подобно многим нашим друзьям, которые хранят верность идеалам социализма, нас мучают уже давно все возрастающие сомнения по поводу реальной жизни наших государств, отличающейся от этих идеалов и даже от усвоенных в школе Коминтерна основных политических принципов. Для меня все началось с абсолютно издевательских директив партийного руководства СЕПГ по поводу наиболее популярных у слушателей передач берлинского радио. Затем последовали решения об «ускоренном строительстве социализма», события 17 июня 1953 года и время сразу после них. Для Гельмута это была программа построения коммунизма, принятая Коммунистической партией Советского Союза в 1961 году, которую следовало осуществить до 1980 года. Когда он прочитал об этой затее, он ударил кулаком по столу, поскольку это выглядело глупой шуткой.
Сомнения в нашей почти религиозной вере в Сталина и надежды на давно необходимые изменения принес XX съезд советских коммунистов в 1956 году. На шок от раскрытых преступлений Гельмут среагировал так, что его жена боялась, не сделает ли он что-нибудь с собой. Она следила буквально за каждым его шагом.
За отчаянием пришла надежда, за надеждой -новое разочарование. Конечно, мы испытывали сомнения в нашей жизни не реже, чем они представлены в появившихся за прошедшее время многочисленных книгах Вольфганга.
Путь Гельмута был иным, чем мой. Подобно большинству из нас, детей эмигрантов, он стал наполовину русским, а в душе мечтал о возвращении на свою вторую Родину. Я тоже думал о продолжении прерванной учебы авиастроителя. Моему брату Конраду удалось после демобилизации из Красной Армии и получения аттестата зрелости в вечерней школе действительно окончить ВГИК в Москве. А свою карьеру как кинорежиссер, напротив, он сделал как гражданин ГДР.
Хотя Гельмут никогда не отказывался от своего немецкого происхождения, его связи с Москвой были более тесными, чем наши. Непосредственно перед отправкой в Дрезден он женился на активной комсомолке из нашего секретного института, прибежища нашей «народной радиостанции», Валентине, открытой, жадной до жизни, энергичной москвичке. Они сблизились, когда Гельмут, как и я, привез из школы Коминтерна тяжелую малярию. За мной в нашей московской квартире ухаживала мать, Гельмут оставался в одиночестве и нуждался в сторонней помощи. Спасительного ангела звали Валей, которая стала ему близка не только потому, что внимательно за ним ухаживала.
При отъезде в Германию ему пришлось оставить ее вместе с матерью в крохотной комнатушке отеля «Люкс».
Когда Валя приехала в 1945 году в Дрезден, у нее был настоящий советский заграничный паспорт. У Гельмута, так же как и у меня, был только просроченный внутренний паспорт. Однако после образования ГДР я выполнил все формальности и окончательно урегулировал вопрос о моем немецком гражданстве, Гельмут же действовал в противоположном направлении. Хотя он хорошо сработался в полицай-президиуме и поддерживал очень хорошие отношения с коллегами и с шефом, он не сумел устоять перед раздвоением чувств и давлением семьи. Раздвоение возникло из-за вовлечения в работу народной полиции, с одной стороны, и его положения как советского гражданина и офицера связи с местными советскими властями - с другой.
Семья, то есть Валя, ее мать и родившийся в Дрездене сын, тянули его в сторону Москвы. На вопрос, нравится ли ей в Германии и охотно ли она живет в Германии, Валя отвечала: «Мне здесь хорошо, мне нравится, но остаться…? Я думаю, нет. Я тоскую по Москве». Гельмут нашел пути для своего возвращения в Москву. Летом 1947 года комната в гостинице была опять освобождена для его семьи.
Они возвратились отнюдь не в безоблачное время, раны войны не были залечены. Денежная реформа обесценила деньги, летняя засуха создала еще более трудные проблемы со снабжением. Мебель в комнате состояла из железной койки для матери Вали, матраца для Вали и чемодана с подушкой для сына, родившегося два месяца назад в Дрездене. За следующие два года прибавились детская кроватка, детская коляска и стол.
По поводу того, считает он своей родиной Германию или Россию, Гельмут отвечал позже: «Видимо, я космополит. Я не могу о себе сказать, что я когда-либо испытывал тоску по какой-либо родине. Когда я приехал в Германию, я быстро вжился, особенно до приезда Вали. Тогда появилось что-то вроде чувства Родины. Мог ли бы я жить в другой стране? Зависит от того, кто был бы вокруг меня, что я должен был бы делать, как бы я относился к этой стране… Почти вся моя жизнь прошла вдали от немецкой Родины, хотя я все время работал для нее. Я никогда не оспаривал того, что Германия - моя Родина».
«И сегодня тоже, - добавляет Валя. -И сегодня тоже, когда он почти не может читать, он старается разыскать все, что пишут о Германии в газетах и книгах. Это моя вина, что он уехал из Германии».
Первым местом работы Гельмута после возвращения была немецкая редакция журнала «Новое время», которая находилась по стечению обстоятельств в том же здании, где он жил как воспитанник детского дома шуцбундовцев. Позже он работал переводчиком телеграфного агентства ТАСС и Агентства печати «Новости», пока тяжелая болезнь не лишила его работоспособности. Маленькая двухкомнатная квартира с ванной и крошечной кухней поначалу представляла для небольшой семьи при московской квартирной нужде большой прогресс. По существовавшим тогда критериям, она и после рождения второго сына считалась все еще удовлетворительной. Теперь же они вынуждены делить ее с сыном, невесткой и внуком, потому что их доходов вместе со скромной пенсией родителей никогда не хватит на покупку квартиры, и это заставляло мое сердце сжиматься при каждом посещении.
Тем не менее, это тот московский адрес, к которому меня неизменно тянуло почти каждый год и особенно в последнее время. Другое дело, что из-за состояния здоровья друга и условий жизни семьи эти посещения были скорее удручающими.
Однажды и Вольфганг, который теперь часто ездил в Москву собирать материал для своих книг и комментариев об актуальных событиях в России, объявился у Гельмута по телефону. Обещанный визит, однако, так никогда и не состоялся.
Разговоры между Гельмутом и мной в последнее десятилетие были более глубокими.
Исход столетия мы в нашей молодости представляли себе совершенно иначе, чем нам пришлось в действительности пережить его в старости. Падение системы, которой мы служили по убеждению, жгло наши души. Основываясь на нашем возросшем за прошедшие годы опыте, мы пытались объяснить себе крушение наших целей жизни, которое трудно пережить. Попытку строительства справедливого общества мы долго считали возможной. Мы отдали ей свои силы, свои способности. Мы подавляли сомнения, страдали от многочисленных проявлений растущего вырождения системы, однако ничего не сделали или ничего не смогли сделать, чтобы что-нибудь в этом изменить. Гельмут считал, что его обманом лишили смысла жизни. Только во время работы в Германии он чувствовал, что действительно участвует в осуществлении своих идеалов.
Когда Горбачев объявил о своих целях, у нас появилась новая надежда. Правда, на очень короткое время. Во время попытки путча в августе 1991 года, который поставил под угрозу намечавшийся демократический подъем, Гельмут и Валя вместе с тысячами москвичей поспешили на защиту Белого дома. Парламент удалось отстоять, однако уже через два года грохот снарядов, выпущенных по Белому дому по приказанию нового президента, развеял всякие надежды на давно желанные новые политические свободы.
Вначале Гельмут считал, что Советский Союз сохраняет дееспособность как объединение различных республик на добровольной основе. Однако надолго удержать это образование с помощью силы было невозможно, распад становился неизбежным. Гельмут пришел к мнению, что все так и должно было произойти, как это в конце концов и случилось. Распад поставил перед нами острый вопрос: что станет с Россией после развала Советского Союза?
Валя сказала, что она очень сожалеет об исчезновении Советского Союза. «Он был такой большой, могучей страной…» «Россия будет и дальше распадаться. Теперь я слежу за этим по газетам и телевидению. Некоторым в нашем народе живется очень хорошо. Многие другие страдают от горькой нужды. Возможно, Россия останется единым государством. Кто должен взять в свои руки судьбу государства? Всех хороших людей расстреляли. Новые поколения совершенно иные».
Она также ставит перед нами, как и многими другими, вопрос вопросов: «Так что же, зря мы прожили жизнь?»
Валя полагает, что она всю жизнь выполняла поручения за других, не считаясь со временем, заботилась о других людях. Она хотела бы учиться и стать филологом. «Я хотела чего-то добиться, - говорит она, - мой мозг постоянно хотел думать о чем-то высоком, я мечтала о том, чтобы совершить нечто великое. Однако этого не произошло». В войну она потеряла отца и с семнадцати лет была вынуждена работать, чтобы зарабатывать на жизнь своей собственной семьи, но несмотря на это она в любое время была готова помочь другим. Это наполняло ее жизнь.
«В марте 2000 года исполняется пятьдесят пять лет, как мы женаты. Представь себе! Люди рождены для любви, любви к семье, к друзьям, к своей стране, они рождены делать добро. Если я не добилась того, чего, собственно, хотела, то это произошло не по моей вине. Я не добилась всего, чего хотела, но я создала хорошую семью. Разве этого мало?»
У меня сложилось впечатление, что именно Валя давала Гельмуту силы преодолевать сложности жизни. Она была более сильной. Его сдержанность и закрытость создавали труднопреодолимое препятствие для настоящей дружбы. У него никогда и не было особой потребности высказаться. Он вообще бывал счастлив, по-видимому, только тогда, когда мог уехать куда-то с Валей, например, в Эстонию. Восход солнца, пережитый ими вместе на Балтике, был его воспоминанием о большом счастье.
И тогда я задал Гельмуту и Вале вопрос: «Так, есть ли они - высшие силы? Ведь пели же мы когда-то: «…ни бог, ни царь и ни герой».
Валя отмахивается: «Это было во времена нашего культа богов. Просто и неясно». Затем она задумчиво добавила: «Высшие силы? Я думаю, пожалуй, есть. Так я воспринимаю природу, людей. Природа зеленеет, люди рождаются, они созданы для любви. О религии я не могу ничего сказать, я ее не знаю. У меня есть иконы, они из богатого собрания. Они висят, как подарок, но падать на колени или креститься перед ними - нет, до этого я никогда не дойду».
Гельмут согласился с ней: «Я думаю, религия существует только для того, чтобы перетянуть людей в одну определенную сторону…».
Я спросил: «Возможно ли побудить вас поверить в потустороннюю жизнь?»
Валя: «Нет, в это я не верю».
«Может, ты вернешься в образе кошки?»
Валя: «Нет, я определенно не вернусь».
Гельмут: «Все же ты вернешься вместе со мной».
Андреа и я оставляли каждый раз квартиру Гельмута и Вали со все большей грустью. Хотя Валя окружала нас при посещениях своим дружеским и, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, неизбывным оптимизмом, нельзя было не видеть, как заметно Гельмут сдавал. Работу переводчика ему пришлось оставить несколько лет назад, и то, что он так долго сопротивляется очень тяжелой болезни, было на грани чуда. Теперь же его физическое и психологическое состояние вызывало тревогу.
Я пытался закрыть пробелы в моих знаниях о его жизни. Когда началось новое столетие и разговор продвигался только обрывками и то с помощью Вали, он передал мне, не ища более никаких слов, папку со своими записями и газетными вырезками, собранными им обо мне.
Это было его прощанием.
Алик
Через четыре года после нашего приезда в Москву я перешел из немецкой школы имени Карла Либкнехта в 110-ю русскую школу имени Фритьофа Нансена. Переход этот стал довольно резким переломом в моей жизни. В первом же диктанте по русскому языку я сделал более тридцати ошибок и тем самым значительно понизил средний уровень показателей своего восьмого класса. Тем не менее, мои соученики и учителя приняли меня, сына эмигрантов и кое-как ассимилированного москвича, по-дружески.
Через полгода, в 1938 году, мне исполнилось пятнадцать. Это был возраст, который требовался для вступления в Комсомол -Коммунистический союз молодежи. На общем собрании, где решался этот вопрос, произошел случай, характерный для тех лет, когда недоверие было главным признаком времени. Ученица старшего класса спросила меня о моем отце. Он находился в это время во Франции, откуда безуспешно пытался пробраться к Интернациональным бригадам в Испанию. После моего ответа ученица, задавшая вопрос, выступила против моего приема «из-за неясных обстоятельств». Тем не менее, голосование прошло в мою пользу, я был принят всего лишь с одним голосом «против».
Очень быстро я втянулся в активную жизнь нашего класса и стал в нем «своим». Вне школы наша жизнь по большей части проходила в компании из пяти или шести довольно бойких ребят. С некоторыми из девушек мы поддерживали более или менее тесные отношения. Хотя мы во многом отличались как по семейному и социальному положению наших родителей, так и по склонностям наших характеров, в свободное время мы многое делали совместно. Алик был интеллектуалом и мечтателем. Однако меня больше притягивали Володя и Юра, склонные к рациональности и увлекавшиеся спортом. Нас связывали многочисленные совместные приключения. На вечеринках состоялось также первое неизбежное в России знакомство с алкоголем. Наша дружба становилась все более тесной, и чем дальше, тем больше нам казалось, что это надолго.
Однако окончание школы разделило нас. Кроме меня всем исполнилось по восемнадцать, их призвали в армию и разбросали по огромной стране. Я был единственным 1923 года рождения допризывником, и без вступительных экзаменов, как окончивший школу с отличием, поступил в Московский авиационный институт -предел мечтаний многих. Близкие друзья писали мне письма. Как и многое в нашей будущей жизни, их военная карьера определялась волею случая. Алик писал мне из военного училища, Саша попал солдатом в стройбат на новую границу с Польшей, занятую немецким вермахтом, к письму Олега, с которым я сидел до последнего класса на одной парте, с Дальнего Востока была приложена его фотография в форме моряка Тихоокеанского флота. Тяжелым ударом для меня было известие, полученное после войны, что он погиб в апреле 1945 года во время последних боев за Берлин.
При каждом посещении Москвы я проезжаю мимо небольшого памятника, который создал после войны другой наш соученик, скульптор, в память о тех, кто не вернулся с войны, и думаю об Олеге - на цоколе указано и его имя.
С большинством уцелевших после нескольких эпизодических встреч и писем контакты с течением лет оборвались.
Все мои поездки в Москву проходили в цейтноте, но я искал и до последнего времени всегда находил окно для посещения Алика. Он единственный, с кем связь не прервалась. Мы виделись почти каждый год, позднее по нескольку раз при его поездках в немецкие университеты на Востоке и Западе. С годами наши отношения становились глубже и сердечнее. Когда я говорю о Москве как о своей второй Родине, то для меня это означает и мою московскую дружбу с Аликом.
Он вернулся с войны инвалидом: в бою потерял ногу. Позже мой друг изучал германистику, защитился в Московском университете и стал профессором по немецкой литературе. Предметом его исследований было творчество поэта, любимого нами обоими, - Генриха Гейне, четырехтомное русское издание которого он редактировал.
Сто десятая школа располагалась в красивом старинном здании бывшей гимназии Флерова. Вместе с учителями в ее стенах, должно быть, оставалось нечто от элитарного духа этой богатой традициями школы. Этот же дух жил на улицах и площадях вокруг знаменитого Арбата.
Многие из моих друзей жили между Поварской (в наше время улицей Воровского) и Никитской (тогда Герцена). О давних и тогдашних жителях этого духовного центра Москвы написано много, но и новые истории можно рассказывать без конца.
Александр Пушкин поселился в одном из особняков на Арбате с красавицей Натальей после венчания в соборе, находящемся на Большой Никитской совсем близко от нашей школы. А на мою долю выпало большое счастье восхищаться волшебно красивым дворцом Ростовых на аристократической Поварской - месте действия романа Льва Толстого «Война и мир», причем не только его внешним видом, но чувствовать себя дома в его роскошных залах.
Там находился клуб Союза писателей, членом которого был наш отец, и мой брат Конрад и я имели туда свободный доступ. И в советское время нигде больше в столице не было такого места, где собиралось бы столько ведущих ученых, высоких военачальников, знаменитых писателей, известных артистов, как в этих местах вокруг Арбата.
На углу Хлебного и Скатертного переулков находился дом, где жил Алик. Для меня этот старый двухэтажный дом был таким же, как и большинство других. Построенный в 1913 году первоначально, кажется, для четырех зажиточных семей, подобно всем московским каменным домам, после революции он был заселен многочисленными квартиросъемщиками. Когда я приходил к Алику в две крохотные комнатки, где он жил с отчимом и матерью, мы насчитали в доме не менее одиннадцати семей. Как бы привычно это тогда ни выглядело, вскоре я понял, какой роскошью являются тридцать квадратных метров нашей квартиры с собственной кухней и ванной.
В доме Алика на всех жильцов была всего одна-единственная кухня, в которой рядом с маленькой газовой плитой горели еще несколько примусов. Первоначальный главный вход был закрыт, пользовались «черным ходом» через двор.
Алик рассказывал о своем деде, который сам вырвался из крепостных, стал купцом и вместе с семьей жил в представительном доме в Замоскворечье. Ребенком мой друг бывал еще в том большом доме. Мы долго рассуждали на тему о том, что было бы, если бы да кабы…
Но мы жили в другое время, и это время было для нас совершенно нормальным. Нам нравилось, как мы жили, Арбат был нашим родным гнездом. Так же, как наша школа. Что касалось учебного плана и установленных требований, она ничем не отличалась от других школ. И все же: нам выпало большое счастье получать знания на пороге во взрослую жизнь от педагогов этой школы.
Особенно велики были заслуги директора Ивана Кузьмича Новикова. Как только ему удавалось удерживать несколько старых педагогов бывшей гимназии в советской школе?
Я признаю, Алик был совершенно прав, когда говорил, что мы обязаны нашей любовью к литературе нашей учительнице русского Елизавете Александровне Архангельской. Эта высокая седовласая дама с тихим и приятным голосом казалась вышедшей прямо из «Дворянского гнезда» Тургенева. Она самозабвенно пыталась донести до нас далекое время былин -старославянских поэтичных сказаний, когда начинал складываться русский язык. Безнадежно зарывались мы в литературе девятнадцатого столетия, а двадцатое, вместе с советской литературой должны были проскочить галопом перед окончанием школы.
В отличие от того, как это изображают теперь многие советологи, оставаяь в плену шаблонов, нам никто не накладывал шор. Нас увлекали Дюма и Бальзак, семейные саги дю Гара и Голсуорси и многие другие авторы, которые были для нас обязательной литературой, или же те, с которыми нас знакомили учителя. В это время я впервые прочитал произведения Хемингуэя в блестящем русском переводе. Когда мы изучали русских критиков Чернышевского и Добролюбова, мы узнали от нашей учительницы литературы кое-что о значении немецких философов Канта, Фихте и Гегеля. Это позже подтолкнуло меня при подготовке к экзамену по «марксизму-ленинизму» в вузе прочитать «Феноменологию духа» Гегеля. Это совсем не было запрещено, наоборот, позволило мне получить высокую оценку, весьма важную для получения стипендии. Стремиться к знаниям без понуканий, постигать их и учиться самим думать - эти добродетели имели корни не только в семье, но также и в школе.
Выдающимся педагогом была наша учительница математики Вера Акимовна Гусева. Пока мы толкались в коридоре перед звонком, только по длинной линейке, возвышавшейся над толпой школьников, можно было определить, в какой класс направляется маленькая неприметная женщина. Коротко стриженная, с крохотными ручками, она производила скорее впечатление робкой девушки, но она обладала авторитетом сильной личности.
Когда во время войны школа была эвакуирована из Москвы, эта маленькая женщина заменила директора, оставшегося в прифронтовом городе. В тяжелейших условиях она организовала учебный процесс и питание доверенных ей детей. Действуя решительно и умно, она завоевала высокий авторитет, и ей удавалось привлекать многих из бывших учеников, добившихся высокого положения и известности, к решению школьных проблем.
Многие из бывших учеников отпраздновали в 1984 году ее девяностолетие. Мой старый школьный друг Саша рассказывал, что ее внесли на руках в только что восстановленный тогда роскошный ресторан «Прага», где она произнесла сорокаминутную речь перед своими воспитанниками. Она говорила о том, что в шестнадцать лет начала свою биографию учительницей в деревенской школе под Тулой, как она увидела старого Льва Толстого в Ясной Поляне. Когда ее выносили опять на руках из зала, старый метрдотель сказал, что он видывал банкеты с президентами, даже с королем, но ни один не произвел на него такого впечатления, как этот в честь старой учительницы. Через несколько месяцев после торжества эта чудесная женщина и педагог скончалась.
Восторженных слов заслуживают и другие наши учителя. Наш преподаватель физики, например, был уважаемым институтским доцентом и ученым, который умел наглядно и понятно подать нам самый сложный учебный материал, и именно физика для многих из нас стала любимым предметом. То же самое можно сказать и о нашем преподавателе химии. Насупленный и невзрачный с виду, что было предметом наших бесконечных шуток, он умел сделать понятными и доступными скучнейшие химические формулы на примерах окружающего нас мира. Несмотря на физические недостатки, при приближении немецкой армии к Москве он пошел добровольцем на фронт, где вскоре погиб.
В том, чего стоило преподавание этих учителей, я убедился уже в конце первого семестра в институте. После первой экзаменационной сессии ряды моих коллег-студентов поредели, зерна отделили от плевел. Я же оказался в числе тех, кто вообще не испытывал никаких трудностей, отвечая высоким требованиям при изучении естественно-научных предметов. Многие из студентов, окончивших с отличием другие школы, просто провалились и остались без стипендии из-за низких оценок.
Влияние школы и духовная атмосфера культурного центра Москвы, в которой мы вращались, были связаны неразрывно. Алик вспоминал, что мы читали не только обязательные главы из «Войны и мира», но проглотили целиком весь роман и в летние каникулы спорили о достоинствах любимых персонажей - Наташи, Андрея или Пьера. Эта книга так много значила для моего друга, что он перечитывал ее каждые два года от начала до конца.
Конечно, мы тогда регулярно посещали находящуюся неподалеку Третьяковскую галерею. При выездах в Ленинград мы никогда не упускали возможности посетить знаменитые Эрмитаж: и Русский музей. Само собой разумеется, что, как все наши ровесники, мы были ревностными кинозрителями. Добротные поделки воодушевляли нас точно так же, как ставшие классикой фильмы Пудовкина, Эйзенштейна и всех других великих мастеров кино.
Самые известные театры страны находились на расстоянии всего лишь нескольких шагов. По полночи мы стояли в очереди за билетами, чтобы достать дешевые билеты на «галерку» в МХАТ, Московский художественный театр. Мы восхищались захватывающей сердце игрой Аллы Тарасовой в роли Анны Карениной, которая была членом родительского комитета нашей школы, вдохновлялись «Днями Турбиных» Михаила Булгакова. Ключевой роман Булгакова «Мастер и Маргарита» увидел свет лишь через много лет после войны. Несмотря на всю остроту булгаковского гротеска, мы, дети Арбата, легко узнаем в показанных в романе переулках свой район - переулки нашей юности. Когда говорят, что этот великий писатель избежал гораздо худшей судьбы только потому, что Сталин часто смотрел и хвалил так воодушевлявшую нас пьесу, это вполне могло быть одним из нередких тогда необъяснимых проявлений судьбы…
Недавно Саша дал мне прочитать свои заметки - описание общения с семьей Булгаковых. Я вспомнил под воздействием прочитанного многие тогда хорошо знакомые имена известных актеров, художников и музыкантов. Некоторые из них были родителями наших соучеников - привилегия нашей школы. Жена Булгакова Елена Сергеевна, мать двоих наших школьных друзей, использовала свои знакомства, чтобы приглашать известных актеров и музыкантов на выступления в благотворительных концертах в помощь нашей школе, некоторые из них проходили даже в Большом зале Московской консерватории, находившейся в пяти минутах ходьбы от нашей московской квартиры. Деньги, полученные от продажи входных билетов, шли на покупку учебных пособий и школьные завтраки. В этом легендарном зале я впервые услышал всемирно известного Давида Ойстра-ха, слушал симфонии Чайковского, Брукнера и Бетховена в исполнении Ленинградского симфонического оркестра под управлением тогда еще молодого Курта Зандерлинга.
Необыкновенная близость к культуре была не единственной особенностью нашей школы. Способность к самостоятельному мышлению, которую нам стремились привить, требовалась даже в таких идеологически окрашенных предметах, как история. Наверняка надиктованный Сталиным «Краткий курс» искаженной им истории ВКП(б) безусловно оставил след не только в нас и наших учителях. Я не хочу утверждать, что наш директор на уроке «Газета», проводимом им самим, хотел создать противовес этому. Фактом остается, однако, что этот особенный предмет существовал только в нашей школе. На нем учитель будил наш интерес к событиям в мире таким необычным образом. Часто он требовал от нас «читать между строк». Как правило, одному из учеников поручался реферат по одной из актуальных тем, «Кузьмич», как звали мы директора между собой по его отчеству, побуждал нас к высказыванию в дискуссии противоположных мнений. Содержание газеты не было для него догмой: это было ясно из глубоких комментариев Кузьмича в конце урока. Он ведь знал, что имеет дело с понятливыми учениками, которые продолжали дискуссии в своих семьях: в то время, когда любая нечаянная оговорка могла стать роковой. Иван Кузьмич Новиков был человеком с характером. Он не допускал, чтобы детям известных родителей оказывалось предпочтение, как не допускал и того, чтобы дети арестованных или осужденных чувствовали себя униженным или ущемленными. Дочь одного большого военачальника, объявленного тогда «агентом иностранной державы», была самой активной общественницей в нашем классе, она входила в узкий круг друзей Алика и моих. И это было не исключением, а правилом.
Со стороны учителей в отношении этих учеников не было никакой настороженности, ни предвзятости. Рассказывали, что после процесса над одним из виднейших партийных деятелей, Николаем Бухариным, осужденным как «особо опасный и подлый враг народа», наш директор пришел в класс дочери Бухарина и заявил: «Дети не отвечают за своих родителей», и потребовал, чтобы к девочке относились так же, как к любому другому ученику.
Конечно, этот человек один не мог предотвратить эти события. Но он хоть что-то делал, когда другие бездействовали. И это не прошло для нас бесследно, даже при том, что мы не могли или не хотели осознать тогда ужас происходившего рядом с нами.
Воспоминания о нашей молодости полны противоречий. Вера в идеалы социализма и в безграничный авторитет Сталина почти не допускали сомнений. Мы жили, как дети и молодежь во всем мире, имели свои радости, свои влюбленности, свои хобби, занимались спортом - а рядом были мрачные тени, случалось необъяснимое зло.
Конечно, у Алика и у меня определенную роль играло то, что в наших семьях никто прямо не подвергся репрессиям. И дома, и с пострадавшими друзьями, как правило, не говорилось об арестованных.
Так было и с нашим товарищем из класса Костей, ближайшим другом Алика. Отец Кости, руководящий работник угольной промышленности, исчез средь бела дня и никогда более не появился. Костина мать отныне имела право проживать не ближе 101-го километра от Москвы. Костя же со своей сестрой жил в городе на деньги, полученные от продажи рояля. Он донашивал костюмы и белье отца. Мать друга часто подкармливала его, хотя и у нее стол отнюдь не ломился от яств.
Алик вспоминал, как близко его тронула судьба Кости. Однако он воспринимал судьбу друга странным образом не как трагедию и считал, что Костя сам спокойно относился к своему положению. Он ведь продолжал посещать школу, входил, как и раньше, в нашу компанию. Внешне, во всяком случае, он вел себя так, как будто ничего не случилось. Возможно, он, как и мы, верил в то, что произошла ошибка, и в конечную победу справедливого дела социализма. Костя, как и Олег, погиб солдатом Красной Армии на войне.
Это противоречие в жизни Кости и жизни многих других друзей и знакомых коснулось и Алика, однако лишь несколько позже: он был уже офицером на фронте, когда в разгар войны арестовали его отчима.
В школьные годы я познакомился с этим спокойным образованным человеком. Чего я не знал, так это что из-за своего происхождения он не смог получить высшего образования -его мать была дочерью дворян. Тем не менее, на строительстве московского метро он дорос до средней руководящей должности и в результате к началу войны стал офицером запаса саперных войск. Арестован он был по идиотскому доносу секретаря своей парторганизации, за то, что он, якобы, пропагандировал превосходство немецкой военной техники. Он был приговорен «тройкой», судом военного трибунала, ни много ни мало к смерти. В приговоре, который Алик хранил, смертная казнь была заменена десятилетним заключением с обоснованием, что его сын - фронтовой офицер. Таким близким было расстояние между смертным приговором и тюремным заключением.
По собственному желанию отец был направлен в штрафной батальон и пошел на фронт. В одном особенно опасном бою из 750 солдат живыми остались только двадцать пять - он был среди них. Вскоре после войны он умер от болезни сердца в возрасте пятидесяти одного года.
Парадоксом в этой игре судьбы было то, что Алик был не просто фронтовым офицером, а из-за знания немецкого языка служил в контрразведке, СМЕРШ - название от сокращения русских слов: смерть шпионам. До сих пор Алик не нашел никакого объяснения тому, как его, сына «предателя Родины», не только не разжаловали, но, наоборот, его пребывание на фронте стало основанием «мягкого» приговора его отцу.
Возможно, так гадал Алик, он и отец обязаны своей судьбой его тогдашнему командиру, человеку, который совсем не соответствовал расхожему клише «кагэбэшника». Этот человек начал службу в государственной безопасности в двадцатые годы, не имел большого образования, но оказался кристально честным и приличным человеком. Он познакомился с отчимом Алика во время короткого пребывания в Москве, когда ночевал на кровати Алика.
После ареста главы семьи он использовал свои связи, чтобы ознакомиться с уголовным делом. С его опытом, как создавались такие дела, ему скоро стало ясно, что в данном случае, как часто бывало, обвинение основано на доносе, высосанном из пальца. Он проинструктировал мать Алика, как и какими путями следует идти, чтобы, несмотря на приговор, прекратить дело, то есть добиться реабилитации ее мужа. У Алика есть и это решение о реабилитации.
Многие судьбы, в том числе и судьбы многих немецких эмигрантов, свидетельствуют о случаях подобного рода, которые во времена Сталина нередко оборачивались решением «жизнь или смерть».
О службе Алика в особотделе СМЕРШа я узнал уже после наших первых встреч в конце войны. Когда я носился с идеей написать также и историю Алика, я захотел узнать об этом побольше.
До сего дня существует мнение, что СМЕРШ был самым страшным подразделением НКВД, так как для работавших там чекистов человеческая жизнь ничего не стоила. Я попросил Алика описать мне свою службу в то время без приукрашивания. Я ставил критические вопросы, спрашивал и переспрашивал по ходу рассказа. Он заверил меня, что применение физической силы при допросах было строжайше запрещено. Когда все же такой случай произошел в танковом подразделении, прикрепленный к нему сотрудник был строго наказан. Расстрелы были, но действительно только шпионов. Алик вспомнил о своем первом случае: во время отступления в первый год войны прибежали несколько подростков и рассказали, что на чердаке сидит человек и работает на радиостанции. Это подтвердилось. Там был фольксдойчер, и его, как пойманного на месте преступления, сразу же расстреляли. На долгое разбирательство не было-, времени, немецкий вермахт наступал на пятки советским войскам. Этот случай, однако, был абсолютным исключением. Обычно при каждой дивизии имелся трибунал, который, плохо ли, хорошо ли, выносил приговоры арестованным.
В другом случае, рассказал мне Алик, его подразделение занимало позиции под Смоленском, и ему поручили вместе с несколькими солдатами произвести арест крестьянина, которого видели по другую сторону фронта при встречах с немцами. Его дом стоял на улице, по которой проходили войска и танки советской армии. Предполагали, что он информировал немцев об этом. При обыске были найдены предметы одежды и сапоги немецкого производства. Арестованный вместе с вещественными доказательствами и протоколом об обвинении и обыске был отправлен выше, то есть через дивизию в штаб армии. О дальнейшей процедуре он ничего не знал, однако предполагал, что из-за наличия неопровержимых доказательств дело завершилось смертным приговором. Его главной работой тогда было получение от агентуры среди солдат и офицеров собственной армии сообщений о настроениях в подразделениях.
2 сентября, то есть непосредственно перед началом боев за Смоленск, Алик был тяжело ранен. Ночью тяжелый артиллерийский снаряд попал в штабной блиндаж, в котором он спал вместе еще с двадцатью другими. Только он и еще один остались в живых. Ему ампутировали ногу чуть ниже тазовой кости, целый год он провел в различных госпиталях. После этого НКВД некоторое время использовало его внутри страны. Тогда он жил сравнительно неплохо и поэтому смог облегчить положение матери.
Окончание войны мы встретили вместе в Москве. Алик вспоминал, как он 2 мая 1945 года пришел к нам домой: «Твои родители и ты, вы сидели за обедом в маленькой комнате рядом с коридором. Твой отец хотел сказать по-русски что-то о предстоящем сообщении о взятии Берлина, но ты сказал ему, что я говорю по-немецки. У меня в памяти остались глаза твоего отца, добрые и внимательные глаза, которыми он все время смотрел на меня, когда говорил. Потом из маленького громкоговорителя прозвучало сообщение о падении Берлина. Мы пошли на Каменный мост, откуда вместе с огромной толпой наблюдали за пестрыми гроздьями двадцати четырех залпов салюта над Кремлем. У ликующих вокруг нас людей стояли в глазах слезы радости и печали, вряд ли там был кто-нибудь, кто не оплакивал потерю кого-то из близких. Я могу точно описать то место, где я вместе с вами пережил этот вечер». Вскоре после окончания войны Алик поступил без вступительных экзаменов, как окончивший школу с отличием, в Московский университет. Через пять лет он успешно закончил аспирантуру и стал доцентом по германистике. Теперь он преподавал не только немецкую, но и всю литературу важнейших стран Европы и США. До его первой поездки за границу мы встречались раз в год в Москве, затем, с начала семидесятых, также несколько раз в Берлине. Его приглашали время от времени для чтения курсов продолжительностью в несколько недель в берлинском университете имени Гумбольдта, в университетах Лейпцига, Ростока и Грайфсвальда. Естественно, в курсах Алика превалировал наш любимый поэт Генрих Гейне. Своими знаниями о его творчестве Алик мог покорить любую немецкую аудиторию.
Я показывал ему ставшую вновь моей Родиной страну, Берлин, Дрезден, красоты Рудных гор и Тюрингского леса. Несмотря на затруднения с протезом, Алик не пропустил ни одного зала в крепости Вартбург.
В 1980 году он впервые получил возможность выехать в ФРГ. Он прочитал два доклада в Боннском университете, выступал в доме, где родился Гейне в Дюссельдорфе, с тех пор он стал членом общества Генриха Гейне.
Наши последние разговоры с ним незадолго до его смерти состоялись непосредственно перед наступлением нового столетия. О его отношении к Германии и к немцам пусть рассакажет сам Алик:
«Я не хочу ничего приукрашивать. Когда я был солдатом на фронте, мое отношение к немцам определялось войной. Конечно, не ко всем немцам. Ты был одним из тех немцев, которые заставляли меня делать различия. Твои родители, твоя мама, фрау Эльза, твой отец, к которым я питаю самые сердечные чувства, и, естественно, немецкий язык. Со мной занималась по вечерам, чтобы я не отставал в школе, соседка, казавшаяся мне тогда довольно старой, Клавдия Осиповна, которая говорила еще и по-французски, и по-английски. Вначале я особенно охотно читал романы Генриха Манна «Профессор Унрат», «Юность и конец короля Генриха Четвертого», которые тогда только что перевели на русский язык.
В отличие от многих фронтовых товарищей я делал различие между немцами, не вникая очень глубоко, но тем не менее. Когда я позже занялся немецкой культурой и посетил Германию, я все больше узнавал немцев и их суть. Я стал к ним по-человечески ближе и тоже ощущал человеческое тепло по отношению ко мне. Исключением был формальный, холодный прием в Боннском университете. Возможно, потому, что я приехал туда как раз на пике холодной войны, когда бойкотировали Олимпийские игры в Москве.
Случайный знакомый, живший рядом с университетской гостиницей, опроверг все же представление, разделяемое многими русскими, о том, что немцы скупы и негостеприимны. Так же как меня с самого начала принимали повсюду в ГДР, он сразу пригласил меня на обед и широко угощал в ресторане и дома.
В особенно трудное для нас время после развала Советского Союза, когда мне постоянно доставляли трудности невыносимые боли ампутированной ноги и проблемы со здоровьем жены, наши немецкие друзья с Востока и Запада помогали трудно поддающимся описанию образом. Собственно, я давно уже ощущаю Германию как свою вторую Родину».
При взгляде в прошлое, в ту фазу нашей жизни, которая завершилась победой над Гитлером, неизбежно возникает вопрос, от которого никто из нас не уйдет: почему мы так долго терпели систему, господствовавшую при Сталине, причем никак, по существу, не протестуя? И я спросил Алика: «Что ты скажешь, когда сравнивают Сталина и Гитлера?»
«Я попытаюсь, - был его ответ, - ответить сравнением, которое кто-то из философов уже использовал. Море состоит из капель, вечность из мгновений. Человека окружают многие мелочи повседневной жизни, приятные и обременительные. Это было верно в том, что касалось трудностей жизни в Советском Союзе в гораздо большей мере, как в хорошем, так и, прежде всего, в плохом. Трудности съедали жизненную энергию людей почти полностью. Когда в середине пятидесятых годов впервые были названы и описаны преступления Сталина, я, как и многие другие, обожженные пламенем репрессий, не смог сразу преодолеть культ, окружавший Сталина. Он слишком глубоко сидел в нас. Это все было так парадоксально, что даже мой отец после смерти Сталина вырезал из журнала его фото, сделал траурную рамку, написал день и час его смерти и повесил у изголовья кровати. Я не могу объяснить этого до сих пор. Мой отец в глубине души всегда был диссидентом, и уже тогда, когда я еще учился в школе, он говорил мне: у нас господствует полицейский режим. Он так говорил, но фотографию Сталина повесил.
Между Гитлером и Сталиным разница состоит «лишь» в том, что Сталин уничтожил в лагерях ГУЛАГа двадцать миллионов собственных граждан, тогда как Гитлер уничтожал тех немцев, которых считал политическими противниками. Но это не разница. Без подписанного Риббентропом и Молотовым пакта, вероятно, не было бы никакой войны».
Здесь наши мнения разошлись. За все эти годы наши взгляды на историю во многом развивались в различных направлениях.
Миллионы жертв сталинской диктатуры насилия ничем нельзя оправдать. И все же я отклоняю это упрощающее уравнивание. Преступления Гитлера и война были предусмотрены уже нацистской идеологией, расистским бредом, поднятым до уровня программы в книге «Майн кампф», и страстью к завоеваниям, обоснованной лозунгом, что немцы - «народ без жизненного пространства». Будучи корреспондентом радио на Нюрнбергском процессе над военными преступниками, я стал свидетелем неоспоримо доказанного обвинения в подготовке агрессивной войны и геноцида с момента прихода Гитлера к власти. Утверждение, что без пакта не было бы плана «Барбаросса» и войны, не выдерживает серьезной исторической проверки. Если сравнивать Гитлера и Сталина как организаторов массовых убийств, тогда можно всех тиранов в истории ставить на одну доску.
Я категорически против какого бы то ни было объяснения преступлений, ответственность за которые несет Сталин, показательных процессов и жертв ГУЛАГа коммунистической идеологией. Хотя Сталин называл себя коммунистом и постоянно говорил об этом. В отличие от Гитлера у него ведь провозглашенные лозунги и действия расходились все больше и больше. Практика Сталина была извращением, преступлением против коммунизма. Не случайно число коммунистов среди жертв Сталина больше, чем в Германии.
Нам, сторонникам социалистических идеалов, великих идей свободы, равенства и братства, еще долго придется нести этот тяжелый груз.
Алик, в прошлом убежденный член Коммунистической партии Советского Союза, сказал по этому поводу: «В вере в коммунизм наше общество сегодня расколото. Я ни в коем случае не ставлю знака равенства между идеей коммунизма и сталинизмом, ни в коем случае. Но я больше не верю в коммунизм. Сомнения в системе появились уже раньше, естественно, в соответствии с моим жизненным опытом. Все больше и больше мне становилось понятнее, что вся система - не что иное, как полицейский режим. Поэтому XX съезд партии принес только еще худшие подтверждения того, что я давно знал, ничего принципиально нового.
К Хрущеву, который произнес эту нашумевшую речь, я не испытывал никакого уважения. Для меня вся коммунистическая система потерпела крушение.
Коммунизм - это утопия. Если ты в своих книгах пишешь, что утопии необходимы, я с этим не согласен. Поскольку, если верить в утопию, это приводит потом только к разочарованию, головной боли. Лучше рассчитывать, грубо говоря, на худшее, тогда не будет разочарования».
Если Алик отвергает утопию, в которую мы оба когда-то верили, то, мне думается, это следует объяснять его тяжелейшим личным опытом и безнадежным положением страны, в которое она попала при коммунистическом руководстве страны.
И все же я остаюсь при своем убеждении: утопии, стремление к справедливому обществу необходимы. Отказываться от них только потому, что такое стремление связано с поражениями и разочарованиями, означало бы отказ от всякого прогресса, да и с учетом более чем когда-либо угрожающих нашей Земле опасностей - отказ от будущего человечества. Гиганты экономики, пользуясь своим всевластием, черпают баснословные прибыли как на производстве вооружений, так и на непомерно раздутом потребительстве, которое достигается за счет разрушения окружающей среды и углубления социального неравенства. И что же, они и впредь должны, не считаясь ни с кем, решать, куда пойдет мир?
Мои герои в истории - такие, как Спартак в Древнем Риме, Томас Мюнцер в Средневековье или павшие герои Парижской Коммуны на исходе XIX столетия, оставались верны утопическим мечтам о свободе даже тогда, когда борьба казалась бесперспективной и проигранной. И все же они способствовали прогрессу. Этой традиции следуют те, кто и сегодня ищет насущно необходимые альтернативы и не хочет соглашаться с господствующими условиями жизни в мире. Многие люди приспосабливаются, конформисты есть везде в избытке. Они позволяют усыплять себя гипнозом масс-медиа и видимостью демократических правил игры, которые в действительности предназначены лишь для того, чтобы завуалировать подлинно действующие силы. Однако всегда будут люди, которые ставят идеалы выше собственного благополучия. Моя надежда в том, что среди них есть много молодых, которые хотели бы жить в мире, где человеческие потребности ставятся выше интересов наживы.
Мы отказались от продолжения диспута, потому что мой друг вернулся к пережитой реальности: «Для меня, как и для многих моих сограждан, от утопии коммунизма, самой по себе чудесной идеи, не осталось даже следа ни при Ленине, ни при Сталине. В конце длинного ряда стоял Горбачев. Когда его имя во время моего посещения Бонна было у всех на устах и люди были готовы носить его на руках, никто не хотел слышать, что его, так же как и его Раису Максимовну, в нашей стране ненавидят, наш народ их даже презирает. Конечно, первоначально я связывал с ним и его перестройкой большие надежды. Однако у нас был уже опыт широко разрекламированных реформ, от них ничего не осталось. Говорят ведь по-немецки: не стоит расхваливать день, пока не настал вечер.
Не говоря уже о том, что Горбачев предал ГДР, это важно для тебя, как немца. Но он бросил всю Европу в пасть НАТО. Для чего? Курилы, острова, я отдал бы сразу же японцам, вернее сказать, уступил им за хорошую цену. А Горбачев просто раздарил величие России. Горбачев оказался предателем.
Конец Советского Союза я воспринимаю со смешанными чувствами. Советский Союз был все же русской империей, как она была создана царями за долгие столетия. Кстати, один из царей, Александр Второй, недооценен до сегодняшнего дня. И после свержения и убийства Романовых Российская империя все еще оставалась почти в сохранности, за исключением того, что потерял Ленин, - Финляндии, Прибалтики, Польши и Молдавии.
Сталин попытался завоевать обратно эти земли. В этом смысле я расцениваю роль Сталина как позитивную. Я тщательно проследил за борьбой Сталина против Черчилля за Польшу. Он вырвал Польшу из пасти британского бульдога. Балтийские земли пропитаны русской кровью. Теперь русские там - люди второго сорта, хотя они составляют пятьдесят процентов населения. Я воспринимаю конец Советского Союза со смешанными чувствами, есть в этом и кое-что положительное. Однако слишком велики потери, возникшие из-за распада Советского Союза.
Конечно, если отвлечься от современности, в истории со времен Чингисхана и Александра Македонского было ведь двенадцать или тринадцать империй. Все ушли в небытие. Мы сами пережили распад Британской империи, в которой никогда не заходило солнце. Так и Россию, очевидно, постигла историческая закономерность. Туркестан, как раньше называлась Средняя Азия, был завоеван для России генералом Скобелевым, Кавказ - генералом Ермоловым. А сейчас опять идет новая кавказская война. Чечня стремится к независимости, Средняя Азия ее уже получила. Это ход истории».
После этого экскурса Алика, который, подобно мне, учился в советской школе, но имел иной взгляд на историю, я спросил его, какой ему видится Россия на исходе XX века, потерявшая значительную часть своей территории.
«Об этом трудно вообще говорить. Это скверно, ужасно, что здесь происходит. Кровь буквально льется на улицах, происходят убийства и разбой. Цены неизмеримо высоки, большинство стариков голодает. И все же я не хотел бы обратно в социализм, который был у нас.
Обратно к старому я бы не хотел. Но сейчас все еще слишком плохо. С Ельциным я связывал некоторые надежды как с руководителем подлинных изменений. Результат, однако, горек, этот президент не годится, но лучшего я не вижу».
«Так зачем же мы жили? Для чего живет человек? Как ты смотришь вообще на смысл жизни, как твоя жизнь исполнилась своим смыслом?»
«С тех пор, как я вырос, я вижу смысл жизни в творческой работе, которая приносит пользу не только мне, но и людям. Для меня этот смысл, возможно, и не был выполнен на все сто процентов, но я могу быть доволен. С 1953 года я работаю в университете, и каждый семестр у меня были лекции, семинары, дипломные работы и диссертации - явно более сотни слушателей и окончивших учебу, то есть я принес кое-какую пользу и обществу. Это было самым важным в моей жизни. Я люблю свою работу, лучшую и более прекрасную работу я вряд ли могу себе представить. Ведь особенность преподавания в высшей школе состоит в том, что только преподаватель становится старше, он всегда имеет дело с юными студентами. Все же я довел двадцать восемь аспирантов до защиты кандидатской диссертации, а недавно четвертый кандидат защитил диссертацию на степень доктора наук. У меня вышло сто пятьдесят научных публикаций.
Если я что-то в нашей жизни оцениваю по-новому и иначе, то только не в этом отношении. Я считаю, что творческая работа в любой общественной системе приносит пользу не только тому, кто ее делает.
Филологический факультет университета дал мне очень много, это был гигантский скачок в моем умственном развитии. Мне повезло учиться еще у профессоров старой школы, как Виноградов или Самарин, которому я обязан своей специализацией по Генриху Гейне. У них можно было научиться, несмотря на идеологически окрашенные влияния, самостоятельному мышлению и получить знания по европейской философии и литературе. Конечно, в последние годы мне пришлось внести изменения в свой курс истории литературы, идеологически окрашенный предмет, так же как и в изданный мною учебник, однако мое мировоззрение под влиянием событий девяностых годов не изменилось. С некоторыми изменениями, продиктованными конъюнктурой, я не согласен.
В моем окружении я не вижу никого, кто считает свою работу в прошлом бессмысленной. Для большинства, как и для меня, Отечественная война и победа Советского Союза оказали решающее влияние на наши взгляды на мир. Конечно, родительский дом и школа оказали на нас влияние, но война была нашим ключевым переживанием. Этого не вычеркнешь».
«Какую роль играет сомнение в твоем мышлении?»
«С тех пор, как мой умственный горизонт расширился, я был твердо убежден, что сомнение является побудительной силой в поисках истины. Только через подтверждение сомнения или его опровержение ты приходишь к истине. Сомнение - это важнейшая категория сознания».
«Какие ценности наложили отпечаток на твой характер, твои сильные и слабые стороны?»
«Я должен опять вернуться к войне. В окопах и блиндажах выработались верность, дружба, настоящее товарищество - сложился фундамент, который остается на всю жизнь. Это чувство постоянно сохраняется в коллективе нашего факультета университета. Я совершенно сознательно использую это не употребляемое на Западе понятие - коллектив. Мы всегда охотно шли на работу, потому что нам было хорошо там друг с другом.
Друзьями меня Господь наградил в изобилии. К сожалению, в живых из них остались немногие. В университете это профессор, с которым я дружу со студенческих лет, еще один единственный живой фронтовой товарищ живет в Риге. Время от времени мы переписываемся. Из школьных друзей остался только ты. Семья играет большую роль. В первом браке я не был счастлив, но Нина чудесная жена, с ней я живу вот уже тридцать пять лет, она создала идеальный семейный очаг.
Если ты спросишь о моих слабостях, я мало о них думал. Иногда я бываю холериком. Также я чрезмерно пунктуален. Даже при моей хромоте, я всегда и постоянно сверхпунктуален. Я ни разу не опоздал на занятия. Ни один студент не имел права войти в мою аудиторию после звонка. В своих требованиях я был строг».
«Когда ты испытывал счастье?»
«Когда я защитил свою диссертацию. Когда Нина пришла в мой дом. Это пики моей жизни. Счастливыми моментами были выход моих публикаций и успехи моих учеников. Если ты спросишь меня, не испытывал ли я в определенные дни на природе чувства счастья, то я должен сказать, что подобные иррациональные чувства я не смог найти у себя. Естественно, погода и природа все же воздействуют на мое настроение».
«Когда тебе было особенно тяжело, когда ты плакал в последний раз?»
«Когда умер мой отчим».
«Как ты справляешься с сегодняшними бедами и своими невыносимыми болями?»
«Слезы не помогают. Я просто терплю».
«Что значат для тебя Родина и Отечество?»
«Для меня это одно и тоже. Естественно, у меня есть Родина, даже если в ней сейчас и не очень приятно живется. Когда я бываю недалеко от моего старого Хлебного переулка, где я родился, попадаю в другие переулки вокруг Арбата и Поварской, я дышу воздухом Родины. Это моя Родина».
Затем Алик, патриот России и некогда убежденный коммунист, добавил - и это действительно поразило меня: «Если ты спросишь меня, где бы я хотел сейчас жить и чувствовать себя дома, тогда я отвечу: конечно, в Германии. Лучше всего на Рейне, где-нибудь между Рюдес-хаймом и Кёльном».
Сэр Уильям
Наша первая встреча менее всего обещала стать началом необычной дружбы - она скорее походила на стандартную шпионскую историю. Позже мне бывало стыдно за свое театральное появление в генеральской форме, которую я обычно надевал только по официальным поводам. Форма должна была придать этому событию особую торжественность.
На вилле в Каролиненхофе, на юго-востоке Берлина, выделенной для моих встреч с особо важными гостями, он ожидал меня вместе с двумя сотрудниками разведки, уже знакомыми с кандидатом на вербовку. Здороваясь, навстречу мне поднялся высокий худощавый мужчина. Он ответил крепким рукопожатием, внимательным взглядом дружелюбно разглядывая меня. Когда меня представили с указанием звания и должности, на его запоминающемся лице не дрогнул ни один мускул.
Появление в полной форме оказалось излишним для меня и для него, потому что его стать была отнюдь не менее респектабельной, чем моя. С самого начала он вел себя как равный с равным. Его манера держать себя довольно точно соответствовала этому первому впечатлению. Позднее я узнал, что близкие друзья и коллеги по партии из уважения и любви к нему прозвали его «сэр Уильям». Он не был чопорным или высокомерным, каким, вероятно, можно было бы представить себе наследного английского лорда, отнюдь нет. Даже в повседневной одежде, в которой он в последующие годы предпочитал появляться, он из-за умения держаться всегда выглядел элегантно и благородно. По всей вероятности, будучи сыном владельца фабрики, он унаследовал и все то, что в Гамбурге принято связывать с образом настоящего «герра» - уважаемого гражданина вольного ганзейского города в устье Эльбы.
Прошло совсем немного времени, а мы уже оживленно говорили о проблемах, волновавших всех в начале шестидесятых. Его искусство ведения беседы, в котором он явно переигрывал официозность своего визави, напоминало мне такие же интересные встречи, когда я по поручению правительства встречался на этой же вилле с тузами истеблишмента Западной Германии. Во встречах, скажем, с директором концерна Круппа или министром от ХДС или бывшим крупным землевладельцем начальник шпионской службы, каковым я, собственно и был, вообще не мог вставить ни слова. У сэра Уильяма, в прошлом предпринимателя и председателя одного из союзов предпринимателей, не было вызывающего высокомерия, столь характерного для многих немецких менеджеров от экономики. Если бы не моя генеральская форма и официальное представление, нашу первую встречу можно было бы назвать обычной беседой двух политиков. Мой новый собеседник с самого начала сумел сделать так, что нашим общением руководил и направлял его он. Это был взаимный обмен информацией, совсем не в стиле обычно односторонних агентурных отношений.
Тем не менее, с самого начала в наших отношениях довлело его прошлое. А началось все в тюрьме города Баутцен, когда его незадолго до окончания срока многолетнего заключения посетили мои сотрудники, сейчас также участвовавшие в беседе. Предполагалось сразу же освободить его из тюрьмы. В судебном деле он фигурировал как признанный политик буржуазной партии Западного Берлина. Это и привлекло внимание моих сотрудников, работавших в этой области. Для нас оказались неожиданными его симпатии к определенным позициям ГДР и готовность, выраженная без какого-либо морального давления, бывать периодически на Востоке для бесед на политические темы после освобождения и возвращаться в Западный Берлин. Он не давал никаких письменных обязательств. И вот мы встретились.
По правде говоря, готовность сэра Уильяма к таким беседам, казавшаяся довольно странной после длительного заключения в Баутцене, побуждала в отношениях с ним проявлять сдержанность в профессиональном подходе и эмоциях. Внешне я, возможно, старался быть таким же дружелюбным и откровенным, как он, однако отрешиться от его прошлого было совсем не просто. Менее всего из-за факта осуждения Уильяма «за разжигание в ГДР военной истерии и призывы к бойкоту ГДР». Во время его процесса, в начале пятидесятых, суды ГДР могли применять эти статьи практически в отношении любого «неугодного» им человека. Гораздо важнее было подозрение в связях с британской спецслужбой, которые меня интересовали. Добровольная готовность, с которой Уильям пошел на контакт со мной и моей службой, обострила мою инстинктивную настороженность. К этому добавилось еще и то, что он говорил о заключении как о важнейшем событии своей жизни, из которого он вынес много поучительного. Все время в заключении он интенсивно изучал литературу, чтобы, по его словам, проникнуться пониманием истории и познакомиться с марксистской трактовкой социализма. С политическими воспитателями он, по его заявлению, вел в тюрьме довольно содержательные дискуссии.
Хотя тогда я знал о Баутцене немного, главным образом из статей бывших узников в западной прессе, я не очень верил их описаниям ужасов. Совершенно противоположное описание условий в так называемой «Желтой Нищете», данное моим новым контактом, отнюдь не прибавляло доверия к нему. При всем желании я не мог даже представить себе, что мое недоверие со временем перерастет в дружеское внимание, что благодаря ему во мне откроется неизвестное до того умонастроение. Примечательно, что Уильям был снова признан ведущим политическим деятелем и, в отличие от многих других, не позволял никому представлять его жертвой и даже публично говорил о времени пребывания в тюрьме как о школе обретения важных для него знаний. Когда в последующих беседах разговор касался сравнения социализма и капитализма, было ясно, что в заключении он не только читал книги марксистского содержания, но и осмыслил их с учетом опыта своей жизни.
О масонстве, которое решающим образом повлияло на его взгляд на мир, тогда и еще довольно долго я ничего не знал. Это изменилось лишь в последующие десятилетия, когда мне открылся довольно интересным образом мир мыслей этого человека, так сильно отличавшегося от моих друзей того времени.
После первой беседы мы встречались регулярно. Взаимопонимание мы нашли не в мировоззренческом единомыслии, а в категорическом неприятии проамериканской политики Аденауэра и перевооружения Германии и в признании необходимым взаимопонимания между двумя немецкими государствами. На этой основе Уильям обсуждал со мной свои политические шаги первоначально в руководстве своей партии и затем на пути избрания в бундестаг ФРГ, в чем мы, конечно, были заинтересованы.
Вначале на первом плане была проверка его честности, и мы сознательно прибегали к более строгим формам конспирации, чтобы убедиться в его готовности сотрудничать, но наши сомнения довольно скоро исчезли. Так же спокойно, как он не обратил внимание на неуместную театральность нашей первой встречи, он принял теперь уже необходимые правила игры по сохранению секретности отношений.
После закрытия границы ГДР в августе 1961 года внешние обстоятельства вынудили нас пойти в контактах с ним на меры, аналогичные тем, к которым прибегают в отношении завербованных секретных сотрудников. Жители Западного Берлина вообще не имели права въезда в ГДР вплоть до заключения первого соглашения о пропусках, подписанного лишь через несколько лет после установления стены. Однако они имели право проезда по транзитным путям, проходившим по территории ГДР. Поскольку контрразведка и полиция жестко контролировали проезд автомашин с западными номерами, мы полагали, что и западногерманские контрразведывательные службы проводят аналогичные мероприятия. Поэтому мы назначали Уильяму встречу в тщательно проверенном месте после проезда контрольно-пропускного пункта. Там водитель брал машину Уильяма, а он сам садился в мою машину с западным номером. Вместо того, чтобы повернуть на Берлинской кольцевой автодороге на запад, я проезжал несколько километров по мало загруженному участку в направлении на Вердер под Потсдамом и там съезжал на «черном выезде» с автобана.
Когда я сегодня вспоминаю об этих маневрах на автобане, мне кажется просто невероятным, что влиятельный западный политик, как заговорщик, сидя в машине с затемненными стеклами, под мостом беседовал со мной об актуальных острых вопросах политики. Через полчаса или сорок пять минут мы снова выбирались, как контрабандисты, на дорогу, чтобы поймать машину Уильяма, которая курсировала между парковками в направлении на Ганновер. Конечно, такие встречи были непригодны для глубокого обсуждения проблем. Поэтому позднее мы перенесли наши встречи в дома для гостей, специально созданные вблизи от транзитных дорог, к которым вели хорошо замаскированные въезды и выезды.
Когда, наконец, были подписаны договоры и соглашения о посещении ГДР жителями Западного Берлина, мы снова встречались на той же вилле в Каролиненхофе, где мы познакомились. Там Уильям вскоре чувствовал себя как дома, приезжал всегда с запасом времени, рассыпался в комплиментах содержательнице виллы, отличной поварихе, которая изучила и удовлетворяла все его привычки. Однако сблизились мы с ним во время наших авантюрных маневров на автобане.
Уильям не относился к числу чиновников и власть имущих, которых неудобства, препятствия или опасности вынуждают уйти с пути, куда они однажды вступили. Широкое публичное признание, которым он пользовался уже тогда, не мешало ему общаться с сотрудниками моего аппарата как с единомышленниками и равными по положению. Временами он сравнивал их с молодыми людьми, стремящимися сделать карьеру на Западе, и уверял меня, что я могу гордиться своими сотрудниками. И это говорилось не ради красного словца.
Дом для гостей с живописным видом на сад и озеро давал, естественно, гораздо больше возможностей для детального обсуждения текущих политических событий, не оглядываясь на время, и, конечно, для того, чтобы просто «пофилософствовать». Уильям искал и любил такие беседы о судьбах мира, об истории и современности, об отношениях индивидуума и общества.
Тогда было трудное и напряженное время намечавшихся крутых перемен. Холодная война и гонка вооружений были в полном разгаре. Однако после шока от возведения берлинской стены и кубинского кризиса проявились первые симптомы «поисков сближения». Мы верили в позитивный эффект нашего контакта. Совместно мы обсуждали подготовленный Уильямом план нормализации отношений между двумя немецкими государствами. И действительно, можно явственно проследить его влияние на подготовку концепции социально-либеральной коалиции, о чем можно прочитать в воспоминаниях Вилли Брандта, вышедших четверть века спустя. Обе стороны пришли к новым выводам. Многие проблемы того времени и оценки различных политиков, державших рычаги власти, были предметом наших встреч. Уильям был одним из источников наших знаний, он помог нам лучше понять переход Вилли Брандта от рыцаря холодной войны и сторонника политики Берлина как фронтового города, которым он долгое время был в наших глазах, к защитнику новой Восточной политики взаимопонимания.
Наше сотрудничество приобретало все более определенные контуры. Когда ГДР рухнула через двадцать лет после подписания Восточных договоров и, как следствие, стало известно о нашем сотрудничестве, не обошлось и без попыток дискредитировать Уильяма как нашего «агента влияния». В связи с моим арестом на австрийско-немецкой границе в сентябре 1991 года федеральный прокурор употребил слово «предательство». Тогда же я немедленно возразил, и это был единственный раз, когда на незабываемом для меня пути в Карлсруэ в бронированном мерседесе я высказался о подобном обвинении по существу. Тогда же я высказал господину федеральному прокурору свое глубокое уважение к этому человеку, который всегда действовал только из внутренних убеждений и остался верен этим убеждениям.
Конечно же, мы пытались использовать его политическое влияние в наших целях. Однако это базировалось на началах взаимности. Если бы у меня возникло впечатление, что вы только используете меня, нашему сотрудничеству пришел бы конец - таким было одно из его основных требований к нам. Каждое написанное или сказанное им слово соответствовало его собственному мнению, он придавал огромное значение своей независимости. Он сохранял ее в важнейших вопросах и не соглашался следовать нашим рекомендациям, если они противоречили его убеждениям. Для него решающим был обмен мнениями, и все же отнюдь не бескорыстно. Он видел во мне компетентного и одновременно неортодоксального собеседника, от которого он мог получать важную информацию. В ходе наших интенсивных встреч, относившихся ко времени подписания Восточных договоров, шел оживленный обмен мнениями обо всех обсуждавшихся пунктах договоров, точках зрения участников переговоров из числа контактов Уильяма в правительстве и в бундестаге.
Его информация, а также суждения опытного политика существенно обогащали наше понимание и оценки. И наоборот, я «раскрывал» ему многие известные мне внутренние детали и намерения участников переговоров от Востока. С его точки зрения, этот обмен служил тому, чтобы политики на Востоке могли понять правильность разделявшихся им решений. Обсуждение с нами его собственных действий он использовал для того, чтобы найти более практичные пути решения определенных проблем. Он имел постоянный контакт с нами, и это давало ему в определенных вопросах преимущество перед другими политиками на Западе. Мои суждения по каждой конкретной проблеме и ее развитию покоились на большом объеме информации. Нередко они выходили за рамки официальных толкований нашей стороны и часто подтверждались последующими событиями. Уильям не хотел отказываться от такой привилегии. Такой человек, как федеральный прокурор, не мог понять, что между мной и Уильямом, который годился мне в отцы и который олицетворял собой совершенно другую жизнь, возникли не только глубокое взаимоуважение, но и такие отношения, которые можно назвать дружбой.
Часто, как это может быть только между друзьями, он обсуждал со мной свои проблемы и трудности, которые возникали у него вследствие продолжительного пребывания в Бонне, из-за того, что расстался с женой, нуждавшейся в уходе, и связал свою жизнь с другой женщиной. Вместе мы находили приемлемые решения. Он проявлял последовательность и мужество в неоднократно возникавших ситуациях, когда Ведомство по охране конституции проводило расследования в непосредственной близости от него. Например, после дела Гийома и связанного с ним шпионского психоза в Бонне против него было высказано и опубликовано в прессе подозрение. В другой раз расследования касались журналиста, положение которого он использовал для публикации своих статей. В таких ситуациях он никогда не терял спокойствия.
Наши меры безопасности он считал преувеличенными, решительно противился любым перерывам контакта. Тогдашний министр внутренних дел был его близким политическим другом.
Во время продолжительных встреч в последние годы мы могли более подробно беседовать о его и моей жизни. Как свидетелю событий двадцатого столетия на его долю выпало редкое долголетие при полной ясности ума. Некоторые даты его жизни были мне известны. Я знал, что он участвовал в Первой мировой войне добровольцем в армии германского кайзера, что во времена Веймарской республики он находился под влиянием своего дядюшки национал-либерала - дом дядюшки, в котором Уильям вырос, посещали Вальтер Ратенау и Густав Штреземан, что он был членом право-либеральной Немецкой народной партии. Во времена нацизма он был как предприниматель «вервиртшафтсфюрером» (руководителем предприятия военной промышленности) и после вступления Красной Армии в Берлин не арестован только потому, что рабочие его предприятия, насильственно угнанные в Германию из СССР, отзывались о нем только хорошо.
Он никогда не был членом НСДАП. Однако он неоднократно говорил о своей ответственности за прошлое, поскольку не оказывал тогда никакого сопротивления. Это было его глубоким переживанием, и он говорил об этом публично. По его мнению, несправедливость никогда более нельзя допускать без противодействия ей. «Почему это называют мужеством, когда человек отстаивает свои убеждения?» -задавал он сам себе вопрос.
В этих беседах я узнал и о многом другом, что составляло его взгляд на мир, который позволил ему сохранить стойкость в заключении, укрепить в нем волю к жизни, свободе и духовной независимости. Это была принадлежность к масонству, духовное содержание которого слилось с его пониманием жизни и либеральности в единое целое.
Когда он рассказал мне о своей принадлежности к масонской ложе «Три земных шара» и о роли масонства в его жизни, я оценил это как знак высокого доверия ко мне. Он подарил мне брошюру «Из тьмы к свету», с посвящением мне. В книжечке были стихи, которые он написал в тюрьме Баутцена. Во вводном стихотворении «К братьям» говорится:
Уроки каменщиков вольных прошли совсем не без следа, Подняться смог и я до мудрости вершин, От красоты ее росло глубокое желанье, Я чувствовал: растет во мне спокойно воля, Так получил я силы к новой жизни. Искусству брата не позволил я исчезнуть, Его понять - меня вы научили.Я все лучше понимал, почему он отбросил мучительные моменты заключения в глубины памяти и рассматривал это время как испытание, которое он смог выдержать. Братство и служение - эти основополагающие понятия вольных каменщиков определяли для него понимание существа любого либерального мышления. В конце жизни он отверг понятие либерализма, потому что он перестал быть сутью свободного и независимого течения. За ним скрывался лишь оппортунизм, власть денег и чистоган. Под либеральностью, за которую он ратовал, он понимал в первую очередь состояние духа.
В публичных выступлениях последних лет он говорил о политике мира, разъясняя свои представления о либеральности: «Оправданные жизненные интересы другого человека имеют такое же значение и право на равное внимание, как и ваши собственные».
Конфликт между группировкой, представляемой им в рамках партии, и руководством его партии стал неизбежным, когда большинство свободных демократов в правительстве Шмидта выступило за размещение ракет НАТО. Симптомы этого Уильям распознал задолго. Он считал своей обязанностью вместе со своими политическими сторонниками предпринять все возможное, чтобы воспрепятствовать отходу от политического курса, определенного совместно с Вилли Брандтом.
Уже в 1977 году его решительный переход на сторону Герберта Венера на семинаре социал-демократического фонда Фридриха Эберта привлек серьезное внимание. Свои тезисы по обеспечению мира, опубликованные во многих газетах, он обсуждал со мной. Он не согласился с моим мнением, что последствия выступления вскоре приведут к возникновению серьезного конфликта с ведущими политиками его партии.
Так и случилось после одной из его речей в 1978 году, о которой одна из крупнейших немецких газет под заголовком «Один человек переделывает либералов» писала: «Широко раскинув руки, он стоит крупный и крепкий, как молодой триумфатор под громкую овацию делегатов… Твердым голосом с холодной точностью и непоколебимой уверенностью, как человек, которого на закате жизни никто не может упрекнуть в том, что он пытается произвести дешевый эффект или нажить политический капитал».
Уильям отметил, что недостаточные усилия по осуществлению программ либеральных реформ привели к постоянному снижению заинтересованности, мотивации и активности разочарованных членов партии. «Часто наши лучшие умы отходят от дел, поскольку они не считают одно лишь распределение властных полномочий целью либеральной политики». Одно из его любимых высказываний - «Сегодняшние ереси оказываются банальностями завтра».
После этой речи Уильям приехал на нашу следующую встречу почти что в состоянии эйфории. Он не хотел поверить мне, что этим самым он практически разрывает отношения с руководством своей партии. С этих пор на довольно короткое время наши прогнозы и представления о его дальнейшем поведении расходились. Он был единственным членом правления партии, голосовавшим против двойного решения НАТО. Конечно же, оценка соотношения сил и отдельных актеров политической сцены всегда занимала серьезное место в наших встречах в этот угрожающий период. Оценки Уильяма часто бывали полны сарказма, однако, когда мой прогноз оказывался более верным, чем его, он жаловался на то, что между политиками и сотрудниками аппарата партии отношения становятся все более холодными. У нас же, во всяком случае в том кругу, который он знал, чувствовались отношения товарищества и тепла. Некоторые из его друзей, в том числе и тогдашний министр внутренних дел, на которого он рассчитывал, предпочли близость к власти неизбежным политическим расхождениям.
Мне представляется, что, наряду с политическими разногласиями, его требования к характеру человека, идущие от вольных каменщиков, которые он связывал с либеральной традицией, сделали его разрыв с руководством партии неизбежным. Отход от курса, проложенного совместно с Вилли Брандтом, он считал предательством. Уход из партии давался ему нелегко. Я тоже пытался удержать его от этого и убедить в необходимости оставаться в кругу своих старых друзей по партии и тем самым вблизи от центра политической власти. Однако спорить с ним о принципах было весьма сложно.
Таким образом, он сам положил конец своей деятельности как ведущего политика партии.
Некоторые из его политических друзей перешли в СДПГ, другие ушли в отставку. Но не Уильям. В 1981 году он призвал к «борьбе против атомного самоубийства». Движение против размещения ракет развивалось все сильнее. В прессе Уильяма называли «внепарламентским народным представителем» и «институциализи-рованной совестью в Бонне».
В октябре 1981 года митинг в защиту мира в Бонне стал крупнейшей манифестацией такого рода в истории ФРГ. Уже накануне «марш на Бонн» стал главной сенсацией в прессе и темой дебатов в бундестаге. 826 организаций участвовали в этой акции, шестьдесят депутатов бундестага, десять тысяч иностранцев, среди них Лоретта Кинг и Гарри Белафонте. Правая пресса попыталась обвинить ораторов октябрьской манифестации в «односторонности». Однако при всем желании не удалось это выступление трехсот тысяч демонстрантов изобразить как коммунистическую пропагандистскую акцию.
Когда я по телевидению увидел Уильяма в пути на митинг в первых рядах демонстрантов, рука об руку с Петрой Келли, Гертом Бастианом и другими ораторами, мне стало легче пережить потерю моего источника сведений о боннской кухне власти, я был даже немного горд своим другом, который твердо отстоял свои принципы, в том числе и против моих односторонних интересов.
Последние годы жизни Уильям посвятил движению за мир. Вместе со многими известными лицами он возглавил в следующем году «манифест мира 1982». Неустанно он выступал с речами, писал статьи, давал интервью. Его статьи о политике мира, политике добрососедства и сегодня так же актуальны, как и во время их написания: «Все опять, как раньше. В бундестаге опять сидят представители тех, кто ничему не научился и все забыл… Не у нас одних усиливается извращенный национализм. Дух времени далек от разума, терпимости, верного видения, и это создает опасность для мира».
Осенью 1983 года он шел на демонстрации вместе с миллионом людей против размещения на территории ФРГ американского атомного оружия. Когда бундестаг в ноябре после двухдневных, часто бурных дебатов одобрил большинством голосов размещение американского оружия в ФРГ и первые детали ракет «Першинг-2» должны были привезти с военного аэродрома в Рамштайне на склад в Мутлангене, восьмидесятивосьмилетний Уильям сидел в ветровке перед американской ракетной базой. Долгий жизненный путь привел его от добровольца армии кайзера в ряды последовательных борцов против войны.
Конспиративный характер наших встреч давно потерял смысл. Однако Уильям очень ценил наши встречи на вилле, проходившие с большими интервалами. Теперь у нас было больше времени поговорить о наших столь различных жизненных путях и о странных обстоятельствах, которые свели нас. Развитие ГДР и противоречия в политике ее руководства в отношении движения сторонников мира занимали большое место. Поддержка на словах не соответствовала ограничениям в отношении таких лиц, как Петра Келли и Герт Бастиан, репрессивным мерам против действий «зеленых» в собственной стране. Положение в ГДР, в защиту легитимных интересов которой он постоянно выступал публично, что отнюдь не добавляло ему друзей, его очень беспокоило. Поездки к родственникам в Хернхут в Саксонии и беседы с одним из бывших сокамерников, жившим в Галле, позволяли Уильяму постоянно быть в курсе дел. «Вы должны еще многое сделать и многое изменить».
Плюрализм мнений - это было одним из его неотъемлемых требований. Мои соображения о том, что это невозможно из-за враждебности Запада, он не принимал: «Вы должны быть достаточно сильными, чтобы допускать и другие точки зрения».
Его занятия основами общественного развития уводили его все дальше от «Я-общества», как он называл общество капитализма, к «Мы-обществу». Для него гораздо больше, чем для других либералов, наряду с экологическими проблемами, требования социальной справедливости относились к важнейшим требованиям современности. В социалистических странах он видел добрые намерения, которые, однако, не соответствовали реальностям социализма.
Когда его партия согласилась с двойным решением НАТО, он вышел из нее и присоединился к движению за мир. По случаю его 90-летия Лейпцигский университет имени Карла Маркса пригласил его для выступления. Возникло замешательство, когда в его речи прозвучали слова: «Роза Люксембург в вопросе о свободе соответственно констатировала, что под этим следует понимать свободу других. К этому мне нечего добавить! Нащ народ на собственном опыте выстрадал понимание того, к чему это ведет, когда преступные идеи становятся девизом государства». В то время в ГДР этот тезис Розы Люксембург оставался на вооружении диссидентов, которые, впрочем, почти совсем не занимались остальным творчеством этой великой политической фигуры. Уильям своим приездом в Лейпциг и этими словами подчеркнул свою независимость от обеих сторон. Одним из последних подарков, который он сделал мне в знак нашего взаимопонимания, было репринтное издание годовых комплектов журнала «Вельтбюне» за прежние годы.
Постоянным предметом наших бесед были записки об истории его жизни, идею написания которой предложил и постоянно поддерживал я. Я опасался, что это может так и остаться благим пожеланием, и поэтому мы оба записывали беседы на видеокамеру. Его вдохновение и жизненная энергия казались неисчерпаемыми. В заметках в моем дневнике отражено мое восхищение удивительным состоянием его здоровья. Никогда я не слышал от Уильяма жалоб на болезни. При наших встречах он умеренно ел и пил, иногда упоминал о повышенном сахаре, что было естественно в его возрасте, но решительно отвергал всякие ограничения по возрасту, особенно если они касались езды на автомобиле, его истинной страсти. Напрасно я пытался уговорить его не ездить самому за рулем на большое расстояние между Берлином и Бонном. Не удалось отговорить его и от покупки нового, особенно скоростного БМВ. Спорить с ним и по этому поводу было бесполезно.
После моего официального ухода со службы прошел год, когда пришло известие о его смерти. У меня было такое чувство, что я потерял своего близкого друга. Хотя он и прожил прекрасную долгую жизнь - 92 года, многие из наших общих для нас целей так и остались не достигнутными. Тем не менее, он ушел из жизни с чувством исполненного долга. В этом ему можно позавидовать.
После смерти Уильяма 2 сентября 1987 года именно то общество, от которого он давно отошел, нашло слова признания. В письме с соболезнованиями президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера говорится:
Его дух был свободен и молод до глубокой старости. Его жизнь определялась убежденностью демократа, который без колебаний решительно выступал за свободу и демократию. Он приносил жертвы там, где считал нужным, отстаивая свои основополагающие ценности. Его слово, как бы неудобно оно часто ни было, значило очень много. Оно находило слушателей далеко за пределами его собственной партии. Он не боялся конфликтов. Его всегда вдохновляло стремление преодолевать то, что разделяло не только поколения, но и немцев в разделенном отечестве.
Морис
Дорогая Соланж, дорогая Мириам, дорогой Чарли, Морис ушел от нас - к сожалению, очень рано. Смерть освободила его от долгих мучений. Как это ни верно, любое слово кажется слабым утешением.
Для нас Морис был верным другом, каких мало, он был близок нам, как родной сын.
Морис оставляет в нас воспоминание как о чудесном, высокоодаренном человеке. Многое нашло отражение в его статьях, книгах, фильмах и телевизионных передачах. Все это не может возместить Вам понесенную утрату.
В тот незабываемый вечер в Вашей парижской квартире, дорогая Соланж, мы чувствовали большую любовь и прочную сплоченность в Вашей семье. Морис любил Вас больше всего. Он не стеснялся говорить о своей большой любви к матери. Мы обнимаем Вас всех с самыми добрыми мыслями о Морисе. Во вторник мы будем с Вами.
Из-за воспаления легких в тот вторник, 5 января 1999 года, я не мог быть на похоронах. В прессе сообщалось, что на отдаленном кладбище собрались многие сотни людей, женщины и мужчины различного социального положения, различного происхождения и различных профессий. Такой же необычной, как и сам Морис, умерший в возрасте пятидесяти лет, была и эта траурная церемония. Конечно же, пришли многочисленные участники событий шестьдесят восьмого года, многие даже в этот день -в застиранных джинсах и заношенных пуловерах. Морису бы это понравилось. Буржуа - участники церемонии были одеты в строгие, преимущественно черные костюмы, латиноамериканцы, главным образом из Чили и с Кубы, сторонники Фронта национального освобождения из Алжира, депутаты, ветераны Сопротивления, киношники, журналисты, актеры и популярные певцы, троцкисты, коммунисты -все они собрались у его могилы. Пожилых евреев - друзей Соланж, одетых в кипы, нельзя было не заметить, как и известного в Париже католического священника в сутане.
После похорон пестрое общество до раннего утра следующего дня поминало на Монмартре своего и нашего столь же яркого и блистательного друга Мориса. Цыганский ансамбль сменяла группа рок-н-роллеров, слышалась латиноамериканская музыка, исполняли и экспериментальную музыку. Кто-то из друзей читал стихи, показывали клипы, где был снят Морис. Те, кто рассказывал об этом событии, описывали эту ночь, как будто они переселились в более счастливое время и все были в этом будущем, словно зачарованные.
Соланж так тяжело переживала смерть сына, что в своей боли даже не восприняла ни причин нашего отсутствия на погребении, ни слов нашего сочувствия. «Приходите, приходите! Мой Морис, мой Морис…»
У Соланж, должно быть, были очень глубокие отношения с сыном. Это почувствовали Андрея и я, когда приезжали на показ нашего совместного фильма и когда Морис пригласил нас на ужин к своей любимой «мамичке». Он был очень взволнован и в то же время очень горд, что его мама смогла так замечально справиться с обязанностями еврейской мамы. Мы знали о ее судьбе, о том, что она пережила Освенцим, и нам было даже неловко за оказанное нам внимание.
С любовью она разложила на большом круглом столе цветы и приборы и сама подавала длинную вереницу еврейских блюд. Несмотря на то что она выполняла обязанности хозяйки, эта маленькая живая женщина оставалась центром всеобщего внимания за столом.
В этот раз мы познакомились и с младшим братом Мориса - Чарли, тоже известным кинодокументалистом. Несмотря на неоспоримую похожесть на своего брата, он был совершенно другим - спокойнее, сдержаннее.
Позднее мы посмотрели его чудесный фильм «Можно ли растворить воспоминания в водах Эвиана», который Чарли посвятил матери. Средствами тонкой смеси из художественного и документального фильма Чарли рассказывает невероятную историю своей матери, в которой она сама присутствует как свидетель и главная героиня. Соланж произвела на нас большее впечатление, чем могла бы это сделать актриса. Зрителя потрясают лица и рассказы переживших холокост и глубоко трогает лирическая заключительная сцена в парке Эвиана. Какая жизненная сила скрыта в каждом жесте, каждом движении выявивших и сколько же людей уничтожило нацистское варварство! Эвиан… Конечно, воспоминания не могут быть смыты, вина и соучастие не могут быть устранены простым пребыванием выживших на водах, которое оплачивается правительством.
Люди стараются вытеснить эти ужасы из своей памяти. Будучи корреспондентом радио на Нюрнбергском процессе над военными преступниками вскоре после войны, я чувствовал это по отсутствию реакции моих слушателей. И это продолжает действовать. Нам все еще недостаточно удается донести до наших сограждан то, что делали немцы во имя немцев в Освенциме, Маутхаузене, Бухенвальде, Равенсбрюке, Бер-ген-Бельзене. Это непостижимое не было делом садистов-одиночек: это было сознательным следствием идеологии, носителей которой с восторгом принимали миллионы людей в Берлине, Мюнхене и Вене. И эта идеология действует и дальше, принимает формы насилия во все возрастающих размерах и не встречает серьезного противодействия. Вытеснить из памяти или смотреть в сторону. Почему такие нехитрые и имено поэтому такие действенные фильмы, как фильм Чарли, так редко доходят до нашей общественности?
На похороны Мориса мы приехать не смогли, за нами оставался долг перед Соланж. Мы встретились только через год в Париже. В этот раз Чарли довез нас до квартиры матери. Опять мы сидели за круглым столом, опять Соланж готовила, как она сказала, впервые после потери ее любимого сына, с которой она так и не смогла справиться.
На следующий день мы поехали на могилу. Морис задумчиво и серьезно смотрел на нас с фотографии, выбранной его матерью, таким мы видели его при встречах весьма редко. На могильном камне были выбиты другие имена -его отца, умершего в 1970 году, который оказал решающее влияние на Мориса, бабушки, кузины Розы Люксембург. Соланж гладила и целовала фотографию Мориса. Обняв Андреа, она рассказывала, что он говорил ей о поездках к нам: он чувствовал себя частью нашей семьи.
Вполне вероятно, что глубокая привязанность Мориса к семье, к матери стали причиной того, что из нашей случайной встречи выросла настоящая дружба.
Когда мы познакомились, ничто не предвещало, что в следующем бурном десятилетии, которое заставляло думать о многом и меньше всего о смерти, из встречи-интервью возникнут необычные отношения.
Это было в тот примечательный день 4 ноября 1989 года, когда на берлинской площади Александерплац в толпе журналистов за грузовиком, превращенным в импровизированную трибуну, ко мне подошел темноволосый живой француз и попросил об интервью. Я уже не помню, ответил ли я на несколько вопросов сразу или мы договорились о последующей встрече. И в этом случае, как и во многих других с представителями его гильдии, могло ничего не произойти, если бы не поддающаяся описанию искорка, которая проскочила между нами и позже между Андреа и им.
Из сотен бесед с журналистами бурной осенью восемьдесят девятого года в моей памяти ясно всплывает интервью для «Л'отр журналь» («Другая газета»). Ни его издатель, ни сам Морис не ставили поверхностных вопросов, добросовестное изложение смысла нашей многочасовой беседы для влиятельного журнала свидетельствовало о высоком журналистском уровне моих собеседников.
Морис был упорен. Он преследовал меня в год моего бегства в Москву в 1990-91-м. Он один из совсем немногих, кому я давал не только короткие интервью и договаривался о фотосъемке, но и вел с ним, несмотря на мое почти конспиративное пребывание в Москве, многочасовые беседы. Морис был хорошо подготовлен, он ставил целенаправленные вопросы и после этого был терпеливым слушателем. Его интересовала прежде всего подоплека всего комплекса событий на Востоке, потерпевшего фиаско социалистического эксперимента.
До встречи со мной он искал и установил интенсивные контакты с оппонентами закостеневшей системы, с диссидентами в Праге, Варшаве, Берлине. Теперь он нашел во мне собеседника из руководящих слоев, правда, отошедшего от власти и критичного, но со знанием подспудных тайн. К тому же еще и с интересными контактами в Москве. Через меня он искал выходы на руководящих лиц и к архивам КГБ. Морис не стеснялся и заставлял меня открывать ему двери приемных и кабинетов. При всей живости его существа, его темные глаза оставались во время бесед внимательными и спокойными, он слушал.
Этот новый знакомый оказался не только настойчивым, но и прилежным. Он переработал все беседы в книгу под названием «Маркус Вольф - око Берлина», которая вышла в Париже. Участие в финансовом доходе от этой книги стало для меня и Андреа в нашем тогда довольно затруднительном положении желанным подспорьем.
Контакт с нами не прервался и после возвращения в Германию. Когда после освобождения из тюрьмы я впервые публично выступил в качестве свидетеля на судебном процессе в Мюнхене и был почти раздавлен напором журналистов, Морис не отходил от Андреа, как верный страж:. Во время моих процессов в Дюссельдорфе в последующие годы он доказывал свою верность не только присутствием в зале суда как журналист, но прежде всего своими активными действиями во Франции. Ему удалось получить от известных лиц заявления против уголовного преследования меня.
Я думаю, он был убежден в том, что мое мировоззрение, как и мировоззрение моих отца и брата, остались левыми. Он был левым так же, как и я, хотя наши политические позиции в прошлом значительно отличались. Солидарность была для него ценностью высшего порядка.
Поскольку в ходе наших бесед история моей жизни стояла на первом плане, я мало узнал о Морисе и его жизни. Только иногда, и то мимоходом, упоминал он о своих поездках в Чили, связях с алжирским освободительным движением, с палестинцами, своих контактах в Чехословакии в 1968 году и поездках в Польшу в беспокойные 1980-81-е годы. Вскоре я убедился, что я имею дело не просто с журналистом, жаждущим сенсаций и разоблачений, а прежде всего со страстно увлеченным, правда, иногда несколько анархичным и даже одержимым человеком. Будучи рядом с ним, я постоянно вспоминал Эгона Эрвина Киша. Морис всегда был в движении, хотел одновременно и сразу реализовать тысячу проектов и очень мало говорил о себе.
Во время нашей поездки в Париж после смерти Мориса, в беседах с Чарли, его братом, Бернардом, его давним другом, и Ивонной, его подругой, сопровождавших его в последней поездке на Кубу, в бистро и кафе квартала Лё Марэ мы узнали много нового о нем, чего не знали до того времени. Во время прежней поездки в Париж Морис сам провел нас по узеньким улочкам этой старой части города, показал нам так хорошо знакомую ему часть еврейского квартала, вывел нас на волшебную Вогезскую площадь и провел далее до площади Бастилии.
Морис родился в 1948 году в Париже. Ему и брату Чарли его отец, выходец из Польши, как и его брат, их дядя, представлялись героями. Оба они были коммунистами, дядя участвовал в гражданской войне в Испании в составе польской бригады имени Домбровского. Он погиб там во время боев.
Морис вспоминал, что он в возрасте шести или семи лет продавал на улицах вместе с отцом и другими коммунистами воскресное издание «Юманите». В юности он недолго был членом Коммунистического союза молодежи. По мнению Бернарда, его одногодка, они еще в гимназии в шестидесятые разошлись с коммунистами и сблизились с их ярыми противниками - троцкистами.
Для Мориса, который всегда был воинственным, коммунистическая партия был недостаточно революционной, он обвинял Советский Союз в отказе от идеи мировой революции. Это было время рок-н-ролла, борьбы за сексуальную свободу, прежде всего время демонстраций протеста против грязной войны американцев во Вьетнаме. Еще будучи студентом лицея имени Жака Декура, Морис основал первый комитет гимназистов в защиту Вьетнама. Он входил в группу молодежи, которая разгромила витрины компании «Америкен экспресс». Под влиянием популярного предводителя троцкистов Пабло (Мишеля Рапти) Морис стал членом и в возрасте двадцати лет одним из вожаков Альянса марксистов-революционеров и поэтому был исключен из коммунистической партии. Пабло стал советником Бен Беллы, предводителя восстания против французов и позднее первого премьера независимого Алжира. Отношения Мориса с алжирскими борцами за свободу стали логическим следствием. В гимназии Морис нередко высказывался за победу Фронта национального освобождения. Во время грандиозных демонстраций он нередко бывал в первой шеренге рядом с популярными тогда руководителями молодежного движения, такими, как Даниэль Кон-Бендит, Алэн Жейсмар или Жак Соважо. Конечно, его постоянно арестовывали - впереди маячили события 1968 года.
Еще в гимназии молодые люди учились конспирации, давали друг другу псевдонимы и основали Комитет действия гимназистов. Через эти комитеты, возникшие по всей Франции, Морис приобрел известность и стал одним из видных руководителей выступлений молодежи в те годы. Составной частью этих выступлений было требование школьных комитетов отменить казарменный характер гимназий.
И действительно, движение молодежи шестьдесят восьмого года изменило стиль жизни французской молодежи и, тем самым, всей Франции. С джинсами и длинными волосами пришло новое сознание. Много позже Морис говорил своему другу: «Если мы ничего больше и не добились, то совместное обучение девушек и юношей - наша заслуга».
Газета «Либерасьон», в которой позже работал Морис, писала в день его похорон: «6 мая 1968 года, когда левые студенты были заперты полицией в Сорбонне, именно выступление гимназистов в Латинском квартале привело к стихийному восстанию. Морис Нажман выдвинулся постепенно на роль представителя движения гимназистов. Блестящий оратор с хриплым голосом, всегда с сигаретой в руке, борец за свои идеи и, конечно же, застрельщик дискуссий на переговорах с правительством».
Морис с головой окунулся в водоворот политической борьбы. Журнал «Эвенман», в котором он тоже сотрудничал, пишет об этом: «Прочие ораторы отличались говорливостью, он же говорил с каким-то необузданным изяществом. Однако боязнь того, что мы пропустим следующую революцию, заставляла нас опаздывать на последний поезд метро… Когда начинали молиться каждой новой идее, от самоуправления до экологии, Морис Нажман был в гуще событий. Когда где-либо в мире возникало новое движение, он знал его цели, тенденции и закулисных руководителей. Пражская весна, партизаны Сальвадора, революционные левые Чили и КОР (Комитет самозащиты польских рабочих) не были для него тайной за семью печатями».
Позже Морис вышел из троцкистской организации, однако сохранил связи с прежними сподвижниками и вел с ними дискуссии. Он стал журналистом душой и телом. Именно так он участвовал в настоящей политике.
В схватках 1968 года и непосредственно после них думать о спокойной упорядоченной жизни, тем более о создании семьи, было невозможно. Морис жил с женщиной его взглядов, от этой связи родилась дочь Эсфирь, хотя он не хотел иметь ребенка. Заботиться о своей дочери он стал много позже, когда с любовью рассказывал нам о ней и советовался с Андреа, что ей подарить.
Тогда он далее не находил времени для посещения тяжело больного отца, лежавшего в больнице. В годы после смерти отца это наполняло его чувством вины, которую невозможно загладить.
Морис общался с необозримым числом самых разных людей. Среди них были такие сумасшедшие персонажи, как актер Колюш, настоящий политический клоун. Они стали друзьями, и, когда Колюш то ли в шутку, то ли всерьез выдвинул свою кандидатуру на выборах президента в 1981 году, Морис стал его советником. Колюш действительно набрал равное с Франсуа Миттераном число голосов, но, в конце концов, отказался в пользу лидера социалистов. Вся Франция умирала тогда со смеху над этой проказой Уленшпигеля.
Иначе, чем многие участники событий 1968 года, которые пытались осуществить в рамках господствующей системы «реальную политику» Кон-Бендита, Морис сохранил свои левые убеждения и свой альтернативный образ жизни. Страстную симпатию испытывал он к борцам за свободу «третьего мира», с большим любопытством следил за изменениями в ГДР и в Восточной Европе. Из этого любопытства и выросла наша не каждому понятная тесная дружба с Морисом. Наряду с интервью и книгой возникли некоторые созданные им телевизионные передачи, а затем и документальный фильм о падении Берлинской стены, который получил премию фестиваля в Анжере.
Во время рассказов друзей о Морисе он, казалось, представал перед нашими глазами в тех районах Парижа, где прошли его детство и юность. Мы видели его, когда в дни пребывания в Париже он, подмигнув нам, с довольной улыбкой обогнал на мопеде в толчее движения наше такси. У нас не появилось никакого желания покинуть этот ставший нам таким близким квартал. И мы прошли к Лувру, на другой день мы поехали на метро к стене Коммунаров на кладбище Пер-Лашез, оставив на будущее весь остальной Париж;. У еврея-булочника в одном из многочисленных узких переулков мы позавтракали, а в переполненном кабачке на углу поужинали. Несколько раз Андреа спрашивала удивленно и недоверчиво (она постоянно защищала меня от назойливых приставаний), почему из всех журналистов, которые нередко нам встречались, мы выбрали Мориса, оказали ему доверие и так близко сошлись с ним. Не было ли это заранее предопределено?
Где бы он ни был, мы со всех концов мира получали от него весточки: «я жив». Последние пришли из Мексики и с Кубы. Из Мексики, где он два месяца жил у повстанцев и подружился с их вождем команданте Маркосом, мы получили летом 1996 года пеструю открытку в стиле мексиканского фольклора, но с ясными символами Чапас. На ней было такое приветствие: «Братский революционный привет от Чапас… Сапата жив! До скорой встречи, Морис».
Его нетерпеливость отразилась и на личной жизни. Он постоянно был в движении, путешествовал без багажа, не был привередлив к условиям проживания. Многие друзья удивлялись, им казалось, что он обходится почти без сна. В наше время ему постоянно приходилось бороться за заказы, но, видимо, затруднений с деньгами он не испытывал. На свою внешность он постоянно обращал внимание, даже несколько тщеславно, соответственно своему стилю, но, в отличие от многих других, никогда не забывал о цветах и знаках внимания для Андреа.
Несколько раз он приходил с новыми подругами, иногда это бывали прежние. Андреа благодаря своей способности проникать в существо близких людей почувствовала, что Морис несчастлив. Уже в первый приезд в Париж; мы услышали о его любви к женщине, смириться со смертью которой он так и не смог. Это, должно быть, случилось незадолго до нашего знакомства в 1989 году.
Одним из его ближайших друзей в то время был Вим Вендерс, автор таких чудесных фильмов, как «Клуб "Буэна Виста"». Я очень хорошо почувствовал тесную близость этих двух чувствительных натур. Режиссер рассказал мне, какой тяжелый удар нанесла Морису смерть любимой женщины. Маги была великой любовью его жизни. Она была наполовину вьетнамкой, наполовину француженкой и необыкновенно красива.
Вендерс познакомился с обеими в середине восьмидесятых годов через свою приятельницу в поездке на Средиземное море. Женщины дружили уже давно. Вендерс рассказывал, что все семь лет их знакомства Морис был заразительно весел.
Насколько исключительной была красота Маги, настолько же необычно выглядели они вдвоем как пара. Отношения были очень эротичны, но настолько же и интеллектуально возвышенны. Страстью обоих было чтение; в маленькой двухэталеной квартирке стены комнат и проходов были заставлены книгами. Любой посетитель буквально ощущал, что, войдя, помешал их чтению и что сразу же после его ухода они опять вернутся к прерванному занятию.
Отношения все лее были не без проблем. Они решили не впадать в зависимость друг от друга, однако оказались в ней. У обоих в промелеут-ках были и другие связи, однако они сходились снова и снова. Если Морис долго не видел Маги, он приходил поплакаться на груди друга. Вместе их держала радикальность и одерлеимость.
Наркотики в их отношениях таклее играли определенную роль. Маги кололась леесткими наркотиками, и следует полагать, Морис в это время таклее попал на иглу. Тогда он выглядел напряженным и, в отличие от других наркоманов, которые становятся вялыми, бывал неутомим. Время от времени парочка запиралась на неделю. Друзья считали это хорошим знаком, ибо Морис в течение довольно долгого времени после этого выглядел много мололее, у него и без зелья был другой источник энергии. Вим Вендерс полагает, что Морис умел обращаться с зельем - оно никогда не выбивало его из седла. Такими же были впечатления Андреа и мои. Морис откровенно говорил с нами о наркотиках: во время одного из его летних приездов Андреа заметила следы уколов на его руках.
Он совсем не говорил с нами о смертельной опасности, нависшей над ним. Маги знала, что у нее была позитивная реакция на СПИД. Но для Мориса Маги была, как ангел. Быть может, она была его «черным ангелом?» Причиной ее внезапной смерти - задолго до его кончины - было не вирусное заболевание, а тромб в сосудах мозга.
Для Мориса обрушился весь мир. Вендерс и его подруга ухаживали за ним. Маги кремировали, они вместе с Морисом отвезли прах к ее дому на юге Франции и развеяли по ветру.
После этого Морис совершенно изменился. Они еще часто встречались, рассказывал Вендерс, однако с разгулом веселья было покончено, и от прежнего огня совсем не осталось и следа.
Этого изменения его существа мы за годы тесного общения с ним не чувствовали, кроме, может быть, последних двух-трех лет. Тогда мы уже знали, что Морис очень болен. Во время нашей работы над фильмом о Берлинской стене его голос создавал проблемы, и он говорил о предстоящем исследовании в больнице. Он описывал страдания во время врачебных исследований, затем вдруг исчез на Кубу. В последний раз я с большим трудом разыскал его по телефону: он, испытывая тяжелые мучения, уединился в деревне.
Так нам никогда и не пришлось поговорить о его жизни и смысле его жизни. С ним было так же, как и с многими друзьями: думаешь, что еще есть много времени, как вдруг внезапно часы остановились.
Вот теперь мне пришлось получать кое-какие сведения от его друзей.
На мой вопрос, был ли Морис счастлив, все друзья в Париже отвечали после долгого раздумья «да». Бернар сказал, что за двадцать пять лет знакомства никогда не говорил с ним об этом. Ивонна полагает, что Морис никогда не ставил вопроса о счастье в узких рамках: ему всегда хотелось быть с людьми, новыми друзьями, новыми подругами. Вопрос мог быть для него и опасным. Он не выносил оставаться в одиночестве. Чарли также ощущал своего обожаемого брата в непрестанном движении. По его словам, Морис рассматривал ранее себя и суть своей жизни только как своего рода пену истории, но и в своей небольшой роли Морис хотел оставаться очень активным. В последний раз он заметил, что смыслом его жизни является жизнь. Тогда перед его глазами стояла судьба евреев в Освенциме. Тем не менее, он черпал свой оптимизм, вроде Антонио Грамши, -из воли и сознания.
Морис был бойцом. За последним ужином на юге Франции, когда Чарли испугался того, как выглядит брат, Морис был грустен. В то же время он с гневом говорил о борцах шестьдесят восьмого, которые отказались от борьбы. Тогда ничего не остается, как велеть похоронить себя и немедленно!
В последний вечер пребывания в Париже мы пригласили Соланж, как посоветовал Чарли, в ее любимый ресторан «Фло», один из старейших в городе. Когда метрдотель подвел нас к столу, Соланж окаменела: за этим столом они сидели с Морисом, когда праздновали его последний день рождения.
Конечно, весь вечер беседа вертелась вокруг любимого сына. Несколько позднее мы коснулись истории, происшедшей с Чарли и шаманкой вуду, которую он нам рассказал. Когда умер Морис, он как раз снимал фильм на Гаити о шаманке вуду. Об этой мамбо, как называют этих чародеек, говорили, что она может устанавливать контакт с умершими. Чарли захотел в этом убедиться. На рационально мыслящего творца фильмов и на его мать произвело глубокое впечатление, как этой женщине, по-видимому, удалось установить связь с Морисом. По словам Чарли, это случилось через один год и один день после смерти Мориса. Столько, по верованиям вуду, душе умершего необходимо, чтобы добраться до богов в Африке и вернуться обратно.
Волшебница сидела, отделенная от Чарли только платком. Он слышал ее голос, из которого, как утверждает Чарли, прослушивался и Морис. Голос сказал, что с ним все в порядке, что он соединился с Маги и что они должны оставить их обоих в покое. Голос знал имя большой любви Мориса, и это потрясло Чарли более всего. Затем голос сказал, что он, Чарли, должен сейчас заботиться о матери.
Рассказ Чарли позволил Андреа коснуться в разговоре с Соланж: темы жизни после смерти. Еще перед сном она рассказала мне, растерянная и потрясенная, как Соланж показала ей на руке свой вытатуированный в Освенциме номер заключенного, о незабываемых чувствах, которые оставила ужасная смерть в газовых камерах тысяч и тысяч детей. Как после этого можно верить в жизнь после смерти?
Я тоже не мог верить в это, и все же матери и брату показалось, что в этот вечер Морис был с нами. И, естественно, он стоял перед нашими глазами опять, как живой.
Независимо от наших впечатлений, воспоминаний и предчувствий возникает вопрос: что остается от такой жизни здесь, на земле? Остается воспоминание о чудесном человеке.
Оно остается у матери, брата, дочери, подруг, друзей.
Когда наше время, время тех, кто его знал, будет уходить, фигура Мориса будет блекнуть все более и более. И все же от него останется нечто, след.
Борцы шестьдесят восьмого оставили во второй половине XX века ясный след. Большинство восстававших тогда детей из буржуазных семей вернулись в лоно своего общества. Многие нашли себе место в государстве, в вере, что хотя бы таким образом смогли, по крайней мере, воплотить кое-что из мечтаний их молодости. Но не Морис. Он сжигал себя в охоте за новыми темами. Он не щадил себя и, будучи серьезно больным, шел до конца с полной отдачей сил.
Он остался верен повстанцам и был сам частью восстания как журналист, как создатель фильмов, как друг. Поэтому его тянуло в Латинскую Америку, к борющимся в Мексике, в Чили, в Венесуэлу, на Кубу. Морис больше всего любил Кубу. Его мысль постоянно возвращалась к Че Геваре, следы которого он интенсивно искал. Несколько раз мы говорили о Тамаре Бунке, немецкой партизанке, которая воевала рядом с Че и рядом с ним погибла.
Уже будучи тяжело больным, Морис согласился в 1998 году участвовать актером в съемках фильма близкого друга. Он заказал авиабилеты на следующий год, чтобы вместе с Соланж полететь на Кубу. Осуществиться этому не было суждено. Вместо этого пришедшие на панихиду посмотрели фрагменты этого фильма, снятые на Кубе. В наш приезд в Париж Чарли показал и нам эти сюжеты фильма. При просмотре чудесных поэтичных кадров танца у нас слезы показались на глазах: Морис полностью погрузился в музыку и движение, забыв о партнерше и камере, летит в грезах навстречу другому миру, в то же время явно противится исчезновению грез. Как Соланж в фильме сына, так и Морис в фильме друга кажется рожденным для танца. В фильме мы увидели другого Мориса, совсем иного, чем знали мы.
Чарли рассказал нам, что Морис во время последней встречи ночью в больнице приглашал его потанцевать. Его последними словами, обращенными к брату, были: «Ты умеешь танцевать? Танцуй! Мы в танце уйдем в другое время!»
Морис был мечтательным повстанцем - без пафоса, симпатичным, скромным мятежником. Быть может, это скромность тех, кто оставляет свои слова на хороших страницах книги истории? Люди, как он, исчезают, как все люди. Но они образуют крупинки, которые суть соль Земли.
Маленький Миша
Как «маленький Миша» получил это прозвище от многих знакомых, я точно не знаю. Скорее всего, дело здесь связано с разницей в нашем росте. Разница и вправду бросалась в глаза, и я, конечно, стал «большим Мишей», что, впрочем, ничуть не мешало «маленькому». В отличие от других невысоких мужчин, которые пытаются возместить недостаток роста, раздувая собственную значимость, у Миши с этим не было никаких проблем. Интеллигентность и высокий профессионализм обеспечивали ему здоровое самосознание.
Когда мы познакомились на Лейпцигской ярмарке в ресторане гостиницы «Астория» в начале семидесятых за постоянным столом генерала, также не отличавшегося высоким ростом, трудно было представить себе, что через годы из отношений с этим другом Ханса возникнут и наши дружеские отношения. Слишком отличными были и наше окружение, и, очевидно, наши интересы. Лишь со временем я узнал, каким образом они оба познакомились и научились высоко ценить друг друга.
Это было в послевоенное время, которое оставило свой след на всех, кто его пережил. В клубок противоречий переплелись в Берлине вездесущая нужда с борьбой за выживание, прорыв в новое время с тяжелым наследием нацистов, антифашизм и начало холодной войны. Ханс, который как противник Гитлера принимал активное участие в Сопротивлении, по окончании войны вернулся из тюрьмы в Бран-денбурге в свой родной Берлин и отвечал за борьбу с криминалом; Миша, польский еврей, только что избежал гибели на фабриках смерти в Освенциме и Биркенау и с безоглядной энергией, используя свои, вероятно, прирожденные способности, создавал свое предприятие как деловой человек. При этом оба, хотя и совершенно по-разному, имели точки соприкосновения с криминальным миром.
Лишь много позже, когда мы уже сблизились и разбирались в воспоминаниях, мы вернулись мысленно в маленькую конторку в берлинском районе Панков, в котором я столкнулся в одном из его закоулков с миром, хорошо известным Мише. У моего брата Конрада украли мотоцикл, приобретенный нами совместно, и я искал ему замену. Для поездок от моей тогдашней квартиры в Шарлоттенбурге на западе Берлина к родителям в Панков в восточной части города при сложившейся ситуации с транспортом моторизованное сидение на колесах было предметом первой необходимости. Так состоялась сомнительная сделка между мной и деловыми партнерами Миши.
Мой отец купил незадолго до этого у одного из деловых поляков пишущую машинку. С ним нужно хорошо поторговаться, сказал он, но если выдать себя за противника Гитлера, можно получить приемлемую цену.
Конторка поляка находилась на той же улице, что и квартира родителей. Состояла она из маленькой комнаты с письменным столом, несколькими простыми стульями и полками. Тем не менее, несколько раз звонил телефон, тогда еще редкое и желанное приспособление. Маленький человек за письменным столом - как я понял позднее, поразительно схожий с Мишей, - давал нескольким людям, стоявшим вокруг, короткие указания. Очевидно, это был шеф. Прошло некоторое время, пока он заметил мое присутствие. Когда я изложил свое дело, он ответил только: «Пойдемте».
Мы прошли несколько улиц до двора с гаражами. В одном из них, стоявшем открытым, мастеровой возился с мотоциклом. Этот мотоцикл и был предложен мне как особенно хороший экземпляр. Мастер запустил машину, проехал круг по двору, и сделка состоялась. В мгновение ока я расстался со всей своей наличностью.
Это было мое первое большое приобретение после войны, оплаченное из заработка за честную работу радиожурналиста. Я заплатил, конечно, очень высокую цену: следствие моей неспособности проворачивать гешефты и незнания экипажей, приводимых в движение мотором. Я приобрел почти музейный экземпляр марки «FN» с приводом от клиновидного ремня. Машинка честно исполнила свой долг на пути от Панкова до Шарлоттенбурга, затем заглохла. Все попытки, в том числе и водителей-профессионалов из гаража радиостанции, запустить ее еще раз оказались безуспешными. Конечно, мой брат отказался оплатить свою долю. Когда я рассказал Мише об этом случае, он сразу понял, о чем я говорил, назвал мне имя человека, с которым я говорил, но наотрез отказался от того, что когда-либо участвовал в таких темных сделках. Через десятилетия после этого он выпросил себе право покрыть мой ущерб в таком размере, который соответствовал бы выросшему с тех пор размеру воротничка его рубашки предпринимателя. Мы договорились после этого, что внесем этот эпизод в часто востребуемый перечень анекдотов и на том успокоимся.
Что касается анекдотов и историй, наш друг Ханс, которому мы были обязаны нашим знакомством, был непревзойденным рассказчиком. Ханс был настоящий типаж коренного берлинца, которых сейчас крайне редко встретишь даже в его родном районе Пренцлауэр берг. По правде говоря, его следовало бы выставить в законсервированном виде в берлинском краеведческом музее - «Мэркишес музеум», как большую редкость. Одно его появление всегда вызывало улыбку. За рулем своего роскошного - в условиях ГДР - «Вольво» он мог напугать других участников уличного движения до смерти, поскольку маленького генерала за рулем было совершенно невозможно обнаружить. Мы тоже полагали иной раз, когда встречались с ним на автостраде, что видели машину без водителя, управляемую призраком. И наоборот: в постоянно разраставшейся застольной компании в лейпцигской «Астории» не заметить и не услышать его было невозможно. За продолжительным ужином он представлял острые образчики своего юмора с неподражаемым берлинским «идиолектом» - акцентом и оборотами речи. Вид только одного его лица, изборожденного глубокими складками морщин, повергал слушателей в хохот еще до того момента, когда он добирался до соли анекдота. Ханс не стеснялся в саркастических комментариях по поводу представленных за другими столами для высокопоставленных гостей важных персон и их дам. Он был злым на язык. Тому, кто хоть раз задевал его, приходилось опасаться его невоздержанного языка. Даже перед начальством Ханс не стеснялся.
Удивительно было, что генерал, направленный в Лейпциг для координации действий всех служб безопасности, вопреки всем клише так непринужденно обедал и даже при появлении руководящих лиц не каменел от благоговения. Его антифашистское прошлое позволяло ему допускать это спокойное небрежение. Многие из тех, кто пытался скрыть свои отношения с олицетворяемыми им службами, обходили его стол по возможно большей дуге. Миша так не делал. Их тесные отношения были общеизвестны. В баре можно было встретить их обоих в поздний час в пестром обществе. Оба были веселы, любили танцевать, но никогда не были пьяны. Они предпочитали сухое вино. В общении они вели себя, как равный с равным.
Я вспоминаю Ханса, большого жизнелюба с большой грустью. Много лет он был моим заместителем по службе. В кругу генералов Ханс был одним из немногих, работа с кем доставляла удовольствие. Собственно, приставили его ко мне на роль соглядатая, и, как ни различны были наши склонности, мы очень скоро пришли к полному взаимопониманию. Мы не только переиграли нашего старшего начальника, но и блестяще дополняли друг друга в работе. Если я медлил, отягощенный сомнениями перед лицом бюрократических препон, то он обходил их, казалось, играючи. Для него препятствия в наше далеко небеспроблемное время существовали только для того, чтобы устранять их с дороги. В трудных и иногда неприятных ситуациях Ханс помогал мне своим неподражаемо трезвым умением и позитивным образом мышления справляться со злонамеренными интригами начальственного этажа. К крушению нашего государства он оказался абсолютно не подготовлен так же, как и мы все; оно разбило его сердце. Когда, будучи за границей, я узнал о его смерти, это был один из ударов тех лет, перенести которые было тяжелее всего.
Ханс был верным другом. Его надежность оказалась несколько раз жизненно важной также и для «маленького Миши» в их довольно неравной дружбе. О начале их дружбы я знал только, что маленький еврей из Польши в поисках своего счастья на Западе вступил в конфликт с законом. Сбежав из-под ареста, он увидел свой шанс на Востоке и направил свои деловые таланты на единственное тогда доступное ему урожайное поле торговли сигаретами, алкоголем и нейлоновыми чулками. Ханс, мысливший прагматично, очевидно, увидел в энергичном «маленьком Мише», заправлявшем иногда железной рукой целой бандой, способного партнера. Новые отношения базировались на взаимной выгоде. Ханс ожидал получить через этот контакт не только определенный контроль над трудноуправляемой средой, но и возможность для партии и государства получать доход от частных источников, которые были закрыты для официальной внешней торговли.
Под таким покровительством Миша в течение нескольких лет превратился в весьма уважаемого частного внешнего торговца ГДР.
Те, кто знал его в начале деятельности, не могли поверить, что мелкий торговец первых послевоенных лет, который все еще с большим трудом мог написать без ошибок свою автобиографию, теперь, одетый со вкусом, уверенно вел переговоры на одном из восьми языков, которыми владел в совершенстве, с представителями крупнейших концернов мира. Миша обладал феноменальной памятью. Имея под рукой небольшую памятку с записью важнейших данных, он давал свои предложения, мигом оценивал предложения партнеров по переговорам, просчитывал в уме сальдо и валюты и в течение нескольких минут принимал решение. При этом речь шла уже не о тысячах, как в первые годы, а о трехзначных цифрах в миллионах.
Но какой бы солидной его фирма за эти годы ни стала, в административных механизмах государства она была недостаточно велика, чтобы не попасть под колеса всемогущего аппарата. Я вынужден повторить здесь свои показания, которые с чистой совестью дал парламентским комиссиям и судам объединенной Германии. Как бы странно это ни звучало, в ГДР действительно существовали частные внешнеторговые фирмы. Существование этих фирм ставилось под сомнение и оспаривалось этими институтами. Игнорируя мои показания и аналогичные показания многих других лиц, власти противоправно конфисковали, как якобы государственную, собственность Миши, который уже был тяжело болен и находился под следствием. Я не хочу более касаться здесь этой проблемы мести, которой подверглись многие их тех, кто считал ГДР своим правовым государством. Я упоминаю здесь об этом потому, что и в те времена, когда ГДР была признанным торговым партнером, в ее аппарате было немало таких людей, для которых личный успех частного предпринимателя, его поездки и контакты с капиталистическими странами, современные лимузины и относительное богатство были, как красная тряпка для быка на корриде. Подозрения и зависть были опасны. Миша, вероятно, и не предполагал, какой дамоклов меч довольно часто зависал над ним и что его другу приходилось использовать весь свой авторитет, чтобы отвратить реальную опасность. Причем и это нужно было делать весьма осмотрительно, поскольку не каждой государственной контролирующей инстанции, финансовому ведомству или офицеру контрразведки следовало раскрывать карты, почему необычные условия бизнеса и поездки, иногда вместе с членами семьи, не противоречат интересам государства. Существование частных внешнеторговых предприятий постепенно, шаг за шагом, было подчинено интересам государства. Не только потому, что такой предприимчивый человек, как Миша, мог удовлетворить определенные потребности быстрее и оперативнее, чем связанное формальными разрешительными процедурами государственное внешнеторговое предприятие. Если, например, сталепрокатным предприятиям, с которыми Миша поддерживал хорошие отношения как посредник советских партнеров, требовались запасные части, то от даты подачи заявки в компетентное министерство, ее проверки и подтверждения до их поставки через соответствующее внешнеторговое предприятие уходило дорогое время, связанное с дорогостоящими потерями в производстве. Мише было достаточно просто позвонить, и необходимая деталь поступала в кратчайший срок. Так же и при приобретении высокотехнологичного оборудования или машин и приборов для их изготовления в обход изощренных запретов эмбарго времен холодной войны Миша со своими связями был очень полезен.
Когда, например, в семидесятые годы ГДР прилагала большие усилия по внедрению компьютеров в экономику и управление, а собственное производство на комбинате «Роботрон» наталкивалось на затруднения при приобретении на Западе даже мелких приборов и материалов, представительство частного предпринимателя оказывалось просто бесценным.
Когда министерство электротехники и электроники установило большие электронно-вычислительные машины в опытном порядке, вскоре встала проблема необходимых для их эксплуатации магнитных лент - в нормальных условиях торговли самый обычный товар. Без лент работа останавливалась. Их приобрел Миша. Он представлял в ГДР интересы ведущей французской фирмы и заказал их через свой филиал в Вадуце. Оттуда поставка пошла в Западный Берлин, дальнейшее уже не составляло проблемы. Навязанная нам Западом по настоянию США экономическая война мешала не только торговле такими простыми товарами, она стимулировала изобретательность и поиск хитроумных обходных путей и, наконец, вынудила начать собственное производство на предприятии «ОРВО» в Вольфене.
Конечно, приобретенные через Мишу образцы и технологии представляли большую ценность, как это было и позднее при создании цветных пленок и технологии цветной печати в ГДР.
Даже оборудование для больниц наталкивалось на барьеры эмбарго. В одном из случаев приобретение оборудования для самого современного операционного зала с компьютерным управлением, который предполагалось использовать как образцовый, прошло также по его каналам и обходным путям.
Еще более деликатным был тот факт, что фирма Миши не только худо-бедно платила свои налоги, но и выделяла часть своей прибыли для целей политического руководства. Информирован об этом был лишь очень узкий круг лиц. Некоторое время Ханс был именно тем, кто следил за правильным оформлением этих денег. Позже по его инициативе был создан специальный аппарат, который назывался «Коммерческая координация» (Коко). Руководители этой организации были обязаны отчитываться об этой деятельности, что, однако, ничего не меняло в их частном статусе.
В начале семидесятых годов мои встречи с Мишей стали более частыми. Это было связано с тем, что Ханс готовился к уходу с активной службы, а с другой стороны, возрастали симптомы болезни нашей экономической системы, мимо которых не мог молча пройти такой умный человек, как Миша. У него накапливалось большое число вопросов, которые он часто поднимал при встречах с министрами и генеральными директорами, но, по его мнению, не получал удовлетворительных ответов. Речь шла уже не об устранении бюрократических препятствий при проведении отдельных сделок, открывались фундаментальные пороки запутавшейся в окостеневших переплетениях экономической системы. Ханс придерживался мнения, что я тоже должен спокойно выслушать эти нетерпеливые вопросы. По сути они вертелись вокруг тех же проблем, которые поднимали наши контакты из государственных органов и экономики все чаще и чаще и которые волновали нас самих. Между мной и Хансом не было сдерживающих моментов в критике этих обстоятельств и лиц, ответственных за них в тогдашнем руководстве. Мы видели основное зло в том, что в узком кругу членов Политбюро, практически высшем органе страны, господствовало самодовольство, там не было дискуссий и обсуждений альтернативных возможностей разрешения сложных экономических проблем. Известные нам обоим из личных разговоров с ближайшими сотрудниками этой горстки носителей высочайшей ответственности субъективность и произвол при принятии важнейших решений не были тайной даже для таких людей, как «маленький Миша».
Для бесед с друзьями и близкими доверенными Ханс использовал всегда один и тот же стол на 37-м этаже гостиницы «Штадт Берлин». Вместе каждый раз с новым гостем я наслаждался фирменными блюдами отличной кухни, рекомендованными директором тогда ведущего отеля, а также прекрасным видом на растущий центр столицы ГДР. Даже при тяжелых разговорах сохранялась свободная и приятная атмосфера. Ханс полностью соответствовал своей репутации «художника жизни», он без осложнений умел сочетать приятное с полезным.
В разговорах с Мишей вопросы большой политики занимали заметное место. Он всегда интересовался событиями во всем мире. А если речь шла о проблемах экономики, о попытках подрыва его посреднической деятельности при заключении сделок для концернов, которые представлял, имея все полномочия, речь шла отнюдь не о мелочах. Однажды в центре обсуждения была сделка по трубам между крупнейшими западногерманскими концернами, такими, как «Крупп», «Зальцгиттер» или «Са-аршталь», и Советским Союзом. В другой раз он бушевал против недостаточной готовности разрешить ему проведение бартерных сделок, например таких, когда ГДР в обмен на поставку излишков удобрений получила бы из стран «третьего мира» для покрытия спроса населения ГДР кофе и какао. Официальная торговля не могла поверить, что Миша для этого мог получить кредиты западноевропейских банков на необычно благоприятных условиях. Действительно, удивляло то, как этот «маленький» бизнесмен вел переговоры с воротилами промышленности и банков и добивался результатов, в которые никто не мог поверить. Он был «на ты» с ведущими лидерами Южной Америки и Африки.
Как бы ни были привлекательны его представления, я не мог сделать ничего, кроме как выслушать их. Они находились вне сферы моей компетенции. И все же ему, очевидно, шло на пользу то, что он мог высказать свои проблемы и недовольство человеку, который был готов его выслушать и, как он предполагал, может хоть как-то содействовать наступлению срочно необходимых изменений. При этом определенную роль играл мой нимб, что у меня есть прямая связь с Москвой.
Когда Ханс ушел в отставку, оба по-прежнему поддерживали дружеские контакты, а Миша продолжил подобные разговоры, приглашая меня к себе домой или на дачу. При этих встречах я познакомился с его семьей. Здесь он был уже не творец гешефтов с жесткими манерами общения, как их описывали партнеры, знавшие его с давних пор. Он был гордым отцом в добропорядочном окружении. В семидесятые годы он заметно изменился, приобретя черты серьезного предпринимателя внешнего рынка. Дом и дача были обставлены со вкусом, напитки и подаваемые блюда свидетельствовали о хорошем вкусе. Так же как и картины и скульптуры, свидетельства интереса к искусству его более молодой жены Аниты. Он мог спокойно, не стесняясь, приглашать министров, послов или иных увешанных бриллиантами иностранцев. Я знал от Ханса, что после создания семьи и рождения двоих детей в середине шестидесятых годов существо и характер поведения его друга принципиально переменились. Жесткость и словарный запас торговца сигаретами приходилось временами ощущать и слышать сотрудникам его фирмы, но не его детям. Для них у него оставались забота и любовь.
Вероятно, здесь кроется ответ на вопрос, который мы иногда задавали себе в последние годы существования ГДР. Что удерживало у нас этого человека с миллионными счетами в западных банках, в то время как другие частные предприниматели, занимавшиеся внешней торговлей, покидали страну один за другим? Враждебность в отношении Миши не уменьшалась, неурядиц становилось скорее больше. И несмотря на это он остался и тогда, когда после «поворота» 89-го года стал очевиден конец. Возможно, он преследовал честолюбивую цель: дать детям хорошее образование и создать себе высокую репутацию в стране, которую он избрал себе родиной. В начале восьмидесятых годов выдался период, когда он носился с идеей вернуться опять в Польшу, не ехать на Запад. Его мировоззрение, очевидно, определялось не только деньгами и прибылями. Все, что напоминало о фашизме или хотя бы пахло им, было ему ненавистно. Свой день рождения он постоянно праздновал 8 мая, в день освобождения от гитлеровского фашизма. Неясно, какая из дат, вписанных в многочисленные документы, которыми он пользовался после войны, соответствовала действительности. Возможно, он и сам точно не знал этого. Мне кажется, что это была и верность, которую он хранил рядом с нами, даже тогда, когда ему советовали уехать во избежание преследований в более надежную страну. Возможности для этого у него оставались еще довольно долго.
Так, еще в ГДР ему пришлось столкнуться с допросами и угрозами ареста. После объединения первый допрос пресловутой берлинской прокуратурой (ZERV) совпал с известием о его заболевании раком. Обращение этой ветви власти с руководящими деятелями ГДР установило определенные стандарты. Миша уехал в Израиль. Эту страну он посещал уже довольно часто, имел там много деловых партнеров и знакомых. Я не знаю, когда он подал документы на израильское гражданство, но он имел его, когда я посетил его в 1996 году.
Это была странная и грустная встреча. В то время, как один процесс надо мной закончился, а второй еще предстоял, мы с Андреа решили принять приглашение одной из самых крупных израильских газет. Это была примечательная поездка. Примечательная уже потому, что мне было отказано в визе американским госдепартаментом в поездке в США по приглашению американского издателя моей книги. В обосновании без всяких доказательств говорилось о моем участии в планировании и проведении «террористической деятельности». Абсурдность этих обвинений видна хотя бы из того, что меня приняли в Израиле с большим уважением и при встречах с бывшим премьером Ицхаком Шамиром, и с руководителями израильских разведслужб, несмотря на общеизвестные контакты моей службы с Организацией освобождения Палестины, руководимой Арафатом. Впечатления о поездке, долгое время занимавшие Андреа и меня, в Иерусалим, Тель-Авив, в кибуц недалеко от озера Генезарет, поездка по стране вплоть до Голанских высот, встречи с людьми различных верований и политических направлений подтвердили истину, что между книжным знанием и личным ознакомлением при помощи собственных органов чувств - гигантская разница. Трогательным было посещение Стены плача. И все-таки я оставил без ответа вопрос моего ортодоксального гида, не ощущаю ли я внутри себя каких-либо чувств, связанных с моим еврейским происхождением. Мой Израиль мне еще придется поискать, когда корни раздоров и ужасной ненависти в Палестине будут устранены.
В Берлине я попросил найти мне телефон квартиры Миши в Тель-Авиве. Хотя я знал, что его состояние ухудшилось и что он страдает от невыносимых болей, я надеялся все же встретиться с ним. После нескольких неудачных попыток ответил его сын Рене: отец находится в больнице. Мы договорились, что посетим его в этот же день. Наш сопровождающий, видный журналист и сотрудник Моссада, как мы предположили с полным основанием, настоятельно советовал воздержаться от этого посещения. Он считал, что в моем положении это нецелесообразно. Однако Андреа и я решили, что мы должны обязательно посетить «маленького Мишу». Недалеко от нашей гостиницы в оговоренном месте мы сели в автомашину Рене. Никто нам не препятствовал. С тягостным чувством, которое сопровождает посещение тяжело больного человека, вошли мы втроем в холл большой современной больницы. Андреа, которая и без того подвержена эмоциям, переживала гораздо больше меня, поскольку мне за долгую жизнь чаще приходилось сталкиваться с тяжело больными людьми. Миша сделал нашу встречу совсем не трудной. Он приветствовал нас на своем больничном ложе в своем неизменно живом духе, как будто обстоятельства и место встречи были нормальными и такими, как всегда. Однако трубки от его руки к сосуду, висящему на штативе у его кровати, были красноречивы.
Оживленно, как и приветствие, протекала беседа. В отличие от других больных Миша не проронил ни слова о своих болезнях. Положение в Германии, политика правящих кругов были темами, по которым он не жалел сарказма. Политиков и судебных преследователей объединенной Германии он удостоил весьма едких слов. Более всего его интересовали здоровье и судьбы общих знакомых. Конечно, мы вспомнили умершего друга Ханса.
Примерно через четверть часа стало заметно, что к нашему посещению он собрал и исчерпал всю свою энергию. Все же, прощаясь, он встал с кровати и проводил нас до лифта, передвигая на колесах рядом с собой стойку с капельницей.
Перед отъездом мы не упустили возможности посетить нашего мужественно борющегося Мишу еще раз. Нам было ясно, что эта встреча будет последней.
Когда мы узнали о его смерти и поминали его, один из общих знакомых сказал: «Если бы у нас было сто «маленьких Миш», многое в нашей экономике делалось бы гораздо лучше». Как ни справедливы эти слова в отношении способностей Миши, истина все же куда жестче: ни сто, ни большее число людей его калибра не спасли бы ГДР. Пороки нашей страны и ее экономики были гораздо сложней и возникли не из-за отсутствия способных женщин и мужчин во всех жизненно важных отраслях. Десятки тысяч были готовы посвятить все силы процветанию социалистического общества. Напрасно, пороки общества были смертельны, потому что господствующая система бесконечно далеко отошла от идеалов социализма, потому что вопреки первоначально присущим социализму сущностным чертам самостоятельное мышление и действие были не востребованы. Все решения отдавались на откуп небольшому кругу закостенелых невежд. Энергия действия многих, важнейшие инициативы терялись на пороге этого ареопага. И все же женщины и мужчины, вроде Миши, не прекращали бороться за перемены. Во всяком случае, у него была привилегия частного предпринимателя быть в значительной мере более свободным в своих действиях от цепей закостенелого аппарата.
Возможно, к этому следует добавить и нечто иное: непреклонность известных мне людей еврейского происхождения. Я отмечал эту характерную черту еще у своего отца. Она оставила отпечаток на всей его жизни, определенную твердость в действиях в трудных ситуациях и повлияла на меня в юные годы. Эту непреклонность я наблюдал у других евреев - женщин и мужчин в окружении нашей семьи.
Стойкость, подобную которой трудно себе представить, продемонстрировала хрупкая Ева. Бежав из Германии, и, будучи жадной до впечатлений туристкой, она познакомилась в СССР с китайским писателем-коммунистом Эми Сяо и полюбила его. С тех пор Еву связывали с этим сподвижником Мао Цзэдуна не только совместный путь жизни, но и глубокая общая убежденность. Она выдержала многочисленные испытания в несказанно трудных обстоятельствах жизни и войны в пещерах Синьцзя-на, вплоть до семи лет одиночного заключения в ужасное время «культурной революции» в Китае. И после этого, и после смерти мужа она осталась верна стране, Родине ее троих сыновей, стране, ставшей и ее Родиной. На грани чуда эта маленькая женщина, почти не принимавшая пищи, в последние годы боролась с коварной болезнью. Семья и друзья уже считали ее безнадежной, однако ее неукротимая воля к жизни побеждала несколько раз. Когда я начал записывать эту историю, она отпраздновала в далеком Пекине свой девяностый день рождения. Спустя несколько месяцев и эта столь необычная жизнь завершилась.
Такая же сила воли была присуща Курту, немецко-еврейскому молодому коммунисту, ведя его по дорогам жизни, многократно обрывавшимся на пороге смерти. Так было в гражданской войне в Испании, где он воевал в интернациональных бригадах против фашизма Франко, и во французском лагере для интернированных, где он познакомился с моим отцом. Ужас смерти стоял перед его глазами, когда он, как и «маленький Миша», попал в ад Освенцима. Там непоколебимость его убеждений не только помогла ему выжить, но и отдать часть своей воли к жизни другим. За его стойкость даже охранники прозвали его «еврейским королем». Цель своей жизни, свой опыт он попытался поставить на службу мнимо социалистического немецкого государства. Падение государства, которое он считал своим, ударило по нему так же жестоко, как и по нам, но он продолжает неустанно выступать политическими средствами за свои антифашистские убеждения и против правого экстремизма в Германии. Чествований со стороны государства за это он не дождется. Правда, испанский король пожаловал ему титул почетного гражданина Испании.
Когда я думаю о непреклонности друзей-евреев, я просто обязан упомянуть Рудольфа, кожевника-еврея, выходца из Рейнской области. Мы познакомились уже довольно поздно как авторы книг на встречах с читателями в 1989 году. Рудольф представлял вместе со своей верной спутницей Розмари, которая с тех пор стала также близка нашим сердцам, их совместно написанную книгу «Желтое пятно», важную и все еще весьма актуальную работу о корнях антисемитизма в Европе. Политика руководства ГДР, далекая от понимания реальности и совершенно не готовая к реформам, доставляла им такую же боль, как и любому из наших друзей; проклятия и клевета после объединения в отношении всех ценностей и достижений нашей страны вызвали у этой пары такой же протест и укрепили их позиции, которые определяют нашу жизнь до сих пор. У Рудольфа, который за прошедшие годы опубликовал книги о времени своей эмиграции в Палестину, это произошло, как я это видел у евреев, таким же неизменным образом. Уже дожив до середины восьмого десятка лет, он возобновил свою прежнюю страсть судебного репортера, результатом чего стал блестяще написанный репортаж, на этот раз о процессе Маркуса Вольфа. Конечно, он никогда не был беспристрастным, наоборот, он отражал принципиальную позицию автора, со всем сарказмом по отношению к обвинениям, выдвинутым очень пристрастной юстицией.
Во время наших продолжительных совместных поездок в электричках в Дюссельдорф и обратно Рудольф давал мне не только политические и юридические советы, он постоянно развлекал наше купе юмористическими историями из своей богатой биографии, рассказами о жизни в Палестине и рогом изобилия еврейских острот. Наблюдать за отношениями этой неравной пары было трогательно, особенно когда Розмари добавляла забытую деталь какой-либо из многократно слышанных ей историй либо когда он при выходе из поезда, совершенно как кавалер старой школы, отказывался от любой помощи молодой женщины при выгрузке дорожной сумки.
Я не знаю, как сказалась бы на моем отце непреклонность этого типа евреев в годы падения ГДР и разрастания конфликтов с руководством. Он умер уже в 1953 году, времени его собственной активности и тогда еще больших надежд. Он никогда не воздерживался от критики, мелкие бюрократы партийного аппарата боялись его как «скандалиста». Удержала ли бы его в последние годы дисциплина, необходимая в столкновениях с «классовым врагом», как меня и брата, от открытого конфликта с политическим руководством? Я этого не знаю. Вероятно, я унаследовал слишком мало от его горячего, непреклонного темперамента. Но я уверен, что он разделил бы мою позицию и позиции моих друзей во времена преследований и клеветы после объединения. Он, безусловно, ни в чем не уступил бы нашим противникам в спорах на животрепещущие темы и в отшлифованной поэтической форме, возможно, на некоторых форумах или в ток-шоу дал бы выход своему «красному гневу». Несомненно, он сохранил бы верность идеалам, позициям, которые определяли его жизнь и жизнь нашей семьи. Пусть история «маленького Миши» не совсем оправдывает «вкрапления» моих личных воспоминаний об отце и других названных в завершение евреях - в своей непреклонности он был по-своему схож с ними. Вероятно, это качество происходит от тех глубоких корней, древней истории народа, на долю которого выпало столько испытаний. Насколько малой была возможность предвидения, настолько же, вероятно, исполнено смысла то, что маленький еврей из Польши, человек, переживший Шоа, нашел место своего последнего успокоения в земле своих предков.
Джим и Саша
В тиши нашего лесного участка вдруг являются мысли, которые в городе долго не приходят в голову. Я, откидываясь назад, призываю воспоминания о наших встречах, слежу за бабочкой-лимонницей, которая села на еще чистый лист бумаги, и вдыхаю с весенним воздухом силу природы. Почками и первыми цветами она борется с возвращающейся зимой. Я смотрю на сверкающее в лучах утреннего солнца озеро, и первые предложения почти сами по себе вытекают из-под моего пера.
Мне кажется, что Джим в любой момент может войти через садовую калитку, как он это часто делал. Этот кусочек бранденбургской земли нашел место в его сердце, так же как и в наших с Андреа сердцах. С трудом верится, что между его смертельной болезнью и нашей первой встречей у Саши, другого друга, не прошло и восьми лет. Бесчисленные картины остались в памяти надолго - так интенсивно мы жили. В первое время это было переживания, вызванные взрывными событиями осени 1989 года и тем, что они принесли с собой в нашу жизнь, а в последние годы - по большей части наполненные внутренней гармонией встречи и прогулки на лоне располагающей к умиротворению природы. Быть может, это приближающаяся болезнь побуждала его все чаще и чаще вести продолжительные разговоры о смысле жизни?
Без Саши и той осени мы, вероятно, никогда бы не встретились. Симпатичного русского я знал уже с давних пор. Как сотрудник отдела, отвечавшего в советской службе за Германию, он время от времени попадал в мое поле зрения при поездках в Москву. Хотя у нас было мало общих дел, но, в отличие от других коллег его ранга, он мне приглянулся. При полном соблюдении формы, к которой его обязывало положение, он непринужденно излучал дружественность, а шельма, казалось, постоянно выглядывала из-за его спины.
Той осенью журналисты осаждали меня своими просьбами об интервью почти непрерывно, и телефон звонил постоянно. Однажды Андреа сняла трубку, когда со мной хотел поговорить один русский знакомый. Андреа передала трубку мне. Саша остался верен себе, его нельзя было спутать ни с кем. Хотя мы были знакомы лишь бегло, я сразу же узнал его по голосу. Он назвал свою фамилию и попросил об интервью для Радио Москвы. Мы договорились о встрече в его квартире недалеко от советского посольства на Унтер ден Линден.
Саше было тогда немного за сорок. Когда мы встретились, я сразу же его узнал по его открытому лицу. У него были густые каштановые волосы, небольшие усы и фигура крепыша -живая картинка настоящего русского мужчины. Я вспомнил другого русского, разведчика и следопыта, который сопровождал меня двадцать лет назад в сибирской тайге и который владел дорожным ножом с такой же уверенностью, как охотничьим ружьем или удочкой. Несколько охотничьих трофеев на стенах Сашиной квартиры свидетельствовали о том, что он, должно быть, обладает подобными же способностями.
Сашины формы общения были, как всегда, корректными, однако он умел создавать с самого начала непринужденную атмосферу, в которой возникало доверие. Неким образом эта радость общения была у него общей с Джимом. Ему не нужно было начинать с официального представления, да у нас и не было для этого времени. Поэтому Саша без обиняков прямо начал интервью. Первая часть касалась моего советского партнера, который со времени моего ухода со службы прекратил связь со мной. О моей оценке ситуации распада ГДР, трещавшей по всем швам, и беспомощности ее руководства Саша делал себе краткие заметки. Записанные на диктофон вопросы и ответы для радиоинтервью не заняли много времени. У Саши был хорошо отработан каждый прием.
Свою сноровку он продемонстрировал еще и по-другому, когда вскоре после этого приехал к нам на лесной участок. Он привез с собой дичь, чему Андреа, как противник охоты, была менее рада, чем возможности лично убедиться в практических навыках русского гостя. Месяцы спустя Саша оказался для нее надежным и предусмотрительным помощником, когда нужно было готовиться к ожидавшимся обыскам дома. Не тратя лишних слов, он действовал очень осмотрительно и профессионально. Андреа до сих пор благодарна ему за то, что во время моего отсутствия весной 1990 года, так же как и позже, рядом с ним она постоянно испытывала чувство защищенности.
Как-то осенью 1989 года Саша рассказал об американце, с которым, считал он, нам обязательно нужно встретиться. У нас, по его словам, не должно быть никаких сомнений, так как он человек честный и заслуживающий доверия. Так состоялась первая встреча с Джимом и его женой Ингой в квартире Саши.
Когда гости прибыли, их ожидал богатый стол с различными русскими закусками. Галина, жена Саши, приготовила все с большим вкусом. Знакомство прошло обычно, без сложностей. Джим вызывал симпатию. Он был высок, в легкой, свободной одежде, видный мужчина со слегка редеющими темными волосами. На фотографиях прежних времен, которые мы увидели позже, в форме он выглядел, как голливудский киногерой. Он был точно таким же типичным американцем, каким без сомнения русским выглядел Саша. Жена Джима, Инге, напротив, была блондинкой и немного похожа на Анд-реа, уже ее первая фраза приветствия выдала уроженку Берлина.
Разговор начался без излишних ничего не значащих слов. Джим довольно хорошо говорил по-немецки, не заботясь, однако, о грамматических тонкостях. Он пристально следил за моей тогдашней деятельностью. Пока его глаза внимательно и благожелательно смотрели на меня, он задавал вопросы Андреа и мне, как мы справляемся с бесконечными нападками со стороны общественности. Он спрашивал мое мнение об актуальной политической ситуации, о возможных перспективах немцев вообще и наших в частности. После сытного обеда, вершиной которого стали пельмени, мы перешли к десерту. Джим подвел итог нашему разговору, сказав, что для него самое важное в жизни - это свобода и дружба.
Freedom and Friendship, я не помню уже, произнес он эти слова по-английски или по-немецки. Тогда я не придавал этим несколько патетическим понятиям значения, которое эти часто повторявшиеся максимы занимали в жизни американца. В более поздних письмах он иногда вспоминал эти слова и значение, которое они имели для него при нашей первой встрече.
В поведении и манерах Джима не было того, что довольно часто считается обычным для успешного бизнесмена, каким он, собственно, и был.
Он говорил без высокомерия и самодовольства о своих делах, которым он, по его словам, обязан своей свободой. Он, будучи на службе в американской армии в Германии, начал с коллекционирования холодного оружия различных видов, которое нацисты оставили в больших количествах. Вместо того чтобы, как другие солдаты, удовольствоваться отдельными экземплярами, а в остальном предаваться легким развлечениям времен оккупации, он превратил свое хобби в прибыльное дело. Его знания о холодном оружии, оставшемся от различных нацистских организаций и подразделений вермахта в Золингене, стало ключевым моментом для основания его процветающего торгового предприятия. Для этого он обладал талантом, инстинктом, прилежанием и основательностью, в чем я позже неоднократно убеждался.
Однажды он подарил мне роскошное издание своей книги «The Daggers and Edged Weapons of Hitler's Germany» («Кинжалы и холодное оружие гитлеровской Германии») - серьезная работа о кинжалах и клинках времен нацизма, чем я никогда ранее не интересовался. Конечно, он снабдил книгу дарственной надписью и вписал фразу, приписываемую Наполеону, в которой, по смыслу, говорится, что в мире есть только две силы: меч и дух; «однако на протяжении истории дух всегда побеждал меч».
Успешное начало определило путь Джима в мир коллекционеров оружия и торговцев военным имуществом. У меня нередно была возможность наблюдать, как он обращал внимание на какой-нибудь объект и оценивал его. Это происходило как бы походя, о цене и об оплате он говорил просто, между прочим. Вероятно, этот небрежный образ действий и естественное дружелюбие были причинами, способствовавшими, среди прочего, деловым успехам Джима.
По дороге к квартире Саши Андреа увидела больного уличного голубя. Сразу по приходе птица стала главной темой разговора. Когда поздней ночью мы вместе уходили от Саши, птица продолжала беспомощно топтаться почти на том же месте, и это разволновало Андреа еще больше. Только после клятвенного заверения Саши, что он возьмет птицу к себе домой и позаботится о ней, ему удалось уговорить наших женщин покинуть это место птичьего страдания. Благодаря голубю между Андреа и Инге пробежала искра общей для них любви к животным, и, несмотря на все волнующие события, кошки у наших женщин, такие близкие к ним по сути, в последующее время занимали значительную часть разговоров, переговоров по телефону и переписки.
Интерес Джима к продолжению контакта со мной сохранялся. При этом первоначально превалировали любопытство и страсть коллекционера. Его интересовали моя генеральская форма, полагающийся при ней кортик и мои охотничьи ружья. Вскоре я показал ему несколько интересных экземпляров из моей коллекции, которым он тут же, не утруждая себя приличиями, «обозначил цену». Впрочем, в этом не было ничего, что могло бы задеть меня. Неприятный привкус возник у меня лишь тогда, когда Джим при этом упомянул о своих беседах с Альбертом Шпеером, личным архитектором Гитлера, которого, по мнению Джима, в Нюрнберге осудили несправедливо. Также вызвал мою неприязнь его повышенный интерес к моим знаниям истории Рудольфа Гесса, заместителя Гитлера. Я почувствовал тогда, что интерес американца к материальным реквизитам немецкой истории волей-неволей ставит меня в какой-то ряд с этими же фигурами. Мое неприятное чувство, однако, прошло, когда наши отношения стали более дружественными и я стал больше понимать почти наивный интерес Джима к персонажам истории и в особенности к предметам и свидетельствам, которые могли напоминать о прошлом.
Когда мы стали почти соседями в Шорф-хайде, я однажды поехал с Джимом осматривать остатки когда-то помпезного охотничьего угодья Германа Геринга в Каринхалле. Я сам там никогда не был и, невольно улыбаясь, наблюдал, как американец, следуя своей странной страсти, ползал среди развалин подвала и вытаскивал из остатков руин смятые кружки и другие находки. Его нескрываемый типично американский интерес к «фигурам» нацистского режима имел своим следствием мое знакомство с последним британским комендантом крепости Шпандау, который с подробностями свидетеля события рассказал о бесславном конце заключенного заместителя Гитлера.
Определенным этапом наших отношений после моего многомесячного отсутствия стала встреча в мае 1990 года. Этот во многих отношениях примечательный день очень хорошо запомнила Андреа. Было воскресенье, день выборов, в последний раз проходивших в ГДР. Нам пришлось для этого оставить наш лесной дом и поехать на свой избирательный участок в Берлин. Незадолго до этого я вернулся из Москвы, куда уезжал из-за господствовавшей в Германии политической истерии и многочисленных личных нападок.
При отъезде в Берлин нас остановили деревенские мальчишки, которые обратили наше внимание на лебедя, из клюва которого свисала леска от удочки. Поимка лебедя, наша одиссея по нескольким ветеринарным клиникам, в промежутке голосование на избирательном участке и возвращение с оперированным лебедем - это заняло все воскресенье.
Когда мы вечером добрались наконец к нашему дачному участку с лебедем, мирно спавшим под наркозом в корзине для белья, у наших садовых ворот стоял квартет нежданных гостей. Саша, Галина, Джим и Инге решили посетить нас именно в этот день. Сюрприз им удался. Сначала всеобщее внимание поглотил лебедь. Андреа любовно приготовила ему место в гараже, где-то достала соломы и поставила рядом тазик с водой.
Гости сразу же заметили, что нам было не до встречи. Хотя начало и не предвещало этого, мы все же провели очень долгий и приятный вечер. Дружески непринужденная атмосфера почти заставила нас забыть о отягостных неприятностях в Берлине. Вечер стал началом дружбы, которая выдержала многие испытания и которая укреплялась с каждым годом. Андреа и я определенно чувствовали, что от этого американца не может исходить ничего плохого.
Этому чувству не повредило и то, что вскоре после этой встречи у наших ворот появился высокопоставленный представитель директора ЦРУ в сопровождении другого сотрудника ЦРУ, которые после многочасовой беседы предложили мне американский вариант того, как бы я мог избежать ареста, угроза которого нависала надо мной в объединенной Германии. Посещения повторялись с подобными предложениями, вплоть до даты объединения, после которого меня ожидало исполнение уже выписанного ордера о моем аресте.
В эти беспокойные недели, когда мы приняли решение уйти в сторону Австрии от ожидаемого публичного «спектакля» с моим арестом, до последнего дня не прекращались также встречи с Джимом. На мои вопросы он отвечал, что я могу верить предложениям, сделанным от имени директора ЦРУ, однако решение должен принимать по своему усмотрению. Свобода стоит многого. Позднее он отдал должное моему решению возвратиться при полной неясности ситуации и выстоять в Германии, не искать обеспечения своей личной свободы в США, а обрести ее вместе с семьей на Родине, следуя своим представлениям о ценностях.
Независимо от степени, в которой он участвовал в этой операции американской службы или был посвящен в нее, его поведение не привело к разрыву нашей дружбы.
Взаимная симпатия уже настолько укрепилась, что во время нашего «бегства», последовавшего за американским предложением, мы давали о себе знать в ходе наших беспокойных маневров с разъездами по Австрии также и Джиму с Инге. Один раз мы позвонили им из телефона-автомата в Санкт-Гильгене, месте отдыха федерального канцлера Коля, чтобы сказать им, что у нас все в порядке.
Географическое расстояние между нами стало несколько большим. Мы перенесли нашу резиденцию в Москву, где состоялась русская премьера моей книги и где у меня были надежные друзья. Джим и Инге, наоборот, вернулись на свой остров в штат Джорджию.
Время от времени они через Сашу, все еще жившего в Берлине, давали о себе знать, мы обменялись несколькими письмами. Несмотря на сложные обстоятельства, контакт никогда не обрывался полностью.
В одном из писем, попавшем к нам в Москву, Джим писал: «Свобода, несомненно, является простейшим и важнейшим элементом жизни. Каждый день мне напоминают об этом, и чем старше и мудрее становлюсь, тем сильнее это чувствую. Никто не имеет права лишать свободы кого-либо другого, пока он не причиняет ущерба своим согражданам. Странно, что уже твоему отцу много лет назад пришлось бежать из этой страны, и теперь жизнь вынудила тебя пойти по его следам… Сегодня я проезжал мимо вашей квартиры на Шпрее и видел, как красивый белый лебедь величаво летел над мостом и сел на воду прямо перед вашим домом. Его свобода и одинокая независимость вернули меня к мыслям о Вас, дорогой Друг».
Конечно, своим рассказом о летящем лебеде в центре Берлина он возвращал к памяти историю с лебедем при нашей встрече в мае. Джим закончил письмо словами: «Я хочу быть только твоим другом и, как друг, желаю тебе всего хорошего в это тяжелое время. Я уважаю твои убеждения и восхищаюсь твоими принципами жизни. Пусть в следующие годы сопровождает тебя улыбка Господа. Вечно твой друг Джим».
Когда Андреа на Рождество 1990 года поехала без меня в Берлин, чтобы смотреть за детьми и кошками, она вместе со своей дочерью Клаудией посетила и жену Джима Инге, которая к этому времени приехала в Германию. Женщины говорили о том, чтобы вместе с Джимом посетить Москву и чтобы я показал им русскую метрополию.
В августе 1991 года, когда Андреа опять вернулась ко мне, Джим и Инге прибыли в город моей юности. Мы встретили их в аэропорту Шереметьево и отвезли в гостиницу. Однако гостиница, заказанная заранее, им не понравилась, к тому же она находилась далеко от центра города. Поэтому я рекомендовал обоим старый обновленный «Метрополь». Он расположен прямо в центре, на Театральной площади, в пяти минутах ходьбы от Красной площади.
Хотя еще существовали специальные цены для иностранцев в долларах, однако и они были хорошо «приперчены»: Москва уже была на пути в рыночную экономику раннекапиталистического покроя. Но Джим именно в Москве не хотел скаредничать.
Я рассказал ему, пока еще не доставили багаж, о моем пребывании дипломатом в Москве. В этой гостинице была наша резиденция сразу после образования ГДР, здесь были мой кабинет и жилье, с кроватью под балдахином, охраняемой как исторический памятник.
За ужином - опять же в ресторане «Метрополь» - все снова сияло прежним блеском. Я рассказал американцам о событии, происшедшем на этом самом месте, которое в 1950 году произвело на меня, молодого дипломата, глубокое впечатление. На приеме китайского посла мне, как временному поверенному в делах, пришлось заменять посла ГДР и мне почудилось, будто я ощутил веяние подлинного ветра истории. На расстоянии нескольких метров я стоял напротив двух государственных деятелей, подобных историческим памятникам, -Иосифа Виссарионовича Сталина и Мао Цзэду-на. На последовавшем затем ужине я пытался запомнить каждое слово этих полубогов.
Нашим гостям не нужно было ходить по музеям. Любая площадь в центре, на которую мы входили, любой переулок, по которым мы бродили жаркими летними днями, будили мои личные воспоминания. На пути в квартиру моей сестры в Доме на набережной мы перешли через Каменный мост с фантастическим видом на ансамбли Кремля. Я рассказал, как мы с моими родителями и моим школьным другом Аликом в необозримой толпе стали свидетелями победного салюта в мае 1945 года. На Джима это произвело такое впечатление, которое, как он говорил в более позднем разговоре, вызвало и мысли о войне, и воспоминания о смерти, случившейся рядом с ним. Он часто возвращался к этому.
Дом на набережной, в котором в тридцатые годы жили многие деятели правительства и крупные военные деятели, своими бесчисленными мемориальными досками на фасаде прибавил материала для бесед. О большинстве мужчин и женщин, увековеченных на этих досках, я мог многое рассказать. Особенно внимательно Джим рассматривал изображение советского маршала Михаила Тухачевского, выходца из дворянской семьи, героя нашей юности, который в 1937 году был казнен и стал одной из известнейших жертв сталинского террора и произвола.
Мы зашли к моей сводной сестре, все еще живущей в этом доме, и посетили Заю, близкую подругу нашей семьи, вдову известного русского писателя Бориса Лавренева.
На Джима и Ингу произвели очень сильное впечатление Зая, дама, дожившая тогда до середины восьмого десятка лет, ее внешность и ее вкус, которому соответствовали обстановка ее квартиры, мебель и ценные картины, как и ее платье. Весь ее облик аристократки, внимательной и одновременно сердечной: она вела себя так, как ведут себя с друзьями своих ближайших друзей. Состоялся взволнованный разговор, Зая говорила открыто и саркастически высказывалась о порядках, господствующих в стране, и задающих тон политиках. Из окон ее квартиры нельзя было насмотреться на вид Московского Кремля.
От Дома на набережной рукой подать до нашей бывшей квартиры. Я попытался передать американцам хоть часть тех чувств, которые испытывает старый москвич в районе Арбата. Естественно, сейчас Арбат более «окультурен», чем во времена моей юности; благодаря уличным торговцам и бесчисленным закусочным и кафе он превратился в туристический аттракцион, однако колорит культуры и истории может передать только тот, кто глубоко впитал в себя старый Арбат. При всей скромности я причисляю себя к таким людям.
От Арбатской площади мы повернули в тот переулок, в котором стоит «наш» дом. Он заново окрашен, к внешней стене пристроили лифт, которого в наше время не было, и мы бегом поднимались на пятый этаж по ступеням лестницы.
Рядом с входом с 1988 года висит мемориальная доска с рельефами моего отца и брата. Мне пришлось сдерживать себя, чтобы не позволить свободно вылиться чувствам, обуревавшим меня. Во всяком случае, американцы почувствовали, как высоко все еще ценят в России заслуги нашей семьи. Несмотря на предательство политическим руководством Кремля своих друзей в ГДР, ясно вырисовывавшееся уже тогда, на отказ вмешаться в судебное преследование меня в Германии, от Джима не укрылась моя сохраняющаяся дружба с российскими коллегами по службе.
Большие расстояния мы преодолевали на метро, что давало хорошую возможность соприкоснуться с жителями города вплотную. Несмотря на дворцовую роскошь станций подземки сталинских времен и гигантское расширение этого вида транспорта, необходимого для столичного города, наплыв пассажиров в метро иногда просто пугает.
Мы поехали в Измайлово - отдаленный район Москвы. Там между конечной станцией метро и большим парком образовался «блошиный рынок», или «толкучка», который стоит посетить. На прилегающем стадионе можно было осмотреть и приобрести пеструю смесь произведений живописи, ремесел и всевозможного китча. Этот рынок искусства интересен еще и тем, что возник из старой традиции: во времена Хрущева, когда начинавшаяся «оттепель» сменилась новым ледниковым периодом, создатели не признаваемых государством альтернативных форм искусства организовали здесь, на окраине города, свои «дикие» выставки. Это терпели очень недолго, узколобые политики решили положить конец «спектаклю» и запретили выставки.
Естественно, следствием стал взрыв возмущения, который нашел отклик во всем мире и превратил художников в популярных мучеников. Между тем, они давно уже сумели занять место в больших выставочных залах города, а рынок на стадионе в Измайлово был скорее чем-то вроде рынков на берегах Сены или на Пикадилли.
Походы в Измайлово за полгода нашего пребывания в Москве были излюбленной частью наших радостей уикенда. Мы находили недорогие картины, которые отвечали нашим вкусам, расслаблялись от напряжения жизни в изгнании и работы над моей новой рукописью.
Теперь мы повели Инге и Джима по длинным рядам картин к молодым художникам, которые ходили у нас в фаворитах. Джим активно интересовался и самим рынком старья. Я только диву давался, как уверенно он вел свои поиски между лотков со старыми самоварами, проржавевшим инструментом, предметами быта и щенками и находил дорогу к тем лоткам, где были представлены предметы армейской экипировки, ордена, значки, погоны и знаки отличия различного происхождения и стоимости. Нескольких обрывочных фраз на немецком или английском языках было достаточно, чтобы договориться с продавцами, которые в большинстве сами участвовали в войне и нужда которых сейчас была явственно видна. У одного стола с поношенными погонами Джим остановился надолго, затем позвал меня, чтобы я помог ему сбросить и без того смешную цену.
Сделка состоялась, но Джим заплатил цену даже более высокую, чем с него запросили первоначально. На мой вопрос, почему именно эти погоны так заинтересовали его, он объяснил мне, что, хотя при распродаже фондов кинофирмы ГДР ДЕФА он скупил по хорошей цене все наличные униформы, но погоны, найденные здесь, пригодятся ему для формы пожарных времен Первой мировой войны.
Этот эпизод постоянно вспоминается мне, когда я думаю о Джиме. Он свидетельствует об инстинкте, который позволял ему разыскать нужный предмет в огромном изобилии других.
Он также показывает его страсть торговаться о цене, все равно, идет ли речь о дюжине старых погон за пару долларов или о списанных танках или подводных лодках. Эта страсть не имела ничего общего с великодушием Джима в отношении нуждающихся людей.
За эти дни мы получили массу удовольствия и постоянно сожалели, что с нами нет веселого Саши. Его недоставало нам и в ситуации, когда Джиму срочно понадобились рубли, а рядом ни в одном из официальных обменных пунктов их не было. Я знал, что в павильонах рынка можно обменять доллары на рубли по льготному курсу. Итак, мы пошли к большому продуктовому рынку. На одном из прилавков мы купили у темноволосого южанина немного фруктов. Мы хотели заплатить долларами, что вообще-то было запрещено, но прошло совсем немного времени, и вскоре появился немолодой угрюмого вида мужчина с тяжелым взглядом -похоже, чеченец, и втиснул нас в крохотную подсобку, где мы оказались в окружении нескольких таких же темных личностей. Женщины оставались снаружи. Произошла весьма драматическая процедура. Во время торговли об обменном курсе доллары внезапно исчезли, и мы намертво оказались во власти мафии. К счастью, наше приключение завершилось хорошо, мы получили соответствующую сумму рублей, однако все могло закончиться и иначе. Оно стало шуткой лишь тогда, когда мы благополучно покинули место черной торговли и встретились с нашими женщинами, которые за это время натерпелись страхов.
В остальных случаях мы сталкивались с облагороженной мафией, это были «новые русские» - новые богачи, которые стали определять картину в ресторанах и магазинах. Грузинский ресторан высшего разряда «Арагви», в который еще мой отец после возвращения из французского лагеря для интернированных водил нас с братом, я, конечно, должен был показать американцам. В довоенные годы это был ресторан солидного уровня, и я помню, как отец показал нам английского посла сэра Стаффорда Криппса, который обедал за соседним от нас столом. Это было незадолго до 22 июня 1941 года, когда Советский Союз был втянут в войну.
На сей раз, придя с Инге и Джимом, нам пришлось внести приличную лепту в твердой валюте, чтобы попасть в ресторан и оказаться под благородными подвальными сводами в пестром обществе господ, окруженных ярко накрашенными дамами, которых без труда можно было отнести к числу жриц древнейшей профессии. Еда была дорогой, но, кроме икры, не поднималась до изысканного качества довоенного времени.
Такую еду мы получили в другом месте, в маленьком ресторане-комнате, в который, однако, можно попасть лишь по предварительной договоренности и внутрь которого можно войти, только нажав на неприметно расположенную кнопку звонка. Об этом побеспокоился сын моих друзей Лены и Яши, который удачно нашел себя в мире нового бизнеса.
В квартире друзей, расположенной также вблизи Арбата, американцы познакомились с этими двумя симпатичными русско-еврейскими интеллигентами и узнали еще кое-что о душе старой Москвы.
В долгие месяцы разлуки с семьей и домом гостеприимство этих друзей помогло, особенно Андреа, пережить это неопределенное время не только как тяготу.
Часы, проведенные вместе в Москве, давали новые поводы и материал для более детальных рассказов о жизни как одной, так и другой пары.
Мы не хотели примириться с ситуацией «бегства», причины которого мы считали ненормальными и противоправными. После решения об отказе от предложения американской службы мы твердо решили возвращаться домой, несмотря на угрозу судебного преследования. Джим указал мне некоторых американцев, которые могли повлиять на общественное мнение в нашу пользу и которые могли быть полезны для публикации моей книги.
Сначала я доверял Джиму интуитивно, но со временем убедился, что имею дело с надежным партнером.
Известная американская телепрограмма «Sixty Minutes» уже давно пыталась привлечь меня к участию в ней. Джим посоветовал мне пойти навстречу и сделал все, чтобы устранить мою скованность из-за недостаточного знания языка. Так, мы сидели с ним часами перед маленьким магнитофоном в его гостиничном номере и репетировали интервью. Он ставил ожидаемые вопросы и, подобно американским телеведущим, упорно и резко повторял их, пока я не давал наконец более или менее удовлетворительные ответы.
При рассказе о важнейших деталях моей биографии он ставил много дополнительных вопросов, особенно когда я говорил о пережитых событиях войны. Его интересовали подробности. Я рассказал ему, что мой брат в семнадцатилетнем возрасте пошел добровольцем в Красную Армию и вскоре после прибытия на кавказский фронт стал свидетелем первой на его глазах гибели человека на войне. Солдат, который только что кричал ему, чтобы он спрятался под вагоном, внезапно оказался лежащим рядом и изорванным в куски. С этого момента смерть более двух лет постоянно была спутником Кони.
Мой рассказ захватил Джима. Он остановил запись и рассказал, что во время корейской войны, будучи молодым американским офицером, встретился со смертью подобным же образом. Однажды он только вышел из джипа, как снаряд взорвался рядом с машиной и окровавленный водитель умер на месте. Это стало ключевым событием его жизни.
О другом происшествии он рассказал как-то позднее: его подразделение предприняло атаку на высоту, занятую противником, и попало под такой огонь, что справа и слева от него все были убиты или упали ранеными. Сам Джим был легко ранен, но никому не мог помочь: снайперы брали на прицел все, что движется. Он выжил только потому, что прикидывался весь день убитым и не реагировал на стоны тяжело раненного товарища. Только ночью его смогли эвакуировать.
После этого Джима уже никогда не оставляла мысль о безысходности смерти, настигающей человека в бессмысленной войне. А ведь тогда в Корее, говорил он, он сначала был примерным солдатом, поскольку обязан своим развитием и образованием только армии. В шестнадцать лет он ушел из дома и поступил на службу, причем указал больший возраст и скрыл свой настоящий.
В Москве его интересовало не только оружие, он посещал также кладбища павших. Джим установил контакт с общественными российскими объединениями, которые на общественных началах следили за захоронениями немецких солдат, разбросанными по стране. Он внес пожертвования на эти цели и сам собрал найденные опознавательные жетоны эксгумированных погибших. Если они были целы, то есть распознаваемы, это значило, что родственникам не было известно место захоронения. Джим связался с немецкой организацией по уходу за могилами погибших, чтобы через нее оповестить еще живущих родственников.
Во время наших репетиций интервью Джим многое рассказал мне о своей жизни. Он поведал также о своем бегстве от уголовного преследования в США. Много лет он скитался по Латинской Америке вместе со своей женой Инге и расширил там свои деловые связи. Снова и снова звучало его резюме: самое важное в жизни - свобода и дружба.
О своих делах по торговле оружием с другими собеседниками он говорил иначе, чем со мной. По его словам, он считает свою репутацию крупного торговца оружием морально тяжелой нагрузкой, однако убежден, что не только делает деньги, но и приносит пользу своей стране.
Своими воспоминаниями он позволил мне добавить интересный эпизод в одну из глав книги, связанную со строительством стены в Берлине, которую я тогда писал. Когда после августа 1961 года кризис, казалось, был на исходе, в октябре еще раз дошло до обострения на берлинском КПП «Чек Пойнт Чарли». Американские и русские танки стояли лоб в лоб друг против друга. Джим в эти критические дни находился в американском командном бункере рядом с воинственным рубакой генералом Лю-шиасом Клеем и отвечал за линию связи генерала с президентом. Как информированный современник он дополнил живыми деталями мои знания закулисной стороны этого исторического события.
Из других источников позже я все-таки узнал, что он разделял точку зрения генерала Клея, что нужно проявить твердость в отношениях с советским руководством, чтобы любой ценой сохранить позиции в Западном Берлине. Этого он мне тогда не сказал.
Беседы о нашем жизненном опыте поднимались значительно выше подобных исторических эпизодов. Поскольку мы чурались в наших беседах высоких слов, Джим написал мне письмо за два дня до своего отъезда из Москвы: «Я хочу выразить тебе благодарность за время, энергию и усилия, которые вы оба, ты и Андреа, употребили для того, чтобы сделать наше пребывание в Москве таким приятным. Это было действительно нечто особенное, для нас стало большим счастьем иметь таких сердечных друзей, которые, не считаясь со временем, познакомили нас с частью достойного уважения русского образа жизни. Без твоего личного особого внимания нам никогда не удалось бы увидеть и одной десятой того, что нам удалось увидеть.
Я надеюсь, что смогу принять вас как своих гостей и дорогих друзей в моем доме в Саванне. Мне доставило бы большое удовольствие не только показать вам чудесный город, но и прекрасно провести вместе время в дружеской обстановке.
Будем надеяться, что ваши проблемы вскоре останутся позади и в твоей жизни вскоре настанут лучшие времена. Несомненно, на долю нас обоих выпала Божья благодать, так как рядом с нами есть два сокровища, ведущих нас через бури и трудности, которые мы сами создаем себе. Наши жены - это самое лучшее, что досталось на нашу долю, без них мы бы просто пропали.
Если я чем-то могу помочь и поддержать тебя, не задумываясь звони мне как другу. Я воспринимаю дружбу, наряду со свободой, как важнейший фактор жизни. Я нашел цитату, о которой говорил тебе вчера. Это из Роберта Бернса, и звучит она так: «Я думаю, ведь это чудесно, что мы будем братьями. Братья не должны любить друг друга. Братья должны знать друг друга и заботиться друг о друге. В этом все дело».
Еще раз большое спасибо за все, больше всего за сердечную дружбу. Джим».
Нежданно после нашего прощания Джим стал свидетелем события, в котором, как часто бывает в истории, великое и смешное оказались очень близко друг к другу и которое окончательно определило странную гибель некогда могущественного Советского Союза. Это случилось 21 августа 1991 года, в день намеченного нашими друзьями отлета. Именно в этот день мой бывший коллега по службе, выросший с тех пор до шефа КГБ, предпринял вместе с некоторыми другими «большими людьми» в правительстве попытку остановить распад Советского Союза. Это было дилетантское предприятие, которое с полным основанием может быть названо путчем. Однако сначала было объявлено чрезвычайное положение и все было похоже на тщательно подготовленную военную операцию.
Андреа посадила меня под домашний арест и решила одна проводить Джима и Инге в аэропорт. По возвращении она рассказала, что по пути видела колонны войск и расставленные на всех перекрестках танки. Обычно склонный к шуткам Джим напряженно молчал. Только после того, как американцы прошли паспортный контроль в аэропорту и оказались в транзитном зале, Джим помахал ей, и по нему стало видно, что его напряжение спало.
За дни, проведенные вместе в Москве, симпатия переросла в чувство дружбы. Друзья знали, что наше пребывание в Москве подходило к концу и нас ожидало неопределенное будущее в объединенной Германии.
Джим доказал свою дружбу, когда меня в сентябре 1991 года арестовали по приезде в Германию и поместили в тюрьму в Карлсруэ. В телефонном разговоре из США с Андреа он без промедления обещал помощь и поддержку. Он был готов внести залог, чтобы я вышел на свободу. При каждой мысли о Джиме Андреа вспоминает сегодня об этом разговоре, и она будет благодарна ему всегда.
Со строгими ограничениями и под большой залог, для внесения которого я так и не прибегнул к помощи Джима, меня освободили. Ограничения существенно сузили мою свободу передвижения на несколько лет. Когда мне после нескольких ходатайств разрешили постоянное пребывание на моем лесном участке, нас посетил там Саша. Радость была огромной.
Я как-то чувствовал в то тяжелое время, что сердца американца и русского бились в равной мере на моей стороне. Время, называемое поворотом, глубоко всколыхнуло нашу жизнь. Во всяком случае, я благодарен бурным обстоятельствам тех месяцев, потому что мне пришлось играть нежеланную роль коренника в нашей необычной тройке. Хотя мы более не встречались втроем, мы продолжали ощущать себя тройкой в единой упряжке.
В то время мы узнали много такого о жизни и внутренней жизни каждого из нас, что в нормальных условиях осталось бы неузнанным. Так, Саша казался нам до сих пор энергичным человеком-практиком. На одной из встреч мы узнали о необычной страсти русского. Он представил нам свою знакомую как медицинского научного работника, которая на основании собственного опыта заинтересовалась нетрадиционными методами лечения. Эта женщина обследовала нас всех подряд, причем посетительница сказала обо мне, что я вряд ли гожусь в медиумы, поскольку сам, якобы, обладаю способностями суггестивного лечения внушением. Она рассказала о своей работе в качестве научного секретаря комиссии Академии наук, которая специально занимается изучением сверхъестественных явлений. В комиссию входят, кроме ученых, также представители армии, космического агентства и КГБ. Многое звучало, как нечто оккультное, но мы уже часто слышали о некоторых вещах «между небом и землей», которые скрыты от нашего рационального понимания. От скоропалительных оценок в этом отношении я отучил себя за годы своей долгой жизни.
Саша через эту женщину обнаружил у себя способности естественного лекаря и взял на вооружение некоторые из ее приемов. Хотя она и предупреждала, что он не обучен и не имеет права переоценивать свои возможности, Саша пробовал, не внимая ее предупреждениям, использовать свой дар на друзьях и знакомых. При этом совсем не безуспешно. Вскоре после Сашиного посещения нас в лесу Андреа повезла Клаудию, страдавшую мигренями, к Саше, и он добился удивительного результата: мигрени с тех пор исчезли. Андреа описала его процедуру как передачу энергии. После интенсивного сеанса лечения Саша совершенно обессилел, а Клаудия впала в долгий глубокий сон.
Когда Инге и Джим снова приехали в Берлин и хотели приобрести участок земли совсем близко от нас, Саша и Галя с маленькой дочкой были уже опять в Москве. Это навело Джима на мысль пригласить Андреа в поездку в Москву втроем. Мне же из-за ограничений Федерального суда и сроков судебных заседаний было запрещено покидать свое место жительства. Так поездка состоялась без меня, и американцы познакомились с помощью Саши с новыми гранями московской жизни.
Джиму благодаря бесчисленным знакомым русского друга удалось установить новые деловые связи, которые он в последующем сумел развить. Подслушивающие устройства и прочие технические средства, первоначально предназначенные для оснащения КГБ, теперь более или менее легально были допущены на рынок и стали объектами деловой активности Джима.
В одну из следующих поездок Саша показал его в частном порядке вместе с сопровождавшим его немцем известному хирургу, руководителю большой клиники. К удивлению гостей, выяснилось, что не только профессор глубоко верующий человек, но и Саша убежденно принял веру русской православной церкви. Для него стало потребностью несколько раз в неделю посещать церковь и соблюдать ее правила. Как и профессор, Саша пил воду только из освященного источника. По его словам, церковь дает ему силы для продолжения жизни, и его друзья, как он считает, еще придут к этому убеждению. Джим, сам далекий от церкви, не принял всерьез это признание, тем не менее, отнесся к нему с уважением и внес пожертвование на храм во время совместного его посещения.
Саша окружил Андреа в это время вниманием и заботами о моей судьбе. Вместе они попытались оживить старые связи, чтобы сделать достоянием общественности абсурдность судебного преследования меня. Андреа также была поражена близостью Саши к священнику русской православной церкви. Во время посещения церкви ей сказали, что отец Геннадий, проповедующий в храме, молился за меня во время моего процесса. Слуга Господа благословил ее и говорил о своем глубоком убеждении, что дело завершится для меня благополучно.
Через годы после этого я посетил небольшую церквушку вместе с Андреа, в которой Саша познакомил ее с отцом Геннадием. Божественная служба проходила в здании колокольни, окрашенном в светло-голубой и белый цвета, сам неф храма еще дожидался реставрации.
Большой приток в церковь объясняется крушением «реального социализма» в России. Странным при этом представляется то, что именно большая часть «элиты» прошлой системы посещает церковь. Андреа и меня сердечно приветствовали в церкви офицеры и друзья Саши.
Знаки внимания и искренней заинтересованности приходили и от Джима и Инге, американских друзей. Ко дню начала процесса в 1993 году Инге прислала милую открытку с изображением кошки, и, желая поддержать подругу, написала: «Я могу только надеяться, что эти ужасные недели быстро пройдут и к Мише отнесутся справедливо. Я уже как-то верю в справедливое решение по его делу, поскольку весь мир следит за ним. Меня больше беспокоит ваше здоровье, эта разорванная семейная жизнь и новые сердечные страдания. Однако я знаю, что ты сильная и у тебя невозможно отнять веру в лучшее. Направь свой гнев против тех, кто нападает на тебя и кто неправедно причиняет тебе зло. Представь себе прокурора в подштанниках! Не огорчайся! Не отчаивайся ни от жизни, ни от человечества. Думай обо всех хороших людях, с которыми ты познакомилась в жизни, о цветах, о деревьях, море, солнце, луне и о нас».
Среди московских коллег и офицеров связи советской службы, работавших в Берлине, у меня были близкие и старые друзья, но в трудные дни испытаний дружбу Саши я ощущал постоянно. Он часто звонил мне и узнавал о ходе процесса. Однажды он договорился со мной о точном времени сеанса, во время которого я должен был сориентировать себя в сторону Востока и расслабиться. Поскольку вечером мне нужен был отдых, я, как и другие неверующие, следую принципу: почему не попробовать, если это не повредит! В условленный час я сел в затемненной комнате в кресло и расслабился. Я повернул ладони на Восток и думал о Саше, который, вероятно, в это время сконцентрировался на том, чтобы передать мне силы и энергию.
У меня не было недостатка во внутренней силе во время всего процесса. Зависело ли это от Саши, сказать я не могу.
К концу процесса произошел случай, о котором я рассказываю, испытывая внутреннее смущение. Это было в день, когда выступал с обвинением представитель федерального прокурора. Саша узнал у меня о времени этого выступления. Прокурор как раз начал обвинительную речь, когда в особо защищенном зале Верховного суда земли внезапно погас свет. Этот случай был единственным за всю историю суда.
Острой болью поразило нас внезапное известие о скоропостижной смерти Саши. Мы никогда не замечали у него никаких признаков болезни. Более чем загруженный по своей профессиональной деятельности, он постоянно спешил с одной встречи на следующую. Его друг-священник объясняет перенапряжение и без того больного сердца стремлением Саши оказать своими душевными силами помощь другим людям. В отличие от священников, которых обучают при оказании духовной помощи не допускать внутрь себя чужие страдания, Саша наряду со служебными обязанностями совершенно исчерпал силы своими сеансами. Его сердце не могло выдержать этого в течение долгого времени. Именно после лечебного сеанса он сел в машину, и сердце отказало. Он сумел еще затормозить и включить аварийную сигнализацию. После этого машина въехала в забор. Саше как раз исполнилось сорок пять лет.
Сразу же после того, как я получил возможность выезжать, мы поехали к Гале и с ней вместе посетили могилу Саши на Востряков-ском кладбище у кольцевой автодороги на Западе Москвы. Нам пришлось идти довольно далеко по грязи и остаткам тающего снега до той части кладбища, где находятся новые захоронения. Останки Саши покоятся под православным крестом. Над ним раскинула свои ветви береза. Галя перекрестилась и зажгла свечу перед фотографией Саши. Признаюсь, что крест и религиозный ритуал меня сначала покоробили. Естественно, я знал о его отношениях с отцом Геннадием, однако могила и религиозная церемония не соответствовали моим представлениям об умершем друге. Лишь позже из разговоров с Галей, с его близкими друзьями и отцом Геннадием я понял, насколько истово Саша в последние годы обратился к православной церкви.
Но, признаюсь, что бы я ни говорил о Саше в последующие годы, не создает полного и целостного образа моего друга.
От своих родителей Саша унаследовал некоторые таланты и свойства характера. Отец, выходец из Сибири, прошел суровую школу жизни, работая водителем от Кавказа до крайнего Севера - Чукотки. Саша рассказывал мне о нем как о веселом и в то же время суровом человеке, который часто испытывал серьезные трудности из-за своей прямолинейности. Отцу приписывали никогда не обманывавшую его интуицию, которая не раз спасала от верной смерти. Чуткую натуру отца и его твердую волю сын унаследовал так же, как и его золотые руки. Этими руками сибиряк мог сам построить дом вместе с печью. Он был заядлым охотником и рыбаком, знал места в лесу с лучшими грибами и ягодами. Он соревновался с женой в огороде, у кого лучше урожай с грядки.
Мать родилась на казачьем хуторе на Дону, попала на фронт, участвовала в сталинградской битве, потом прошла с Красной Армией до Берлина и написала свое имя на стенах рейхстага. Она была сильной личностью. Видимо, от нее Саша получил в наследство способность быстро увлекаться сразу многими различными делами, историей и рассказами, а также травами и натуролечением.
Сын рос на побережье Черного моря в предгорье Кавказа. Он всегда считал эту местность своей настоящей Родиной, любил море и больше всего горы. Еще мальчиком, гораздо раньше своих сверстников, он заинтересовался оружием. Когда у него нашли самодельный пистолет, мать попросила старшего сына от первого брака уделить внимание младшему. Хотя тому и удалось удержать брата от отцовского пристрастия к охоте, Саша остался фанатом оружия. Его страсть свела его в конце концов в Берлине в небольшом ресторанчике недалеко от Европейского центра с Джимом.
Поскольку любовь Саши к оружию проявилась уже в юности, старшему брату, наверняка, не стоило большого труда уговорить Сашу поступить в училище пограничников. Хотя военные порядки противоречили свойствам характера Саши, он счел их необходимыми для службы будущего пограничника. Он надеялся по окончании учебы проходить службу где-нибудь на отдаленном участке границы в горах.
Как часто бывает в жизни, все сложилось иначе, и Саша оказался на КПП международного аэропорта Шереметьево, подведомственного КГБ. И как складывается судьба: будущий священник Геннадий, тогда еще официальный сотрудник русской патриархии, должен был встречать в аэропорту иностранных гостей православной церкви. Поскольку проблемы пропуска через границу и таможенного контроля лучше всего решаются по взаимному согласию, они там и познакомились. Отсюда выросла симпатия и с годами необычная дружба. Однако прошло несколько десятилетий, на которые связь между человеком церкви и сотрудником службы безопасности прервалась.
Почему они возобновили связь и как офицер коммунистической службы безопасности, который скорее производил впечатление рубаки и любимца женщин, стал духовным целителем и православным верующим?
Отец Геннадий за прошедшие годы был посвящен в сан священника. Он рассказал, что Саша прямо-таки бросился к нему во время службы, не обращая внимания на паству, обнял и поцеловал. Религиозность уже была в Саше. Ему только пришлось соединить ее со своим интересом к народной медицине и методам природолечения.
Отец Геннадий, который, как и другие пациенты Саши, страдал от сильных головных болей, шутки ради согласился с предложением друга полечиться у него. Головные боли у отца Геннадия тоже исчезли.
Хотя начало его увлечения целительством и его обращение к религии примерно совпали по времени, Саша игнорировал запрет православной церкви на лечение такими темными методами, которые применял он, как бесовское. Однако негативное отношение церкви к его методам целительства тяготило его до самой смерти. Он не мог их оставить и говорил постоянно, что не может отказать в помощи людям, если они просят его об этом.
Говоря о времени после увольнения со службы, он считал, что призван создать свою практику в доме, расположенном где-то в горах, к которым был привязан, чтобы лечить людей, изучать природолечение и писать об этом.
Вероятно, любознательность и способность воодушевляться являются ключом к сути Саши. Так же как с детства его интересовали травы, народная медицина и необычные природные явления, работа с разными породами дерева и кожей, так позже его занимали языки и различные направления верований других народов. Галина хранит ящики с книгами Саши; среди них есть книги о буддизме и исламе. У Саши был период, когда он пытался дойти до основ представлений, распространенных в реакционных кругах России, о якобы существующих опасностях сионизма и масонства. Когда он встретился с одним из знакомых Джима, от которого узнал, что он входит в масонскую ложу, тот стал особым объектом его любознательности.
Любовь к ножам и оружию любого рода, его страсть к охоте и любовь к природе не мешали Саше заниматься время от времени паранормальными явлениями. Члены семьи и друзья должны были лечиться при заболеваниях только у него, из его сейфа постоянно исходил запах китайского жасмина, собранного на Кавказе шиповника и многих других сухих лекарственных растений.
Хотя Саша, по словам отца Геннадия, уже с ранних лет интересовался так называемыми «сакральными сторонами жизни» и знал учения пророков, начало его истинной религиозности пришлось уже на девяностые годы, то есть точно на время наших последних встреч. До тех пор в наших разговорах о ней не было речи.
В отличие от его духовного отца и Галины, я предполагаю, что его неожиданное поведение определилось не «внутренним просветлением», а, скорее всего, серьезными проблемами со здоровьем. С одной стороны, он обладал физическими способностями сибирского охотника, а с другой, уже в юные годы, вероятно, вследствие физического перенапряжения в трудные годы обучения в пограничных войсках страдал от бессонницы и слабости слуха. В Берлине была установлена недостаточность кровоснабжения мозга. Однажды его положили на несколько месяцев на обследование и лечение в клинику советских войск в ГДР. После этого он поклялся никогда более в жизни не попадать в руки врачей.
Некогда его пути-дороги пересеклись с той знакомой, которая определила его проблемы со здоровьем, лечила его экстрасенсорными методами и пробудила в нем самом призвание к целительству. Хотя эта женщина и предупреждала, чтобы он сам не занимался лечением, его стремление к знаниям и любопытство не давали ему покоя. Теперь он занялся интенсивно парапсихологией. Он достал соответствующую литературу и искал контакта с людьми, которые что-либо знали об этом.
Андреа и я испытывали трудности, пытаясь проследить путь Саши к ортодоксальной вере и в лоно православной церкви, которая, утверждал он, только и может принести человеку счастье.
Во время нашего продолжительного пребывания в Москве в 1990-1991 годах мы регулярно ходили в маленькую церковь близ нашего места проживания и могли наблюдать усердие верующих во время молитвы. Нам нетрудно было почувствовать, что верующие, в своем большинстве женщины, искали в божественной службе утешения и благословения. Естественно, мы знали, что простые и высокообразованные люди шли к Богу различными путями.
Как бы ни был и по сей день симпатичен нам умный отец Геннадий, нам казались чуждыми ритуалы церкви. Внешний блеск, роскошь облачений от простых священников до иерархов церкви - все это казалось нам пережитком Средневековья и противоречило основам веры, проповедуемым в Библии.
Я грущу потому, что больше не смогу поговорить с самим Сашей обо всем, что стало известно лишь после его преждевременной смерти. Каждый раз, когда мы бываем в Москве и вместе с Галей посещаем его могилу, я думаю о неисповедимых путях человеческих судеб и человеческого духа.
Можно иметь разные мнения об эзотерических феноменах. Что касается Сашиного призвания к целительству, то оно, совершенно определенно, не имеет ничего общего с шарлатанством. Это подтверждается несколькими различными свидетельствами. Его потребность помогать людям шла у него изнутри. О возможности передачи на расстояние мыслей или энергии от одного человека к другому, о воздействии внушения мы знаем еще, к сожалению, слишком мало. Мы говорим о «харизме» в смысле особого излучения, которым обладает человек, и пытаемся объяснить его более или менее непонятное действие «лучами».
Я бы не хотел, чтобы у читателя возникло иное представление о Саше, чем то, которое есть у нас. Поэтому я говорю: Саша был жизнеутверждающим человеком, в любой момент склонным к шуткам. По оценке отца Геннадия, он совсем не был аскетом, потерявшим интерес к жизни и к красивым женщинам. Священник, напротив, определил его как рыцаря и любимца женщин. Таким он показался также Инге и Джиму.
Саша был дисциплинированным и результативным офицером, который не уходил от конфликтов с вышестоящими начальниками. Подобно Джиму, он по своей природе был игроком и искал приключений, многие из этих авантюр, если бы о них стало известно, могли стоить ему карьеры. Личная независимость и свобода значили для него много больше, и ради них он отказывался от предлагаемых повышений по службе.
Свободным и независимым он был также в своих политических оценках и не скрывал от американцев, что не одобряет президента Горбачева и его политику. Однако он был верен своей стране, презирал предательство и предателей. Мы никогда не слышали от него ни единого нелестного слова о России.
Он любил одиночество на природе. Хотел провести остаток жизни на своей первоначальной Родине у моря и гор. Купил небольшой участок земли недалеко от аула, горной деревушки, и начал там строить дом. Когда уезжал из Берлина, набрал с собой много разного оборудования для дома и различных инструментов, которые могли оказаться полезными для этой работы.
Саша мог проводить долгие дни один в отдаленной хижине, но ему бывало необходимо и общество, он искал и сразу же находил контакт с людьми. В его обществе мужчины, выходцы из разных народов Кавказа - чеченцы, черкесы, армяне или азербайджанцы - забывали об унаследованной враждебности, в его обществе царили мир и дружба.
Саша больше всего любил свою дочь, помогал везде, где только можно, никогда не сидел сложа руки. Перед смертью он глубоко поверил в Бога, но никогда не боялся гнева Господня.
Память о Саше неизменно окрашивала наши отношения с Джимом и Инге в годы после его неожиданной смерти.
Джим и Инге купили дом с участком по соседству с нашей летней резиденцией и теперь перестраивали его по своему вкусу. Джим навез вагон американского хозяйственного оборудования и постепенно заполнял подсобные помещения своими бесчисленными приобретениями торговца военным имуществом. Когда он узнал, что во время Второй мировой войны в ближайших и отдаленных окрестностях упали несколько «летающих крепостей» американских ВВС, то не успокоился, пока не нашел с помощью старого крестьянина и лесника того поля, с которого увезли остатки такого бомбардировщика. Он не только сложил на своем участке целую гору алюминиевых обломков. Интуиция заставила его перепахивать поле с помощью крестьянина до тех пор, пока он не нашел обломок с табличкой завода-изготовителя. Всего через несколько дней он выяснил через соответствующий отдел министерства обороны США день падения машины и имена членов экипажа. Его хорошие отношения с одним из продюсеров фильмов, с которым он меня позднее познакомил, и собственная съемочная команда позволили взять интервью у свидетелей события для одного из проектов по американской военной истории.
Наше соседство углубило дружбу. Как автору книги о тайнах русской кухни мне пришлось позаботиться о кулинарной вершине праздника новоселья в новом хозяйстве Джима, и я приготовил тройную уху, сибирский рыбный суп. На празднестве мы встретились с некоторыми друзьями Джима по службе в Берлине еще до падения стены. С этого времени Джим и Инге стали постоянными гостями на наших семейных праздниках и познакомились с членами нашей многочисленной семьи и ближайшими друзьями.
Нередко, когда наши женщины отправлялись в Берлин, Джим запросто без предварительной договоренности заходил ко мне, и мы за стаканом красного вина философствовали о жизни, пока не укладывались в разные стороны на угловом диване, где женщины по возвращении находили нас спящими. Словом, в наших отношениях царствовала гармония.
Джим взял на себя большую часть хлопот по моему судебному процессу и по реализации издания моей книги в американском издательстве, которое приобрело эксклюзивные права на нее. Он познакомил меня с некоторыми своими друзьями в США, которые, как он полагал, могут внести вклад в преодоление предубеждений, собрать нужные для защиты аргументы и установить связи, полезные для паблисити. Он все время придумывал планы поездки по США, в которой я должен был стать его гостем. Он любил свою страну, как Саша свою землю. Наверняка нам потребовалось бы не менее года, чтобы посетить всех друзей и все достопримечательности, которые Джим наметил.
Постоянно Джим разыскивал предметы и сувениры для музея шпионажа, который хотел создать рядом с бывшим КПП «Чек Пойнт Чарли» в центре Берлина. В это время у него была также идея снять с помощью приехавшей из США киносъемочной группы интервью со мной без всяких ограничений. Мы сидели перед камерой и вели непринужденную беседу обо всем, «что могло заинтересовать моих внуков». Так возник видеофильм, хранящийся у меня, при съемках которого в течение многих часов Джим задавал вопросы, а я давал ответы на своем тогда весьма скромном английском. В отличие от остальных кинодокументалистов, Джиму удалось своим почти наивным любопытством и сдержанным участием вытянуть из меня, возможно, самый откровенный и точный рассказ о жизни. Для него я был свидетелем событий и кусок истории, к которому можно было непосредственно прикоснуться.
Я считаю, что мне в наших продолжительных беседах удалось не только донести мою собственную позицию, но также и взгляды наших исторических героев-предшественников и мотивы действий разведчиков моей стороны.
Однажды Джим поехал в Лондон, чтобы приобрести на аукционе для запланированного им музея шпионажа предметы из имущества, оставшегося в наследство после Кима Филби. Он привез мне оттуда фотографию Филби с надписью, сделанной рукой вдовы Филби, где можно увидеть и меня рядом с этим всемирно известным человеком. Джим говорил об англичанине с уважением, а не так, как говорят в его стране о нем, - как о предателе. Когда во время моего процесса Джим предпринял в США шаги в мою пользу, которые, возможно, не совсем отвечали интересам его бизнеса, я вижу в этом не просто свидетельство симпатии. Он видел во мне, как и в Саше, и в тех, за кого мы отвечали когда-то в нашей службе, глубоко убежденных солдат. Он очень хорошо понимал - и относился к этому с уважением, - что я, даже находясь под угрозой заключения, не чувствую себя свободным от этой ответственности и, как могу, прилагаю усилия для прекращения преследования этих «солдат невидимого фронта».
Так что же такое доверие? Как его завоевывают? Конечно, для этого требуется время и опыт. И все же и в службе разведки я очень сильно полагался на свою интуицию, на чувство. Нередко возникали вопросы, когда речь шла о надежности контакта. Тогда я спрашивал сомневающегося сотрудника: представь себе - война и ты получаешь задание пойти в разведку за линию фронта. Пойдешь ты в одиночку с этим человеком? Даже когда речь шла об офицерах высокого ранга из центрального аппарата, я ставил перед собой этот вопрос. И я не всегда давал положительный ответ.
Конечно, я не мог быть уверенным в том, что знаю или узнал от него все о деятельности Джима на службе своей стране. Из его рассказов я мог заключить, что он был не так уж далек от американских спецслужб, многие сделки он вообще не мог бы совершить без благословения ЦРУ.
При рассказе о своих трудностях с правосудием он походя упомянул имя Оливера Порта, того самого подполковника, который своими скандальными сделками с оружием привлек внимание прессы и которого он буквально вытащил при защите в суде. Из его снисходительных замечаний о бюрократах, которые есть во всех аппаратах и на Востоке, и на Западе, можно было догадаться, что ему пришлось испытать малоприятные переживания. Более детально он никогда не говорил об этом.
Естественно, Джим мог ожидать так же мало и от меня, что я раскрою ему тайны времен моей службы. Наша дружба и взаимное доверие, возникшие за те недолгие бурные годы, строились на сугубо личной основе, весьма далекой от нашей прежней деятельности. У меня было чувство уверенности, что Джим никогда не предаст меня и ни в какой ситуации не оставит в беде. О Саше я вообще не говорю. С ним я готов был идти без колебаний в огонь и воду.
В последние годы жизни Джим с удовольствием жил в доме по соседству. Он вбил себе в голову, что должен поставить в углу гостиной камин американских размеров, а гранитные плиты к нему обязательно должны быть из развалин Каринхалла. Он немедленно начал сам осуществлять этот типичный для американцев проект. Мастер, специально прилетевший из США, который был обязан ему за гуманитарную помощь во время лечения от наркозависимости, выполнял строительные работы, а при возведении трубы Джим даже собственноручно помогал ему.
Тяжелые гранитные блоки, видимо, сверх меры перенапрягли его силы. Однако его глаза заблестели, когда загорелся огонь, и мы выпили за его шальной проект и за его здоровье.
Джим сидел у этого горящего камина единственный раз. Он стал часто жаловаться на усталость. Иногда лежал до полудня в кровати. Он начал писать свои воспоминания, однако работа не шла. Кое-что он читал мне, ранее он писал стихи, прочувствованные рифмы. В них он отражал свои мысли о смысле жизни, нередко пользуясь сравнениями из природы, особенно полетом птиц. Были также и мысли о смерти, но не было предчувствия ее. Он все откладывал основательную проверку состояния здоровья, хотел сделать ее при следующей поездке в США в клинике, в которой обычно наблюдался.
Непосредственно по окончании моего второго процесса и выхода в свет моих мемуаров в Германии и в США, а произошло это в июне 1997 года, к нам пришло известие, что Джима положили в больницу с диагнозом: опухоль мозга. Немедленно я написал ему: «После недели волнений мы на один день приехали в наш лесной уголок. Как нам не хватает вас! Мы постоянно вспоминаем твои слова о дружбе. Известие о твоей болезни придает им еще больший вес. Андреа много раз за день повторяет: Джим сумеет победить болезнь, он сильный, он нам нужен. Это тем более важно, потому что мне снова отказали в визе на поездку в США. Чиновник государственного департамента по этому поводу дал публично такой глупый ответ, что мне позвонили несколько возмущенных американских журналистов. На вопрос, почему я хочу поехать в США именно сейчас, я ответил, что меня ждут члены моей семьи и друзья, при этом я имел в виду моего хорошего друга Джима в Саванне.
За прошедшие недели рекламной кампании по моей книге мы вспоминали о вас в разных городах. В последнем телефонном разговоре ты рассказал, как огорошил врача при исследовании катетером. Как весело мы смеялись! Дай нам с нашими любимыми женщинами еще не одну такую возможность и почаще. Им с нами живется нелегко. Но именно тогда, когда они больше всего нужны нам, мы узнаем об их любви.
Инге прочитает тебе это письмо. Мы знаем, что она рядом с тобой. Это твое большое счастье, что она у тебя есть. Да ты и сам знаешь это лучше нас.
Джим, мы тебя обнимаем. Выздоравливай скорей. Мы хотим еще в этом году устроить здесь на природе настоящий праздник с ухой и грилем.
Тысяча поцелуев смелой Инге».
С празднованием ничего не вышло. Плохие известия множились. Джиму сделали операцию, но его состояние вызывало все большее беспокойство. Несколько раз мне удалось связаться с ним по телефону в больнице. Он старался придать своему голосу, звучавшему все более глухо, звонкую уверенность. Он говорил о совместном кинопроекте, хотел выслать мне договор и давал трубку кинооператору, который в это время был у него и которого я знал еще по интервью Джима со мной.
По факсу он прислал мне изображение в виде луны, которое, должно быть, было его головой. С одной стороны он поместил большой шрам с надписью по-немецки печатными буквами: «Мой голова капут! Но я очень силен!». С другой стороны по-английски: «Надеюсь увидеть вас в Саванне!» И ниже: «Мише и Андреа, спасибо вам за то, что вы мои друзья! Мне нужны вы и ваша поддержка. Мне вас очень не хватает. Вы оба мне очень близки». Затем опять по-немецки: «Свобода и дружба. Тысяча поцелуев и любовь от Джима».
Я послал в госдепартамент США ходатайство о предоставлении мне трехдневной визы для посещения больного друга. Я приложил все медицинские справки с письмом лечащего врача. Ответа я не получил. Справки с диагнозом я показал своему профессору, который также знал Джима. Он не мог сказать ничего утешительного, назвав лишь медикаменты, известные из американской литературы, тормозящие развитие опухолей.
В этой ситуации человек старается почерпнуть хоть каплю надежды, используя любую возможность, любой источник. Инге написала, что вспомнила профессора, с которым Джим познакомился через Сашу. Может, там они ушли дальше в лечении этого вида опухолей. Она, как и Джим, думала о Сашиных методах лечения и просила меня, чтобы я срочно нашел там целителя. «Я борюсь за него и вокруг него и цепляюсь за надежду, ведь бывают такие ситуации, когда случается чудо».
За недели, заполненные презентациями моей книги, в том числе и за рубежом, я старался сделать все, что было в моих силах, чтобы не упустить такую возможность. Я вел переговоры с Москвой и Сан-Франциско, где нам рекомендовали русского чудо-целителя. Тот был готов лечить нашего друга. Однако не мог к нему поехать. В конце концов многочисленные телефонные разговоры с известной «духовной целительницей» из Санкт-Петербурга, врача с научной степенью, дошли до такой стадии, когда в июле были получены все необходимые для лечения и визы документы. Однако 20 июля пришло известие о неизбежном. Джиму было шестьдесят семь лет.
Через два года прах Джима похоронили на кладбище героев-воинов в Арлингтоне. При погребении ему были оказаны все почести, которые оказывают только генералам или военнослужащим, имеющим особые заслуги. В торжественной траурной церемонии участвовало несколько генералов, которые отдали Джиму последнюю честь. Играл военный оркестр, несколько подразделений сопровождали траурный кортеж; и произвели прощальный салют. Как положено, звезднополосатый флаг покрывал гроб и был сложен в соответствии с церемониалом и передан Инге. Один из генералов устроил семье и многочисленным гостям, приехавшим из Германии, специальный осмотр Белого дома. Могила Джима находится теперь не далее ста пятидесяти метров от места захоронения Джона Ф. Кеннеди.
С учетом сложностей, о которых мне рассказывал Джим и которые привели к его уходу из армии в чине подполковника, такие почести при похоронах необычны. Возможно, у Джима были заслуги, которые остались тайной для меня.
Мне было нелегко изложить на бумаге воспоминания о Джиме и Саше. Слишком много собственных переживаний и эмоций было связано с этими годами наших отношений. Теперь наконец я все же закончил эту историю дружбы втроем, и жаркое лето показывает себя во всей красе в нашем лесном доме у озера.
Как весной, взгляд проникает через деревья к озеру, переполненному солнечным светом. Между кувшинками прокладывают свой путь лебеди с новым выводком. И снова появляется чувство, что Джим может в любой момент появиться через открытые ворота и, как само собой разумеющееся, негромко произнесет свое «Хэлло!».
Многое напоминает нам о Джиме, его так же невозможно вычеркнуть из памяти о нашей жизни в те годы, как и Сашу. В трудных ситуациях появлялся либо один, либо другой. Спустя годы светящиеся траектории их дел не исчезли, и с трудом веришь, что оба они так рано, даже слишком рано покинули нас, сперва молодой Саша, а после него пожилой Джим. Они оба нам так близки, что Андреа часто говорит: Саша, наверное, просто призвал к себе более старого друга, чтобы самому не очень скучать. Оба теперь будут наблюдать за нашими делами из «другого мира» и, как при жизни, разыгрывать своими веселыми шутками.
Иоганна
Во время моего процесса в Верховном суде земли в Дюссельдорфе к свидетельскому пульту подошла седовласая строго одетая женщина. Конечно, я сразу же узнал Иоганну и никогда не забуду ее достойного выступления.
Странное юридическое построение тогдашнего процесса должно было создавать видимость моего осуждения не вследствие моей общей ответственности как руководителя разведывательной службы ГДР, а исключительно за то, что я лично ответствен за подстрекательство к шпионажу и предательству при руководстве действиями агентов. Это намерение обвинения провалилось. Приглашая свидетелей, с которыми я лично имел контакт, прокуратура невольно опровергла широко распространенные среди общественности клише. Перед залом, большей частью переполненным, ни один из свидетелей не подтвердил утверждений обвинителей о том, что большинство наших агентов действовало под давлением или из низменных побуждений. Один за другим, свидетели и свидетельницы, в том числе доставленные из тюрем, в своих показаниях продемонстрировали стойкость, которой я могу гордиться. Иоганна в том числе. Но она не была исключением. Ее мысли и действия типичны и для других, чьи истории еще не написаны. У каждой из этих историй свое начало, и протекали они по-разному, но движущие мотивы в них совершенно схожи.
По сравнению с другими свидетелями Иоганна в своих ответах выделялась спокойствием и полной невозмутимостью - несмотря на предшествовавшее заключение и собственный уголовный процесс. По тому, как она вошла и как она выступала, по тонким чертам лица уже немолодой женщины ее можно было принять за преподавателя литературы и истории в старших классах. И такое впечатление, учитывая прежнюю жизнь Иоганны, не было бы неверным.
Из первых же ее показаний, когда председательствующий задавал формальные вопросы, выяснилось, что она с самого начала выбрала педагогическую стезю. Ученицей педагогического училища под Катовице, в нескольких сотнях километров от родного местечка в Верхней Силезии, Иоганна встретила конец войны. Ей было восемнадцать, ей предстояло лишь сдать экзамены и после этого вместе с однокурсниками готовиться к работе в завоеванных Восточных областях. Это было в январе 1945 года, фронт подходил все ближе, постоянно звучали сигналы воздушной тревоги, все абитуриенты хотели вернуться к своим семьям на Родину и нетерпеливо ожидали эвакуации. В судебном зале стояла тишина, когда Иоганна рассказывала о пережитом в конце войны, что, по ее словам, определило ее последующую жизнь и деятельность.
Недалеко от их общежития, расположенного на небольшом возвышении, проходило шоссе, по которому конвойные команды СС гнали заключенных из лагеря Освенцим. Это была бесконечная вереница тех, кто, по ее словам, были когда-то людьми. Когда через несколько дней учителя достали повозки и лошадей для эвакуации школы - все время были воздушные тревоги, - их колонна пошла по этому же шоссе, следуя почти все время позади колонны заключенных. Много дней подряд школьники и школьницы видели вблизи неописуемые страдания заключенных, одетых большей частью в тряпье. Была холодная зима. Заключенные тащились из последних сил, в полосатых лохмотьях, служивших им одеждой, босые или в деревянных сандалиях, при сильном морозе, по снегу и льду. Эсэсовцы подгоняли их, то там, то здесь по обе стороны дороги лежали трупы, между ними валялись кухонные принадлежности, остатки одеял, повсюду дерьмо. И такое простиралось на многие километры.
Через восемь дней Иоганна оказалась недалеко от Нейсе, почти дома. Сразу же на нее свалились обычные заботы и нужды: дом полон беженцев, отец смертельно болен, сестра беременна. Только энергичное вмешательство отца - он был железнодорожником - позволило семье бежать на последнем поезде. Так добрались они через Ризенгебирге, пересекая всю Чехию, в Оберпфальц, чтобы наконец очутиться в Фогтланде. В судебном зале она рассказала, что картина ужасного марша смерти заключенных Освенцима все это время не уходила из памяти.
Лишь позднее она осознала взаимосвязь увиденного и пережитого ею с господством Гитлера и войной. Она решила сделать все, чтобы не допустить повторения этого никогда. Постепенно она поняла, что следует убедить людей в том, что мир несравнимо важнее, чем те глупые лозунги нацистов, которые ей вдалбливали. Нужно положить конец надменной болтовне о «немецкой сути, которая оздоровит мир». Люди должны быть просто людьми. И в конце концов это было ее путеводной нитью, мотивом, почему она согласилась сотрудничать с разведывательной службой ГДР.
Все сказанное Иоганной, наглядно воссозданная ею картина вызвали такое замешательство в зале, что прокурор потерял самообладание. Ему не пришло в голову ничего лучшего, как спросить свидетельницу, почему она, вместо того чтобы думать об Освенциме, не подумала о Вальдхайме, Баутцене, строительстве Берлинской стены и жертвах на внутригерманской границе. Иоганна не поддалась на этот провокационный вопрос, а отреагировала совершенно спокойно: «Господин Председатель, Вы действительно хотите, чтобы я ответила на этот вопрос?»
Позднее она вспоминала об этой ситуации и о своем собственном процессе, который состоялся в 1992 году в том же зале и с тем же председателем суда: «Удивительно, но у меня было постоянное чувство внутреннего превосходства. Судебный сенат и прокуроры не имели ни малейшего представления о том, чего мы хотели, что передумали и пережили. То, что было дорого нам, было чуждо для них. Они просто не могли понять моих мотивов, поскольку они были пленниками собственных предрассудков. По сути дела, все это им было совершенно безразлично. Мне помогало сознание того, что я делала нечто правильное и важное. Что они думали по этому поводу, не имело значения. Поэтому я не волновалась и следила, можно сказать, с любопытством, как все это происходит. Я чувствовала даже дружелюбие и готовность помочь мне со стороны рядовых судебных работников».
Мотивацию ее действий во многом проясняет и ее профессия: в советской оккупационной зоне в школьном деле происходят глубокие перемены. Вместо учителей, отягощенных нацистской идеологией, приходят новые учителя, прошедшие ускоренный курс подготовки. Так, Иоганна, которая хотела еще основательно подучиться, вскоре оказывается в роли нового учителя в Саксонии. Правда, при ответе на вопрос, что такое социализм, связала его с известным ей понятием «социус», но ей зачли как положительный момент то, что она сопоставила это слово со своими представлениями о совместной жизни в обществе. Вскоре она сдает и второй экзамен на учителя, оставаясь все еще учащейся учительницей.
Ее способности привлекли внимание, и в 1960 году она была переведена в министерство народного образования в Берлин. При ее окрепших политических воззрениях и личном обаянии перед ней открывается научная карьера. После прохождения политических курсов ей предложили поступить в заочную аспирантуру.
И вдруг в ее жизни происходит неожиданный, возможно, однако, логичный поворот. С точки зрения сегодняшнего дня этот шаг можно истолковать так, будто с самого начала Иоганна целенаправленно искала пути в секретную службу - иначе сказать, разведку, а именно, с чистым сердцем вести борьбу против любых форм реакционной политики в Германии, которая в XX веке уже дважды приводила к тягчайшим войнам. В действительности путь этот начался для нее, как и для большинства других посланных на Запад разведчиков, почти незаметно, даже довольно прозаично.
Один из ее друзей предоставлял органам госбезопасности свою квартиру для встреч с секретными информаторами. Этот человек решил жениться на женщине с четырьмя детьми, и тогда двойное использование квартиры становилось невозможным. Он предложил Иоганну вместо себя. Она, ничего не зная об этом деле, соглашается, поскольку в ее квартире все равно никого нет во время ее школьных занятий. Офицер, ответственный теперь за работу с ней, обнаружил в ней такие качества, которые в конце концов привели к беседе с одним из сотрудников руководимой мной службы. К концу беседы ей был прямо поставлен вопрос, согласна ли она работать на внешнюю разведку ГДР, выехать с этой целью на Запад и работать там по ее заданиям. Отныне в ее жизни произошло судьбоносное изменение.
Первая встреча состоялась в Берлинском дворце у крепостного рва на Унтер ден Линден за зданием «Нойе Вахе», тогдашнем Доме немецко-советской дружбы.
С тех пор прошло более тридцати лет. Я сижу с Иоганной в том же доме в Таджикской чайхане, и она рассказывает мне о былых событиях. Хотя мы оба не относимся к числу тех, кто слишком долго предается далеким воспоминаниям, в этом доме, внешне почти не изменившемся, многое напоминает о дорогом и не утратившем свою ценность.
Мероприятия и выставки стали скромней, но они еще проводятся (или уже снова проводятся). Между представительствами фирм и банковских бюро в нескольких комнатах еще живет кусочек ушедшей культуры. В небольшом Дворцовом театре выступают актеры, известные публике ГДР, клуб артистов «Чайка» нашел в доме новое пристанище. Он гораздо меньше, чем его легендарный предшественник послевоенных лет «Чайка», который находился в ныне почти совсем развалившемся дворце Бюлова на Луизенштрас-се. Клуб продолжает жить как общедоступное место встреч активных и заинтересованных людей, которые пытаются сохранить верность уходящему чувству общности своих идеалов. В Таджикской чайхане для Иоганны живым остается связанное с этим домом искреннее чувство дружбы к народам Советского Союза. И она вспоминает о начале своего пути разведчицы.
Тогда Иоганна попросила время на раздумье и думала о том, годится ли она вообще для разведывательной работы. Как учительница она доводит до сознания своих учеников, что жить и работать нужно в условиях мира. Кроме этого, у нее нет ни семьи, ни детей, которые зависели бы от нее. Через некоторое время она дает согласие, если она пройдет предварительную проверку, насколько она пригодна к работе такого рода. Иоганна не ставит никаких условий, ни о сроке ее использования, ни о материальных требованиях. Продолжение выплаты зарплаты ей гарантируют.
Пока она учится в политической школе, проводится несколько пробных операций. Весьма непросто объяснить правдоподобно однокурсникам причины пропусков занятий. Первым поручением была поездка в Западный Берлин для наблюдения за одним домом и выяснения, кто и на каком этаже живет в доме. Она должна купить очки и выполнить ряд других простых поручений. Все это делается для того, чтобы приучить Иоганну к атмосфере Запада. Поездка в Вену преследует аналогичные цели, хотя на этот раз она выезжает уже по фальшивым западногерманским документам и должна встретитьсмя там с законсервированным источником. Для этой цели она должна хорошо владеть данными документов, по которым выезжает. Ей поручено подробно описать пограничные процедуры и иные наблюдения. В поезде она еще раз проверяет и повторяет данные, указанные в документах, и готовится к предстоящим проверкам.
Улыбаясь, она рассказывает, что, хотя и чувствовала напряжение, волнения не было. Она просто вела себя исключительно как любопытный человек. У нее часто бывает так: новые дела требуют большого внимания, и до волнения или страха просто не доходит. При поездке в Вену сон сморил ее еще до границы. Когда проснулась, она была уже в Австрии. Пограничный контроль она просто проспала.
По прибытии в Берлин все же произошел один из таких случаев, которые вызывают сердцебиение у разведчиков. При выходе с пограничного КПП ГДР на вокзале Фридрихштрассе ее узнала знакомая и приветствовала громким «Халло!». Вот тут она действительно разволновалась. Тогда она еще не могла знать, что документы на другие личные данные, к которым она уже совершенно привыкла, много лет спустя сыграют с ней злую шутку.
После этих пробных заданий начинаются дела серьезные. Ведущий офицер за это время интенсивно поработал, чтобы создать правдоподобную легенду для переселения в Западную Германию. От отдела, созданного именно для этих целей, он получил сведения о женщине, которая долгие годы работала на Западе парикмахершей, потом тяжело заболела и сейчас находится в одной из больниц ГДР с неизлечимым психическим заболеванием. Отдел, из которого поступили сведения, установил все важные данные из жизни этой женщины, собрал необходимые документы, доработал их и взял на себя регулярный контроль за местонахождением больной. Лишь теперь для Иоганны начались основательная подготовка к работе и, как правило, довольно долгие и тягучие приготовления, необходимые для вывода разведчика на Запад по такой схеме.
После оформления ухода с курсов обучение ведется первоначально на ее квартире. Ведущий офицер обучает ее азбуке разведывательного дела, подготовке, обеспечению и проведению встреч, закладке тайников для передачи материалов с выполнением практических учебных заданий. Различные сотрудники, не знакомые ей, учат передаче радиограмм, фотографированию, пользованию тайнописными средствами и многому другому.
Параллельно с этим она заканчивает в народной школе курсы стенографии и машинописи: ведь не должна же она на Западе работать парикмахершей. Для создания легендированной биографии, подходящей для новой разведывательной карьеры, необходимы несколько поездок за границу.
Неоднократные выезды, каждый на несколько недель, в Лондон, Эльзас, Швецию, изучение въездных и регистрационных формальностей, условий работы, поиск подходящего района проживания занимают примерно два года и связаны с непрерывной подготовкой и разрешением множества вопросов, относящихся к личности ее «оригинала» в Западном Берлине. Наконец, к середине шестидесятых все завершено.
После ухода в отставку я иногда спрашивал себя, что означает для такого человека, как Иоганна, отказаться от профессии педагога и возможной научной карьеры и посвятить себя закладке тайников в парках и подобным рядовым делам во имя целей, лежащих в тумане неизвестности.
Я знаю, что в нашем центральном аппарате, в особенности ученым-естественникам, стоило больших усилий выполнять свои тяжелые обязанности, часто далеко отстоящие от выбранной ими профессии. В разведке лишь на долю немногих выпадает большой успех - внедрить агента на то место, где таятся подлинные секреты. Из сотен тех, кто начинает гонку, многие сходят с дистанции и лишь одной или одному удается прийти к цели победителем. Из большого числа наших агентов, направленных на Запад, многие страдали от противоречия между целью жизни и реальностью, люди со слабой волей отказывались. Быть может, мы от слишком многих требовали слишком много? Тем большего уважения заслуживает позиция тех, кто без колебаний отказался от лежавшей перед ними карьеры и пошел по новому пути так, как это сделала Иоганна.
И все же для Иоганны ее жизнь под новой личиной не могла быть безоблачной. Она ведь знала о существовании своего двойника. Она намеренно не думала о связанной с этим неопределенностью. Первоначально ее больше занимали другие вещи из ее прошлой жизни. Например, работа парикмахера, совершенно чуждая ей. Иоганна придумывает несколько правдоподобных причин, например, аллергию, по которым ей пришлось оставить «свою» профессию. Вместе с ведущим офицером они обсуждают бесчисленные проблемы, с которыми ей, возможно, придется столкнуться. Их девиз: при использовании новой биографии нужно быть готовым к любой случайности. Большинством из того, чему ее учили, Иоганне не придется пользоваться, как ей не придется рассказывать никогда и никому свою тщательно заученную и постоянно повторяемую легендированную биографию. Так же, как ей никогда не придется иметь дело с радиопередатчиком, никто не будет расспрашивать ее о деталях о ее биографии. Этим она обязана своим всегда дружелюбным и уверенным манерам.
Как и любой внедренный разведчик, в первую очередь она должна совершенно незаметно и без выполнения каких-либо разведывательных заданий создать условия достаточно обеспеченной жизни. В небольшом городке в земле Гессен она поступает на должность служащей страховой компании, куда ее взяли с довольно невысоким окладом. Через определенное время обживания она, согласовав это с берлинским центром, воспользовалась предложением одной коммерческой фирмы переехать в Гамбург. Задачей отдела, который отвечал в разведке за ее работу, было проникновение в руководство западногерманских партий, представленных в бундестаге. Поэтому местом намеченного использования Иоганны называется Бонн. Итак, проработав один год в Гамбурге, она помещает объявление в газете «Боннер Генеральанцайгер» о желании получить работу в столице ФРГ.
Среди многих писем, полученных ею, было одно письмо от влиятельного политика и депутата бундестага. Довольный ведущий офицер рекомендует ей немедленно соглашаться. Он, однако, не знает, что этот депутат - именно тот политик, который находится под моей личной опекой и которому посвящена другая глава настоящей книги, рассказывающая о «сэре Уильяме».
Несмотря на строгую иерархию в структуре управления и тщательный учет по картотекам всего происходящего, в конспиративно действующих службах нередко случается, что один отдел совершенно не в курсе того, что делает другой. Из-за этого иногда возникают серьезные осложнения. В данном случае, естественно, Уильям был так же мало посвящен в отношения Иоганны с нами, как и наоборот. Иоганна узнала об этой взаимосвязи спустя немало времени после смерти ее первого оперативно интересного работодателя.
В политически особенно интересное время подготовки Восточных договоров с Москвой и Варшавой при канцлере Вилли Брандте мы получили через Уильяма и Иоганну двойной выход к закрытой информации в комиссиях бундестага по внутригерманским и международным делам и на руководство одной из правительственных партий. Оба источника во многом способствовали тому, что наше правительство знало о готовящихся предложениях к только что начатым переговорам по транзитному соглашению и Договору об основах отношений между ФРГ и ГДР, который продвигался со значительными трудностями. Мы постоянно были в курсе позиций различных партий в Бонне по этим внешнеполитическим проблемам.
Важность информации из обоих источников и отнюдь не беспроблемное переплетение линий работы стали причиной того, что я принял участие во встрече с Иоганной в Берлине и лично познакомился с ней. В моей памяти осталось, что и тогда она так же естественно и непринужденно подошла ко мне, как мы общаемся друг с другом сейчас. И только сейчас я услышал от нее, как ведущий офицер готовил ее к встрече со мной, генералом. На суде она об этом не сказала ни слова. Мне было неприятно узнать, что ей было указано строго соблюдать этикет и форму, отвечать только на вопросы и ни в коем случае не говорить мне «ты». Этого она вообще не могла понять, она же видела во мне товарища, обращаться к которому на «ты» было вполне нормально. Тогда она решила вообще избегать прямого обращения. В нашем разговоре с первой минуты не было ничего формального. Позже Иоганна сказала мне, что в глазах темно от волнения было не у нее, а у других.
Этот первый разговор тогда сам по себе перешел в политическую беседу двух единомышленников о процессе разрядки, продвигавшемся с таким тяжким трудом, о противоречиях, возникающих при этом внутри политических партий ФРГ, и позициях лиц из окружения Иоганны. Естественно, мы говорили и о персональном положении Иоганны, и о моей жизни.
Допрос Иоганны об этой встрече должен был стать козырной картой обвинения в вызове Иоганны как свидетельницы на моем процессе. О чем шла речь на этой встрече - хотел узнать господин председатель. И какие задания свидетельница получила от меня.
Ответ Иоганны прозвучал как анекдот. Это был очень приятный разговор, сказала она. «Поручений я от него не получала. Мы поговорили о жизни вообще и в Бонне в частности, о литературе, а также о кулинарии. Мы говорили о Швабской Юре, о его отце Фридрихе Вольфе, его брате Конраде, режиссере, а также о клёцках и поваренных рецептах». Это была чистая правда, но я, сидя на скамье подсудимых, не смог удержать улыбку.
Хотя на встрече мы и не обсуждали вопрос о желательности перехода ее на другую работу, поиски путей к тому, чтобы развести эти два источника, продолжались. Уильям с большим удовольствием оставил бы ее у себя. Изменение его положения, при котором он мог бы платить ей зарплату только из личных средств, позволило воспользоваться этой возможностью для разделения двух источников под правдоподобным предлогом. Уильям рекомендовал свою сотрудницу генеральному секретарю своей партии, до которого и ранее доходили сведения о ее трудолюбии. Так благодаря ее целеустремленности и умению по-умному приспосабливаться Иоганна получает работу, которая всего лишь за несколько лет превращает ее в одного из наших лучших источников.
Для Иоганны, чтобы достичь такой цели, было важно лишь одно - оставаться на хорошем счету. Сначала необходимо было просто сориентироваться в новой области, выяснить, что здесь происходит, кто важен, кто нет, какие течения и направления господствуют. Все это делается отнюдь не через шефа, а через коллег, женщин и мужчин. Она должна установить с ними тесный контакт и закрепить хорошую репутацию, которая у нее уже есть благодаря ее заинтересованности, уравновешенности и готовности оказать помощь. Часто это стоит усилий и требует постоянной отдачи всех сил. Иоганна вынуждена принимать приглашения на обеды и иные мероприятия и тогда, когда они не отвечают ее склонностям или настроению. Особенно тяжело было для Иоганны, когда кто-то добивался ее доверия и даже рассчитывал на дружбу с ней, а она как бы была и в то же время не была тем человеком, к кому обращались эти чувства. Есть симпатии, и в то же время необходимо постоянно оставаться скрытной. В дружбе ей нельзя заходить слишком далеко и нельзя открыться так, как тебе бы этого хотелось.
Повседневная жизнь разведчика после вживания - тяжелая работа. Для получения доступа к информации Иоганна берется за такую работу, которую она никогда бы не стала делать, например, соглашается писать протоколы важнейших заседаний, в том числе в сверхурочное время. Информация, полученная из бесед, должна быть записана вечером или в полночь и подготовлена к пересылке. Со временем Иоганна отрабатывает возможности копирования важных документов, которые нельзя взять домой, в рабочее время на копировальных машинах, к которым она имеет доступ. Это, естественно, можно делать только тогда, когда никого нет рядом. Для фотографирования взятых домой документов и своих сообщений она использует маленькую специальную камеру, большей же частью пользуется обычным аппаратом.
В течение ряда лет она передавала материалы представителям Центра или через курьеров на Западе. Когда по соображениям безопасности это стало невозможно, ей пришлось взять на себя усилия и риск по закладке материалов в контейнеры в поездах. Это значило: сесть на поезд, идущий через Кёльн в направлении на Берлин, и, отыскав согласованный знак-сигнал, спрятать маленький контейнер с пленками в указанном Центром тайнике в туалете. В инструкции рекомендовалось, чтобы не бросаться в глаза, проехать в поезде как минимум до Дюссельдорфа. Иоганна с улыбкой призналась мне, что часто справлялась с этим быстрее и экономила время поездки.
Во время отпусков появляется еще одна трудность. Часть времени у нее уходит на переговоры с Центром, другую часть она использует для встреч с родственниками в Польше или ГДР. Конечно, не просто придумывать для членов семьи все новые истории, которые правдоподобно объясняют, где она была во время своего отсутствия и что делала все это время. Для матери и сестры она ведь по-прежнему живет и работает в ГДР. Особенно трудно приходится, если ведущие ее дело офицеры в переписке с родными от ее имени придумывают истории, о которых Иоганна ничего не знает. С добрыми намерениями, но далеко непрофессионально ее «незаметно» высадили из моего мерседеса, используемого в оперативных целях, в маленьком польском городке. Однако на ее «левые» поездки на Восток никто и никогда не обратил внимания. И все же Иоганне приходится одну треть отпуска посвящать весьма интенсивным «образовательным» поездкам в другие части мира, чтобы послать из возможно большего числа мест открытки в Западную Германию и собрать сувениры.
Положение Иоганны при генеральном секретаре входящей в правительство партии за прошедшее время настолько укрепилось, ее авторитет настолько вырос, что после его смерти ее оставляют на этой работе и при его преемнике. Те, кто присутствовал на выступлении Иоганны в качестве свидетельницы, легко мог себе представить, что ее ценили не только как сотрудницу, но благодаря ее обаянию и репутации как ценного и доверенного работника, как личность. Поэтому легко понять, что новый генеральный секретарь, получив очередное высокое назначение в органы Европейского Союза в Брюсселе, придает большое значение тому, чтобы его помощница сопровождала его. Поскольку он сохраняет бюро в Бонне и мы заинтересованы в том, чтобы не терять полностью позиции и в Бонне, нагрузки на Иоганну многократно возрастают. Целыми днями она разъезжает туда и обратно между конторами и квартирами в столице ФРГ и в Брюсселе, чтобы удовлетворить интересы своего шефа и наши.
Насколько хороши были отношения между шефом и его сотрудницей, видно из того, что во время путешествия на парусной яхте вместе с его семьей по греческим проливам он предложил Иоганне перейти на «ты». То же самое и в отношениях с его женой и детьми. Именно такое «ты» было причиной внутренних трудностей, которые Иоганна имеет в виду, когда говорит о невозможности быть откровенной при более тесных и дружеских взаимоотношениях.
На моем процессе председательствующий не упустил этого морального аспекта, чтобы поколебать слишком самоуверенную, по его мнению, свидетельницу. «Как Вы себя чувствовали в подобной ситуации? - спросил он почти по-дружески. - Вы ведь обманули этого человека».
Иоганна ответила спокойно: «Я попыталась объяснить Вам мои мотивы. Они гораздо более всеобъемлющи, чем могут быть личные отношения. Конечно, я сожалею, что люди, с которыми я дружески общалась в Бонне и Брюсселе, этого не могут понять».
«Так это было злоупотребление доверием?»
«Если смотреть с другой стороны, можно воспринять это и так», - завершила Иоганна этот диалог, в котором взаимопонимание было исключено.
Для Иоганны личные взаимоотношения, возникшие за годы ее разведывательной работы, завершились отнюдь не просто. После поворота истории и после того, как ее двойная жизнь стала известна, эта уже оставшаяся в прошлом жизненная ситуация все еще не давала ей покоя. Следовало кое-что отбросить, когда она вернулась к своей настоящей биографии. Вначале она испытывала робость, но вскоре это для нее стало потребностью. Те ее знакомые на Западе, дружбу которых она особенно ценила, совершенно неожиданно не проявили по отношению к ней никакого предубеждения. Многие из отношений, прерванных на годы, были возобновлены и продолжены без особых проблем. Со своим бывшим шефом, однако, контакт она не устанавливала.
Разведывательная деятельность Иоганны резко оборвалась именно тогда, когда ее шеф был назначен министром и отозван в Бонн.
У нее не было времени советоваться с нами, что важнее - Брюссель или Бонн. Она принимает правильное решение и едет с министром.
У нас, однако, по этому поводу не звенели бокалы шампанского, так как именно теперь любая передача материала и каждая новая связь означали возрастающий риск. Однако мы надеялись получать достоверную информацию в этой важнейшей фазе нормализации отношений и при канцлере от ХДС. Летом следующего за этим событием года Иоганна, как обычно, посвящает часть своего отпуска поездке к семье и встрече с нами в Берлине. При этом обсуждались политическая обстановка и будущие задачи, которые выпадали на долю Иоганны. Особенно тщательно были подвергнуты обсуждению вопросы безопасности.
И так могло бы продолжаться многие годы…
Через Западный Берлин Иоганна выезжает обратно по фиктивному паспорту ФРГ. В Афинах она встречается с сотрудником, который должен сопровождать ее до Рима. Из Рима предусмотрена ее поездка с документами на «настоящее» имя. Документы лежат у нее в чемодане. В пути из аэропорта в гостиницу она забывает сумку с фиктивным паспортом в такси. Найти сумку не удается. Что делать?
Наш сотрудник и Иоганна обсудили положение. В сумке находилось шесть тысяч марок ФРГ. Следовало исходить из того, что нашедший оставит деньги себе, а сумку вместе с паспортом выбросит, во всяком случае в бюро находок не передаст. Фото на паспорте - единственный источник опасности, кроме этого он не содержит никаких данных, которыми могла бы воспользвоаться контрразведка. По ощущениям Иоганны, ничего не должно произойти.
Сотрудник едет в посольство ГДР в Риме, чтобы информировать Центр, но возвращается без каких-либо указаний. Иоганна вылетает в Бонн.
Перед моим письменным столом «парились» головы тех сотрудников, которые знали о задании Иоганны. Чувство того, что опасность невелика, было не лишено оснований. Однако риск все равно оставался. Мнения склонялись в ту и в другую стороны. Не впервой нужно было принимать решение в такой ситуации. В прошлые годы я, вероятно, взял бы риск на себя. Тогда все проходило нормально. Но сейчас прошли годы, было несколько арестов, мы заплатили за уроки дорогой ценой. Некоторые из наших нелегалов - среди них и мужчины и женщины - сидели в тюрьмах. Заслужила ли Иоганна, чтобы после двадцати лет беззаветной самоотдачи ее просто так «сожгли»? Мы приняли решение об отзыве.
Уже в тот же вечер в квартире Иоганны зазвонил телефон. Ничем не примечательный разговор содержал кодированное слово и упоминание о встрече на следующий день в Любеке. Дисциплинированно она зачищает квартиру и покидает ее с небольшим багажом. В Любеке встречается с известным ей курьером. Они едут вдвоем. Завершение ее миссии на Западе до потери сумки в Риме, почти не связанной с внешне драматическими событиями, переходит в критическую фазу.
Лодка должна доставить Иоганну и сопровождающего ее сотрудника к подготовленному на зеленой границе «шлюзу». Где-то в глухомани, на окраине леса они пережидают ливень, прикрывшись единственным зонтиком. Вокруг ни одной лодки, только одинокий рыбак «незаметно» маячит на отдалении. Появляется лодка, и все теперь происходит со скоростью вихря: переезд, проход через пограничное заграждение, исчезновение в кустах для смены гражданской одежды на военную форму и поездка в открытом джипе к тому месту, где она попадает в объятия ведущего офицера. После короткого приветствия он сообщает Иоганне, что ей более не придется возвращаться обратно.
В квартире недалеко от берлинской телебашни этот перелом в жизни Иоганны сдабривается бокалом коньяка, обсуждаются следующие шаги. Сама Иоганна называет последовавшие за этим месяцы своим карантином. Ее исчезновение случайно совпадает с выводом двух других разведчиков, семейной пары, и принимается решение о необходимости подождать реакции на Западе. Местонахождение Иоганны должно сохраняться в тайне. Представить Иоганну в парике и шляпе совсем непросто, но таким способом должна быть сохранена секретность, когда она покидает квартиру.
Лишь через год она получает со своими подлинными документами собственную квартиру в небольшом городке под Берлином. Предложение поселиться в берлинском районе панельных новостроек она отклоняет и не жалеет об этом. Ее квартира находится в уютном месте, недалеко от рыночной площади городка, соседи знают друг друга и всю округу.
У Иоганны не было трудностей с тем, как вписаться в новую для нее жизнь, как это бывает у большей части мужчин и женщин, которые вернулись или вообще впервые приехали в ГДР. Иоганна была захвачена любопытством и интересом ко всему. Конечно, были и проблемы. Уже при покупке мебели для уютной двухкомнатной квартиры на первом этаже многосемейного дома ей пришлось подумать над вопросом продавцу, следует ли ей спросить: «Простите, я хотела бы…» или «У вас есть…». Оказалось, что она не может купить два понравившихся ей кресла из гарнитура, потому что в него входят четыре. В поисках подходящих драпировок она обегала все магазины Берлина. Она не была бы Иоганной, если бы терялась перед такими мелочами. Она очень хорошо умеет совмещать свои потребности с возможностями.
Со времени въезда в свою квартиру она включается в политическую жизнь, как будто и не было двадцати лет отсутствия. Берлин, если ехать электричкой, рядом, все культурные события вполне доступны и в большом количестве. Даже в маленьком городке бывают интересные мероприятия, которые Иоганна посещает либо вместе с двумя бывшими разведчиками, живущими недалеко от нее, либо с новыми знакомыми.
Возвращение позволило регулярно поддерживать контакты с семьей. Ее пенсия хотя и не позволяет ей совершать большие путешествия, однако положение в Польше во многом еще хуже, чем в ГДР. Поэтому машина Иоганны бывает полностью забита, когда она пересекает границу под Гёрлицем. В 1989 году умирает ее тяжело больная мать, которую она перевезла к себе с помощью сотрудников нашей службы. Два раза в год к ней приезжает сестра, иногда приезжают и племянники-подростки.
Почти случайно оказалось, что квартира Иоганны находится в нескольких минутах езды на машине от нашего летнего жилища в лесу, и поэтому Иоганна оказалась в числе тех бывших сотрудников нашей службы, с которыми контакт сохранился. С самого начала между ней и Андреа возникла симпатия, которая с годами переросла в сердечную дружбу. Не говоря уже о наших кошках, которые очень радуются, когда приезжает Иоганна и привозит им лакомые кусочки от ее польского мясника. Так уж сложилось, что Иоганна смотрит во время наших частых отъездов за кошками. Даже наша проказница Принцесса Аугуста с разноцветными глазами перешла с ней на «ты», а робкая, к сожалению, уже умершая Бонни позволяла ей себя гладить. Иоганна знает всех наших кошек по имени и отличает их по совсем разным характерам. Вообще-то чувства женщин, и в особенности к кошкам… Но это совершенно другая история.
События осени 1989-го застали Иоганну в Китае, где она была с группой туристов. Она получила информацию в посольствах ГДР и ФРГ. Хотя из бесед и наблюдений сделала выводы, что надвигаются важные события, однако не ожидала, что изменения пойдут по такому пути. Она знала, как растет недовольство во всех слоях и что ситуация становится все более критической. И все же не ожидала конца ГДР.
За время до ее выступления в роли свидетельницы в моем процессе мы виделись редко. У всех было слишком много собственных дел. В 1991 году мы с Андреа были за границей, когда Иоганну арестовали на короткий срок. В ее доме никто этого не заметил. Однако, когда об аресте стало известно и ее выпустили под залог, одна из ее соседок, от которой она ожидала этого менее всего, встретила ее букетом цветов. Когда прошел мой процесс и мы, несмотря ни на что, жили на следующее лето в нашем лесу, встречи с Иоганной вернулись в нашу жизнь. Наши беседы вращались не вокруг заоблачного, но вокруг другого, реального мира. Иоганна из тех людей, с которыми мы можем говорить обо всем, что нас занимает, заботит и тревожит.
О ее процессе и приговоре к двум годам и шести месяцам заключения я знал, так же как мне было известно и во время моего процесса, что обжалование ее приговора еще находится на рассмотрении. Подтверждение приговора означало бы его исполнение с заключением в тюрьму. Мог ли я пойти на то, чтобы потребовать от нее пойти на новую жертву?
Иоганна никогда не воспринимала это время далее в период ее преследования как время жертв с ее стороны. По ее словам, это было интересное время, в которое она познала многих людей с другой стороны и научилась их уважать. Она сказала нам, что никогда не считала, будто принесла в жертву свою личную жизнь. Ни в ГДР, ни на Западе ей не встретился партнер на всю жизнь. Конечно, она хотела бы иметь детей. Никогда она не чувствовала себя одиноким человеком, вокруг нее всегда были хорошие друзья, интересные люди.
Враждебность на процессах по отношению к нам, нападки и оскорбления были жесткими и злобными. Судьба больной женщины, документами которой воспользовалась Иоганна во время своей работы на Западе, пресса сделала предметом «великих разоблачений» наших «постыдных деяний», которые были поставлены в вину и мне. Она была вынесена в заголовки газет и представлена как пример «злоупотребления» психиатрией в наших целях. После того как обвинение врачей в злостном изобретении насильственного лечения выполнило свою роль, ни об этом, ни о многом другом более не было слышно. Никакого расследования, ничего.
Иоганна, когда ее об этом спросили, сказала, что использование имени этой женщины никоим образом не отягощает ее. На основании собственных своих расследований в Западном Берлине и из бесед с бывшими соседями она знала о тяжести заболевания этой женщины. Иоганна установила, что женщина по собственному желанию перешла на Восток, что никто из членов ее семьи за ней не ухаживал, а от своего ведущего офицера знала, что в лечебнице за ней был установлен такой уход, которого она, по-видимому, без нашей заинтересованности никогда бы не получила. У Иоганны не было оснований сомневаться в этом.
Естественно, эта враждебность не могла не затрагивать нас. Но мы не стыдились своих убеждений и своих деяний. Мы отстаивали свою позицию с чистой совестью. Не в господствующих средствах массовой информации, а у большинства людей, с которыми мы встречались, это вызывало уважение. По отношению к Иоганне все, кто ее знал, оставались дружелюбны и вежливы. Я лично тоже постоянно отмечаю в отношении к себе - благодаря прессе меня знают больше и чаще узнают, - как правило, дружественные приветствия, а враждебность оказывается редким исключением.
Возможность тюремного заключения висела над нами, как дамоклов меч. Ни Андреа, ни я никогда не забудем того послеполуденного часа, когда позвонила Иоганна и сказала, что хотела бы поговорить с нами. На веранде нашего домика она рассказала, что ее должны заключить в тюрьму. В повестке было точно указано место и время. Хотя с самого начала тюремное заключение не исключалось, перспектива такого исхода заметно на нее подействовала. Разные вещи: считаться с возможностью беды или же вплотную столкнуться с нею.
Андреа тут же сказала, что я должен позвонить своему гамбургскому адвокату, знавшему Иоганну по выступлению свидетелем на моем процессе, которое произвело на него большое впечатление. Он известен как уважаемый адвокат, прекрасно показал себя во время моих процессов блестящим знатоком правовых норм и законных возможностей. Адвокат среагировал немедленно и, действительно, в кратчайший срок добился того, что Иоганне не пришлось отправляться в заключение.
Сейчас эти треволнения остались далеко позади. Жизнь нормализовалась, встречи опять стали регулярными. Кошки по-прежнему получают первоклассное мясо из Польши, а Иоганна наслаждается природой. В отличие от Андреа ее не пугает отдаленность нашего участка, она наслаждается спокойствием уединенных прогулок вокруг озера, знает каждую тропинку, мостик и ручей, «наших» лебедей и других обитателей этого красивого пятачка земли. В то же время она общительный человек, и мы радуемся встречам с ней.
С окончания моих передряг с юстицией у Андреа и Иоганны стало гораздо больше времени для обсуждения тем, которые женщины предпочитают обсуждать куда охотнее. И у меня есть время заниматься садом или «мучаться» писательством за компьютером.
Мы трое не относимся к числу людей, которые жалуются на трудности и болячки души и тела. Андреа и я охотно проводим время с Иоганной, потому что она всегда излучает дружелюбие. Это хорошо, особенно в наше время, когда положение в мире и в нашей стране оставляет мало поводов для радости. Мы не выставляем напоказ свои чувства. Именно поэтому я ставлю и перед Иоганной вопрос: «Разве мы напрасно прожили жизнь?»
Нет, она считает, что прожила полную жизнь. Конечно, она сожалеет об ошибках, которые мы совершили, и шансе, утерянном вместе с реальностями жизни ГДР и ее падением. Деятели, стоявшие во главе страны, не хотели верить в силу, внутренне присущую «Проекту ГДР». Любой инициативе ставились узкие рамки, и людям не доверяли, тогда как нужно было положиться на них. Иоганну печалит то, что мы стали так бессильны, так мало можем сделать против несправедливости и грозящих опасностей. Все-таки в мире была ГДР, и все хорошее о ней не стереть из памяти людей. Так же, как крестьянские восстания Средневековья, несмотря на их поражения, оставили заметный след, так и от наших деяний тоже останутся следы.
Когда я слышу девятую симфонию Бетховена, говорит она, я одновременно испытываю чувства печали и счастья. Счастье я испытываю от этой чудесной музыки, так же как и от чтения, когда хорошие актеры читают на нашем немецком языке. Я испытываю счастье от красоты природы и от многих людей, которые окружают ее. Она много ездит, находит при этом хороших друзей, у нее много знакомых, которым нужна ее помощь. Хорошее это чувство, когда ты нужен.
Это чувство жизни Иоганны очень хорошо выражает и мое чувство. Оно противостоит грузу разочарования, с которым не справились многие из моих друзей. С некоторыми были связаны гораздо более продолжительные отрезки нашей жизни, чем с этой разведчицей, почти что ровесницей.
Возможно, что мы так сблизились перед заходом солнца именно потому, что, как и прежде, живем утверждением жизни и не утратили свободу и далее жить в соответствии с нашими представлениями о ценностях жизни. Естественно, как и Иоганна, я испытываю, наряду со счастьем и печаль. Печаль из-за упущенных шансов в том обществе, которому мы отдавали свои способности и энергию. Печаль из-за того, что так невелики наши возможности влиять сегодня на непредсказуемый ход развития мира. Оба мы рады тому, что у нас сносное здоровье и есть возможность делать еще что-то, наполнять смыслом свои дни и разделять их с теми людьми, которые нами любимы и дороги нам. Достаточно того, что семьи детей, стайка внуков и первый правнук снимают у меня остроту вопроса, имела ли смысл моя жизнь.
«Freedom and Friendship - свобода и дружба» - были самыми важными ценностями для моего американского друга последних лет Джима. Я познал счастье подлинной дружбы полной мерой. Многие из моих близких друзей ушли. Я иногда думаю о том, почему именно на мою долю выпало счастье пережить возраст моих родителей на такое большое число лет и годы жизни младшего брата уже больше, чем на два десятилетия. Ранняя, большей частью неожиданная смерть многих ровесников оставила болезненные утраты. Она пробудила во мне потребность закрыть эти раны, рассказав то, что сберегла память. Я чувствую свой долг перед ушедшими друзьями и хотел бы сохранить для будущего их образы и мысли. Да не развеются наши следы слишком быстро.




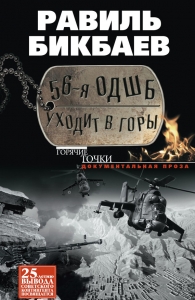
Комментарии к книге «Друзья не умирают», Маркус Вольф
Всего 0 комментариев