Штейфон Борис Александрович Кризис добровольчества
ВСТУПЛЕНИЕ
Добровольческая армия, зародившаяся в дни российского развала, явилась воистину единственной лампадой, какую зажгла национальная совесть перед скорбным поруганным ликом своей Родины.
После года вооруженной борьбы, борьбы, давшей пример величайшей жертвенности и доблести, южная белая армия, владея обширной, богатейшей территорией с 50-миллионным населением, все же не смогла овладеть Москвою.
Не подлежит сомнению, что если фронт вышел бы победителем, то все остальное так или иначе, но наладилось.
Растянутый на тысячу верст тонкой линией, не имея за собой необходимых резервов и организованного тыла, фронт, истекая кровью, с исключительным самопожертвованием выполнял свой долг. Есть, однако, предел и беззаветному мужеству…
В истории Добровольческой армии главнейшим периодом борьбы является период, когда армия из кубанских степей вышла на малороссийский простор. В эти месяцы, начиная от обороны Донецкого бассейна и до продвижения на линию Орел — Чернигов — Киев, постепенно выявились те недочеты, какие в конце концов и вызвали катастрофу.
Являясь государственным аппаратом, Добровольческая армия в своем творчестве упорно отстаивала приемы строительства, какие были уместны на Кубани и какие отнюдь не соответствовали позднейшим периодам.
Ходом событий добровольчество как система должно было бы уступить место регулярству, ибо великодержавные задачи можно было разрешить лишь приемами государственного строительства, а не импровизацией, грубо нарушавшей многовековой российский опыт.
Несмотря на яркое горение добровольческой души, добровольчество являлось все же историческим эпизодом, а трагедия нашего командования и заключалась в том, что исторический эпизод оно восприняло как эпоху.
ОБОРОНА ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА
Апрель 1919 года являлся самым тяжелым месяцем в периоде обороны белыми войсками Донецкого бассейна.
Советское правительство, переживавшее время жесточайшей экономической разрухи, напрягало все усилия, дабы захватить Каменноугольный район.
Генерал Деникин, прекрасно понимая жизненное значение Донбасса для совдепии, в свою очередь отстаивал всеми своими возможностями этот район. Борьба велась затяжная, утомительная и жестокая.
Несмотря на крайне печальное общее состояние советских войск, в своей массе совершенно развращенных революцией 1917 года, красное командование все же имело немало преимуществ по сравнению с нами. Оно обладало громадным, многомиллионным человеческим резервом, колоссальными техническими и материальными средствами, оставшимися как наследство после Великой войны. Это обстоятельство и позволяло красным направлять все новые и новые части для овладения Донецким бассейном.
Как ни превосходила белая сторона и духом, и тактической подготовкой, все же это была лишь небольшая горсточка героев, силы которых уменьшались с каждым днем. Имея своею базою Кубань, а соседом — Дон, то есть области с ярким казачьим укладом, генерал Деникин был лишен возможности пополнять казачьими контингентами свои части в мере их действительной потребности. Его мобилизационные возможности ограничивались главным образом офицерскими кадрами и учащейся молодежью. Что касается рабочего населения, то призыв его в войска был нежелателен по двум мотивам: во-первых, по своим политическим симпатиям шахтеры не были явно на белой стороне и потому являлись элементом ненадежным. Во-вторых, мобилизация рабочих немедленно уменьшила бы добычу угля.
Крестьянство, видя малочисленность добровольческих войск, уклонялось от службы в строю и, видимо, выжидало. Уезды к юго-западу от Юзовки находились в сфере влияния Махно.
Ведя ежедневно борьбу, наши части несли большие потери убитыми, ранеными, больными и таяли с каждым днем. В подобных условиях войны наше командование только доблестью войск и искусством начальников могло сдерживать натиск красных. Как правило, резервов не было. Добивались успеха преимущественно маневром: снимали что могли с менее атакованных участков и перебрасывали на участки угрожаемые. Рота в 45–50 штыков считалась сильной, очень сильной!
Немало досаждали в то время и бронепоезда красных. Пользуясь своими техническими преимуществами и не опасаясь нашей малочисленной артиллерии, поезда эти дерзко врывались в расположение добровольцев и почти без риска для себя расстреливали редкие, малочисленные цепи белых. При появлении наших бронепоездов красные обычно отходили, не принимая боя.
Всякая боевая техника сильна и страшна до тех пор, пока не изобретено «противоядие». Таким противоядием явился… штабс-капитан Манштейн1. Совсем молодой человек, потерявший во время Великой войны левую руку, тихий, застенчивый, с мягкими чертами лица, он обладал и огненной душой, и величайшим мужеством. Командуя батальоном Дроздовского полка, штабс-капитан Манштейн «изобрел» способ борьбы с красными бронепоездами.
При подходе бронепоезда к участку батальона рота, находившаяся у линии железной дороги, начинала отходить. Красные, увлекаясь ее преследованием, проникали за линию расположения остальных рот батальона. Как только это случалось, фланговые роты немедленно бросались в тыл бронепоезда и быстро взрывали полотно. Видя, что путь отхода отрезан, прислуга броневика обычно терялась. В этот психологический момент Манштейн уже несся со своими ротами к бронепоезду и атаковывал его.
Подобная лихость скоро отучила красных от безнаказанной дерзости, а имя доблестного штабс-капитана — «однорукого черта» — стало грозным для большевиков.
Добровольческими войсками в Донецком бассейне командовал командир 2-го корпуса генерал Май-Маевский. Он являлся и высшей гражданской властью для данного района.
Человек несомненно способный, решительный и умный, Май-Маевский обладал, однако, слабостью, которая в конце концов парализовала все лучшие стороны его души и характера, принесла много вреда белому делу и преждевременно свела генерала в могилу.
Впервые я встретился с ним в декабре 1918 года в Юзов-ке. Имея служебное поручение, я явился на квартиру командира корпуса.
Среднего роста, полный, с профилем «римского патриция времен упадка», он был красен и возбужден. Когда я вышел от Мая и затем высказал кому-то свои впечатления об этом странном визите, то мне разъяснили причины моего удивления.
· А когда вы были у Мая? До его обеда или после?
·
· Думаю, что после, так как денщик доложил, что «генерал сейчас кончают обедать, просят подождать».
·
· Ну так Май был просто на взводе!..
·
Подобное упрощенное объяснение, по-видимому, соответствовало истине.
В дальнейшем я стал чаще встречаться с генералом Май-Маевским и убедился, что он действительно питает слабость к вину. Слабость обратилась в привычку, однако это обстоятельство если и мешало его боевой работе, то, во всяком случае, не в такой степени, как в харьковский период. К тому же его начальник штаба генерал Агапеев2 умел благотворно влиять на своего начальника, и Май без особенного внутреннего сопротивления поддавался этой благодетельной опеке.
В Донецком бассейне я был начальником штаба 3-й пехотной добровольческой дивизии, входившей в состав 2-го корпуса.
Командир корпуса во время боев часто вызывал меня к аппарату и запрашивал о положении дел, проявляя обычно и правильное понимание обстановки, и большое мужество.
Однажды, когда я еще не успел узнать генерала Май-Маевского, на участке дивизии назревала очередная неустойка. Резервов не было. Артиллерия умолкла, она отходила. Наши слабые пехотные цепи были оттеснены и с трудом удерживались на тыловой позиции.
Застучал телеграфный аппарат:
«У аппарата генерал Май-Маевский. Какова у вас обстановка?»
Я доложил. Утешительного было мало.
«Что же вы думаете делать?»
«Сейчас из Юзовки высылаем во фланг «Генерала Корнилова»* (Бронепоезд. (Здесь и далее прим, автора.)). Две дроздовские роты направляем для удара с другого фланга. Через 10–15 минут батарея займет новую позицию и откроет огонь».
Аппарат «задумался». А затем через минуту:
«Я сам сейчас приеду на атакованный участок. Продержитесь?»
«Продержимся, ваше превосходительство. Не беспокойтесь!»
В фигуре Май-Маевского было мало воинственного. Страдая одышкой, много ходить он не мог. Узнав о его намерении приехать, я отнесся скептически к подобному намерению и не возлагал особых надежд на приезд командира корпуса.
Через полчаса генерал был уже у наших цепей. Большевистские пули щелкали по паровозу и по железной обшивке вагона.
Май вышел, остановился на ступеньках вагона и, не обращая внимания на огонь, спокойно рассматривал поле боя.
Затем грузно спрыгнул на землю и пошел по цепи.
· Здравствуйте, n-цы!
·
· Здравия желаем, ваше превосходительство.
·
· Ну что, заробел? — обратился он к какому-то солдату.
·
· Никак нет. Чего тут робеть!
·
· Молодец. Чего их бояться, таких-сяких?
·
Через пять минут раздалась команда командира корпуса:
— Встать! Вперед! Гони эту сволочь!
Наша редкая цепь с громким криком «ура» бросилась вперед.
Большевики не выдержали этого порыва — и положение было восстановлено.
Описанный эпизод и еще несколько подобных случаев побудили меня расценивать генерала Май-Маевского уже иначе, чем я это делал, когда находился под впечатлением своего первого с ним свидания.
Бесспорно, в душе Мая горел тот огонек, какой отличает всякого истинного военного.
И когда этот огонек не бывал заливаем вином, Май-Маевский проявлял и ясный ум, и правильность суждения.
В Донецком бассейне благодаря влиянию генерала Агапеева и старших чинов штаба Май если и пил, то пил сравнительно умеренно. Он любил пить в компании, вести при этом разговоры, а для подобного времяпрепровождения обстановка ежедневных боев мало располагала. Да и не было подходящих компаньонов.
Иногда, правда, обстановка так складывалась, что сдержать Май-Маевского было уже невозможно. Так, однажды, когда положение было крайне тяжелым, из штаба главнокомандующего получилось сообщение о том, что на I следующий день сосредоточивается в Донецком бассейне конный корпус генерала Шкуро. Этому корпусу давалась задача пройти по тылам противника и тем облегчить общее положение наших войск.
На следующий день прибыл в своем поезде и генерал Шкуро. В одном из купе вагон-салона собрались старшие начальники — генерал Май-Маевский, генерал Шкуро, генерал Витковский3 (начальник 3-й пехотной дивизии), генерал Агапеев и я. Мы обсуждали подробности намеченного рейда. Шкуро в то время был в ореоле своей славы. Молодой, энергичный, искренно верящий в свою звезду, он лишь первые 10–15 минут сохранял генеральскую серьезность: обсуждал, соглашался, возражал. Чувствовалось, что он так глубоко убежден в победном исходе задуманного рейда, что наше мнение его мало интересовало. К тому же у Шкуро был блестящий начальник штаба, генерал Шифнер-Маркевич, и потому командир конного корпуса знал, что Шифнер сам все прекрасно разработает.
Шкуро и Май встретились, по-видимому, впервые. Шкуро не сиделось. Он вставал, жестикулировал… Май сидел грузно, чуть-чуть посапывал и добросовестно изучал по карте пути намеченного рейда.
Его солидность, годы, генеральская внешность — все это известным образом импонировало Шкуро, и он величал Мая не иначе, как «ваше превосходительство».
Очень скоро в дверях нашего купе появилась на мгновенье фигура адъютанта генерала Шкуро. Он сделал своему начальнику какой-то непонятный нам «морговой» знак и исчез.
Шкуро, недолго думая, хлопнул Мая по плечу:
— Ну, отец, пойдем водку пить!
Лицо Май-Маевского расплылось в улыбку, и обсуждение рейда было прервано. В соседнем купе был приготовлен завтрак. Давно не виданные закуски: семга, балык, икра, омары, сыр…
— Выпьем-ка, отец, смирновки! — И из какой-то вазы со льдом появилась бутылка смирновки.
«Отец» ответил полным согласием. Я с интересом наблюдал за генералом Май-Маевским. Он пил не жадно, очень прилично и, в сущности, даже немного. Водка и скоро поданное в изобилии шампанское вообще не производили на него видимого впечатления. И только к концу завтрака было заметно, что Май нагрузился.
Однако подобные эпизоды были редки. Жизнь штабов корпуса и дивизии проходила в рамках того сурового аскетизма, какой вообще был свойствен добровольческому фронту. Питались мы скверно и хронически недоедали. Дни проходили однообразно и нервно. Почти каждый день приходилось «восстанавливать положение» на фронте, постоянно нарушаемое большевиками. Мы жили оторванными от мира, в обстановке непрерывной жестокой борьбы. Разнообразие вносили случайные эпизоды.
Однажды я пообещал командиру Самурского полка выдать имевшееся в моем распоряжении телефонное имущество. Командир обещал прислать приемщика. Вечером мне доложили, что меня желает видеть какой-то солдат. Раскрылась дверь, и с вопросом «можно войти?» на пороге обрисовалась представительная фигура в солдатской шинели с унтер-офицерскими нашивками.
В вошедшем унтер-офицере я немедленно признал бывшего генерал-лейтенанта Л. М. Болховитинова. Он был во время Великой войны начальником штаба Кавказского фронта и для меня, тогда капитана генерального штаба, являлся чрезвычайно высоким начальством. Он знал меня прекрасно, так как я служил в штабе армии. Направляясь ко мне, «унтер-офицер Болховитинов», конечно, был осведомлен, кого он встретит, но для меня его появление было жутким.
· Узнаете?
·
· Еще бы не узнать! Здравствуйте, Леонид Митрофанович.
·
Мы сели и на некоторое время забыли о телефонном имуществе. Оказалось, генерал Болховитинов одно время служил у большевиков, а затем перешел в Добровольческую армию. Согласно тогдашним правилам, он был судим, разжалован и послан рядовым на фронт. Как «хорошо грамотного» его назначили в команду телефонистов.
Мы душевно поговорили около двух часов. Л.М. заходил ко мне еще несколько раз. Впоследствии он был прощен, и затем в Крыму я встретил его прежним энергичным генералом.
Генерал Болховитинов уже умер — и пусть Господь судит его за вольные и невольные прегрешения. Во всяком случае, у меня сохранилось о нем воспоминание как о крупном, незаурядном человеке. Свое разжалование он переносил с большим достоинством.
Теперь, когда многие былые страсти перегорели, ясно, что система подобных судов была по идее ошибочна, ибо удерживала от перехода к нам тех, кто подневольно служил у красных. Фронт, всегда более чуткий в подобных вопросах, чем тыл, очень скоро признал несправедливость и вредность указанных судов и личной инициативой, молчаливо, но убежденно воспринял иной порядок: коммунистов уничтожал, а всех остальных принимал в свои ряды.
Во всяком случае, в 1918 году примеры генералов Болховитинова, Сытина и других давали несомненное удовлетворение широким офицерским кругам. Жестокие времена порождали и жестокую психологию.
* * *
Несмотря на величайшую доблесть войск и на энергию и искусство начальников, большевики медленно, но неуклонно вытесняли нас из Донецкого бассейна. Создавалось то большое неравенство сил, уравновесить которое не в силах даже легендарный героизм.
Остатки добровольческих частей полукольцом прикрывали станцию Иловайскую, последний наш оплот в Каменноугольном районе.
Там размещался весь тыл корпуса: лазареты, базы бронепоездов, скудные интендантские запасы и еще более скудные склады снарядов и патронов.
Банды Махно уже стали появляться в ближайшем тылу…
Все, кто ослабели или поколебались духом, те покинули наши ряды под тем или иным предлогом. Оставались только сильные, действительно только цвет Добровольческой армии. Мы — начальники — знали, что оставшиеся не сдадутся. Они могут погибнуть, но не приспустят своего белого знамени.
На маленькой, забитой составами станции впереди Иловайской, в вагоне генерала Май-Маевского был собран военный совет. В состав его вошли: генерал Май-Ма-евский, начальник 1-й дивизии генерал Колосовский, начальник 3-й дивизии генерал Витковский и их начальники штабов.
Под аккомпанемент близких выстрелов генерал Май-Маевский предложил на обсуждение два вопроса:
1. Можно ли рассчитывать при создавшейся обстановке удержать Донецкий бассейн?
2.
3. Если задача эта неосуществима, то следует ли удерживаться до конца или эвакуировать Каменноугольный район теперь же?*
4.
Разногласия не было. Совет единогласно признал, что при существующем соотношении сил удержать бассейн невозможно.
По второму пункту было решено: так как фактически почти весь Угольный район находится в руках большевиков, а удержание Иловайской до конца приведет к несомненному истреблению наших частей, являющихся, по существу, уже не частями, а последними кадрами, то ради сохранения армии не доводить обороны до конца, а отойти в сторону Ростова, оставив в районе Иловайской арьергарды, коими упорно и задерживать продвижение красных.
Решение это считалось секретным и войскам не объявлялось. С тяжелым чувством принимали мы это решение. Слишком много крови, усилий и воли потребовала пятимесячная оборона Донецкого бассейна. Десятки раз переходили из рук в руки одни и те же места. И признавать себя побежденным было слишком больно.
Радиус обороны становился все меньше и меньше. Красные бронепоезда со стороны станции Еленовки (с запада) били уже по западной окраине Иловайской. Еще один серьезный нажим — и войска западного участка были бы отброшены к Иловайской.
И тут произошло чудо. То чудо, которое не раз спасало нас в периоды, казалось, полной безвыходности.
Через несколько дней после военного совета, когда под давлением противника штабы корпуса и дивизии отошли на станцию Иловайскую, около полудня я был спешно вызван к генералу Май-Маевскому.
· К нам сейчас подошла пластунская Кубанская бригада. Бригада слабого состава, но все же это кое-что. Начальник бригады заболел, и пластунами временно командует начальник штаба. Он только что был у меня. Ввиду тяжелого положения западного участка я приказал пластунам отправиться туда и восстановить положение. Отправляйтесь с ними и помогите им разобраться в обстановке.
·
· Понимаю, ваше превосходительство. А кто начальник штаба?
·
— Генерального штаба полковник N.N. Вы его знаете?
· Никак нет, не знаю и поэтому опасаюсь, не буду ли я стеснять своим присутствием полковника N.N.
·
· Не думаю. Во всяком случае, разрешаю вам действовать моим именем. Общая обстановка вам известна. Поспешите. Эшелон сейчас уходит.
·
Взяв карту, бинокль, револьвер и доложив кратко генералу Витковскому о полученном мною приказании, я через две минуты был уже в эшелоне пластунов.
Временно командующий бригадой, узнав, что я отправляюсь с ними, был, по-видимому, очень доволен. И он, и командиры отдельных батальонов только что прибыли на новый для них фронт и задавали мне ряд вопросов. Ни подозрительности, ни тем более обиды я ни у кого не замечал. Наоборот, они с кубанским радушием угостили меня обедом и всячески выказывали свое внимание.
Подъезжая к месту назначения, мы встретили отходящие двуколки, зарядные ящики, какие-то повозки. Эта картина не предвещала ничего хорошего.
И действительно, когда мы приблизились к нашим частям, я узнал от командира фланговой роты, что красные в значительных силах обходят наш левый фланг. Взобравшись на крышу вагона, я увидел, как сильные цепи противника, прикрываясь буграми, все глубже и глубже заходят не только во фланг, но и в тыл западного участка.
Они двигались вдоль железной дороги в 500–600 шагах от нее. Случайно наш поезд оказался в ложбине. Большевики могли видеть лишь дым паровоза, но, по-видимому, не знали, кого привез паровоз.
Намеченный нами в пути план действия явно отпадал. Красные сами подставили свой фланг, и надо было это использовать. Бригада немедленно высадилась, тут же, прикрываясь насыпью, развернулась и без выстрелов бросилась в атаку. Крики «ура» и неожиданное появление новых частей белых произвели на большевиков ошеломляющее впечатление. Они остановились, затоптались на месте, затем легли и открыли беспорядочный огонь. Хорошо нацеленные батальоны пластунов стремительным ударом отрезали зарвавшегося врага. Через полчаса все было окончено, и к нашему эшелону со всех сторон поля стали подводить группы пленных…
Если бы мы подъехали на час позже или наш эшелон случайно не остановился бы в ложбине, обстановка могла бы резко ухудшиться.
Положение на западном участке выпрямилось, но через два дня оказалась неустойка на противоположном фланге, и доблестные пластуны, как единственный резерв корпуса, были отправлены на восточный участок.
Только что описанный бой и появление на нашем левом фланге свежих частей (пластунов), по-видимому, встревожили большевиков, и через несколько дней туда прибыли новые красные части. Вновь назревал кризис и тем, казалось, предопределял конечную судьбу Иловайской.
Зная о тяжелом положении 2-го корпуса, главнокомандующий принимал, конечно, все меры, дабы облегчить наше положение. И в день, когда казалось, что мы уже не удержимся, было получено сообщение, что «завтра» у Иловайской начнет сосредоточиваться конный корпус генерала Шкуро. Вслед за ним стали подходить танки, новые части пополнения… Затем было получено уведомление о решении главнокомандующего передвинуть с Царицынского фронта пехотную дивизию генерала Бредова.
Конечно, задумав операцию по овладению Донецким бассейном, генерал Деникин и его штаб заранее уже наметили поход и конного корпуса, и танков, и иных частей. Мы были осведомлены об этом, но время проходило, а обещанная помощь все не появлялась. Между тем каждый день ухудшал положение войск.
Тогда, в апрельские дни 1919 года, измученные защитники Каменноугольного района, конечно, не знали, что подход к ним все новых и новых эшелонов знаменует начало решительного наступления на Харьков. Генерал Деникин был слишком опытным полководцем, чтобы преждевременно разглашать свои оперативные планы.
Прибытие в Донецкий бассейн новых войск и намеченное уширение масштаба военных действий требовали и соответствующей организации. В соответствии с планами главного командования была сформирована армия, а генерал Май-Маевский назначен командующим этой армией.
Во главе корпуса стал генерал Кутепов, прибывший без промедления на станцию Иловайскую. Скоро посетил войска и генерал Деникин.
Чувствовалось, что подготовляется какая-то серьезная операция.
Для встречи главнокомандующего собралось все местное начальство. Тут же, на платформе, находился почетный караул от военного училища. Приезд главнокомандующего привлек, конечно, много любопытных офицеров и солдат.
За четверть часа до прихода поезда генерала Деникина мое внимание привлек шум в толпе, стоявшей за левым флангом караула. Какой-то казак протискивался вперед, желая, по-видимому, возможно ближе разглядеть ожидавшуюся церемонию. Стоявший тут же офицер остановил любопытного. В ответ раздалось площадное ругательство, и казак ударил офицера локтем в грудь.
Спокойно беседовавший генерал Кутепов увидел всю эту быстро разыгравшуюся сцену. В одно мгновение он был уже около офицера и казака.
· В чем дело?
·
· Ваше превосходительство, я остановил казака, чтобы он не лез вперед, а он меня обругал и ударил.
·
— Арестовать! — крикнул генерал Кутепов, обращаясь к левофланговому ряду караула и указывая на казака.
Два юнкера с винтовками в руках взяли казака под руки. Он не сопротивлялся. Только побледнел. Наступила полнейшая тишина.
— Расстрелять! — четко и громко прозвучало приказание нового командира корпуса.
Юнкера стали выводить казака из толпы. Арестованный был парень плечистый, высокий и, видимо, сильный. Юнкера же, взятые случайно с левого фланга караула, доходили ему лишь до плеча.
Понимая, что через две минуты его расстреляют, казак, выйдя из толпы, рванулся, отбросил юнкеров в разные стороны, подобрал полы своего кожуха и бросился бежать. Вслед ему раздались два выстрела. Казак юркнул под стоящий поезд, затем под другой и скрылся.
— Шляпы! — бросил в сторону оторопевших юнкеров генерал Кутепов и спокойно вернулся на свое место. Это была моя первая встреча с генералом Кутеповым. Здесь же, на станции Иловайской, в ожидании прибытия главнокомандующего меня подозвал генерал Май-Маевский.
— Я знаю, что вы желаете командовать полком. Хотите получить Белозерский полк?
Белозерский полк входил в состав 3-й дивизии, и о нем я, как начальник штаба, имел точное представление. Один из старейших и славных полков императорской армии, он только лишь возрождался.
Просматривая накануне ведомость боевого состава дивизии, я точно запомнил боевой состав Белозерского «полка»: 62 штыка!
Эта цифра быстро промелькнула в моей памяти.
· Разрешите, ваше превосходительство, подумать?
·
· Ну, подумайте. Даю вам пять минут на размышление.
·
За подобный срок я, конечно, ничего не мог «надумать». Я старался лишь прислушаться к тому внутреннему голосу, который в трудные моменты нашей жизни подсказывает нам то или иное решение.
Через две минуты генерал Май-Маевский снова подозвал меня.
— Надумали?
Каким-то инстинктом я почувствовал в это мгновение, что Белозерский полк — это моя судьба, и, не колеблясь, ответил:
· Согласен, ваше превосходительство.
·
· Ну вот и прекрасно. Я знаю полк давно. В нем всегда был прекрасный дух, и вы не будете сожалеть. Я доволен, что вы будете его командиром. Вот подходит поезд, и я сейчас доложу о вас главнокомандующему.
·
По-видимому, со стороны генерала Деникина никаких препятствий к моему назначению не было, так как тут же, на перроне, он поздравил меня командиром Белозерского полка.
Ныне с белозерцами у меня связаны самые светлые и сильные воспоминания, а время, когда я ими командовал, является лучшим периодом в течение всей моей 25-летней службы. И если судьбе было бы угодно снова поставить меня во главе Белозерского полка, я посчитал бы подобное назначение как величайшую для себя честь и радость.
Зарождение и формирование новых частей в Добровольческой армии происходило обычно по одному и тому же шаблону. Когда собиралось несколько офицеров какого-либо прежнего полка, они начинали мечтать о его восстановлении. Если это были люди энергичные и дельные, то они переходили от слов к делу. Они разыскивали своих однополчан и образовывали N-скую ячейку. Когда ячейка имела 15–20 человек, она просила командира того «цветного» полка, в котором находилась, разрешение сформировать N-скую роту. Обычно командиры полков поддерживали подобное начинание и на усиление новой роты назначали 15–20 солдат из числа пленных красноармейцев. Подобная рота, преследуя свои затаенные цели, стремилась набрать возможно больше пленных, захватить оружие, снаряжение и т. п. Короче говоря — сформироваться. Параллельно с этим разыскивался прежний командир, или кто-либо из наличных старших офицеров становился таковым. Он устраивался в ближайшем тылу и тихонько, без лишнего шума, формировал строевую канцелярию, хозяйственную часть, обоз… Рота, работающая на фронте, прекрасно знала, что если она начнет разбухать, то командир батальона отберет все «излишки». Поэтому эти «излишки» — пленные и вообще все трофеи — переправлялись в штаб «своего» полка. О подобных отправках командир «цветного» полка, конечно, знал, однако подобный порядок формирования полка почитался неписаным добровольческим законом, и нарушать его не полагалось.
Как Плюшкин «подтибривал» ведро у зазевавшейся бабы, так не считалось зазорным «зажать» у богатого соседа винтовку, снаряжение, патроны, а если представлялся случай, то и пулемет или лошадь.
Когда ловили с поличным, отдавали без запирательств, и обе стороны в таких случаях претензий друг к другу не имели.
В итоге в зависимости от энергии и возможностей в один прекрасный день к командиру «цветного» полка прибывала новая N-ская рота. Таким порядком создавался батальон. А когда это случалось, то командир нового полка являлся к начальнику дивизии, докладывал, что им сформирован батальон, просил дать батальону самостоятельный участок и «записать на довольствие».
Если часть была сильна духом, она, несмотря на потери в боях, усиливалась и развертывалась в полк, каковой затем и утверждался главнокомандующим. Морально слабая часть обычно хирела и не выходила из периода хронического формирования.
Приблизительно в таких условиях сформировалось и ядро будущего Белозерского полка. Какое они имели имущество, что хранилось в их потайных складах, я не знал. Это была ведь их «семейная» тайна. Было ясно только одно: прежде чем командовать полком, его необходимо было сформировать.
Мой начальник дивизии генерал Витковский, с которым я жил дружно и работал в полном согласии, не считал возможным немедленно отпустить меня для вступления в новую должность. Он полагал и убедил командира корпуса и командующего армией, что в начинающейся большой операции я буду более полезным в роли начальника штаба, чем командиром 62 штыков.
Так как новые части Добровольческой армии обычно не создавались попечением свыше на основании определенной системы, а самоформировались явочным порядком, то решение генерала Витковского удержать меня на должности начальника штаба немало способствовало успеху формирования Белозерского полка. Несмотря на беспристрастие начальника дивизии, все же и он, и довольствующие органы по понятным человеческим слабостям были, конечно, более щедрыми в отношении «полка начальника штаба»…
ВТОРИЧНОЕ ЗАНЯТИЕ ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА
По сосредоточении конного корпуса в районе станции Иловайской он был немедленно направлен на левый фланг (в сторону станции Еленовки), дабы ликвидировать красных на участке, особенно нам угрожающем. Конный корпус был подчинен генералу Май-Маевскому, а последнему было желательно, чтобы операция генерала Шкуро развивалась в полном соответствии с общеоперативными соображениями штаба армии.
Ввиду этого желания генерал Май-Маевский приказал мне выехать на западный участок и находиться там для связи конного корпуса со штабом армии. Я обязан был доносить о всех изменениях на фронте. Генерал Шкуро к войскам еще не прибыл, и корпусом временно командовал герой японской и Великой войн генерал Ирманов.
Конные части выступили походным порядком, а вслед за ними на площадке товарного вагона, подвозившего снаряды и патроны, отправился и я.
Как только поезд вышел за район Иловайской, сейчас же стали попадаться отходящие походные кухни и обозы. Брели раненые, и шел тот тыловой люд, который всегда предшествует общему отступлению.
Проехали две-три версты. Навстречу — дроздовская батарея.
· Вы почему здесь?
·
· Меняем позицию, господин полковник.
·
· Почему?
·
· Да большевики здорово напирают…
·
Именем начальника дивизии я приказал батарее дальше не отходить, выбрать позицию и помогать конному корпусу. Лихие артиллеристы-дроздовцы с видимым удовольствием приняли мое распоряжение и очень скоро открыли огонь.
Конные части забирали сильно влево, и на фронте по-прежнему оставались наши слабые, утомленные роты. Через 15–20 минут по выезде из Иловайской я был уже на месте. Заметив подошедший поезд, красная артиллерия открыла сильный огонь. Поезд стал отходить, а я, соскочив с площадки вагона, направился к станции. На первый взгляд и станция, и окружавшие ее постройки показались пустынными. У меня даже мелькнула мысль, что станция уже оставлена нашими войсками. Приглядевшись, я заметил за стенами зданий и за штабелями шпал укрывающихся людей. Рассматривать, однако, не приходилось. Станция забрасывалась большевистскими снарядами. Недалеко за стогом сена два солдата торопливо и неумело перевязывали раненого. Я подбежал к ним. Лицо и гимнастерка раненого были в крови. Закончив перевязку, вся эта компания куда-то побежала.
На станции пусто. Гулко и жутко раздаются шаги по асфальтовому полу. На звук моих шагов из соседней комнаты выходит телеграфист. В форменной тужурке, бледный, но спокойный. В аппаратной, кроме телеграфиста, находились еще два солдата команды связи. Они жались к внутренней стене и обрадовались мне, как свежему человеку.
В это мгновение где-то поблизости разорвался снаряд. Посыпалась штукатурка, и со звоном разбились стекла.
— Прячьтесь сюда, господин полковник, — посоветовал один из солдат и указал на стену, у которой они стояли. За соседним столом равнодушно стучал телеграфный аппарат.
Телеграфист, молодой и, по-видимому, толковый человек, рассказал мне, что делается на фронте. Узнав от него, где наши цепи и начальник участка, я вышел из станции и повидал полковника 3. и полковника П.
Полученная от них ориентировка могла быть определена двумя словами:
— Еле держимся.
Я передал им именем командующего армией приказание удерживаться во что бы то ни стало и объяснил обстановку. Известие, что конный корпус скоро начнет атаку, сразу изменило настроение наших редких цепей. Лица оживились, огонь усилился.
Повидав 3. и П., я пробрался к спешенному казачьему полку, укрытому в ложбине, и узнал, что он выжидает, покуда назначенная для обхода дивизия выполнит свой маневр. Был пятый час дня. Солнце уже заходило. Стрельба на фронте — оружейная и артиллерийская — усилилась.
Чувствовалось, что красные готовятся к решительной атаке. Подобным ударом наши части неминуемо отбрасывались бы к Иловайской, а конный корпус с наступлением сумерек лишался возможности действовать в конном строю. Надо было атаковать немедленно, чтобы иметь время для преследования и чтобы не отдать инициативу в руки большевиков. Свои соображения я доложил по аппарату генералу Май-Маевскому и получил ответ, что сейчас будет передано приказание об общем переходе в наступление. Через 10 минут было получено это распоряжение. Большевики усилили свой огонь. Такого ураганного огня я не запомню в течение всей гражданской войны. По интенсивности огня и по фронту его протяжения становилось очевидным, какие серьезные силы направлялись против Иловайской. Опоздай конный корпус на один день, и красные неминуемо раздавили бы нас…
Конная атака была очень красочная. Кубанцы атаковали с большим подъемом. Огромное поле сражения, перед тем пустынное, ожило, и в поднявшейся пыли, пронизываемой кровавыми лучами заходящего солнца, чуть различались отдельные силуэты. Огонь противника, не уменьшаясь, стал быстро удаляться. Пули с визгом неслись высоко над головой. Спустившаяся темнота прикрыла и живых, и убитых, и победителей, и побежденных. Чудо спасло нас и на этот раз!
Мой мужественный телеграфист продолжал оставаться у аппарата.
· Вы что-нибудь ели сегодня? — спросил я его.
·
· Да как-то не пришлось, господин полковник. Ну да это не важно.
·
Это было действительно не важно. Нервы отходили от только что пережитых опасностей. Чувство, которое по своей силе не сравнится ни с какими иными наслаждениями.
При свете огарка я закончил свой последний доклад генералу Май-Маевскому. Я знал, что там, на Иловайской, с лихорадочным нетерпением ожидают хороших новостей.
Закончив доклад о боевых действиях, я сейчас же стал диктовать новую ленту:
· Генералу Май-Маевскому. Докладываю о примерном мужестве телеграфиста…
·
· Как имя и фамилия?
·
· Кого? — удивился телеграфист.
·
· Ваше.
·
· Мое? Иван Петров.
·
· …Ивана Петрова, который один из персонала станции оставался на своем посту и, несмотря на сильный артиллерийский огонь, все время исполнял свои обязанности. Без его помощи я не мог бы донести своевременно и в должном объеме ориентировать ваше превосходительство. Ходатайствую о награждении его Георгиевской медалью.
·
По-видимому, генерал Май-Маевский лично находился у аппарата, так как сейчас же застучал ответ:
«Полковнику Штейфон. Передайте телеграфисту Ивану Петрову, что за проявленное им мужество и верность награждаю его Георгиевской медалью 4-й степени. Май-Маевский».
С удовольствием пожал я руку своего случайного помощника и поздравил его с Георгиевской наградой.
Телеграфист был потрясен. На следующий день я прислал ему из штаба Георгиевскую медаль.
Об одержанном конным корпусом успехе было немедленно сообщено во все части, и эта победа сразу подняла общее настроение.
Генерал Шкуро, побывавший в своем корпусе и убедившийся, что там все идет ладно, вернулся на станцию Иловайскую и жил в своем поезде. Его присутствие явно соблазняло Май-Маевского. «Отец» приглашал к себе Шкуро, Шкуро — «отца», и каждый вечер на платформе, под окнами столовой Мая или Шкуро, пели песенники, гремела «наурская».
Наше положение только-только выправлялось, и веселая жизнь генералов вызывала, конечно, соблазн. Большинство осуждало. «Широкие натуры» — завидовали…
Прибывшие танки привлекли общее внимание. Придавая этому новому и грозному средству борьбы чрезвычайное значение, наше командование распределило их по фронту, направляя главный танковый удар все же со стороны нашего открытого правого фланга. Танки были приданы наиболее сильным частям и произвели действительно должный эффект. Первые красные части, заметив какие-то двигающиеся машины, не уяснили, по-видимому, их роль, но когда, несмотря на огонь, свободно преодолевая местные препятствия, танки врезались в неприятельское расположение и стали в полном смысле уничтожать красные цепи, разразилась полная паника. Весть о появлении танков быстро разнеслась среди большевистских войск и лишила их всякой сопротивляемости. Еще издали, завидя танки, большевики немедленно очищали свои позиции и поспешно отходили.
Учитывая тот ужас, какой нагнали эти машины на большевиков, многие части стали устраивать из повозок и иного рода подручного материала подобие танков и маячить издали. Маскарад имел успех и еще больше поднимал бодрый дух наших войск.
У станции Попасная произошло единоборство танка с красным бронепоездом. Это редкое и интересное состязание закончилось печально для обеих сторон. В бою участвовал тип так называемого тяжелого танка. Удачным попаданием он подбил паровоз бронепоезда, а последний в свою очередь повредил танк. Указанный эпизод еще более устрашил красных и внушил ужас даже неприятельским бронепоездам.
Пробивая путь этими чудовищами, наша пехота и конница быстро и без особых потерь очистила Донецкий бассейн. Войска Добровольческой армии снова заняли Юзовку, Ясиноватую, Криничную, Дебальцево.
На станции Криничная разыгрался один из тех красочных эпизодов, какими так богата история белой борьбы…
Занявши станцию, наши малочисленные части были внезапно атакованы бронепоездом красных «Тов. Ленин». Приблизившись на 400 шагов к станции, бронепоезд открыл сильнейший огонь. Положение было критическим, ибо отход вызвал бы много жертв. В этот момент капитан дроздовской батареи Думбадзе вместе с номерами выкатил руками на перрон свое орудие и, осыпаемый градом пуль из пулеметов бронепоезда, стал в упор обстреливать «Тов. Ленина». Прямой наводкой был быстро подбит паровоз. «Раненый» бронепоезд стал медленно отходить и тут же попал v цепкие «объятия» капитана Манштейна.
Доблестный капитан Думбадзе на второй день после этого боя телеграммой главнокомандующего был произведен в полковники. Высокая награда, вполне заслуженная героем!
Пасху4 мы встретили уже на северной окраине Каменноугольного района. Штаб 3-й дивизии стоял в Димитриевске, небольшом заштатном городке, недалеко от Юзова. В Димитриевске имелся собор, и было радостно стоять у заутрени, слышать «Христос воскресе» и хотя на час-другой отрешиться от суровой повседневной жизни, забыть о кровавых боях. Большевики нас не тревожили. Думаю, что красные войска в этот святой праздник почувствовали, что и они — русские люди, и в их душах затеплилась та лампадка, какая всегда заправлена в душе русского человека. Только редко он ее зажигает…
НАСТУПЛЕНИЕ НА ХАРЬКОВ
Выйдя из Донецкого бассейна, Добровольческая армия широким, двухсотверстным фронтом стала наступать на Харьков. Военное счастье явно отворачивалось от большевиков, и на личном опыте белая армия постигла, как радостно быть победителем.
Нам удавались самые рискованные операции, все наши тактические расчеты и комбинации блестяще осуществлялись. Даже явные наши ошибки так оборачивались, что лишь увеличивали общий успех. Вместе с тем подобное военное счастье медленно, но верно развращало и войска, и начальников. Легкие успехи побуждали нас недооценивать возможностей противной стороны и приучали к верхоглядству.
Белые войска, конечно, во всех отношениях превосходили по духу и искусству Красную армию. Однако надо признать, что в период гражданской войны мы грубо нарушали элементарные основы военного дела. Связь, разведка, охранение незаметно страдали. Необычайно быстро войска забыли и требования полевого устава, и богатый опыт Великой войны. Перестав быть императорской армией, мы как бы заново стали учиться. Простейшие тактические истины воспринимались как откровение…
Когда мы воевали в Донецком бассейне, то есть в районе достаточно ограниченном, который к тому же обладал широко развитой железнодорожной, телеграфной и телефонной сетью, наши прегрешения против военных основ были не так чувствительны. В новых же условиях борьбы, когда части не только не чувствовали «локтем» соседа, но зачастую его и не видели, тактические и организационные ошибки стали проявляться уже в более заметной форме. Однако все увеличивающийся порыв белых и ясно обнаруживавшийся развал красных восполняли органические недостатки Добровольческой армии, и Вооруженные Силы Юга России одерживали один успех за другим.
Армия двигалась не от рубежа к рубежу, а от города к городу, вне зависимости от того, имел ли данный пункт или не имел какое-либо тактическое значение.
Наступали обычно до тех пор, пока не иссякала физическая энергия. Тогда останавливались, приводили себя в порядок, подтягивали отставшие обозы и снова делали следующий скачок.
Подобное наступление являлось серьезным нарушением основных принципов стратегии, однако будет _явной несправедливостью безоговорочно обвинять в этом наше главное командование.
Если законы военного искусства неизменны, то применение их всегда должно находиться в строгом соответствии с обстановкой. А обстановка весною 1919 года повелительно требовала энергичного, безостановочного наступления.
Потрясенные нашим переходом в наступление, а в особенности танками, красные части разлагались с каждым днем. Они не выдерживали нашего натиска и откатывались, очищая путь на Харьков. В таких условиях войны необходимо было наступать без оглядывания на тыл. Харьков во всех отношениях являлся ценным призом, чтобы стремиться им овладеть возможно скорее. Кроме этих чисто военных соображений, существовали и иные, не менее серьезные причины, побудившие и генерала Деникина, и армию стремиться вперед. Находясь в Донецком бассейне, армия не имела своего тыла. Ее тыл находился в казачьих областях, и это вызывало много осложнений. Нам решительно был необходим простор южнорусских губерний, среди которого Добровольческая армия могла бы чувствовать себя полным и неоспоримым хозяином. Только в областях с неказачьим и нерабочим населением мы могли иметь средства для своего усиления. Таким образом, в те дни для армии, а следовательно, и для генерала Деникина имелись лишь два решения: или гнать красных, не давая им устраиваться, и тем дать армии средства к ее дальнейшему развитию, или продвигаться осторожно и знать уверенно, что дух армии принизится, прежде чем она усилится численно.
В тогдашних условиях армия желала первого решения, и ее стихийное движение на Харьков должно было увлечь и генерала Деникина, и его штаб. Наиболее длительные остановки — от трех дней до недели — были на линиях станций Никитовка, Бахмут, Славянск. Остановки эти вызывались главным образом необходимостью уширить свой фронт.
Войска наступали с таким подъемом, что в отдаваемых директивах постоянно приходилось подчеркивать, чтобы части не увлекались и не переходили указанных им границ наступления.
Мы двигались по России, это была ведь наша Родина, однако, выйдя из Донецкого бассейна, мы не могли отрешиться от странного чувства, будто мы входим в какую-то чужую страну. Сказывалась непримиримая разность мировоззрений. В течение многих месяцев зимней борьбы мы как-то сжились с мыслью, что там, за красным фронтом, там не подлинная Россия…
Особенно сильное впечатление произвела станция Никитовка, долгое время служившая для красных их ближайшим тылом. В разведывательных сводках, в показаниях пленных постоянно указывалось: «На станции Никитовка — штаб такой-то красной дивизии», «Третьего дня в Никитовку прибыл интернациональный батальон», «Никитовский ревком объявил…» и т. д. В Никитовке были «они», Никитовка долгое время являлась целью наших стремлений… И вот «мы» в Никитовке. Лица рабочих кажутся хмурыми, хотя в действительности они больше испуганы и грязны. Ведь для них «мы» много месяцев были, в свою очередь, «они»…
По мудрому распоряжению генерала Деникина, вслед за войсками прибыли вагоны с мануфактурой, мукой, сахаром и прочим. Все это немедленно стали продавать по «твердым» ценам. В быстро образовавшихся очередях весело тараторят женщины — жены рабочих:
— При тех, иродах, сахара мы и не видели!
Говорят искренне, от души. Думаю, что не менее искренне эти же женщины бранили нас, когда Никитовку занимали красные. Мужчины более серьезны и более молчаливы; однако чувствуется, что сахар и мануфактура явно колеблют их «революционную платформу»…
В Бахмуте те же настроения и те же картины. С небольшими вариациями: толпа вынесла из «агитпункта» на площадь большевистскую литературу и устроила громадный костер. А на соседнем здании еще висит грязный полотняный плакат с выцветшими красными буквами: «Чем тяжелее гнет произвола, тем ужасней грядущая месть»…
Штаб 3-й дивизии стоял на станции Бахмут, штабная комендантская рота располагалась в городе для поддержания порядка. Выбрав свободный час, я пошел посмотреть, как устроилась эта рота. Она заняла совершенно пустой барский особняк. Разговаривая с командиром роты, я заметил лежавшую на окне книгу. На ней стоял сальный солдатский котелок с остатками борща. Полюбопытствовал, что за книга. К моему глубокому удивлению, оказалось, что это исследование военного искусства маршала Тюрреня.
· Кто это из вас интересуется такими книгами?
·
· Да мы не интересуемся. Взяли, чтобы окон не марать.
·
· Где же вы ее взяли?
·
· А вот в соседней комнате их много, господин полковник. Должно, большевики привезли, да и побросали.
·
В соседней комнате действительно весь угол был завален книгами. В следующих — их было еще больше.
Взял первую попавшуюся книгу. На первом листе посвящение:
«Глубокоуважаемому учителю Г. А. Лееру от искренно уважающего ученика. Агапеев, 1903 г.».
Я понял, что это посвящение писано рукою молодого военного ученого полковника Агапеева, погибшего на «Петропавловске» вместе с адмиралом Макаровым.
Крайне заинтересованный, я стал перелистывать другие книги. И чем больше я их рассматривал, тем сильнее овладевало мною волнение. На многих книгах руками авторов были написаны трогательные посвящения Г. А. Лееру. На остальных находился штемпель «Из библиотеки Г. А. Леера».
Не было сомнений, что передо мною была библиотека знаменитого русского военного мыслителя и стратега генерала Г. А. Леера. Он собирал ее в течение нескольких десятков лет, и ее научная ценность была исключительна.
Многие издания являлись библиографической редкостью. Когда я учился в Академии генерального штаба, профессор Леер уже скончался, но его светлую память академия глубоко чтила. Его труды являлись классическими пособиями по стратегии. Поэтому понятно, почему я рассматривал с таким вниманием эту библиотеку, так варварски сваленную в нежилом доме.
Отобрав у солдат взятые ими книги, я немедленно донес о своей находке в штаб главнокомандующего. По распоряжению штаба, книги были отправлены в Таганрог, и дальнейшая судьба их мне неизвестна. До сих пор не могу постичь, каким образом это сокровище оказалось в Бахмуте!
* * *
С подходом наших войск к Славянску необходимо было форсировать реку Донец. Это обстоятельство сильно озабочивало генерала Витковсхого и меня. Дивизия не имела понтонных средств, а в намеченном для переправы месте Донец имел около 40 метров ширины. По заявлению специалистов, постройка моста потребует не менее двух недель. Следовательно, наше наступление должно было приостановиться на такой срок. Однако, как я уже говорил, удача нам сопутствовала, и все наши начинания осуществлялись успешно. Генерал Витковский решил поручить постройку моста командиру Дроздовской инженерной роты штабс-капитану Б. В своей жизни штабс-капитан мостов никогда не строил, но, получив приказание и не мудрствуя лукаво, в три дня навел мост, по которому благополучно переправилась не только пехота, но артиллерия и обозы. Это обстоятельство делало нас хозяевами обоих берегов и значительно ухудшило положение красных.
Наступление развивалось успешно. Из тыла постоянно подходили новые части и усиливали фронт. Все раненые и больные, которые могли двигаться, все командированные и просто болтавшиеся в тылу, все они, узнав о наступлении на Харьков, стремились присоединиться к своим частям. Еще недавно слабые числом полки быстро пополнялись и крепли. Мобилизованные на пути наступления офицеры и солдаты, а также пленные красноармейцы, вливаясь в наши ряды, заражались общим энтузиазмом и становились хорошими бойцами.
У Змиева наше наступление было задержано. Наступавший в центре недавно сформировавшийся и еще не окрепший N-ный полк был внезапной атакой сбит и потеснен. Командир полка объяснил свою неудачу превосходством сил красных, однако, уже после занятия Харькова, когда я не был начальником штаба, командир признался, что тогда у Змиева «просто проспали». При мало-мальски сносно поставленных службах разведки и охранения подобный эпизод не мог бы иметь места.
По обычаям того времени, забвение тактических основ восполнили мужеством и лихостью, и неприятный прорыв был быстро ликвидирован. Обеспокоенные нашим безостановочным наступлением, большевики объявили Харьков — красной крепостью5. Это был, конечно, грубый, невежественный маскарад, явное самоодурачивание. От такого переименования оборона города нисколько не усилилась. Наоборот, узнав об этом, мы поняли, что положение красных — паническое. К Харькову были посланы наши аэропланы и разбросали по городу отпечатанные листки о скором приходе Добровольческой армии.
ХАРЬКОВ
Хотя дух красных войск и был сильно поколеблен, однако командование было убеждено, что на подступах к Харькову большевики окажут упорное сопротивление. И 3-я пехотная дивизия, на которую был возложен главный удар, со всею серьезностью готовилась к решительной атаке.
К 10 июня была закончена необходимая перегруппировка войск и подтянуты все имевшиеся в нашем распоряжении резервы. Правее 3-й дивизии в общем направлении на Купянск — Белгород наступали конные кубанские части и 1-я пехотная дивизия. Восточнее успешно продвигалась Донская армия. Левый фланг 3-й дивизии был, в сущности, открыт. Там находились лишь слабые конные части. Полтава, Кременчуг и Екатеринослав находились еще в руках красных. Энергично нанесенный удар даже небольшими сравнительно силами в наш левый фланг мог сорвать задуманную операцию. Таким образом, стратегическое положение армии накануне взятия Харькова было достаточно серьезно…
Днем 10 июня нервный подъем войск достиг крайнего напряжения. Чувствовалось, что воодушевленные части двинутся на город с всесокрушающим порывом.
С утра 11 июня началось наступление. Главный удар на фронте был направлен на участке паровозостроительного завода. Одновременно с этим дроздовцы под начальством доблестного капитана Туркула овладели станцией Харьков-Центральный. Большевики не оказали того сопротивления, какое мы ожидали, и борьба за Харьков свелась, в сущности, к отдельным, разрозненным эпизодам. Одним из первых ворвался в центр города конвой штаба дивизии. У Харьковского моста на эту команду случайно наткнулся красный броневик. Увидя неожиданно для себя белых, команда броневика ошалела, заметалась, и через несколько минут борьбы броневик стал трофеем победителей.
Штаб дивизии находился на окраине города, на станции Основа. Из-за отдаленных домов и многочисленных построек весь день нас обстреливали ружейным огнем. По-видимому, это были какие-то «вольные стрелки», прекрасно знакомые с местностью, а потому и неуловимые. Пули летели высоко и только изредка щелкали по стенкам вагонов. Пришлось опустить все окна, дабы стрельба не попортила наших стекол.
Имея сведения об удачно развивающемся наступлении дивизии, генерал Витковский выехал на участок дроздовцев и вместе с ними находился на станции Харьков. Туда прибыл и генерал Кутепов. К вечеру город был занят.
Предвидя, что генерал Май-Маевский немедленно прибудет в Харьков, генерал Витковский обратился с просьбой к генералу Кутепову убедить командующего армией повременить с приездом. Момент взятия каждого крупного центра является моментом крайней слабости победителя: город, особенно незнакомый, поглощает войска, теряется связь, и крайне затрудняется управление. У генерала Витковского и его штаба было много забот по закреплению города за собой. Присутствие генерала Май-Маевского, принимая во внимание его слабости, невольно стесняло бы работу. Генерал Кутепов обещал свое содействие и, убедившись, что город действительно занят, вернулся в тот же вечер к своему штабу и предоставил, таким образом, полную свободу действий генералу Витковскому.
В эту ночь ни начальник дивизии, ни я не сомкнули глаз. Нам надо было заготовить много распоряжений на следующий день, подсчитать хотя приблизительно громадные трофеи, написать реляции и т. д.
Около 3 часов утра, когда только что начинало светать, я подошел к открытому окну. Была полнейшая тишина, и предутренний ветерок приятно освежал уставшую голову. Случайно я смотрел вправо. В этот момент по соседнему с нашим поездом пути, но слева, то есть со стороны Харькова, пронесся с невероятной быстротой паровоз. Скорость его была такова, что силою воздуха меня отбросило от окна. Путь, по которому мчался паровоз, случайно оказался соединенным с поворотным кругом. Паровоз вскочил на круг и завертелся там как волчок. Задымил, зашипел. Одно мгновение казалось, что сейчас произойдет оглушительный взрыв. Из дверей станции, находившихся против штабного поезда, выскочили какие-то испуганные, недоумевающие служащие. Через 10 минут все разъяснилось: это местные большевики-железнодорожники выпустили пустой паровоз против вагонов штаба дивизии, дав паровозу наивысшую скорость. На наше счастье, находившаяся впереди нас стрелка была переведена на соседний путь, и паровоз промчался мимо. Не случись у большевиков этой оплошности, наш поезд был бы разбит.
Решительно нам везло!
Вслед за паровозом начался докучливый обстрел. По-видимому, какие-то внимательные глаза все время следили за нами. Эпизод был скоро изжит, и работа продолжалась. Около 8 часов утра ко мне обратился поручик Б. и еще один офицер с просьбой разрешить им взять паровоз Я Ж>-ехать на разведку в сторону Харькова. Оба эти офицера к составу штаба не принадлежали и находились в штабном поезде случайно. Они были харьковцами, и им не терпелось пробраться в только что занятый город. Поручик Б. до войны был небезызвестный харьковский земец. Энергичный, мужественный, он покинул Харьков в декабре 1918 года и теперь всей душой рвался в родные места.
Повсюду началась жизнь, везде были видны люди, и подобная поездка не представляла особого риска. Все же я воспретил поручику Б. отъезжать дальше 1–1,5 версты, считая, что в случае нападения на него мы услышим на таком расстоянии выстрелы и быстро окажем помощь.
Назначенный вести паровоз машинист отговаривал Б. от поездки: «Лучше вы, господа, подождали бы. Тут у нас народ беспокойный!» Взяв винтовки, поручик Б. и его спутник весело вскочили на паровоз. Через полчаса они должны были вернуться. Прошел, однако, час, а их не было. Несколько раз я спрашивал своих офицеров, вернулся ли поручик Б.
— Никак нет, господин полковник!
— Странно.
Когда прошло два часа, я серьезно забеспокоился и выслал разведку в сторону пути Б. Менее чем в полверсте от штабного поезда разведка нашла стоящий пустой паровоз. Из топки паровоза торчали чьи-то ноги. То был несчастный Б. На его теле не оказалось никаких ран. Руки и ноги не были связанными. По заключению врача, поручик Б. был живым всунут головой в раскаленную топку. В таком положении его держали за ноги некоторое время, покуда он не задохся. Этот случай лишний раз напоминает, с каким коварным и жестоким врагом мы имели дело… Тело спутника Б. нашли в нескольких десятках шагов…
* * *
В этот же день, 12 июня, происходило торжественное вступление белых войск в Харьков. Все свободные войска были стянуты на станцию Харьков-Донецкий. Длинной лентой вытянулись части дивизии. Впереди верхом в сопровождении штаба ехал герой Харькова генерал Витковский.
Впоследствии мне приходилось не раз беседовать с харьковцами о моменте занятия нами города. По их словам, большевики тщательно скрывали свои неудачи, и потому приход Добровольческой армии явился для всех неожиданным. Правда, никто не верил большевистским сводкам, но все же, когда раздалась стрельба в районе паровозостроительного завода, жители менее всего предполагали, что это белые войска.
В течение гражданской войны в роли того или иного начальника я прошел по России не менее 2 тысяч верст. Видел много занятых городов, но нигде белых не встречали так трогательно, как в Харькове. Звуки музыки привлекали внимание жителей, и со всех сторон бежали навстречу нам толпы людей. Из всех окон неслись приветствия. Отовсюду сыпались на войска цветы. Когда в конце длинной Екатеринославской улицы я обернулся назад, то увидел сплошной колыхающийся цветник. У каждого на штыке, на фуражке, под погонами, в руках были цветы. В те минуты так остро чувствовалось, что мы действительно явились спасителями и освободителями для всех этих плачущих и смеющихся людей…
Особенно резко запечатлелась в моей памяти одна мимолетная сценка. Двигаясь по Екатеринославской улице, мы подходили к зданию главной таможни. Я случайно заметил, как на балкон таможни вышла барышня-подросток. В белом платье, с бледным личиком. Она вышла на балкон, по-видимому, без всякой цели и, выйдя, смотрела в противоположную от нас сторону. Нас она не замечала. В эту минуту заиграла музыка дроздовцев. Барышня обернулась. В одно мгновение на ее лице отразилась целая гамма чувств: удивление, радость, экстаз. Она буквально застыла с широко раскрытыми глазами. Затем всплеснула руками и бросилась в комнаты. Вероятно, сказать домашним о нашем проходе. Еще через мгновение весь балкон был заполнен людьми. Они махали руками, платками, что-то кричали. Милая барышня одновременно и смеялась, и махала нам своим платочком, и утирала им глаза. Больше никогда я не встречал эту барышню, но и теперь, много лет спустя, она, как живая, стоит перед моими глазами. Вся беленькая, она так ярко олицетворяла белую радость белого Харькова…
У главного вокзала нас ожидали дроздовцы капитана Туркула и громадная толпа, громко кричавшая «ура». Когда генерал Витковский со штабом проходил через вокзал на перрон, нам целовали руки, крестили, протягивали цветы…
Это были незабываемые, святые минуты!
Обстановка, однако, не позволяла отдаваться переживаниям, и, вернувшись в штабной поезд, мы немедленно принялись за работу. И генерал Витковский, и я — мы прекрасно угадывали, что все наши части переживают опьянение победой. Наш долг обязывал вернуть войска к их обязанностям: надежно прикрыть город извне и дать ему порядок внутри.
Закончив первоначальные распоряжения, мне пришлось по различным делам побывать в городе. Был уже вечер. Улицы пустынны. Тянулись только обозы, грохотали зарядные ящики. Какие-то солдаты расспрашивали «милицейского», как им выйти на Белгородское шоссе. Чувствовалась война.
Вернувшись на станцию, я увидел ярко освещенный поезд.
· Чей это поезд?
·
· Генерала Май-Маевского!
·
У себя в оперативном отделении я нашел ряд донесений и углубился в их разбор. Начальника дивизии не было. Дежурный офицер доложил мне, что его вызвал командующий армией.
Полученные донесения указывали, что некоторые части дивизии вместо того чтобы, согласно приказаний, выдвинуться за город, остаются на окраинах. Им, по-видимому, не хотелось из удобств большого центра уходить в темноту и грязь полевой жизни. Это было, конечно, недопустимо, ибо ослабляло оборону города, и я сейчас же написал соответствующие приказания.
Мои отношения с генералом Витковским были очень хорошие, и никаких разногласий, особенно в тактических вопросах, у нас не было. Я был убежден, что составленные мною приказания он вполне одобрит. Однако так как кроме этих приказаний у меня имелся ряд еще других вопросов, требующих спешного обсуждения, я решил лично пойти в поезд командующего. Генерала Май-Маевского, его штаб, генерала Витковского и других я нашел в вагоне-столовой. Судя по оживленным разговорам и раскрасневшимся лицам, ужин был в полном разгаре. Генерал Май-Маевский встретил меня радушно:
· Вот и прекрасно, что вы пришли. Садитесь.
·
· Благодарю, ваше превосходительство, не могу. Я пришел переговорить с начальником дивизии.
·
· С делами успеете. Садитесь. Вот вам стакан вина.
·
Командующий был явно навеселе. Меня выручил подошедший генерал Витковский. Доложив, что надо, я откланялся и ушел. Со мной хотел уйти и мой начальник дивизии, которого ужин у Мая мало привлекал.
Этот ужин, столь шумный и неуместный при существовавшей тогда обстановке, был очень мне не по душе. Правда, мы только что взяли Харьков, одержали блестящую победу, однако наше тактическое положение было далеко не закрепленное. Нас ожидал непочатый угол работы, работы большой, крайне серьезной и спешной.
Скоро вернулся и генерал Витковский. Еще в дверях оперативного купе он прошептал мне со свойственным ему комизмом:
— Понимаете, уже приехал. И Кутепов его не удержал!
Я умышленно остановился на этом ужине, так как это было начало длинного ряда ужинов, обедов и банкетов, которые устраивались в Харькове с прибытием туда генерала Май-Маевского и которые принесли в дальнейшем неисчислимое зло и армии, и русскому делу.
Обосновавшись в Харькове, генерал Май-Маевский под влиянием своих страстей все более и более отходил от дела и терял волю. Харьковское общество, в особенности первое время, чуть ли не ежедневно «чествовало командира». Одни это делали от души, не учитывая последствий, другие преследовали те или иные цели.
* * *
Жизнь Харькова во всех своих проявлениях быстро оживала. Громадный город, еще несколько дней назад затихший, угрюмый и придушенный террором, освободившись от большевиков, сказочно возрождался.
Заработавшие многочисленные административные и общественные учреждения, а вместе с ними и частная инициатива широко и всесторонне пошли навстречу разнообразным нуждам армии. Мне пришлось прожить в Харькове около трех недель. Не знаю, как было дальше, но при мне вся жизнь города протекала под лозунгом «все для армии». И это не была только фраза или выражение скоротечного порыва. Испытав все ужасы коммунизма, жители понимали, что охранить их от красного зла может только армия. Как в пасхальную ночь люди смягчаются сердцами и на время как бы отрешаются от своих страстей, так и в первый период жизни белого Харькова ни пороки тыла, ни партийная рознь еще не показали своего темного лика. Белая идея во всей своей основной чистоте, казалось, объединила всех — и правых, и средних, и левых. Входя в Харьков, Добровольческая армия надела свои лучшие белые одежды. К сожалению, на этих сверкающих и притягивающих своей чистотой одеяниях скоро стали появляться темные налеты. По мере продвижения армии к северу Харьков все более становился тылом, со всеми отрицательными оттенками этого понятия.
В течение многомесячной моей службы с генералом Витковским мы никогда не допускали у себя в штабе каких-либо празднеств или модных тогда «объединений». Дамы во всех своих разнородностях никогда не бывали нашими гостями. С такими привычками и взглядами на работу мы прибыли в Харьков. Скоро посыпались приглашения, начались чествования. Занимая официальное и по добровольческому масштабу видное положение, мы не всегда могли отклонять подобное внимание. Я ясно видел, как мои помощники — штабная молодежь, раньше такие старательные, скромные и домоседы, еле высиживают до вечера и всячески стараются удалить меня из штаба, чтобы немедленно выскочить и самим.
Каждый из нас или, во всяком случае, большинство провели четыре тяжелых года Великой войны, многие были уже более года в Добровольческой армии. Таким образом, в прошлом имелось 5 лет непрерывной опасности, тяжелых, кровавых переживаний и бесконечный ряд всевозможных лишений. Харьков являлся нашей «дневкой». Естественно, что каждый стремился по своим вкусам использовать эту «дневку». Что же касается вкусов, то если они вообще огрубели уже в течение Великой войны, то в период революции и гражданской войны еще более упростились. Натянутые нервы требовали и сильных ощущений. К тому же молодой в своей массе командный состав, офицерское мировоззрение которого сформировалось не в нормальных условиях мирного времени, а в обстановке более примитивных требований войны, на многое смотрел снисходительно. Да и трудно было требовать от 25-летних полковников уравновешенности и серьезности, свойственных обычно лишь зрелому возрасту.
Было бы несправедливо обвинять наше офицерство в том, что в дни Харькова и в последующие оно не проявило мудрости государственного предвидения. Строевое офицерство Добровольческой армии дало то, что имело — величайшую доблесть и беспредельную жертвенность, а мудрость и государственное предвидение должны были являться добродетелями вождей.
С ужасающей быстротой тыл стал затягивать всех, кто более или менее соприкасался с ним. Лично на себе я испытывал его тлетворное влияние. Смею считать себя человеком с достаточно твердой волей, однако я не мог не сознавать, как и в моей воле появились трещины. Соблазны большого города, известный комфорт, правда, примитивный, но от которого мы отвыкли, естественное желание хотя временно забыть грубость и жестокость войны, упоение только что одержанными победами — все это, как и многое иное, колебало нашу волю и отвлекало внимание от войны. Инстинкт прежней жизни, прежних культурных вкусов и привычек властно напоминал о себе. Побороть или придушить эти инстинкты могли или соответствующая обстановка, или собственная воля. Обстановка, к сожалению, лишь поощряла развивающееся малодушие, а что касается воли, то не всякий ею обладал.
Прежде всего и больше всего утерял свою волю и заглушил лучшие стороны своего ума и характера генерал Май-Маевский. Его слабости стали все более и более затемнять его способности, и пословица о голове и рыбе нашла яркое подтверждение в харьковском периоде.
Был ли виноват в этом генерал Май-Маевский? Несомненно, был, но постольку, поскольку может отвечать за свои, поступки человек явно больной. Лекарства же, которые ему прописывались сверху, отпускались в столь незначительных дозах, что их действие не производило, по-видимому, должного впечатления.
В своем лице Май соединял высшее военное и гражданское управление обширного, вновь занятого района. Естественно, что ореол его власти привлекал к нему многих. Его окружение — военное, гражданское и случайное — стремилось или сделать приятное всемогущему начальнику, или не раздражать его «непрошенной» опекой. То легкомыслие, какое проявлял сам генерал Май-Маевский, по непреложным психологическим законам передавалось и вниз. Май председательствовал на банкетах, официальных и интимных. Мая окружали дамы общества из числа тех, которые падки на всякую моду, будь это тенор, адвокат или пожилой генерал. В свою очередь офицерство кутило в «Версале» или в загородных кабаках и, конечно, тоже с дамами. Разность обстановки, разность социальных положений дам нисколько не меняли сущности основного зла. Кутежи требовали денег, а при скудном добровольческом жалованье их можно было добывать только нечистоплотными путями.
Генерал Май-Маевский умер тем неимущим человеком, каким он и был в действительности. Лично я ни на мгновение не сомневаюсь, что он был человеком честным. Честным, конечно, в узком смысле этого слова. Эта примитивная честность все же не мешала ему быть неразборчивым в своих знакомствах и в принимаемых чествованиях. Не подлежит сомнению, что вокруг генерала группировались всевозможные дельцы и рвачи, которые под прикрытием громких фраз обделывали свои дела и делишки. Это создавало легенды, задевавшие не только доброе имя Май-Маевского, но и наносившие серьезный ущерб Добровольческому делу.
Немало зла причинил командующему армией его личный адъютант капитан Макаров.
В 1927 году в совпедии вышла книга «Адъютант генерала Май-Маевского». В этой книге автор ее — сам Макаров — в ярких саморекламных тонах повествует, как, будучи адъютантом генерала Май-Маевского, он якобы в то же время служил и большевикам. От предателей и шпионов не застрахована ни одна армия, и нам, служившим под начальством генерала Май-Маевского, было бы, пожалуй, более утешительно мириться с этим фактом, чем признавать внутренние, органические ошибки того периода. Ошибки и заблуждения, приведшие в дальнейшем к крушению белой вооруженной борьбы на юге России. Человек малоинтеллигентный, полуграмотный, без признаков даже внешнего воспитания, Макаров являл собою тип беспринципного человека, каких в то смутное время было немало в лагерях и белых, и красных. Люди подобного аморального облика всегда служили там, где было им выгодно в данный момент, и только глубоко материальными соображениями определялась их верность и «идейность».
Трудно объяснить, каким образом Макаров мог подойти так близко к генералу Май-Маевскому. Это одна из тех жизненных и психологических загадок, которую вряд ли мог разъяснить и покойный генерал. Май был человеком умным, воспитанным, с большим жизненным опытом и потому никак не мог заблуждаться в определении внутренней сущности своего адъютанта. К тому же Макаров во всех своих проявлениях был настолько примитивен, что не требовалось особого ума и проницательности, чтобы исчерпывающе точно определить его нравственный облик.
Возможно, что наиболее правильным объяснением столь странного сближения является тот перелом, какой назревал в характере Май-Маевского еще со времен Донецкого бассейна. Когда пагубная страсть стала явно завладевать генералом, ему потребовалось тогда иметь около себя доверенного человека, который не только помогал бы удовлетворению этой страсти, но и принимал ее без внутреннего осуждения. Сознавая свои слабости, Май-Маевский вовсе не желал их афишировать. Он предпочитал, чтобы многое выходило как бы случайно. Столкнувшись с Макаровым, генерал понял, что это как раз тот человек, какой ему необходим. Перед Макаровым можно было не стесняться, совсем не стесняться. Май иногда называл его на «ты» и, по существу, не делал разницы между своим денщиком — солдатом и личным адъютантом — офицером. И надо признать, что с точки зрения вкусов и привычек Май-Маевского трудно было найти более подходящее лицо, чем Макаров. Он без напоминаний просмотрит, чтобы перед генеральским прибором всегда стояли любимые сорта водки и вина, он своевременно подольет в пустой стакан, он устроит дамское знакомство и организует очередной банкет…
Для всего этого и для многого иного требовались, конечно, деньги. Таковых у Мая не было. Макаров легко нашел выход: пользуясь своим служебным положением, он под предлогом, что это необходимо чинам и командам штаба армии, добывал из реквизированных складов мануфактуру, сахар, спирт и иные дорого стоившие тогда товары и продукты. Когда ему отказывали, он требовал именем командующего армией, справедливо полагая, что не будут же справляться у генерала Май-Маевского, дал ли он такое приказание или нет. К тому же Макаров в потребных случаях не смущался лично ставить подпись командующего, каковое обстоятельство еще более упрощало получение разных товаров…
Все добытое без труда «загонялось», и у Макарова появлялись большие деньги. Меньшая часть шла на «обслуживание» привычек Мая, а большая — уходила на кутежи самого Макарова. Не подлежит сомнению, что о многих грязных проделках своего адъютанта командующий армией и не подозревал. Обычный грех ближайшей неосведомленности многих высокопоставленных людей…
Спаивая своего начальника, Макаров и сам спивался. Спекуляции, которыми он занимался, становились достоянием широких масс, и, как водится в подобных случаях, молва вырисовывала еще более фантастические узоры на фоне и без того неприглядной действительности. Да и трудно было со стороны, особенно людям непосвященным, разобраться, где кончается Макаров и начинается Май-Маевский…
Несколько раз и генерал Кутепов, и генерал Деникин пытались воздействовать на генерала Май-Маевского и побудить его удалить от себя своего адъютанта. Советы первого, как подчиненного, не имели должного авторитета для командующего армией, а генерал Деникин, видно, не считал нужным пресечь решительными мерами все увеличивающийся соблазн. Сам Май-Маевский, быть может, в часы просветления и сознавал недопустимость своего поведения, но его ослабевшая воля уже не имела должных импульсов для сопротивления. Соблазн сверху постепенно проникал вниз. Беря пример с командующего, стали кутить офицеры, причем эти кутежи выливались зачастую в недопустимые формы. С растущим злом, конечно, боролись, но не теми систематическими и крутыми мерами, какие одни были уместны в тогдашних условиях жизни.
Генерал Витковский любил порядок и дисциплину, однако его характеру была свойственна известная застенчивость, побуждавшая его избегать не только мер решительного воздействия, но зачастую и обычных внушений. Не одобряя ни кутежей, ни пьянства, органически чуждый всякой распущенности, он, оставаясь сам безупречным, предоставил событиям идти естественным путем.
Генерал Кутепов, будучи тоже во всех отношениях человеком воздержанным, по своим волевым качествам резко отличался от генерала Витковского. Он не стеснялся восстанавливать порядок всюду, где замечал его нарушение. Помню, однажды я ехал в автомобиле с генералом Кутеповым. Нам повстречался офицер в растерзанном виде. Командир корпуса сейчас же остановил автомобиль, посадил с собой виновного и отвез его в комендатуру. Среди остальных начальников всех степеней только один генерал Кутепов проявлял более или менее ярко и действенно свою власть. Погруженный в дела своего корпуса и стесняемый присутствием старшего лица — командующего армией, генерал Кутепов был бессилен изменить общее положение. Сознавая все тлетворное влияние Харькова, и генерал Кутепов, и генерал Витковский при первой же возможности покинули город и перевели свои штабы в другие пункты.
Комендантом города был генерал Шевченко. Впоследствии он был моим начальником дивизии, и я близко узнал этого храброго, благородного генерала. Прекрасный строевой начальник, он тяготился своей комендантской должностью, беспокойной, утомительной и мало соответствующей его характеру. Старый кадровый офицер, генерал Шевченко не мог свое офицерское мировоззрение применить к новым условиям, и потому его борьба с нарушениями порядка и дисциплины не производила на массы устрашающего впечатления. Люди считались лишь с ярко и сурово проявленной властью. Гуманность же воспринималась как попустительство.
Таким образом, не сдерживаемый мерами продуманной и неуклонно проводимой системы, добровольческий тыл все более бурлил и разлагался. Представление о законности снижалось, а у натур неустойчивых и вовсе вытравлялось. Пока войска победно двигались вперед, это не было так страшно. Движимый героизмом и самопожертвованием, фронт сохранял еще свои белые ризы…
По занятии Харькова я сдал своему заместителю должность начальника штаба и вступил в командование Белозерским полком. С чувством искренней симпатии расстался я и с генералом Витковским, и с чинами штаба. О совместной службе с ними у меня сохранились самые лучшие воспоминания, как о времени яркого горения души и аскетического служения Белому делу.
Впрочем, с моим уходом из штаба изменился лишь характер отношений: Белозерский полк продолжал оставаться в составе 3-й дивизии, и потому моя духовная и служебная связь с начальником дивизии и со штабом не прерывалась.
Через несколько дней после сдачи мною штаба была получена телеграмма о намерении генерала Деникина посетить Харьков. Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России впервые появлялся на территории, которая безоговорочно подчинялась ему. По случаю приезда генерала Деникина был устроен парад войскам. Это был наиболее блестящий, наиболее внушительный парад за все время существования Вооруженных Сил Юга России. Я был назначен командовать парадом.
К 10 часам утра на Соборную площадь стали стягиваться участвовавшие в параде части. С оркестрами, подтянутые, одетые во все лучшее и форменное. На правом фланге стали дроздовцы в своей красочной форме. Далее, загибая фронтом на Николаевскую площадь, выстроились белозерцы. Они имели стальные каски, захваченные в большевистских складах, и это однообразие головных уборов придавало полку воинственный и строевой вид. За Белозерским полком тянулись орудия дроздовской артиллерии и броневики. Еще дальше — Кубанская казачья дивизия в конном строю.
Все улицы, выходящие к району парада, были заполнены толпами народа. Окна громадного здания присутственных мест, выходящие на Соборную площадь, являли пеструю, яркую картину дамских лиц и костюмов. Настроение и войск, и зрителей было приподнятое, праздничное. Слава и популярность генерала Деникина были тогда в полном блеске.
Поезд главнокомандующего запоздал и прибыл только к 2 часам. Скоро со стороны Павловской площади показался ряд автомобилей.
Раздалась команда, войска взяли «на караул», и в воздухе понеслись торжественные звуки Преображенского марша.
«Здравствуйте, доблестные дроздовцы», — послышался спокойный, громкий голос главнокомандующего. И после ответа из рядов войск вырвалось громкое «ура». Его подхватили стоявшие толпы народа. Генерал Деникин неторопливо обходил длинную линию войск, а вслед ему неслись музыка и бесконечное «ура». Воистину это был триумф удачливого победителя!
Долго затем проходили войска церемониальным маршем мимо своего вождя. Горящие глаза и воодушевленные лица ярко свидетельствовали их преданность Белому делу. По должности командующего парадом я стоял рядом с генералом Деникиным и видел, каким удовлетворением и тихой внутренней радостью светилось его лицо. В те минуты он не мог не чувствовать той крепкой связи, какая существовала между ним и армией. И если перезвон соборных колоколов невольно переносил меня мысленно в Москву, то, вероятно, и главнокомандующему рисовалась в те минуты освобожденная Первопрестольная…
После парада генерал Деникин в сопровождении начальствующих лиц прибыл в городскую думу. В большом зале его ожидали представители города и депутации многочисленных общественных организаций.
Выслушав ряд приветствий и поблагодарив за выраженные чувства, главнокомандующий, говоря о заветном стремлении русских людей освободить Москву, произнес:
— Третьего дня я отдал приказ армиям…
Затем он на мгновение запнулся и закончил:
— …Наступать на Москву!
Во время речи главнокомандующего стояла полнейшая тишина. После слов «наступать на Москву» вся эта тысячная толпа, заполнявшая обширный зал, коридоры, лестницу, на мгновение оцепенела. Я почувствовал, как неожиданная спазма перехватила мое горло. На мгновение я перестал дышать, а на глазах появились слезы. Еще минута такого общего столбняка, а затем уже не крик, а исступленный вопль «ура». Люди не замечали катящихся из их глаз слез и кричали, кричали, вкладывая в этот крик и тоску накопившегося национального горя, и весь восторг затаенных надежд.
Незабываемые картины и переживания! То был высший подъем осознания Белой идеи. Это были минуты величайшего порыва патриотизма. Все смешалось, перепуталось, и потрясенный Деникин должен был переживать истинное удовлетворение и как русский человек, и как белый вождь.
После приема депутации генерал Деникин отправился на обед, устроенный городскими представителями в саду Коммерческого клуба. Российское гостеприимство, радостное настроение и волнующие речи… Обед давно уже закончился, а главнокомандующий продолжал еще сидеть. Он явно наслаждался и отдыхом, и обществом незнакомых, но родных ему по духу русских людей.
После обеда желающие закурили. На предложение соседей А. И. Деникин ответил, что вообще не курит и только изредка разрешает себе насладиться сигарой. И надо было видеть, как засуетились наши любезные хозяева, как заволновались, забегали старшины клуба, желая достать сигару для главнокомандующего. В этом незначительном эпизоде проявилось столько ласки, столько внимания, и так искренне всем хотелось услужить дорогому гостю, доставить ему хотя бы небольшую радость…
В это же время к генералу Деникину незаметно подошел какой-то почтенный пожилой господин, выбрал момент, схватил руку главнокомандующего и быстро ее поцеловал.
Этот жест сильно смутил Деникина и вызвал новый порыв энтузиазма. После обеда главнокомандующий проехал по городу, а затем посетил спектакль в городском драматическом театре. Лично я не был на этом спектакле, но мне передавали, с каким восторгом публика приветствовала своего вождя.
В тот светло-пасхальный день мы забыли и о чувствах мести, и о лаврах победителей. В наших ушах неумолчно звучал радостный благовест московских колоколов, а перед глазами стояли видения кремлевских святынь… В сердцах и в душах наших была только Москва…
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ПОЛК
Полк Добровольческой армии — это был своеобразный мир, имевший мало сходства с полковой жизнью дореволюционного периода. Во время гражданской войны мне приходилось занимать разнообразные должности, благодаря которым я имел возможность близко подходить и к деятелям, и к событиям той эпохи. Однако ни на одной должности я так ярко не наблюдал и не воспринимал и светлый, и темный лик добровольчества, как тогда, когда командовал полком. Вместе с тем, проходя с полком по России, я непосредственно сталкивался с самыми разнообразными слоями населения, видел города и деревни, видел жизнь такой, какой она была в действительности. В своем победном движении на север фронт обычно продвигался гораздо скорее, чем тыл. В момент нашего прихода в тот или иной район он переживал полный паралич власти: большевистская администрация уходила, а добровольческая еще не появлялась. Жизнь, однако, предъявляла свои требования, и командир полка, хотел он того или нет — это значения не имело, становился временно представителем всегражданской власти. Подобная универсальность, отрицательное значение которой вне сомнений, давала, однако, возможность глубже и всесторонне знакомиться с настроениями и событиями 1919 го да.
Принимая полк, я имел к тому времени и солидный служебный стаж, и высшее военное образование. В силу этих обстоятельств мои новые обязанности представлялись мне вполне отчетливо. Ни строевые, ни тактические вопросы меня не смущали. Робел я только перед одной областью — перед хозяйством. Не чувствуя склонности к делам подобного рода, я всегда их сторонился, а между тем эта отрасль полковой жизни играла громадную роль. Судьбе угодно было послать мне незаменимого помощника по хозяйственной части генерал-майора Черниоловского, большого знатока-практика полкового хозяйства и человека кристальной честности. Он идеально вел обширное хозяйство, причем, чем я особенно дорожил, внес в эту отрасль все навыки формальные и этические, какие были свойственны императорской армии.
Когда во время Бредовского похода генерал Черниоловский погиб, полк и я искренне его оплакивали.
В Харькове Белозерский полк располагался на Москалевке, в бывших казармах Пензенского полка6. Полком временно командовал полковник Радченко, молодой человек, служивший в полку еще в мирное время и пробывший в его рядах всю Великую войну. Храбрый, энергичный и невозмутимый, он был предан всей душой родному полку.
Когда я приехал принимать полк, ко мне навстречу вышел молодой высокий подпоручик с гладко стриженной головой и с добрыми, чистыми глазами.
— Здравия желаю, господин полковник! Пожалуйте, мы вас ожидаем.
Он сказал это таким приветливым голосом, его лицо так радостно улыбалось, что со стороны можно было посчитать, что подпоручик встречает не незнакомого командира полка, а близкого ему человека. Я в свою очередь поздоровался с ним тоже приветливо. Это был оперативный адъютант подпоручик И. И. Глоба, в дальнейшем мой старательный, безотказный помощник и вернейший друг.
По прибытии в полк я захотел прежде всего познакомиться с офицерами и был приятно удивлен, когда при представлении мне командного состава увидел около 100 офицеров. Несмотря на стремление офицеров представиться мне возможно лучше, я все же обнаружил немало чисто внешних недочетов, что откровенно и высказал. В дальнейшем, когда мои отношения с полком приняли формы исключительно единения и доверия, я узнал, что мое первое появление вызвало горячие споры. Сторонники новых течений считали, что «такая строгость» не соответствует традициям Добровольческой армии. Поклонники регулярных начал, наоборот, одобряли:
— Командир полка никому ничего обидного не сказал, а сказал только правду. И если он подтянет всех, то будет только хорошо.
Продолжая прием, я все время испытывал приятное разочарование. В полку оказалось 3 батальона, а в ротах по 60–70 штыков. По добровольческому масштабу это был уже солидный полк. Хромали, и очень сильно, все отделы снабжения. Не хватало винтовок, пулеметов, телефонного имущества, обмундирования, снаряжения. Обоз находился лишь в зачаточном состоянии. В общем, полк был сформирован на живую нитку. Необходима была еще большая напряженная работа. Во всяком случае, то, что было уже сделано, свидетельствовало, как много любви и труда вложили в дело формирования полка и его временно командующий, и офицеры.
После приема полка офицеры пригласили меня в собрание на чашку чая. Это был действительно только чай с каким-то печеньем, и мне понравилось, что ни за одним столом чай не отдавал спиртом. Играл оркестр, и, несмотря на свое недавнее сформирование, играл вполне прилично.
Я знал, что мне не дадут долго засиживаться в Харькове, и поэтому старался полностью использовать временный отдых полка.
Как было указано раньше, формирование новых частей в Добровольческой армии происходило в условиях крайне своеобразных и ярко отражавших нравы и обычаи того периода.
Как начальник штаба, я был знаком лишь с внешней стороной приемов формирования и, только став командиром полка, полностью познакомился с виртуозной техникой подобного дела. Причем познакомился, конечно, не сразу, а путем довольно продолжительного опыта.
Не сомневаюсь, что главное командование издавало те или иные общие законоположения, регламентирующие вопросы формирования. Однако должен признать, что лично мне эти законоположения остались неизвестными. И, конечно, не моя вина, что я не получил необходимых указаний. Не получали их и другие командиры полков, почему каждая часть формировалась по своему усмотрению. Отрицательные последствия подобной импровизации не ограничивались, конечно, только пестротою штатов, отражавшейся на боеспособности полков. Последствия эти были гораздо глубже и печальнее: «личное усмотрение», применяемое при формировании, обычно и очень скоро распространялось решительно на все стороны полковой жизни и приводило как начальников, так и подчиненных к забвению законности.
С первого же дня своего командирства я убедился, что рассчитывать на какие-либо нормальные отпуски от интендантства и прочих довольствующих органов не приходится. Все надо было раздобывать собственным попечением и инициативой. Прекрасно зная по прежней штабной службе все возможности начальника дивизии и командира корпуса, я не затруднял этих лиц своими просьбами. При всем своем желании и тот и другой могли помочь полку очень малым: у них самих ничего не было.
Надо было идти не служебными и официальными путями, а частными и иногда довольно кружными.
Харьков, встретивший нас так ликующе, проявил большую жертвенную готовность всячески помогать армии.
В первые же дни по занятии города полк получил много офицеров и добровольцев, причем в числе последних преобладала главным образом учащаяся молодежь. Это пополнение и дало возможность сформировать третий батальон и усилить роты до указанного ранее состава.
Прием добровольцев протекал без признаков какой-либо системы. Каждая часть образовывала свое вербовочное бюро, которое и принимало всех желающих без лишних формальностей. Выбор части зависел исключительно от желания поступающих, причем это желание являлось зачастую следствием чисто внешних впечатлений. Одних соблазняла нарядная форма дроздовцев, у других оказывались знакомые в артиллерии. Убежден, например, что большое число добровольцев, записавшихся в Белозерский полк, объясняется главным образом тем обстоятельством, что на параде в день приезда главнокомандующего белозерцы произвели впечатление своими касками. Что же касается офицеров, то, насколько я мог судить, их привлекал Белозерский полк, как полк прежней императорской армии.
Для объяснения офицерской психологии тогдашнего времени является интересным нижеследующий факт: в Харькове еще в мирное время стоял полк 31-й пехотной дивизии, и офицеры этих частей в числе нескольких сот человек (первоочередных, второочередных и запасных полков) воздерживались от немедленного поступления в Добровольческую армию. Они верили, что будут воссозданы их родные части, и личным почином образовали свои, очень сильные и духом, и числом, ячейки. К сожалению, о чем речь будет ниже, эти надежды, как правильно проведенная система, осуществлены не были.
Вначале, по добровольческому обычаю, в Харькове были образованы особые комиссии, которые и занялись регистрацией офицеров. Последних было несколько тысяч. Подавляемые этим числом, комиссии изнемогали от непосильной работы, и регистрация крайне затягивалась, создавая атмосферу нервности и разочарования. Одна из центральных задач комиссии — выявить нравственную и политическую благонадежность регистрируемых — была явно невыполнима. Невыполнима потому, что в распоряжении комиссии никаких иных для суждения материалов, кроме личного впечатления, обычно не бывало.
Система регистрации, заимствованная, несомненно, от большевиков, являлась по своим последствиям, безусловно, вредной и нежизненной. Для большевиков каждый офицер являлся политическим и классовым врагом и поэтому брался под подозрение. При красных регистрациях необходимо было всякому офицеру прежде всего в чем-то оправдываться.
Белая власть невольно усвоила тот же принцип. На наших регистрациях офицерам тоже надо было прежде всего оправдываться. Если вопросы «оправдания» затрагивали бы только тех, кто вольно или невольно служил в Красной армии, это имело бы известный смысл. К сожалению, «обвинялись» все, кто по тем или иным причинам проживал на территории, занятой Советской властью, хотя и был в подавляющей массе внутренне непримиримым врагом этой власти.
Офицерство, встречавшее «свою» — белую армию с энтузиазмом и яркими надеждами, быстро теряло порыв первых дней, считало себя несправедливо обиженным и мучительно переживало свою трагедию.
После демобилизации 1917–1918 годов на юге России проживало не менее 75 тысяч офицеров. Целая армия! 75–80 процентов этой массы было настроено, несомненно, жертвенно и патриотично, но мы не умели полностью использовать их настроения…
Жизнь, однако, сама вносила поправки в несовершенную систему регистрации и политического (исключительно в смысле большевизма и яркой самостийности!) отбора. Поправки эти были, быть может, примитивны, но по результатам вполне удовлетворительны.
Офицеры, настоявшись бесплодно много дней в длинных очередях официальных комиссий (В одном из больших центров юга России комиссия в течение трех дней успела зарегистрировать лишь тех офицеров, фамилии которых начинались на букву А…), переставали туда являться, а стали поступать в те или иные части по своим вкусам и специальностям. Приняв новых офицеров, каждый полк частными, но действенными путями быстро выяснял и прошлое этих офицеров, и их политические исповедания. Причем спешу оговорить, что под понятием «частный путь» ни в коем случае не следует понимать путей, так сказать, контрразведывательного характера. Все выявлялось гораздо проще и надежнее. Распределенные по ротам, новые офицеры в частных разговорах сами проговаривались о прошлом. Почти всегда находились однополчане, однокашники или просто знакомые. А затем лучшим экзаменом, лучшей комиссией являлся первый бой…
Вновь зачисленные в полк офицеры назначались обычно рядовыми в строевые или специально офицерские роты. Если в период зарождения и развития Добровольческой армии офицерские части являлись следствием исключительной обстановки и были явлением неизбежным, то в позднейшем времени, особенно после Харькова, их существование не только не вызывалось необходимостью, но и приносило чрезвычайный вред. Прежде всего нахождение офицеров на должностях рядовых больно било их по самолюбию и тем принижало их дух. Это была одна из главных причин, почему значительный процент офицеров уклонялся от службы в строю. Затем наличие офицеров-рядовых резко отражалось на дисциплине, что в дальнейшем принесло крайне печальные плоды, запутав и усложнив веками слагавшееся офицерское мировоззрение.
Эта же система привела к тому ненормальному явлению, что прежним кадровым офицерам, преимущественно штаб-офицерам, в армии места не находилось. На должности рядовых они не годились, да и сами не желали идти в подчинение молодым подпоручикам и поручикам. На командные должности их не назначали, ибо каждый добровольческий полк ревниво оберегал «старшинство» своих офицеров, основанное не на чинах и прошлом прохождении службы, а исключительно базировавшееся на добровольческом стаже. В итоге прекрасный штаб-офицерский состав императорской армии, в своей массе прошедший великолепную строевую и боевую школы, оставался за бортом. И, конечно, менее всего можно было упрекнуть подобных штаб-офицеров в отсутствии патриотизма, а тем более в «шкурничестве». Свою преданность Родине и свою доблесть они полностью проявили во время Великой войны. Должность рядового их нисколько не обижала, как мера чрезвычайная, но как систему они ее резко осуждали. Осуждали потому, что инстинктом старых солдат понимали, что на началах забвения главных основ дисциплины нельзя строить армию…
Еще до моего вступления в командование полком у белозерцев тоже были сформированы две офицерские роты. Обходя при приеме полка все роты, я зашел в помещение одной из офицерских рот, бывшей в тот день в карауле.
Меня встретил солидный, подтянутый полковник, которого я знал уже батальонным командиром в мирное время.
· Здравствуйте, господин полковник, как, и вы служите в Белозерском полку?
·
· Здравия желаю, господин полковник, так точно, служу.
·
· На какой же вы должности?
·
— Фельдфебель офицерской роты.
Я улыбнулся, но в душе испытал большую неловкость, ибо стоявший рядом командир роты был молодой штабс-капитан…
Моя предыдущая годичная служба в Добровольческой армии не могла поколебать во мне всего того, что было создано и укреплено долголетним пребыванием в императорской армии. Эта служба не могла опровергнуть правильности тех основ военного дела, какие я приобрел в академии. Поэтому я считал, что в тот период, когда Добровольческая армия вышла на «большую московскую дорогу» и стала осуществлять задачи общегосударственного масштаба, ей и надлежало вернуться к принципам регулярной армии. И это регулярство стало настойчиво проводиться в Белозерском полку, благо мне никто если и не помогал, то и не мешал. Это было тем легче выполнить, что в то же время армия переживала своеобразный «удельно-вечевой» период.
Каждый командир полка был фактически неограниченным хозяином своей части. Если он добросовестно выполнял даваемые сверху задания и если к тому же полк хорошо воевал, то этими данными, в сущности, и ограничивались его взаимоотношения с высшими инстанциями. Существовал неписаный, но всеми выполняемый и крайне вредный по своим последствиям командирский закон: раз начальство мне ничего не дает, то оно и не должно вмешиваться в мои внутренние дела…
Большим злом Добровольческой армии являлась партийность в офицерской среде. Это не была, конечно, партийность политического характера. Зло заключалось в делении офицеров на «старых» и «новых». Первая группа, притом меньшая числом, занимала командные должности и пользовалась всеми правами офицера и начальника. Вторая группа, резко увеличившаяся после выхода армии из Донецкого бассейна, в массе своей никакими правами не пользовалась, считалась «рядовыми» и лишалась даже тех офицерских преимуществ, какие дарованы уставом каждому офицеру.
Еще в Каменноугольном районе мне, как начальнику штаба дивизии, было известно, что в Белозерском полку существуют партии. К «старым» белозерцам причислялись не только те, кто служил раньше в полку, но и лица, присоединившиеся к белозерской ячейке в первые месяцы ее существования. В свою очередь «старые» тоже дробились на группы. Одни «поддерживали» полковника N., другие полковника N. N. Эти печальные явления приносили не менее печальные последствия. Как человек для полка новый, я, конечно, не имел ни желаний, ни оснований «поддерживать» ту или другую группировку. «Надпартийность» командира дала прекрасные результаты: всякая партийность скоро исчезла, и офицерский состав стал единым.
Не афишируя своих «регулярных» взглядов, мне удалось в короткий срок установить более или менее правильную полковую организацию и привить полку те тактические основы, какими всегда руководствовалась русская армия.
И тот феерический расцвет духовных и материальных сил полка, какой наблюдался в дальнейшем, объясняется, на мой взгляд, исключительно принципами регулярства. Называю этот расцвет феерическим на основании цифровых данных: выступив из Харькова в составе около 800 штыков, имея не более 15 пулеметов с зачаточным состоянием вспомогательных команд, обоза и хозяйственной части, полк после трех месяцев тяжелых боев, потеряв около 4 тысяч человек убитыми, ранеными и больными, к моменту штурма Чернигова имел 2 тысячи штыков, более 100 пулеметов, конноразведывательную команду (200 шашек), запасный батальон (около 600 человек), прекрасно снабженную полковую и батальонные команды связи и богатую хозяйственную часть с оборудованными мастерскими (оружейной, портняжной, сапожной и т. д.).
В полку имелась даже собственная газета «Ведомости пехотного Белозерского полка». И это не была газета полевого типа, выпускаемая в подобных случаях в количестве 20–30 экземпляров, отпечатанных на пишущих машинках. Нет, эта была настоящая газета, печатавшаяся в местных типографиях, с ежедневным тиражом в несколько сот номеров. Она обслуживала не только полк, но и занимаемый район.
Как было указано раньше, при формировании новых частей вновь образованные ячейки всегда стремились вести свои формирования при каком-нибудь достаточно сильном полку. В свое время белозерцы были пригреты дроздовцами. По выходе из Харькова к Белозерскому полку присоединились и формировались Иркутский гусарский полк, Олонецкий полк, Сводный батальон 31-й дивизии, а затем и Ладожский полк. Подобная тяга очень характерна и свидетельствует, что регулярные принципы встречали сочувствие офицерских масс.
Крепко памятуя пример Харькова и тлетворное влияние чествований и банкетов, я уже никогда в дальнейшем не принимал приглашений и не допускал у себя в штабе ни «объединений», ни «приветствий»…
Занимая тот или иной город, обычно устраивался парад войскам, причем произносилась речь. Всегда одна и та же по объему и по содержанию:
«За Великую, Единую, Неделимую Россию — ура!»
Этой «речью» в торжественной обстановке объявлялся жителям тот единственный лозунг, какой был написан на знаменах Добровольческой армии.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ
В конце июня мне было приказано выслать на фронт в распоряжение командира Сводно-стрелкового полка один батальон. Я командировал 1-й батальон, наиболее сильный в то время и по духу, и числом. Батальон имел 8 пулеметов. Командиром его был капитан О., георгиевский кавалер, офицер высокой доблести и несомненного военного таланта. Он давно погиб, но имя его считается гордостью полка.
В начале июля у Богодухова, на участке Дроздовского полка, произошла неустойка, и весь Белозерский полк был спешно двинут на поддержку. Ко времени нашего подхода к Богодухову доблестные дроздовцы своими силами выпрямили положение; однако вышедший на фронт полк в резерв уже не возвращался.
Штаб полка и резерв располагались в маленьком заштатном городке Золочеве. Слабость наших сил была очевидна, и золочевцы не возлагали, по-видимому, особых надежд на силу белых войск, что побуждало их не слишком ярко выражать свои чувства.
В Золочеве, как и во всех иных местах, где мне приходилось бывать, я наблюдал одно и то же явление. В своей массе и горожане, и крестьяне были явно на стороне белых. Однако неуверенность в завтрашнем дне — это особенно резко проявлялось в прифронтовой полосе — побуждала быть осторожным. Население охотно помогало армии всем, чем только возможно, но при условии, чтобы мы не «просили», а «требовали».
Как правило, гражданский тыл никогда не поспевал за войсками, потому я обычно никогда не встречал в занимаемом районе начальников уездов, уездную стражу и иных столь же необходимых властей. Первое время — и зачастую продолжительное — освобожденные нами районы переживали полное безначалие, а так как жизнь предъявляла на разрешение массу вопросов, то явочным порядком воссоздавались прежние выборные органы управления. Причем я никогда не наблюдал, чтобы это были органы Временного правительства. Авторитет последнего был настолько поколеблен в гуще населения, что лица, так или иначе связанные с идеологией этого правительства, не встречали никакого сочувствия. Это утверждение относится, впрочем, лишь к деревенским и уездным настроениям. В крупных центрах были, конечно, иные политические группировки и симпатии.
В деревнях появлялись обычно прежние старосты, и всегда это были разумные, хозяйственные мужики, с известной долей мужицкой хитрости, но, несомненно, развитым государственным инстинктом.
Революционное похмелье давно уже прошло, деревня явно обнищала и на собственном опыте убедилась, что «рабоче-крестьянская» власть менее всего выгод дала крестьянам. И город, и деревня жаждали власти, власти не призрачной, а твердой и справедливой. В представлении населения мы должны были быть именно такой властью. События, однако, показали, что мы не могли или не сумели оправдать этих ожиданий. Возможно, что было бы еще полбеды, если бы добровольческая власть оказалась нетвердой или пристрастной: жизнь так или иначе приспособила бы даже и такую власть к нуждам населения. В действительности оказалось худшее: совсем не было власти. Если она и существовала, то обычно вдоль железнодорожных магистралей. Чуть-чуть отходил я в сторону, как неизменно встречал полное безначалие. Первое и довольно долгое время после прихода белых войск в деревнях преобладали государственно настроенные элементы из числа тех, кто желал мирного труда и твердой власти. Элементы будирующие, хулиганствующие или со скрыто большевистским уклоном незаметно самопринижались. Их страшила сильная власть.
Однажды я встретил двух степенных мужиков, сопровождавших телегу, в которой сидели два связанных молодых парня. Оказалось, что это «отправляли по начальству фулиганов».
Один из конвоиров, с которым я заговорил, пригрозил хулиганам до сих пор памятными мне словами:
— Деникин, он вашему брату потачки не даст.
Судя по хмурым, бледным лицам, этому верили, по-видимому, и сами арестованные.
К сожалению, эта глубочайшая вера стала все больше и больше колебаться. «Деникина» не видели и не чувствовали, и антигосударственные элементы стали снова поднимать голову, убедившись, что «Деникин» не так-то страшен. А когда появилась белая администрация и одинокий стражник затерялся в крестьянском море, к тому времени вера «государственников» была уже подорвана, а враждебные нам настроения настолько окрепли, что бессильный стражник уже никого не обнадеживал и никого не устрашал.
Лишенная мануфактуры, сахара, керосина и всего того, что могла дать лишь сильная власть, деревня охладевала к Добровольческой армии и в одинаковой степени отвернулась и от белых, и от красных. Города (я наблюдал преимущественно уездные) находились в несколько лучших условиях. Там все же появлялось начальство и своим присутствием укрепляло авторитет добровольческой власти.
Уездные города черноземной полосы обычно являлись не более как посредниками между большими обрабатывающими центрами и деревней. Такие города не имели самодовлеющего значения. Поэтому российская политическая и экономическая разруха особенно отразилась на жизни подобных пунктов. Жизнь явно замерла. Склады были пусты. В немногих магазинах уныло лежали на полках ненужные товары. Нужных же не было или было очень мало.
Все же прежний быт, создаваемый десятилетиями, еще сохранялся, и во многих мелочах чувствовались отголоски прежней привольной и сытой жизни.
Невольно обращало внимание отсутствие молодежи. Не только юношей, но и девушек. Впрочем, быть может, их так состарила революция, что они утеряли и молодой вид, и звонкие голоса, и провинциальную шумливость…
* * *
Полку было приказано занять участок общим протяжением около 15 верст и не допускать выдвижения красных со стороны города Грайворона (около 40 верст севернее Харькова). Ровная, совершенно открытая местность и большое по сравнению с силами полка протяжение фронта значительно осложняли вопросы обороны. Большевики, наоборот, владели всеми командующими пунктами, дававшими им прекрасный артиллерийский и ружейный обстрел. На их стороне имелся ряд населенных пунктов и перелесков, укрывавших красные войска.
Формировать полк и вести бой — совмещение трудное. К нашему благополучию, большевики, по-видимому, находились еще под впечатлением прежних неудач и поэтому не часто нас беспокоили. Несколько их попыток перейти в наступление и сбить полк успеха не имели. Постепенно роты и батальоны выучились маневрировать и скоро личным опытом убедились в могуществе этого боевого фактора. Пленные и взятое оружие наглядно свидетельствовали, что дух новой части крепнет.
Через две недели после выхода полка на фронт полк получил сперва от начальника дивизии, а скоро и от командира корпуса благодарность за боевую работу, причем впервые белозерцы были названы «доблестными». Этот незначительный, по существу, факт имел, однако, немаловажные последствия. Прослышав об успехах полка, из тыла стали прибывать офицеры и солдаты, находившиеся в госпиталях, приставшие к тыловым учреждениям и прочие. С ними зачастую приезжали и новые добровольцы. Все они неизменно просились в строй. Эта тяга в полк давала большое нравственное удовлетворение. В числе прибывших явился еще в Золочеве полковник Г. Он служил в полку в мирное время и по праву мог называться «старым» белозерцем. Не веря, по-видимому, в возможность сформирования полка, Г., имея протекцию, устроился при штабе армии. В Золочев он приехал под предлогом навестить своего приятеля полковника Радченко и, представляясь мне, доложил, что через три дня обязан вернуться к месту своей службы. Я прекрасно понял, что он приехал не в «гости», а убедиться лично, насколько молва о достижениях полка соответствует действительности. Ему была предоставлена полная свобода действий.
Через три дня полковник Г. обратился ко мне с просьбой вновь принять его в полк. Я охотно согласился и в дальнейшем в его лице имел помощника, горячо любившего родной полк, стремившегося воссоздать прежние традиции и вписавшего не одну славную страницу в историю белозерцев. Своим возвращением он увлек и ряд других прекрасных офицеров.
Эпизоды, даже мелкие, зачастую свидетельствуют более убедительно, чем пространные отвлеченные рассуждения, и пример полковника Г. иллюстрирует, как сложен был офицерский вопрос в Добровольческой армии.
Штаб полка состоял из трех человек: моего помощника полковника Радченко, оперативного адъютанта подпоручика Глобы и начальника команды связи подпоручика Л. (Не зная, где находятся многие лица, о которых упоминается в настоящем изложении, я воздерживаюсь называть фамилии полностью.)
Прекрасно знавший родной ему полк с начала формирования, всегда корректный, дисциплинированный, быстро уяснявший обстановку, полковник Радченко был прекрасным во всех отношениях офицером.
Подпоручик Глоба являлся именно тем адъютантом, какой был мне необходим: неутомимый в работе, крайне исполнительный, он умел хранить секреты и был ко всем благожелателен. Чистой души человек, он, как и полковник Радченко, отличался редким беспристрастием.
Подпоручик Л. быстро усвоил мои требования и в самой тяжелой обстановке давал идеальную связь. Его команда, казалось, не знала усталости. Среди телефонистов было много учащейся молодежи, и потому работа команды всегда была очень сноровистой и грамотной.
С первого же дня боевых действий штаб полка был соединен телефоном с батальонами и ротами. Столь элементарное правило связи, о котором в нормальных условиях ведения войны не приходилось бы и вспоминать, в гражданскую войну являлось уже крупным достижением, которое не только подчеркивали, но которым гордились… В напряженные периоды боя, когда полковой участок имел 25–30 верст, Глоба или я не отходили от телефона. Мы слышали все переговоры командиров батальонов и рот и потому всегда были в полном курсе дела. Прежде чем получалось донесение о неустойке на том или ином участке, мы уже предугадывали критическое положение, и к угрожаемому участку направлялся резерв. И когда батальонный командир возбужденным тоном докладывал о том, что «снимает телефон» и начинает отходить, в ответ ему сообщалось, что через 10–15 минут подойдет уже «полчаса тому назад» высланный резерв.
· Продержитесь?
·
· Так точно, продержимся, — слышался радостный и снова бодрый голос…
·
Подобная осведомленность скоро внушила крепкую веру полка в полковой штаб.
Строевая канцелярия находилась всегда в тылу. Ездить туда и, следовательно, оставлять полк я не мог, а потому периодически вызывал для доклада полкового адъютанта, подпоручика X. Он почему-то боялся меня, хотя повода ему для этого я и не давал. Несмотря на подобную боязнь, он все же, пользуясь своей отдаленностью и отсутствием надзора, злоупотреблял моим доверием. Стал пить, ухаживать, а иногда просто безобразничать. Открылось это случайно. Однажды он прибыл ко мне с докладом. По своему обыкновению франтовато одетый, с тщательно сделанным пробором и сильно надушенный какими-то скверными духами.
Я долго крепился, но затем не выдержал:
— Что это вы так благоухаете?
Адъютант страшно смутился, покраснел и почему-то прикрыл рот рукой.
— Виноват, господин полковник, это вчера у меня были гости, мы случайно засиделись и… и немного выпили.
Я смотрел на него, он на меня. Тут-то я почувствовал ясный аромат винного перегара.
Произошло забавное недоразумение. Спрашивая, почему он «так благоухает», я имел в виду исключительно запах духов. Поручик X., зная за собой вину, вообразил, что под благоуханием я подозреваю винный перегар.
Это qui pro quo открыло мне глаза, и были приняты нужные меры…
Подобные случаи были, впрочем, единичны, и в своей массе строевое офицерство служило своей Родине с полным самопожертвованием и с большим аскетизмом.
С первых же дней выхода полка из Харькова я стал убеждаться, что фактом сформирования офицерских рот была допущена крупная ошибка. В первом же бою одна из таких рот проявила и нервность, и недостаточное упорство. Узнав об этом, я прибыл на участок роты и приказал ее собрать. Заметив суету, большевики стали посыпать нас шрапнелью. И под огнем противника происходил наш «разговор». В резких выражениях пристыдил я офицеров, поставил им в пример другие роты, тут же отрешил командира роты и пообещал в случае повторения малодушия применить суровые меры воздействия.
Серьезная боевая обстановка того периода побудила меня обойтись с офицерской ротой так строго и неприветливо. Однако и тогда, и теперь я отчетливо понимал и понимаю, что был несправедлив.
Поставленные в ненормальные условия, офицеры не могли полностью выявить своего духа и той доблести, на какую они были способны.
Я решил постепенно упразднить офицерские роты и вернуться к нормальной организации.
После моего разговора с офицерами на железнодорожной станции рота воевала вполне прилично, однако подлинную доблесть все эти «рядовые» проявили лишь тогда, когда были распределены по ротам и стали начальниками. Почувствовав себя на своем месте, в привычных им служебных взаимоотношениях, они дали полностью свои лучшие качества.
В период нахождения перед Грайвороном посетил полк командующий армией. Получив донесение о его приезде, я немедленно явился генералу Май-Маевскому. Он принял меня в своем вагоне.
Несмотря на ранний час (было около 6 часов утра), на столе стояла почти пустая бутылка вина. Во время доклада и последующего разговора Май-Маевский прикончил и остатки. Вначале командующий слушал меня внимательно и задавал вопросы, ясно свидетельствовавшие, что его голова работает вполне хорошо. Через полчаса под влиянием вина и жары он стал все более и более сдавать.
Несколько раз входил в купе, в котором мы сидели, адъютант генерала Май-Маевского Макаров. Прежде всего его взгляд останавливался на бутылке. Видя ее пустой, он порывался заменить ее новой, однако генерал, по-видимому, несколько меня стеснялся и выпроваживал своего адъютанта небрежным движением руки.
При появлении Макарова я всякий раз прекращал свой доклад и выжидал его ухода. Командующий это заметил, и когда адъютант вошел в купе в третий раз, Май сказал:
— Пошел вон!
Сказал таким тоном, что не оставалось сомнений в привычной обиходности этой фразы…
После доклада был обход позиций ближайшего батальона. Я видел, с каким трудом двигался генерал Май-Маевский. Он запыхался, как-то прихрамывал и явно изнемогал. Неумеренное потребление алкоголя приносило свои результаты.
Мы обошли участок лишь одного или двух взводов. Дальше командующий идти уже не мог и вернулся в свой вагон совсем измученным. Он грузно опустился на стул и стал жадно пить вино, принесенное Макаровым.
Мне было искренне жаль генерала. Он явно пропивал и свой ум, и здоровье, и незаурядные способности.
В этот момент я видел в нем лишь больного человека.
— Ваше превосходительство, вы лучше легли бы и отдохнули.
Май не обиделся на такое нарушение дисциплины, грустно улыбнулся и как-то безнадежно махнул рукой.
— Стал слабеть. Сам чувствую, что машина портится. Я откланялся и вышел. На перроне меня нагнал Макаров:
— Господин полковник, нельзя ли устроить завтрак для командарма, он еще ничего не ел?
Убежденный, что инициатива завтрака исходит от Макарова, я холодно отказал, заявив, что у меня нет никаких запасов.
И действительно, в штабе не было ни вина, ни закусок. Макаров ушел. Через две минуты он снова подошел ко мне:
— Командарм просит вас не стесняться и дать, что у вас найдется. Хотя бы картошку. Вино и водка у нас есть.
После этих слов мне оставалось только исполнить желание командующего армией.
Через час был подан завтрак — чай, вареные яйца, яичница, картофель. В полном смысле походный завтрак.
В том районе, какой занимал полк, находилось несколько сахарных и винокуренных заводов. Они не работали, но на заводских складах хранились большие запасы сахара и спирта. Склады эти охранялись по моей инициативе моими же караулами. Это многомиллионное богатство находилось в прифронтовой полосе, и им никто не интересовался. Не интересовались, правда, лишь те официальные органы, которые должны были бы интересоваться подобным «золотым» запасом. Полки и многочисленные военные учреждения, наоборот, очень скоро проведали о сахаре и спирте, и ежедневно ко мне являлись «приемщики» с просьбой выдать для их частей то или иное количество сахара и спирта. Наиболее скромные просили 30–50 пудов сахара, а ловкачи запрашивали вагон. В силу каких соображений, я не знаю, но заводская администрация не только не препятствовала выдачам, но как будто даже их поощряла. Все управляющие требовали только одну формальность: мою пометку, что сахар и спирт берутся действительно для нужд частей. Несмотря на доклады, я не получал по этому вопросу никаких указаний свыше. А обращенные ко мне просьбы штабов дивизии, корпуса и армии об отпуске сахара и спирта убеждали меня, что я являюсь как бы признанным расходчиком всего этого добра. Ввиду такого положения дел я не считал необходимым отказывать войскам, когда они ко мне обращались. Спирт отпускал скупо, сахар же более щедро. Конечно, не вагонами.
Окончив завтрак, Макаров обратился ко мне с просьбой дать для штаба армии спирта и сахара. Зная, что Макаров спекулирует, я отказал. Он пошептал что-то на ухо командующему, и генерал Май-Маевский с благодушной улыбкой сытого и довольного человека поддержал просьбу своего адъютанта:
— Дайте ему немного сахара и спирта. Штаб просил, чтобы мы им привезли.
Я исполнил это приказание, пометив на поданной мне записке: «15 пудов сахара и 1 ведро спирта».
Позже, уже после отбытия генерала, я узнал, что Макаров получил во много раз больше, чем ему было разрешено. Если память не изменяет, то 150 пудов сахара и 15 ведер спирта. Он, не смущаясь, приписал лишние цифры…
Командующий армией в доверительном разговоре предупредил меня о своем решении перейти в наступление в ближайшем будущем. И действительно, через несколько дней я получил приказание овладеть Грайвороном, а затем захватить и удерживать станцию Готня — железнодорожный узел того района.
Грайворон и железнодорожную линию Харьков — Кореново защищала красная дивизия. Она во много раз превосходила численностью Белозерский полк, однако подобное соотношение сил воспринималось как нормальное явление гражданской войны. Всей группой красных войск командовал какой-то матрос. Силе и невежеству надо было противопоставить доблесть и искусство. Позиция большевиков была усилена окопами, имевшими у Грайворона двухъярусную оборону и проволочные заграждения.
Место предстоящего боя являло картину, какую можно было наблюдать только в период гражданской войны. Между фронтами — нашим и красных — весь день работали крестьяне, убирая хлеб. Во время перестрелок охранения они ложились на землю, а когда огонь прекращался, снова принимались за работу. Иногда бывали среди них раненые.
Я приказал своему охранению без крайней нужды огня не открывать, и крестьяне скоро приметили, что инициаторами стрельбы являлись обычно большевики. Это обстоятельство вызвало большую неприязнь к красным, чем мы и пользовались. Мужики и бабы, желая насолить красным, охотно передавали нашим разведчикам все сведения о противнике.
Поля «наших» крестьян находились позади расположения полка, и пропуск через линию белозерского охранения был воспрещен. Когда утром крестьяне не выходили на работы, это всегда являлось признаком того, что большевики что-то готовят…
Красные войска обладали одной особенностью: они, как всякие слабые духом части; не любили ночных боев, и если бывали сбиваемы перед вечером, то уходили стремительно, стараясь возможно скорее оторваться от преследования.
Располагая слабыми силами, я решил использовать эту особенность красных и назначил атаку Грайворона под вечер. Накануне ночью была произведена соответствующая перегруппировка, и в течение дня выдвинутые роты лежали, прикрываясь наскоро вырытыми замаскированными окопами. Большевики не заметили всех этих приготовлений и, видя, что день проходит спокойно, успокоились и сами.
Стремительно поведенная во фланг атака, чего, по-видимому, мой партнер — матрос никак не ожидал, произвела на противника сильное впечатление. Матрос двинул все свои резервы на атакованный участок и, как потом выяснилось, выехал туда и сам. С нашей стороны это была, однако, только демонстрация, и главный удар был нанесен в центре. Все было закончено менее чем в 3 часа. Мы захватили более 200 пленных, несколько пулеметов, одно орудие и почти весь обоз красных. Среди взятой большой добычи оказался обширный склад английской парфюмерии. Зачем большевики привезли его в Грайворон, я так и не дознался.
Выполняя свою задачу, полк с приданной ему дроздовской батареей и дивизионом иркутских гусар продолжал наступать к северу. Очень упорные и кровавые бои происходили за обладание железной дорогой Белгород — Сумы. Здесь разыгрался трагический эпизод, стоивший жизни прекрасному офицеру — командиру 1-й роты поручику А. После удачного боя А. подошел к группе безоружных пленных, и в тот момент, когда он мирно разговаривал с красноармейцами, к нему незаметно приблизился один из пленных и выстрелом из револьвера в спину убил А. наповал. Выстреливший оказался комиссаром. В одно мгновение он был растерзан солдатами 1-й роты, очень любившими своего командира, но это, конечно, не воскресило погибшего.
* * *
В середине 1919 года определенно обрисовался перелом в наших отношениях к пленным. Если в первый период существования Добровольческой армии война обеими сторонами велась, в сущности, на уничтожение, то к указанному периоду уже не наблюдалось прежнего озлобления. Пленные офицеры и солдаты, если они не были коммунистами, обычно и без особых формальностей принимались в ряды
полонившего их полка. По неписаным добровольческим законам, все пленные считались собственностью той части, какая их взяла. Часть пленных из числа лучше одетых оставалась при полку, и ими пополнялись роты. Остальные, если они не были нужны, отправлялись в тыл, где и передавались корпусным и армейским комендантам. Существовали ли по вопросу о пленных какие-либо общие инструкции, изданные главным командованием, я не знаю. Думаю, что таковые были изданы, но лично до меня они не доходили.
Сама жизнь выработала известные правила отбора пленных, каковые и применялись командирами полков с теми или иными, но, в общем, незначительными вариациями.
Обычно каждая группа пленных сама выдавала комиссаров и коммунистов, если таковые находились в их числе. Инородцы выделялись своим внешним видом или акцентом. После выделения всех этих элементов, ярко враждебных белой армии, остальная масса становилась незлобивой, послушной и быстро воспринимала нашу идеологию. За редким исключением, большинство были солдатами в период Великой войны и потому после небольшого испытания ставились в строй. Они воевали прекрасно. В Белозерском полку солдатский состав на 80–90 процентов состоял из пленных красноармейцев или из тех мобилизованных, которые служили раньше у большевиков, а затем при отходе сбежали.
В других частях солдатский вопрос обстоял примерно так же, как и у меня. Много раз и с особым вниманием присматривался я к своим солдатам, бывшим красноармейцам, стараясь отыскать в них какие-либо «красные» черты. И всегда в своей массе это были добродушные русские люди, зачастую религиозные, с ярко выраженным внутренним протестом против большевизма. Всегда чувствовалось, что большевизм захлестнул их только внешне и не оставил заметных следов на их духовной сущности.
В Добровольческой армии вопрос о пополнении полков из запасных армейских частей был разрешен неудовлетворительно. Со времени выхода из Харькова и до начала Бредовского похода, то есть в течение семи месяцев, Белозерский полк пропустил через свои ряды более 10 тысяч человек — офицеров и солдат. И за все это время только один или два раза я получил из какого-то армейского ба — тальона пополнение общей сложностью 300–400 человек. Между тем громадная территория, занятая Добровольческой армией к октябрю 1919 года, давала, казалось, неиссякаемый источник людского запаса. В тот период имелись все материальные возможности создать не только правильно действующие запасные части, но сформировать и новую армию. Пример генерала Краснова, сумевшего в кратчайший срок создать Молодую Донскую армию, достаточно убедительный. И не подлежит сомнению, что наличие в тылу сильных и готовых к действиям резервов не допустило бы той катастрофы, какая в конце концов постигла обессиленный фронт.
По справедливости надо признать, что недостатка в предупреждениях, и в предупреждениях очень серьезных, не было. В своем продвижении от Харькова до линии Орел — Чернигов малочисленная, растянутая на сотни верст Добровольческая армия несколько раз переживала тяжелые кризисы. Величайшей доблестью и бесконечными жертвами фронт восполнял недочеты организации, сбивал врага, двигался вперед, по пути самоформировался и через некоторое время переживал очередное бессилие. Полковые участки в 25–30 верст протяжением при составе в 800–1000 штыков почитались явлением нормальным…
Неудачное разрешение вопроса об армейских запасных частях побуждало каждого командира полка лично заботиться о пополнениях.
Мы и заботились, как умели, по своему крайнему разумению. Высшие инстанции всегда требовали от командиров возможно большее количество «штыков», то есть бойцов. Для нас, начальников, этот вопрос был тоже самым важным. Без «штыков» мы воевать не могли, а обстановка требовала постоянных боев. Вся совокупность условий побудила меня в первый же месяц по выходе из Харькова сформировать свой запасный батальон и образовать при комендантской роте небольшой мобилизационный аппарат.
Командиром запасного батальона был назначен тот полковник, которого в Харькове я встретил в должности фельдфебеля офицерской роты. Своими знаниями и опытом он принес полку немало пользы.
Батальон мог принять до 800 человек. Каждый строевой батальон имел свою запасную роту, поддерживал с нею тесную связь и всячески о ней заботился. Батальон комплектовался пленными и мобилизованными. И вновь утверждаю, что поставленные в строй солдаты дрались прекрасно. Среди длинного ряда всевозможных подвигов я не могу не вспомнить одного, особенно трогательного своею духовною красотою.
Один из белозерских батальонов был сбит и отходил, преследуемый красными. При отходе через деревню поручик Р. был ранен и упал. К нему подбежал солдат, недавно взятый в плен красноармеец.
— Господин поручик, что с вами? Вставайте. Следом подходят большевики.
— Не могу, у меня перебита нога.
— Ах, грех какой! Я же вас не дотащу.
Солдат был маленький, худенький, слабосильный.
— Пристрели меня, все равно пропадать, да уходи скорее сам…
— Что вы, господин поручик, это невозможно.
Солдат подхватил офицера и потащил в соседний двор.
Втащил в сарай, зарыл в сено. Туда же спрятал свою фуражку и погоны. Хозяин дома — крестьянин — ему помогал и дал взамен фуражки старую шапку. В это время подбежали большевики. С винтовкой в руках и с крестьянской шапкой на голове, солдат удачно разыграл красноармейца, якобы только что зашедшего во двор.
— А что, товарищ, никого здесь нет?
— Никого. Сейчас только осмотрел весь двор.
Притворившись затем больным, он лег у дверей сарая и никого не пропускал вовнутрь.
Через несколько часов деревня снова была взята нами. Первой ворвалась рота, в которой служил поручик Р. Его отсутствие было замечено, и солдаты желали найти своего офицера живым или мертвым.
Р. был найден. Его спас солдат, который к тому же его и не знал.
Как командир полка, я немедленно произвел солдата в унтер-офицеры и выдал ему денежную награду. Как временно командовавший тогда дивизией, наградил героя Георгиевской медалью. Затем поцеловал от имени полка.
Солдат покраснел, сконфузился и сказал слабым голосом:
— Да я ничего такого, господин полковник, и не сделал…
Его лицо и глаза подтверждали его искренность. По-видимому, он не считал, что совершенный им подвиг — подвиг действительно возвышенной души. Крестьянину, хозяину дома, подарили лошадь и два пуда сахара. Он был счастлив…
Что касается пленных и мобилизованных офицеров, то в своей массе они доблестно воевали, а когда приходилось — умирали. Конечно, развращающее влияние революции и большевизма не прошло бесследно, и среди офицеров, впрочем как явление крайне редкое, встречались люди малодушные. Понятно, что моя аттестация относится к строевым офицерам, то есть к тем, кто своей жертвенностью и кровью являл примеры величайшей доблести и патриотизма. В тылах было иное настроение, и наряду с натурами высокочестными встречались люди беспринципные и нравственно опустившиеся.
Офицеры, перешедшие от большевиков или взятые в плен, если они не были коммунистами, решительно никаким репрессиям не подвергались. Все они для испытания назначались рядовыми в строй и после небольшого искуса уравнивались в правах с остальными офицерами полка.
Для характеристики офицеров, служивших раньше у большевиков, приведу два наиболее ярких примера.
Однажды полк вел бой с превосходными силами красных. В тылу у нас находилась река с единственным мостом. Большевики напрягали все усилия, чтобы захватить эту переправу, что поставило бы полк в катастрофическое положение. Батальон, прикрывавший путь к мосту, явно изнемогал. Я снял с отдаленного участка, на котором только что была отбита атака, роту и приказал ей бегом двигаться на поддержку. Рота могла прибыть не ранее 30–40 минут, а в это время уже обнаружилось, что большевики заходят в тыл атакованному батальону. Чувствовалось, что сейчас решится участь не только боя, но и полка. Стрельба с нашей стороны умолкала. Зловещий признак!.. В этот критический момент один из офицеров, взятый незадолго перед тем у большевиков, сорвал свои погоны и стал уговаривать других последовать его примеру и сдаться.
Узнав об этом, я приказал тут же расстрелять малодушного офицера, что и было немедленно исполнено. Эта трагическая сцена произвела сильнейшее впечатление…
Показалась спешащая на поддержку рота, и батальон был двинут в контратаку. Большевики отхлынули, а мы взяли более 300 пленных, 6 пулеметов, много оружия и патронов. Описанный бой был отмечен в официальных сводках штаба главнокомандующего…
Другой пример выявляет тип офицера, противоположный первому.
В период боев под Курском я направлялся с подпоручиком Глобой на один из участков полка. По пути встретили партию пленных.
На мой вопрос, есть ли среди них офицеры, послышался ответ:
— Я офицер, господин полковник.
Взяв руку под козырек, передо мною вытянулся небольшого роста коренастый человек 33–35 лет.
· Как ваша фамилия?
·
· Поручик Трохимчук.
·
· Где вы раньше служили?
·
· В мирное время был сверхсрочнослужащим в N-ском полку, а на войне произведен в офицеры.
·
· Как же вам не стыдно было воевать против нас?
·
· Да уж так сложились обстоятельства, господин полковник.
·
При этих словах голос Трохимчука как-то дрогнул. Что-то хорошее и честное слышалось в ответах пленного,
· Желаете у нас служить?
·
· Так точно, желаю.
·
Поручик Трохимчук был зачислен в одну из рот, но не в ту, которая его пленила.
В течение двухнедельных боев я несколько раз справлялся, как держится Трохимчук, и ротный командир всегда отзывался о нем как о примерном офицере.
Однажды мне надо было во что бы то ни стало удержать переправу, выводящую во фланг нашего расположения. К тому времени полк понес большие потери. Почти все ротные командиры и много офицеров были выбиты. Это был очередной кризис, когда кровью восполняли недостаток сил и недочеты армейской организации. На переправу можно было выделить только полуроту крайне сла-бого состава при пулеметах. Туда требовался офицер во всех отношениях надежный. Я вспомнил о поручике Трохимчуке и, узнав, что он цел, вызвал его к себе.
· Поручик Трохимчук, мне необходимо удержать такую-то переправу, и для ее обороны можно выделить только полуроту с двумя пулеметами. Я хочу назначить вас командиром этой полуроты.
·
· Покорно благодарю, господин полковник.
·
· Имейте в виду, что если большевики вас собьют, то положение полка будет тяжелым.
·
· Понимаю.
·
· Смотрите, поручик Трохимчук, удержитесь. Я вам верю.
·
· Конечно, я служил у большевиков… И не могу ничего вам доложить, но вы сами увидите, господин полковник…
·
Поручик Трохимчук действительно выполнил свое обещание.
Несмотря на тяжелое положение, он удержал переправу, потеряв убитыми и ранеными более половины своей полуроты. В конце боя, когда положение уже упрочилось, он был убит.
Много лет прошло с тех пор, но я всегда с волнением вспоминаю этого честного офицера…
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ
По овладении железнодорожной линией Белгород — Сумы полк продолжал наступать к северу и, форсировав реку Псел, овладел городом Суджей. После нескольких дней передышки бои вновь возобновились. С каждым днем уширялся «белозерский уголок» на городском кладбище.
Согласно армейским директивам, наступление полка было приостановлено. Необходимо было выровнять фронт корпуса и подготовиться к овладению Курском. Большевики, оправившись после падения Харькова и видя наше энергичное наступление, понимали, что развязка приближается. Они всемерно усиливали свой фронт и, пользуясь перевесом в силах, упорными боями обессиливали Добровольческую армию. Белый фронт был предоставлен собственным силам и знал, что армейских резервов нет.
Еще на станции Готня в мое распоряжение прибыл сводный батальон 31-й дивизии, приступивший к формированию явочным порядком. Без обозов, бедно снабженный материальной частью, ибо был двинут на фронт в период для себя наименее благоприятный, батальон все же был силен духом и дрался хорошо. Командира батальона полковника С. и его помощника полковника Т. я знал еще раньше. Это были прекрасные боевые офицеры. Несмотря на прибытие этого батальона, наши силы во много раз уступали большевистским. При таком неравенстве мы могли иметь успех только при наступлении, то есть тогда, когда располагали инициативой боевых комбинаций. Оборонять же слабыми силами 20-верстный фронт являлось задачей тяжелой и неблагодарной.
В Судженском районе я являлся старшим войсковым начальником. Все мои подчиненные несли мне свои заботы, свои огорчения и тот упадок душевных сил, какой иногда переживают в период затяжных боев самые мужественные люди. Я обязан был всех выслушивать, ободрять и переливать свою волю в душу тех, кто в этом нуждался. Только свои силы я должен был черпать в самом себе. Мне не к кому было обратиться ни за советом, ни за нравственной поддержкой. Подобное душевно-волевое одиночество было особенно тяжело. Штаб полка был связан телеграфной проволокой со штабом дивизии, и этим исчерпывалась моя связь с внешним миром. Я не хотел докучать какими-либо жалобами начальнику дивизии. Не позволяла гордость, да к тому же я знал, что он бессилен мне помочь. И словно угадывая мое одиночество, генерал Витковский с особой сердечностью вел со мною телеграфные переговоры, сообщая новости общего характера и обнадеживая скорым переходом в наступление. Дней через семь после занятия Суджи начальник дивизии посетил полк, и его приезд внес значительное разнообразие в нашу монотонную боевую жизнь. В беседе наедине генерал Витковский предупредил меня секретным порядком, что в ближайшие дни ожидается усиление красных сил. И действительно, очень скоро стали попадаться пленные вновь прибывших частей. После 12-дневной обороны Суджи я вынужден был оставить город и отвести свои части к Мирополью в надежде, что этим отходом уменьшу свой участок по фронту и тем выиграю в силе. Подойдя к Мирополью и соединившись со штабом дивизии, я узнал, что усилившиеся большевики сбили не только меня, но и другие части дивизии. Мои надежды о сокращении фронта не осуществились: мне был дан участок протяжением до 30 верст. Полк же имел к тому времени около 800 штыков. Подобное несоответствие сил и пространства ярко свидетельствует, что уже в августе назревал кризис, какой в дальнейшем привел Добровольческую армию к катастрофе. Резкое несоответствие сил белых и красных создалось не внезапно, а постепенно. Не только мудрая предусмотрительность, но и очевидная действительность властно требовали энергичного формирования новых частей. Формирования, подобные батальону 31-й дивизии или прибывшему у Мирополья в мое распоряжение Олонецкому полку, имевшему 200–250 штыков (остальные были безоружны), являлись нарушением элементарных основ военного дела…
Трехнедельная оборона Мирополья является самым тяжелым по напряжению периодом в течение всей боевой работы полка в Добровольческой армии. Главная борьба происходила у самого Мирополья. Каждый день к вечеру один из участков был сбиваем, и ночной атакой или наутро положение восстанавливалось. Восстанавливалось для того, чтобы к вечеру опять измениться. Несколько раз наше положение становилось безнадежным, и войска удерживались только сверхчеловеческими усилиями. Я находился на левом фланге корпуса и прекрасно понимал, что если меня собьют, то общее положение на фронте резко ухудшится. Оперативная сводка штаба дивизии от 22 августа дает точное и полное представление о состоянии войск вверенной мне группы. Она говорит о «подавляющем превосходстве сил противника и чрезвычайной усталости войск, уже 1,5 месяца ведущих бои с сверхчеловеческим напряжением. Люди по ночам галлюцинируют. Лучшие, наиболее опытные офицеры и солдаты, выбиты, и требуются невероятные усилия командного состава для руководства войсками и выполнения поставленных задач».
Эти тяжелые, незабываемые дни я проводил вдвоем с оперативным адъютантом подпоручиком Глобой. Мы по очереди спали не более 2–3 часов в сутки. К концу операции офицеры и солдаты стали тенями: глубоко запавшие глаза, землистый цвет лица и вместо человека — сплошной комочек нервов. Истомленный до крайности организм желал лишь одного: спать, спать и спать. И эту телесную слабость мог побеждать только горящий дух с властным, все преодолевающим сознанием: надо держаться. Посещая раненых и подбадривая их, я часто слышал в ответ:
— Ничего, господин полковник, по крайней мере, теперь высплюсь.
Днем шел ожесточенный бой, а ночью войска насильно кормили, совершались необходимые передвижения и ночные атаки. Положение восстанавливалось почти исключительно ночными атаками. Я держал в резерве свой лучший и наиболее сильный батальон и только в редких случаях двигал его днем.
И военная история, и мой личный опыт маньчжурской, Великой и гражданской войн свидетельствовали, что неудачи ночных атак происходили обычно потому, что войска, запаздывая, пропускали ценное предрассветное время и начинали атаку на рассвете, когда противник уже пробуждался от сна. Памятуя это, я всегда своевременно и лично приказывал будить батальонного командира. В телефонную трубку я слышал, как его будили и не могли добудиться, а когда он подходил к телефону, ясно чувствовалось, что говорит автоматически совсем сонный человек, который не в силах побороть своей усталости. Убедившись, что он наконец проснулся и что его воля опять управляет измученным телом, я приказывал будить батальон. Под различными предлогами вызывались к телефону и ротные командиры, дабы и им передать бодрость. Благодаря подобным приемам роты всегда выступали в срок и мы не имели неудачных ночных атак.
Полк таял с каждым днем. Стали усиливаться острые желудочные заболевания. Численный состав с ужасающей быстротой приближался к нормам Каменноугольного района. Запасный батальон был давно использован, из обоза и нестроевых команд было взято все, что возможно.
Если вопрос о пополнениях стоял очень остро, то снабжение частей оружием и снаряжением находилось в состоянии катастрофическом. За все время своего существования белозерцы получили из армейских складов в порядке официальном не более сотни винтовок и 2–3 пулемета. Более или менее правильно и обильно снабжали нас только патронами. Находясь все время на фронте, я не был знаком с той системой, какая была принята главным командованием в вопросах всех видов снабжения. Я могу лишь свидетельствовать о том, что фактически поступало в части. А поступало очень и очень мало. Почти что ничего. На моих глазах формировались иркутские гусары, батальон 31-й дивизии, Олонецкий полк, и все эти части испытывали тяжелый недостаток всех видов снабжения. Командиры Сводно-стрелкового, Самурского и 2-го Дроздовского полков не раз говорили мне о том же. Будучи в дальнейшем начальником штаба войск, действовавших в Киевской области, я наблюдал и там недочеты. Таким образом, положение белозерцев в вопросах официального систематического снабжения являлось не исключением.
Все эти недочеты в связи с повышенными требованиями боевой обстановки побуждали командиров изыскивать всяческие пути для добывания оружия и снаряжения. Самый верный и самый обильный способ — это наступательный бой. Успешно развившееся наступление всегда давало полкам и сотни пленных, и много оружия.
Миропольская оборона, лишавшая по своему характеру тех трофеев, какие получались при движении, побудила меня изыскивать иные способы снабжения. Уже опытные в сих делах дроздовцы дали нам ряд практических и дельных советов. Раз невозможно было добывать оружие и снаряжение путями официальными, приходилось следовать советам и идти по путям извилистым, но зато более действенным. Первый путь — личные связи. Второй — гораздо сложнее: в тыл посылались офицеры из числа дельцов. Они вступали в конфиденциальные переговоры с младшими чинами довольствующих учреждений. Обычно при получении оружия, патронов и снаряжения существовала длинная очередь. С помощью денег, а чаще всего спирта и сахара, можно было из задних рядов очереди быстро проскочить в голову. В итоге расторопный офицер добывал то, в чем полк особенно нуждался. Добывал, правда, в ограниченном количестве, так как 75 процентов своего оружия и снаряжения полк доставал в бою.
Несмотря на всю свою тяжесть, период Миропольской обороны имел и благие последствия. Молодой полк закалился в ежедневных боях, научился маневрировать и крепко усвоил принцип взаимной выручки. Эти воинские добродетели и позволили впоследствии белозерцам с полным успехом провести столь сложную и серьезную операцию, как Черниговскую.
* * *
В Мирополье наш военный телеграф случайно соединился с каким-то большевистским комиссаром. Разговор, начавшийся с обычной в таких случаях перебранки, скоро принял серьезный характер. В силу каких соображений, я, конечно, не знаю, но комиссар, назвавший себя «убежденным коммунистом», с видимою искренностью сообщил о тяжелом положении большевиков:
· Мы в пять раз сильнее вас, а ничего с вами поделать не можем. Красноармейцы отказываются воевать, и прежде чем заставить их наступать, приходится долго уговаривать, а иногда и расстреливать.
·
· Чем же вы это объясняете?
·
· Да тем, что каждый из вас воюет во имя идеи, а у нас господствует только страх.
·
Далее комиссар рассказал о развале их тыла, о недовольстве крестьян, которые, по его мнению, относятся к белым лучше, чем к красным, и затем спросил:
· Правда, что вы расстреливаете всех пленных?
·
· Нет, неправда. Некоммунистов мы не трогаем. У нас служат много ваших офицеров и солдат.
·
· Нам все время говорят, что вы расстреливаете всех пленных. Если бы не страх расстрела, к вам переходило бы много наших…
·
В конце концов офицеры, беседовавшие с комиссаром, предложили своему собеседнику привести к нам его часть. Не помню точно, какой силы была эта часть, но, во всяком случае, не менее полка. Предложили так — «на ура», не придавая значения своим словам. К удивлению, комиссар принял это предложение серьезно и хотя в очень осторожных выражениях, но стал обсуждать полученное предложение. Он ставил только одно условие: гарантировать жизнь ему и вообще всем перешедшим. Лично я не принимал участия в этом разговоре, и, когда мне доложили подробности, я приказал ответить, что условия сдачи принимаю. Говорил ли тогда действительно комиссар или кто-либо другой назвался этим именем, я, конечно, не знаю. Лично более склоняюсь ко второму предположению.
Я прекрасно понимал, что переход на нашу сторону крупной красной части явился бы событием крайне серьезным по своим последствиям. Передавая свое согласие комиссару, я не имел в тот момент должных полномочий от своего начальства, однако не сомневался, что в лице генерала Витковского и генерала Кутепова найду полную поддержку.
Были выработаны подробности сдачи и намечен день. Решено было, что большевики перейдут якобы в наступление против нас и когда приблизятся, то бросят винтовки и перебегут. Со своей стороны мы обещали не стрелять или стрелять поверх голов.
Опасаясь возможности какого-либо предательства, я принял некоторые меры предосторожности. В назначенный день несколько рот красных действительно перешли в наступление. Подойдя к нашим цепям на 300–400 шагов, они бросили винтовки и перебежали.
Большевики немедленно открыли огонь по сдающимся, и это обстоятельство, видимо, и задержало сдачу других. Перешедшие к нам офицеры и солдаты утверждали, что сдаваться собрались «все». Почему предрешенная сдача не состоялась полностью, они не знали.
Сдавшиеся роты производили настолько хорошее впечатление своим настроением, что мои ротные командиры обратились ко мне с просьбой разрешить им немедленно разобрать пленных и поставить их в строй. Став в наши ряды, бывшие красные офицеры и солдаты добросовестно воевали и оставались до конца в рядах Белозерского полка.
На другой же день после сдачи, находясь уже в нашей цепи, они кричали «товарищам», чтобы те переходили на нашу сторону, и подтверждали, что мы никого из сдавшихся не тронули.
Описанный факт показывает, что в рядах большевистских войск уже назревал желательный психологический сдвиг. Надо было только использовать эти настроения. К сожалению, дело агитации было поставлено в Добровольческой армии крайне слабо. Официальные учреждения вроде «Освага» работали в глубоком тылу, а фронт не имел для этой цели ни соответствующих средств, ни навыка. В итоге большевистские войска совсем не подвергались желательным воздействиям с нашей стороны.
Через несколько дней после сдачи красных рот было получено так нетерпеливо ожидаемое приказание об общем переходе в наступление. Это начиналась Курская операция.
НАСТУПЛЕНИЕ НА КУРСК
Известие о переходе корпуса в наступление было принято войсками с большим энтузиазмом. Тяжелая оборона и сопряженные с нею жертвы и лишения утомили всех.
Удачной ночной атакой у Мирополья красные были сбиты. Наше наступление развивалось так стремительно, что, не давая противнику устроиться, мы на его плечах снова ворвались в Суджу. Дальнейшее продвижение на линию железной дороги Курск — Киев развивалось успешно, хотя большевики и притянули из тыла все свои свободные резервы. Наиболее сильное сопротивление было оказано на фронте станция Коренево — Льгов. Честь занятия Льгова принадлежит главным образом корниловцам и генералу Витковскому, лично руководившему атакой войск. Скоро был занят и Курск. Занятие этого города и выход на линию Курск — Киев являлось крупным успехом, давшим армии большие трофеи и поднявшим настроение, приниженное двухмесячными тяжелыми боями.
На Белозерский полк была возложена задача прикрыть Льгов со стороны Брянска. Бои временно прекратились, и нас ожидал столь необходимый отдых. Люди совершенно выбились из сил, а материальная часть пришла в серьезное расстройство. От непрерывной работы, дождей и грязи винтовки и пулеметы постоянно отказывали, и их необходимо было хотя бы почистить. Снаряжение и обмундирование оборвались. Офицеры и солдаты месяцами не раздевались и не мылись. О нормальном питании не приходилось и думать…
После длительных бессменных боев, от хронического недоедания все мы превратились в каких-то неврастеников. Прежде всяких иных действий необходимо было вымыться, переменить белье, выспаться и досыта поесть. В пределах возможного я и дал эти радости Белозерскому полку.
Штаб полка расположился в скромном домике, прельстившем меня своим садом и тишиною. Первые два дня люди только спали и ели. Величайшим напряжением воли я заставлял себя заниматься положенным мне делом. Первый же десятичасовой сон сразу освежил меня, а вторая такая же сладкосонная ночь вернула силы и бодрость. Как мало, в сущности, нужно нам было для отдыха и как даже этим малым мы могли пользоваться очень и очень редко!
На второй день нашего пребывания в Льгове подпоручик Глоба доложил мне, что меня желает видеть какая-то посетительница.
· Что ей надо?
·
· Не могу знать. Она говорит, что имеет к вам какое-то важное и секретное дело.
·
Я попросил адъютанта переговорить с посетительницей. Глоба ушел и через несколько минут вернулся:
— Господин полковник, она решительно заявляет, что может доверить свой секрет только вам. Не принимайте ее: она какая-то странная.
Подпоручик не высказал своих мыслей до конца, но я понял, что он опасается покушения на меня. Самое простое, это было бы обыскать посетительницу, внушавшую такие подозрения; однако к нашей чести надо отнести, что и в разлагающих нравы условиях гражданской войны мы не снизились до большевистского уровня и к приемам ЧК не прибегали. Я приказал просить посетительницу.
Вошла молодая, худенькая, скромно одетая барышня. С большими тревожными глазами. Она явно нервничала и не могла овладеть собою. Немного успокоившись, девушка рассказала грустную историю.
— Я сирота и жила с дедушкой. Он помещик. Старый. Ему уже 70 лет. Во время революции у нас отобрали землю, скот. Оставили только дом. Несколько раз дедушку хотели арестовать, но крестьяне не давали. Пришел какой-то большевистский полк, все в доме разграбил, испортил. Дедушку куда-то увезли. Что с ним сделали, я не знаю. Искали и меня, но я убежала и до вашего прихода скрывалась в городе, у знакомого купца…
Барышня готова была разрыдаться. Как мог, я ее успокаивал.
— Я ненавижу большевиков и пришла просить вас принять меня в полк. Я умею ездить верхом и стрелять. Это ведь главное на войне? И я ничего не боюсь!
С искренней грустью слушал я исповедь этого одинокого полуребенка. Исполнить ее просьбу не представлялось возможным, ибо я был решительным противником прапорщиц, женщин-офицеров и вообще «амазонок». Взять ее сестрой милосердия тоже нельзя: она не имела ни требуемых знаний, ни опыта.
Барышня была неутешна. Она решительно отказалась от денежной помощи и только после больших настояний согласилась взять немного продуктов да отрез какой-то грошовой материи: из дома она убежала в одном платье…
— Ну почему вы не хотите меня взять? Я так хотела служить у вас!
Перед уходом моя посетительница пыталась заинтересовать меня возможностью захватить в плен какой-то большевистский отряд:
— Я знаю в этой местности все тропинки и могу провести ваших солдат незаметно.
План был явно фантастический, но чувствовалось, что барышня обдумывала его долго и со всей своею добросовестностью. Это и было то секретное дело, которое она хотела доверить только мне.
Когда она ушла, я невольно подумал: вот среди таких девушек и вербовали наши революционеры кадры террористок…
СИСТЕМА ПОПОЛНЕНИЯ ЧАСТЕЙ
На третий день пребывания полка в Льгове я получил телефонограмму с приказанием прибыть немедленно в штаб корпуса, находившийся на станции Льгов.
Генерал Кутепов ужинал и прежде всего спросил:
· Вы ужинали?
·
· Только что собрался, но получил ваше приказание и выехал.
·
· В таком случае сперва закусите, а затем поговорим о деле.
·
Я не сомневался, что этот вызов означает какое-нибудь новое поручение.
Во время ужина генерал Кутепов задал мне вопрос:
· Сколько у вас штыков?
·
— 215.
— Как 215? А я доложил командующему армией, что у вас 1200 штыков.
Командир корпуса был явно озадачен.
· Ведь в ваших донесениях было указано 1200.
·
· То было, ваше превосходительство, раньше, а теперь только 215.
·
· Как же быть?
·
· Дайте полку неделю отдыха, и я опять буду иметь 1200 штыков.
·
· А винтовки и пулеметы у вас есть?
·
· Есть.
·
· Сколько?
·
Возможно, что я посмотрел на командира корпуса с некоторой подозрительностью, так как генерал Кутепов улыбнулся и успокоил меня:
— Не бойтесь, отбирать не буду.
Доброволец с первых дней формирования армии в Ростове, генерал Кутепов сам командовал добровольческим полком, и потому командирская психология была ему понятна. Мы понимали друг друга и знали, что «отобрать» можно, а «дать» более чем затруднительно.
И помню свой ответ, ответ, чрезвычайно характерный по тому времени:
— Официально у меня столько-то пулеметов и винтовок, а неофициально — столько-то…
Генерал Кутепов сообщил мне, что вновь создаваемую 4-ю пехотную дивизию приказано передвинуть на усиление войск Киевской области. В состав этой дивизии должны были войти Белозерский и формировавшийся, мало окрепший и бедно снабженный Олонецкий полки.
Упомянутая мною 4-я пехотная дивизия, части которой (то есть два полка) возникли явочным порядком, красноречиво свидетельствует о системе формирования, принятой в Добровольческой армии.
Предполагалось, вероятно, что если Белозерский полк сумел возникнуть «без расходов от казны», то подобным путем будут сформированы и остальные три полка.
«Правильно называть — правильно понимать», и, наоборот, неправильные определения приводят и к ложным представлениям. 4-я пехотная дивизия — это звучало внушительно, но явно не соответствовало действительной ее сущности, ибо дивизии как таковой не было.
Мне было приказано вступить в командование дивизией, перевезти ее в район Киевской области и там получить дальнейшие приказания от генерала Драгомирова.
Вместе с тем командир корпуса пообещал дать Белозерскому полку несколько дней отдыха, дабы мы могли привести себя в порядок.
Я тут же в вагоне решил произвести в ближайшие дни мобилизацию, о чем и доложил командиру корпуса.
Подобные самочинные мобилизации официально воспрещались, но за отсутствием пополнений из тыла каждый командир полка их производил.
Двигаться с 215 штыками и выполнять на новом месте серьезные боевые задачи я, конечно, не мог. Рассчитывать, что мне пришлют пополнение из тыла, было бы более чем наивно. Генерал Кутепов понимал все это не хуже меня и молчаливо принял к сведению мой доклад о мобилизации.
Вернувшись из штаба корпуса к себе, я в тот же вечер отдал все необходимые распоряжения как о смене полка, так и о его пополнении. Время было дорого.
Как указывалось раньше, в полку был свой небольшой мобилизационный аппарат, уже имевший навык в подобных делах. Руководил им поручик В., командир комендантской роты, человек молодой, но чрезвычайно серьезный, положительный, с ярко выраженными способностями организатора.
Мобилизация в прифронтовых районах является актом чрезвычайно деликатным. Близость большевиков и неуверенность, на чью сторону склонится завтра военное счастье, побуждали население уклоняться от мобилизации и выжидать.
Я не захотел отвести полк в ближайший тыл и не соблазнился тем обстоятельством, что там мы будем находиться под надежным прикрытием фронта. Полк сосредоточился на фронте же, но в районе, никем не занятом. Мы выставили свое охранение, и через два дня нам пришлось даже воевать, отбивая наступление красных.
Я не хотел слишком явно нарушать приказ, главнокомандующего о воспрещении частичных мобилизаций, не хотел не из боязни ответственности, ибо таковой для командира полка фактически не существовало, если его полк хорошо воевал, а по соображениям характера принципиального. Поэтому мобилизация производилась лишь в полосе, какая находилась между нашим и большевистским фронтами. Компромисс, давший мне известное нравственное удовлетворение.
В окруженных деревнях были расклеены печатные объявления с печатью полка о мобилизации соответствующих возрастов (если не ошибаюсь, до 28 лет), а прежним старостам, которые в подобных случаях сами автоматически появлялись, было указано доставить мобилизованных на сборный пункт. При этом призывным рекомендовалось являться в исправных сапогах и в форменном обмундировании.
К моему удовольствию и даже удивлению, мобилизация имела полный успех. По заявлению старост, уклонявшихся почти не было. Через два дня собралось около двух тысяч человек. Все это были солдаты прежней армии, и подавляющее большинство еще неделю назад служило у большевиков. Они воевали лишь до той поры, покуда не эвакуировалась их волость, деревня. Как только это происходило, уроженцы данных мест дезертировали, чтобы затем подчиниться мобилизационным распоряжениям другой стороны.
В те времена деревня почти поголовно «донашивала» то обмундирование, какое солдаты принесли на себе после Великой войны. Призванные в Красную армию получали те же шинели, френчи и фуражки, какие были и у нас. Это обстоятельство крайне упрощало в полках вопрос об обмундировании.
За единичными исключениями, все мобилизованные были одеты вполне прилично и имели хорошую обувь. Предупрежденные, что сапог у нас нет, и зная по личному опыту, какое значение имеет на войне исправный сапог, все они прибыли в лучшей своей обуви.
Двухтысячная толпа была хмурой. Война им надоела, но в то же время они понимали, что в охватившей Россию междоусобице их все равно в покое не оставят и они будут призваны в войска той или иной стороны. Вся эта масса людей, одетых в военное обмундирование, совсем не имела военного вида. Неопрятная, распущенная, она живо напоминала знакомые и мрачные картины 1917 года. Не было ни выправки, ни мало-мальски воинской подтянутости. Привыкшие к распущенности 1917 года, еще более опустившиеся во время службы у большевиков, многие открыто подчеркивали, что им «на все наплевать». Очень скоро обнаружилось, что среди призванных имеется несколько коммунистов, которые, не стесняясь, выражали протест против мобилизации и подчеркивали свое нежелание служить в белых войсках. Их явная и тайная агитация производила на остальных должное впечатление. Толпа начинала волноваться и, видя нашу малочисленность, все более и более наглеть. Из задних рядов раздавались отдельные выкрики, брань, а с офицерами, производившими разбивку, вступали в грубые пререкания. Наступал критический момент, и необходимо было принять решительные меры.
Два главных зачинщика были тут же расстреляны. Этот пример мгновенно изменил настроение остальных, словно они только и добивались увидеть проявление твердой власти.
Из нескольких групп раздались бодрые голоса:
— Ваше благородие, вот тут тоже есть коммунист. Это они сбивают народ, а мы за порядок.
После того как было расстреляно еще 3 или 4 человека, хмурую, враждебную толпу нельзя было узнать: лица оживились, все подтянулись, сами выровнялись, появилась выправка. Многие тут же заявили, что они Георгиевские кавалеры или унтер-офицеры. Приказания исполнялись точно, быстро. Когда поручик Б. произвел простейшее строевое учение, то через четверть часа все призванные вполне удовлетворительно, а многие даже и старательно выполняли подаваемые команды.
С места разбивки пополнение было отправлено с песнями. Старая солдатская песня «Соловей, соловей во саду» пелась громко, с несомненным подъемом и с тем присвистом, с каким хорошо настроенная часть пела в прежнее время. Эта песня или, правильнее сказать, характер ее исполнения лучше всего свидетельствовали, что желаемый психологический перелом, по-видимому, произошел. Два часа назад это была опасная и злобная толпа. Теперь это были русские люди, вновь как бы себя нашедшие. Их застывшие сердца вновь отогрелись и своею теплотою возвращали им черты на время забытой человечности. На наших глазах совершилось перерождение: на сборный пункт они пришли большевистскими Савлами, а вернулись в роты русскими Павлами…
При распределении мобилизованных по батальонам и ротам было мною приказано назначать целыми деревнями, дабы люди, знавшие друг друга с детства, служили бы вместе. Эта мера дала прекрасные результаты и в дальнейшем укрепила взаимную выручку. Опасаться каких-либо заговоров не приходилось. Своею численностью они во много раз превосходили кадры полка. Этих людей, уже отрекавшихся от красного зла, надо было не запугивать подозрением и террором, а привлекать доверием, справедливостью и дисциплиной. Вместе с тем офицеры и старые солдаты зорко следили за настроением вновь прибывающих, и, по единодушным докладам всех батальонных и ротных командиров, настроение было прекрасное.
Через несколько дней призванные получили винтовки и красные (цвет полка) околыши на фуражки. Они стали белозерцами.
Перед выступлением полка в сторону Киева многие мобилизованные просили разрешения побывать дома, проститься или взять те или иные вещи. Главным образом белье. Я считал бесцельным отказывать в подобных просьбах. Если кто надумал сбежать, тот все равно мог проделать это в любую ночь. Уроженцы окружных деревень, они имели прочные связи среди населения и, зная, что полк скоро уйдет, всегда имели возможность укрыться в потайных местах до отъезда полка. К тому же я мало интересовался теми солдатами, которые только и мечтали о том, чтобы сбежать.
Жители ближних деревень отпускались на ночь, в более отдаленные пункты — на сутки.
Объяснив командирам батальонов и рот свои соображения, я встретил с их стороны полное сочувствие. Они тоже понимали, что процесс наблюдаемого «очеловечивания» будет доверием лишь ускорен.
К общему нашему удивлению, почти все отпущенные вернулись обратно в полк. Сбежало не более двух десятков. Велико же было мое изумление, когда и эти «сбежавшие» догнали полк уже в пути. Исключительно личным почином они, не найдя полка на старом месте, куда-то ходили, кого-то расспрашивали, а главное, называли себя уже «белозерцами» и в конце концов добились своего: их отправили куда им было нужно. Эпизод, в сущности, незначительный, но чрезвычайно характерный.
Я умышленно задержался на подробностях этой мобилизации, дабы беспристрастным изложением фактов восстановить в памяти подлинные нравы и настроения того времени. Мобилизация эта была примечательна еще и потому, что до сих пор наши наборы происходили в губерниях с преобладающим малороссийским населением и мне впервые пришлось иметь дело с теми контингентами, которые все время находились лишь под большевистской властью и подвергались лишь большевистской обработке.
Когда мы подходили к Курской губернии, к границам Великороссии, нам представлялось, что нас встретит явно оболыиевиченное население. Как видно из приведенных мною фактов, опасения эти были неосновательными. Внешне замутившаяся народная душа в своей основе оставалась чистой и глубоко национальной. Несмотря на пережитое в 1917 году общерусское растление и на дальнейшие коммунистические опыты, деревня продолжала хранить инстинкт государственности. Мы являлись представителями этой государственности, и потому, за редким исключением, крестьянство обычно давало нам свои первоначальные симпатии и свою помощь.
Добровольческая армия наступала на Москву, воодушевленная самыми высокими патриотическими чувствами. В лице казачьих частей она имела верных соратников и борцов за общенациональное дело, ибо казаки в своей массе были прежде всего русскими людьми…
Во главе Вооруженных Сил Юга России находился вождь, чья кристальная честность не подлежит никакому оспариванию. Он мог, конечно, ошибаться, однако свои личные интересы ставил на последнее место и служил только своей Родине…
В распоряжении главного командования была обширная, богатейшая территория с 50-миллионным населением, со свободными сообщениями с заграницей. Англия и Франция признавали правительство генерала Деникина и оказывали ему известное нравственное и материальное содействие…
Воодушевлением, личным составом и тактической подготовкой Добровольческая армия неизмеримо превосходила большевиков…
И несмотря на эти и ряд других общеизвестных преимуществ, Добровольческая армия все же не заняла Москвы!
Зародившаяся на Дону и окрепшая на Кубани, Добровольческая армия в силу особых обстоятельств того времени принуждена была усвоить психологию и формы, резко отличавшие ее от прежней русской армии. Вновь образовавшаяся армия была ярко добровольческая, со всеми положительными и отрицательными особенностями этого понятия. Многовековой богатейший опыт императорской армии был забыт необыкновенно быстро. В итоге получилось сильнейшее искажение почти всех тактических и организационных принципов.
В силу особых условий в первый период своего существования Добровольческая армия не имела тыла в том виде, как он понимается военной наукой и практикой. База была всегда при себе. Затем, находясь как бы в гостях у кубанцев, добровольческое командование не считало себя признанным и полномочным разрешать вопросы административного устройства тех районов, какие освобождались от большевиков. Прочно освоив опыт первого периода, Добровольческая армия усвоила и равнодушное отношение к столь кардинальным вопросам, как правильная организация армейского тыла и занятых областей.
Вся совокупность совершаемых в первый период ошибок уравновешивалась, впрочем, малочисленностью армии и богатством Кубанской области. По мере же усиления армии и развития операций последствия ошибок проявлялись уже более резко.
Долгое пребывание главнокомандующего и его штаба в Екатеринодаре невольно обострило казачий вопрос. Как ни был сложен этот вопрос, однако представляется несомненным, что если бы армия заняла Москву, то в общероссийском масштабе он потерял бы и свою первоначальную остроту, и свою казавшуюся тогда непримиримость. Весьма вероятно, что если бы генерал Деникин не находился персонально в центре тех страстей, какие горели в то время на Кубани, он гораздо спокойнее и государственнее воспринимал бы все перипетии деятельности Рады. С высоты Московского Кремля многие события и деятели той эпохи представлялись бы совсем не в тех размерах, какие рисовались провинциальному воображению.
Если в 1918 году забвение истины — «организация не терпит импровизации» — могло быть расценено только лишь как полубеда, то упорное забвение той же истины в 1919 году привело уже к катастрофе.
Располагая всеми возможностями для своего усиления, Добровольческая армия ко времени решительного столкновения с большевиками оказалась настолько обессиленной и обескровленной, что исправить органические недочеты всей системы не могла и легендарная доблесть фронта. В то время, когда добровольческие части в бессменных, тяжелых боях истекали кровью, неустроенный, развращенный тыл наносил фронту более тяжелые удары, чем красный враг.
Отсутствие должного управления освобожденными областями создавало в районах, отдаленных от магистралей, полное безначалие и вытравляло у населения веру в законность и порядок белых. Первоначальное сочувствие обращалось сперва в равнодушие, а затем в явное неудовольствие.
Выйдя на Большую Московскую дорогу и преследуя грандиозные государственные цели, Добровольческая армия психологически продолжала быть армией кубанского и донецкого периодов, со всеми приемами и взглядами тех периодов. В этом и заключалась наша трагедия и первопричина будущих неудач.
Приступая по выходе из Донецкого бассейна к устройству государства, необходимо было применять и соответствующие методы государственного строительства. Этого не было сделано, и жизнь хронически опережала добровольческое творчество.
Вместе с тем наше главное командование, по-видимому, излишне опасалось упреков в «реставрационных симпатиях» и стремилось всячески выявить свою лояльность в этом вопросе. Логическим последствием подобных стремлений явилась необходимость издания целого ряда новых законоположений. Кодификационное творчество, проявляемое наспех и в явно ненормальных условиях гражданской войны, не могло, конечно, охватить всех сторон государственной жизни. В своей массе новые законоположения считались «временными» и обычно служили дополнением или частичным изменением как Свода законов Российской империи, так и законодательства Временного правительства. В итоге правительственные мероприятия Добровольческой армии отличались неопределенностью и потому никого не удовлетворяли. Для правых генерал Деникин был слишком левым, для левых — слишком правым.
Не подлежит сомнению, что если Добровольческая армия заняла бы Москву, то все остальное так или иначе, но устроилось. И если этого не случилось, то основной причиной краха белой борьбы на юге России надо считать несовершенство нашей военной системы.
Добровольчество, как система единственно жизненная в сложной обстановке 1918 года, должно было летом 1919 года уступить свое место регулярству, ибо последнее все свои корни имело в той национальной России, какую мы стремились возродить. Добровольчество, как военная и гражданская система, это не более как импровизация, и жестокий опыт 1919 года показал все несовершенство подобной импровизации.
Самой роковой по последствиям ошибкой явилось то обстоятельство, что армия не усиливалась соответственно уширению масштаба борьбы.
Не сомневаюсь, что в штабе Вооруженных Сил Юга России имелись проекты развертывания армии, однако эти проекты, претворяясь в жизнь, резко расходились с теми нормами, какие в таких случаях рекомендует военная наука и вековая практика. Продуманной, стройной системы в столь важном вопросе не было. Не было, по крайней мере, в практическом осуществлении. Части формировались не подлежащими органами, а по традициям еще кубанского периода — самозарождались. В итоге судьба развития армии зависела от инициативы отдельных лиц, их энергии, способностей, а зачастую и случая. Один начальник был ярко добровольческого облика, другой исповедовал регулярство, третий — как Бог на душу положит. Каждый импровизировал по своему крайнему разумению, а крайнее разумение — понятие очень растяжимое.
Наиболее верным путем в вопросах формирования пошла только кавалерия. Явочным порядком, впоследствии одобренным и главным командованием, наша конница образовала ячейки (кадры) прежних полков. Если методы формирования конных частей и носили отпечаток тогдашней эпохи, то принципиально ячейки являлись сторонниками и хранителями регулярства. Самое большое богатство всякой части — это ее традиции. Составленные из офицеров прежних полков, ячейки бережно охраняли свои полковые и общекавалерийские заветы. Развернутые в полки, они воспринимали и прежний славный дух. Традиции эти, конечно, нисколько не напоминали того явления, какое мне пришлось наблюдать в одной вновь образованной пехотной части: офицеры этого молодого полка после всякой пирушки вынимали револьверы и стреляли в потолок, объясняя подобное развлечение «полковой традицией».
К сожалению, верно понятые принципы формирования конницы все же не дали полностью желательных результатов. Причина этому — отсутствие системы, без которой невозможно никакое крупное начинание. Каждая ячейка, естественно, стремилась прежде всего развернуться в полк, а так как средств на одновременное развертывание всех кадров не имелось, то полки по боеспособности были чрезвычайно пестрого состава.
Не меньшим злом, чем отсутствие правильной организации, являлось и необъяснимое забвение почти всех уставных требований. Наши прекрасные уставы царской армии, составленные мудростью предшествовавших поколений, были заменены в большинстве случаев устными преданиями. Начало же этих преданий относится к дням начала формирования Добровольческой армии, когда еще были сильны впечатления революционного времени. Ряд основных статей Дисциплинарного и Внутреннего уставов, то есть тех законоположений, какие регламентировали жизнь и быт войск, был отменен. Отменен или приказанием свыше, или попустительством свыше. Я очень неохотно употребляю это второе выражение, однако оно наиболее полно выражает историю вопроса.
В конце концов создалась путаница взаимоотношений, сильно подорвавшая дисциплину.
Главную массу офицеров и солдат, служивших в Добровольческой армии, составляли контингента, в свое время прошедшие через ряды императорской армии, дисциплина и мировоззрение которой определялись параграфом 1-м устава Дисциплинарного:
«Воинская дисциплина состоит в строгом и точном соблюдении правил, предписанных военными законами. Поэтому она обязывает точно и беспрекословно исполнять приказания начальства, строго соблюдать чинопочитание… и не оставлять проступков и упущений подчиненных без взыскания».
О правилах, «предписанных военными законами», заботились в Добровольческой армии мало, ибо «устные предания» имели несравненно большее применение, чем уставы и другие законоположения.
Ярким примером незакономерности являлись хотя бы те диктаторские полномочия, какими обладали командиры частей.
Понятия, кто такой «начальник», совершенно исказились.
В прежней армии каждый офицер считался начальником для солдат. Это была историческая и мудрая традиция, основанная на знании народной души и находившаяся в полном соответствии с особенностями нашего национального характера.
Когда же офицер оказался рядовым и, находясь в таком состоянии, расценивался только как рядовой, тогда естественно, что его авторитет значительно снизился.
О чинопочитании, этой серьезнейшей основе воинской дисциплины, можно говорить только с длительными и существенными оговорками. Чины в Добровольческой армии значения не имели. Доминировала должность. Поручики командовали батальонами, а штаб-офицеры и капитаны были в этих батальонах рядовыми.
В курский период одним из «цветных»7 полков командовал штабс-капитан. Правда, это был доблестный офицер, представленный к следующим чинам до чина полковника включительно, однако фактически он был тогда только штабс-капитан…
О неоставлении «проступков и упущений подчиненных без взысканий» говорить не приходится!
В итоге дисциплина, этот цемент армии, резко падала.
По занятии Харькова Добровольческая армия психологически была уже подготовлена к восприятию регулярных начал, ибо вливавшееся пополнение во много раз превосходило своим числом основные добровольческие кадры. Таким образом, в возвращении к регулярству большинство армии увидело бы лишь естественный поворот к привычным им нормам военного обихода. Нормальным путем, без резкой ломки, господствовавшая тогда импровизация была бы заменена стройной, мудрой и испытанной военной системой. К сожалению, этого не случилось, и Вооруженные Силы Юга России шли упорно по путям добровольчества, предопределяя тем неизбывные и роковые последствия этих путей.
ПЕРЕЕЗД ПОЛКА. ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ЧАСТЕЙ
Согласно распоряжению штаба корпуса, Белозерский полк с приданной ему артиллерией — двумя легкими и одной гаубичной батареями — должен был сосредоточиться у станции Ворожба. Туда же мной была притянута хозяйственная часть с ее запасами и мастерскими. Впервые после выхода из Харькова командир полка мог видеть свой полк собранным вместе.
Оружейная и пулеметная мастерские принялись энергично приводить в порядок достаточно запущенное оружие, постоянная работа которого тяжело отзывалась особенно на пулеметах. К этому времени в полку имелось более сотни пулеметов, в подавляющем большинстве захваченных у большевиков. Если мы мало обращали внимания на оружие, то красные в этом отношении были совершенно беспечны. Поэтому можно представить, в каком виде попадало к нам большевистское оружие. Между тем на пулеметы возлагались нами большие надежды. Еще в период Миропольской обороны мною были применены так называемые «пулеметные батареи» — новшество, порожденное Великой войной. Собранная на небольшом участке масса пулеметов открывала одновременный огонь. Эта тарахтящая батарея производила чрезвычайно сильное впечатление. Психика красных не выдерживала подобного огня. Я рассчитывал применять такое воздействие и в дальнейшем, а потому был крайне заинтересован в возможно лучшем состоянии полковых пулеметов.
Все строевые роты и команды ежедневно производили тактические и строевые учения. Я и теперь не могу удовлетворительно объяснить, какими причинами вызывался тот подъем, который в период десятидневного пребывания у станции Ворожба проявляли все офицеры и солдаты. Они работали от души и, по-видимому, заражали друг друга энергией.
Накануне выступления у станции Ворожба был устроен мною смотр полку. Роты имели 120–150 штыков, что в практике Добровольческой армии являлось фактом незаурядным. При каждом батальоне были свои пулеметные и разведывательные команды. Кроме этого, имелись еще полковая пулеметная рота, конноразведывательная команда в 200 шашек и богато снабженная команда связи. Общий вид выстроившегося на большом поле полка был чрезвычайно внушительный. Полковым маршем прежнего дореволюционного Белозерского полка был марш «Славься вечно, славься вечно, православный русский царь!..». Марш был принят и мною во всей его неприкосновенной красоте и величии.
Указанный мною смотр является для полка эпизодом историческим. На нем не произошло ничего внешне примечательного, проведен он был в обычных рамках строевого устава, но впечатление оставил незабываемое. В этот день все чины полка лично почувствовали силу полка, и виденная ими картина настолько запечатлелась в душах белозерцев, что до конца гражданской войны никакие испытания уже не могли вытравить веры в свой полк. Много лет прошло с тех пор, но когда я теперь встречаюсь с белозерцами, все они неизменно и с волнением вспоминают смотр у Ворожбы. Тот смотр объединил всех нас в одну крепкую полковую семью. Я это чувствовал всем своим существом. В подобных же переживаниях признавались мне потом и офицеры.
С этого дня я постиг воспитательное значение смотров, моральную ценность которых раньше преуменьшал. Система смотров и парадов была применяема и в Галлиполи. Она оказалась чрезвычайно жизненной и имела большое воспитательное значение, ибо ничто так не действует на людскую психику, как демонстрация дисциплинированной силы.
В период нахождения полка у Ворожбы туда приезжал генерал Кутепов, дабы посетить вновь сформированный 2-й Дроздовский полк (пехотный). Командиром полка был назначен полковник Манштейн, о котором я упоминал в начале своих записок как об офицере исключительной доблести.
Новый полк формировался в условиях достаточно благоприятных и отнюдь не схожих с таковыми же условиями олонцев, частей 31-й дивизии, Сводно-стрелкового полка и других. 1-й Дроздовский полк, полк сильный и богатый, щедро снабдил своего младшего брата всем, чем мог. Все же, несмотря на подобную помощь и на содействие начальства, 2-й полк испытывал нужду во многом. Полковник Манштейн лично высказывал мне, что он больше надеется на самоснабжение в боях, чем на отпуски из армейских складов. Дух дроздовцев и имя командира являлись надежным залогом того, что полк будет воевать прекрасно. И действительно, он воевал отлично, но не раз ему приходилось своею доблестью и кровью восполнять недочеты формирования.
К приезду командира корпуса был выставлен почетный караул от белозерцев. Нарядный, однообразный вид караула, одетого в новое обмундирование, и большой оркестр, сиявший ярко начищенными инструментами, произвели, по-видимому, на генерала Кутепова отрадное впечатление, что он тогда же мне и высказал.
· А штыков у вас сколько?
·
· Две тысячи.
·
· Здорово!
·
На лице командира корпуса отразилось некоторое недоверие, внутренне меня задевшее. Присутствовавший при этом разговоре полковник Манштейн случайно рассеял это недоверие.
— Белозерцы, ваше превосходительство, богатые. У них в ротах 120–150 штыков, много пулеметов.
И в голосе командира вновь формируемого полка послышалась естественная зависть.
В привокзальном скверике был устроен скромный обед для генерала Кутепова. Присутствуя на этом обеде, я из докладов Манштейна уже в подробностях узнал об огорчавших его недостатках снабжения. Командир корпуса утешал молодого командира полка и приводил в пример белозерцев. Ссылка эта только лишь утверждала истину, что в Добровольческой армии части не формировались нормальным порядком, а самозарождались и саморазвивались… Да и чем иным мог подбодрить Манштейна генерал Кутепов, сам не имевший никаких запасов?
В конце лета 1919 года главное командование приступило к формированию новых частей, справедливо полагая, что быстро увеличивающийся масштаб борьбы требует и соответственного развития сил. Это похвальное решение явилось, однако, сильно запоздавшим (речь идет о практическом осуществлении), ибо безвозвратно было упущено лучшее для этого дела время — лето, и не был использован полностью тот, несомненно, большой подъем, какой переживало население богатых южнорусских губерний в первый период освобождения от большевиков.
Как известно, в довоенные годы Харьков, Полтава, Курск, Кременчуг и ряд других городов являлись стоянками тех или иных частей. Во многих пунктах полки квартировали десятилетиями. Города считали эти части «своими», а офицерский состав имел прочные и разнообразные связи с населением. После развала фронта в 1917 году офицерство вернулось в свои прежние стоянки, с которыми они были связаны всеми своими интересами — служебными, семейными, имущественными и прочими. Казалось бы, что, восстанавливая государство, надлежало параллельно возрождать и русскую армию, национальное самосознание которой было всегда вне упрека. И не подлежит сомнению, что если бы приступили к воссозданию прежних частей, то подобная система дала бы прекрасные результаты. Города всячески пошли бы на помощь «своим» полкам. Зная в своем гарнизоне, как говорится, все ходы и выходы, офицерство, возрождая родные части, много помогло бы своими связями делу формирования. И это были бы старые доблестные полки со столетней историей и с ярко выявленными государственными взглядами.
К сожалению, главное командование, несмотря на просьбы «с мест», отказалось от этой мудрой системы и шло по пути импровизации, поддерживая всем своим авторитетом добровольческие принципы.
Вместо формирования прежних полков, давших бы многочисленные резервы, в которых так нуждался фронт, было приступлено к развертыванию «цветных» полков в бригады, а затем и в дивизии. Подобное решение являлось ошибочным во всех отношениях. Как ни сильны были духовно и материально эти части, все же выделение всего потребного для формирования двух и трех полков значительно ослабило первоисточники. Повторялась та же ошибка, какая была проделана в начале 1917 года при образовании третьеочередных дивизий. К тому же усиление армии на 3–4 полка, первоначально слабых численно и бедно снабженных, мало изменяло соотношение сил на тысячеверстном фронте. С точки зрения идеи и системы, эти формирования были типичной импровизацией. К тому же формирование частей происходило преимущественно на орловском направлении. В итоге — усиленные войска этого направления выдвинулись клином к северу и подставили под удары большевиков свои открытые фланги.
КИЕВСКИЙ ФРОНТ
После отъезда генерала Кутепова было получено приказание о сосредоточении 4-й пехотной дивизии в районе станции Бахмач — Круты, что и было выполнено незамедлительно. На станции Круты я получил указание прибыть на станцию Нежин и явиться там к генерал-лейтенанту Бредову8 для получения дальнейших назначений.
С точки зрения войск курского направления, Киевский фронт расценивался как второстепенный. Это было, конечно, обывательское мнение, ибо успех Московской операции находился в непосредственной зависимости от того, насколько прочно обеспечены фланги армии. Поэтому стратегическое значение Киевского фронта было велико.
Войска Киевской области, находившиеся в непосредственном ведении генерал-лейтенанта Бредова, занимали правый берег Днепра, примерно на линии Святошино — Боярки. С севера, со стороны Чернигова, Киев прикрывался Козелецкой группой, оборонявшей участок Остер — Козелец. В общем, радиус обороны не превышал 20–25 верст, что для такого крупного центра, как Киев, было крайне недостаточно. Повсюду большевики имели двойное или тройное превосходство в силах. Особенно угрожающим обороне города являлся северный участок, ибо в случае успеха на черниговском направлении большевики быстро выходили бы в тыл Киевской группы.
Третьим участком обороны был нежинский. Кроме действовавших там красных частей, в болотах и лесах к северу от Нежина имелись сильные банды Кропивнянского. Бывший офицер Кропивнянский одинаково враждебно относился и к белым, и к красным. Среди крестьянского населения шайки эти, пополняемые местными уроженцами, имели известные симпатии.
Войска козелецкого и нежинского участков несколько раз пытались овладеть Черниговом, но безуспешно. Превосходящие во много раз силы большевиков, казалось, надежно прикрывали древний город.
Постоянная угроза Киеву и железной дороге Курск — Киев властно требовала необходимости разбить Черниговскую группу красных и отбросить ее за Десну. Только по исполнении этого можно было считать, что Киев и указанная железная дорога прикрыты с севера более или менее надежно.
С генералом Бредовым я встретился лишь однажды, еще в период ляоянских боев, когда он был капитаном генерального штаба, а я — юным подпоручиком конно-разведческой команды. Встреча была мимолетная, но она запала мне в душу, и в продолжение 15 лет я сохранял в памяти привлекательный облик молодого и энергичного капитана.
Генерал Бредов встретил меня с той сердечностью, какая вообще свойственна этому выдающемуся генералу. К моему удивлению, он тоже не забыл нашу встречу под Ляо-яном и расцеловался со мною, как со старым знакомым.
Объяснив мне обстановку, о которой я упоминал выше, генерал сообщил мне, что с подходом 4-й дивизии он решил овладеть Черниговом.
— Несколько раз я пытался покончить с этим злокачественным нарывом, но не удавалось. Бог даст, с вашим приходом мы достигнем цели…
Командующий генерал и я склонились над картой и углубились в тактические комбинации.
Описание боевых действий не входит в задачи моей книги, однако необходимо хотя бы кратко остановиться на некоторых подробностях Черниговской операции, ибо эта операция наглядно и убедительно свидетельствует, какая потенциальная сила сохранилась в прежних и затем вновь возрожденных частях императорской армии.
Решено было наступлением вдоль железной дороги Круты — Чернигов сбить части противника, находившиеся в нежинском направлении, выйти в тыл Козелецкой группы и отрезать ее от единственной переправы на реке Десне у города Чернигова. План был крайне дерзкий по замыслу, ибо требовал зайти глубоко в тыл (более 50 верст), предварительно разбив вчетверо сильнейшего врага. К тому же на левом фланге наступления находились сильные красные части, а правый упирался в Сейм.
Большевики располагали полнейшей возможностью ударом в левый фланг сбросить или, во всяком случае, прижать нас к Сейму. Благодаря малочисленности все сообщения (тыловые пути) были беззащитны.
Намеченный план в равной степени сулил большой успех и полную катастрофу. Предстояло единоборство не только сил, но и духа.
Один из полков 4-й дивизии должен был взять на себя все тяжести этого наступления, а другой — удерживать переправу через Сейм в 30 верстах от путей намеченного наступления. И чем ближе приближался бы к своей цели полк, наступающий на Чернигов, тем более он отдалялся от своего соседа.
Генерал Бредов предложил мне, как начальнику дивизии, самому распределить роли полков в намеченной операции.
Справедливость требовала, чтобы Белозерский полк, как сильнейший, наносил бы главный удар. Слабые числом олонцы могли выполнить лишь второстепенную задачу Находясь под впечатлением смотра у Ворожбы, я, не колеблясь, назначил Белозерский полк для нанесения главного удара.
На нежинском участке находились уже гвардия и 2-й конный генерала Дроздовского полк. Согласно директиве, все гвардейские части должны были наступать левее железной дороги Круты — Чернигов, а белозерцы — правее. 2-й конный полк должен был прикрывать левый фланг операции.
Мое сообщение о решенном наступлении и объяснение всей важности возложенной на полк задачи были приняты офицерами с большим подъемом. Солдаты, конечно, не разбирались в обстановке, однако с видимой охотой и вниманием выслушивали разъяснения офицеров. Как и я, все они находились под гипнозом недавнего смотра. Кроме того, выяснилось, что в полку имеется много офицеров, связанных с Черниговом. Одни там родились, другие учи-лись, третьи имели семьи или родственников. Поэтому известие о наступлении на Чернигов вызвало большой подъем. Накануне дня наступления во всех ротах раздавались песни, смех, оживленные разговоры. Подобное настроение являлось ценнейшим залогом успеха.
ЧЕРНИГОВ
23 сентября началось наступление. В этот же день утром гвардия подверглась неожиданному удару со стороны противника, и в Черниговской операции она уже участия не принимала. Исключение составляла только гвардейская артиллерия со своим прикрытием — прекрасной пулеметной командой полковника Шатилова. Обстоятельство это сразу осложнило положение белозерцев, ибо, кроме своего участка, им надо было занять и участок, назначенный для гвардии. Соотношение сил, бывшее и без того не в нашу пользу, снизилось еще больше. Даже твердый духом, всегда мужественный генерал Бредов счел необходимым запросить по телефону мое мнение, не отложить ли операцию. Порыв, однако, не терпит перерыва, и было решено осуществлять задуманный план, не смущаясь осложнениями.
Наступление началось действительно с большим порывом, и к вечеру мы имели повсюду успех. Были взяты пленные и пулеметы.
В первый же день операции прибыл к полку генерал Бредов. Он обладал в большой степени добродетелями старшего начальника и потому совершенно не вмешивался в мои распоряжения, как командира полка. Принимая к сведению мои доклады, генерал предоставил мне полную свободу действий, ибо понимал, что всякое «дергание» в бою лишь нервирует того начальника, который руководит боевыми действиями. Воинская добродетель, присущая подлинным военным.
Первую ночь операции я провел в тускло освещенной комнате маленькой станции Черниговской железной дороги. Тут же лежали убитые белозерцы, а рядом равнодушно стучал телеграфный аппарат. В углу надрывался телефонист:
— Матвеев, Матвеев, да оглох ты, что ли? Привычная и жуткая своей привычностью обстановка боя…
На второй день большевики опомнились и, усилив себя резервами, сами перешли в наступление. 3-й батальон был сбит, и в итоге мы потеряли два орудия… Подобная неудача не предвещала ничего хорошего… Расходовать свой последний резерв, когда главные трудности ожидались впереди, было невозможно: операция только начиналась.
Сбитому батальону пришлось собственными силами восстановить положение, что он и выполнил энергичной контратакой. Наиболее молодой по времени формирования батальон и его командир полковник Гауе хранили в своих сердцах то самолюбие, какое двигает воинские части на подвиги исключительные. Глубоко убежден, что этот батальон инстинктивно предугадывал уже ту славу, какую дал ему через несколько дней Чернигов и какую он в дальнейшем еще более приумножил…
О тех трудностях, какие пришлось преодолеть в течение пятидневных боев, свидетельствует донесение генерала Бредова на имя командующего войсками Киевской области9:
«Установлено, что против участка полковника Штейфона действуют 532, 533, 534 и 539 полки, занимающие сильно укрепленную позицию».
Преодолевая упорное сопротивление красных, белозерцы и 2-й конный полк продвигались вперед, все более и более углубляясь в тыл красных.
Утром 28 сентября 1-й и 3-й батальоны подошли к Десне. 2-му конному генерала Дроздовского полку было приказано выдвинуться по Киевскому шоссе, к югу от Чернигова, к деревне Яновка и прикрыть готовящийся штурм города со стороны Козелецкой группы. Эта сильная группа красных, узнав о нашем подходе к их единственной переправе, неминуемо должна была начать отход, дабы не быть отрезанной, что в действительности и случилось.
Чернигов соединялся двухверстной дамбой-мостом. По этому дефиле, находившемуся под сильнейшим ружейным, пулеметным и орудийным огнем, надлежало перейти на западный берег, на котором расположен город.
В тот момент, когда 1-й батальон вел крайне тяжелый бой с превосходными силами, а 3-й батальон готовился штурмовать дамбу, было получено сообщение о появлении в нашем тылу красной пластунской бригады («червонное казачество») с кавалерийским полком и с батареей. 2-й конный полк вел уже неравный бой с наседавшими на него большевиками у Яновки, в 10 верстах от Чернигова. Перед нами была единственная переправа на Десне, которую мы стремились штурмовать своими уже поредевшими рядами. Слева накатывалась к этой же переправе Козелецкая группа (60-я советская дивизия). Из тыла двигались большие силы, стремясь тоже к переправе. Справа был непроходимый вброд Сейм.
Момент был жуткий. Я отдал приказание 3-му батальону без промедления штурмовать мост. Поддержанные артиллерией и пулеметами, 9-я и 10-я роты бросились в атаку и своим порывом смяли интернациональный батальон, непосредственно оборонявший дамбу. Этот батальон был почти полностью уничтожен. Вслед за передними ворвались в город и остальные роты.
2-й батальон и все команды, какие только я мог собрать, были двинуты против тыловой опасности. Их усилиями эта группа красных была сбита к югу и, таким образом, к переправе не вышла. В разгар описываемого боя козелецкие части красных сбили своим десятерным превосходством доблестный 2-й конный полк.
1-й батальон, который уже находился в Чернигове, был повернут кругом и двинут по Киевскому шоссе на усиление конных дроздовцев. Победа была полной. Захвачено несколько тысяч пленных, масса пулеметов. Только в районе Яновки было захвачено 16 орудий. Богатейшая добыча не поддавалась первоначальному учету. Между прочим, были отбиты и потерянные 24 сентября два орудия.
И этот, редкий даже в летописях Добровольческой армии, бой вел полк, в состав которого две недели назад влилось около 2 тысяч человек мобилизованных. Поставленные в условия нормальной дисциплины, руководимые мужественными офицерами, они воевали выше всяких похвал.
К концу пятидневной операции снова прибыл к полку генерал Бредов, и мы вместе вошли в город. Весь в зелени, в прежнее время тихий, мирный, Чернигов в период гражданской войны перенес немало тяжелых испытаний. По моем прибытии меня окружили жители и со слезами на глазах выражали свою радость. Узнав, что нами захвачено несколько видных комиссаров, прославившихся своею жестокостью, жители в полном смысле слова умоляли меня приказать повесить этих комиссаров всенародно.
Через два дня на площади у собора Св. Феодосия Черниговского был отслужен молебен и устроен парад, во время которого прибывшим начальником дивизии все солдаты 9-й и 10-й рот, участвовавшие в штурме дамбы, были награждены Георгиевскими медалями. Командир 10-й роты поручик Радченко, первый бросившийся на штурм и увлекший своим примером остальных, личной инициативой генерала Деникина был по телеграмме произведен в следующий чин. Я не мог немедленно сообщить эту приятную весть герою-офицеру, ибо, тяжело раненный, он находился уже в госпитале. Генерал Бредов горячо благодарил командира 3-го батальона полковника Гауса, всех офицеров и солдат за победный бой.
После взятия Чернигова полк получил решительно от всех старших начальников поздравительные телеграммы, в самых лестных выражениях отмечавшие боевую работу белозерцев.
Наиболее характерной является телеграмма командующего армией:
«Прошу передать полковнику Штейфону и доблестным, родным мне белозерцам мое восхищение героическим штурмом Чернигова, воскрешающим в памяти лучшие страницы воинской доблести».
* * *
По занятии Чернигова я, как старший представитель Добровольческой армии, явился высшей воинской и гражданской властью города и вновь освобожденного края. Тревожное и серьезное положение на фронте требовало от меня полного напряжения всех сил. Вместе с тем необходимо было заботиться и об устройстве города. На третий день ко мнр явились представители самых разнообразных административных учреждений. Все они просили меня дать им руководящие указания и разрешить десятки неотложных нужд. Я был только военный начальник, и в моем распоряжении не имелось никакого гражданского аппарата. В ряде вопросов, предъявляемых жизнью, я был совершенно несведущ. Какие, например, указания я мог дать управляющему конторой Государственного банка по ряду специальных вопросов? А он домогался получить определенные инструкции. И не только он, но и другие. Я тонул в этой стихии безначалия и в то же время должен был отстаивать город, переживая при этом периодические тяжелые кризисы.
Конечно, на все домогательства своих посетителей я мог бы ответить фразой: — Это не мое дело!
Поступить так, однако, не позволяла моя совесть. Я разрешил вопрос единственно доступным мне приемом: телеграфировал генералу Драгомирову и просил его впредь до прибытия вновь назначенной администрации поставить во главе всех гражданских учреждений тех лиц, кои ведали ими до революции. Генерал Драгомиров, человек ясного ума, понял мое положение и ответил согласием. Это не был, конечно, выход из положения, но все же это была хотя какая-нибудь система. Прибывший затем и посетивший меня вице-губернатор не скрывал своей беспомощности. Он и несколько приехавших с ним чиновников были, конечно, бессильны дать губернии желаемый порядок. Вице-губернатор поступил так, как поступил бы каждый на его месте: дал видимость власти городу и предоставил деревню собственной участи.
Деревня же была настроена прекрасно. Назначенная мною мобилизация (понеся большие потери, полк снова поредел) прошла успешно и даже с известным подъемом.
Отсутствие власти на местах и нездоровые навыки гражданской войны породили в некоторых деревнях случаи незаконных реквизиций, или, попросту говоря, грабежей. Я сурово боролся с подобными явлениями, предавал виновных военно-полевому суду и без снисхождения утверждал смертные приговоры, о чем и объявлялось в «Ведомостях пехотного Белозерского полка».
Через 7–10 дней после занятия Чернигова неожиданно для меня появился ряд возов с мукой, овсом, сеном и прочими припасами. Прибывшие с возами крестьяне заявили, что все это они привезли в подарок Белозерскому полку:
— Мы знаем, что ваши солдаты не грабят и за все взятое вы платите. Примите, покорно просим.
Этот подарок простых русских людей чувствительно меня тронул.
Уезжая, крестьяне говорили:
— Если вам что будет надо, вы только скажите. Покорно благодарим, что не обижаете нас.
Описанный пример настолько яркий, что в комментариях не нуждается…
После восстановления в правах прежней администрации все же в городе была масса работы. В Чернигове была взята громадная военная добыча, и ей надо было дать толк, и не местными средствами, а указанием свыше. Среди взятого находились, например, мастерские и склады автомобильной части прежнего (периода Великой войны) Юго-Западного фронта. Это было богатейшее, многомиллионное имущество. Оно расхищалось, несмотря на принятые мною меры. Тщетно слал я телеграммы непосредственно в ставку главнокомандующего с просьбой прислать специалистов, дабы принять и вывезти это богатство, в котором остро нуждалась армия. В конце концов прибыли, кажется, два офицера. Они не были в силах справиться с порученным им делом.
Приказом главнокомандующего были учреждены в армии особые комиссии, ведавшие захваченной добычей. Деятельность тех комиссий, какие я лично наблюдал, обычно бывала бумажной и чрезвычайно нежизненной. Наделенные диктаторскими полномочиями, подчиненные центру, комиссии накладывали свое вето на все взятое, и в итоге образовались громадные склады, месяцами лежавшие без всякого употребления. Мне известны примеры, когда подобные склады, пробыв много месяцев в наших руках, оставались нетронутыми, и затем снова переходили в руки красных.
Взятые на учет указанными комиссиями склады зачастую расхищались и нередко способствовали развитию злоупотреблений среди младшего персонала, обслуживавшего эти склады.
Одна из таких комиссий очень скоро прибыла в Чернигов. Председатель ее потребовал, чтобы в его распоряжение была передана вся добыча, что я и исполнил с большой охотой. Спустя несколько дней большевики повели наступление и потеснили полк. Обстановка складывалась настолько грозно, что из-за предосторожности я отдал приказ своим тыловым учреждениям эвакуировать город. В самый критический момент обнаружился недостаток артиллерийских снарядов. Командир дивизиона вспомнил, что на складах реквизиционной комиссии имелись снаряды, захваченные при взятии Чернигова. В полном смысле слова была дорога каждая минута, и зарядные ящики помчались карьером к этим складам. Председатель комиссии заявил:
— Выдать снарядов не могу, они находятся на учете реквизиционной комиссии.
Этот склонный к бюрократии человек не хотел слушать никаких резонов и не хотел понять, что если город будет сдан, то вместе с этим будут оставлены и все «находящиеся на учете» склады. Только мое энергичное вмешательство дало возможность уже умолкавшей артиллерии получить снаряды.
Большевики были отбиты, а после боя я предал председателя комиссии военно-полевому суду. На другой день была получена телеграмма от генерала Драгомирова. Командующий войсками просил меня отменить мое распоряжение и добавлял, что он отзывает из Чернигова всю комиссию «по несоответствию».
Кроме забот по обороне и устройству города, мне приходилось разрешать много вопросов, ни в какой степени не касающихся компетенций командира полка и начальника группы. Я не мог отмахиваться от той массы просителей, какие ежедневно и в большом числе приходили ко мне. В большинстве это была совершенно обнищавшая интеллигенция. Она буквально голодала. Занятому свыше меры своими разнообразными обязанностями, мне надо было находить время и для посетителей. Не мог же я, представитель добровольческой власти, даже не выслушать тех, для кого новая белая власть являлась символом освобождения, справедливости и силы?
Приходила старушка и, плача, рассказывала (конечно, в пространных выражениях!), что большевики отобрали у нее все и что ей нечем прокормить двух детей — внучек. У нее имеется лишь немного советских денег, а советские деньги теперь никто не берет. За нею с грудным ребенком входила жена какого-то низшего служащего с подобной же просьбой. И еще, и еще. Что я мог поделать? Я приказал полковому казначею брать, якобы на обмен, эти ничего не стоящие бумажки и выдавать рубль за рубль добровольческими деньгами. Обрадованные люди уходили, горячо благодаря добровольцев. Требовалась помощь широкая, систематическая, а таковой не было, ибо не было власти. В моей комнате ежедневно разыгрывались десятки драм: стесняющаяся, плачущая бедность признавалась, что она голодна. Признавалась намеками, скорбью своих глаз, случайными фразами. Я приказал полковым кухням широко кормить желающих, а для тех, кто стыдился (тогда таких было много), заготовил пакеты с мукой, сахаром и другими продуктами. Люди, конфузясь, уносили эти пакеты и были радостны и сыты хотя бы несколько дней. Всего этого было, конечно, мало, но лучше сделать хотя что-нибудь, чем ничего.
Памятуя о переменности военного счастья и зная, с какими невероятными усилиями удерживается город, я предложил желающим жителям выехать в тыл, в иные, более спокойные и безопасные места.
Среди лиц, которых я лично навестил, предлагая свою посильную помощь, была и сестра героя Добровольческой армии генерала Дроздовского. Я знал Юлию Гордеевну давно, когда она была молодой, жизнерадостной барышней. Помня, что Дроздовские жили когда-то в Чернигове, я приказал навести справки. Оказалось, что Юлия Гордеевна с неизлечимой хронической болезнью находится в местной богадельне. Отправился к ней. В пожилой, изможденной женщине, лежавшей на грязном соломенном матрасе, я с трудом узнал прежнюю Юлию Гордеевну. Широко открытыми глазами, с явным недоумением и даже со страхом смотрела она на меня. Последний раз мы встречались, когда я был 17-летним юнкером.
— Здравствуйте, Юлия Гордеевна, узнаете меня? Я Боря Штейфон. Помните?
Она вспомнила, расплакалась и судорожно схватила мою руку.
Так и не отпускала моей руки, покуда я сидел у ее кровати.
На другой день я снова ее навестил. Она была к этому времени переведена в лучшую, частную лечебницу, лежала в отдельной комнате на прекрасной кровати. Около нее находилась специально командированная полковая сестра. На ночном столике стояли цветы и лежала добытая с трудом коробка шоколадных конфет. Совершилась одна из сказок жизни!
О положении Ю. Г. я сообщил дроздовцам, и их трогательным попечением Ю. Г. была вывезена на юг.
* * *
Пятидневная Черниговская операция, а затем полуторамесячная оборона города потребовали от полка громадного напряжения.
Большие потери снова обессилили нас. Очередная мобилизация лишь временно отдалила кризис, однако он назревал с каждым днем.
Еще более усилившийся материально после взятия Чернигова Белозерский полк являлся, вероятно, самым богатым полком в армии. У меня имелось много пулеметов, винтовок, я располагал достаточным количеством обмундирования и снаряжения. Хозяйственная часть, отнюдь не прибегавшая к незаконным приемам, благодаря разумной экономии обладала большими запасами. В любое время мы могли по примеру «цветных» полков развернуться в сильную, прекрасно снабженную бригаду. И, несмотря на все эти данные, полк таял с каждым днем. Как после Льгова, так и в Чернигове мне необходимо было иметь 5–7 дней спокойствия, дабы дать отдых измученным людям. Дать им две ночи спокойного сна. Только отведя полк в резерв, можно было действительно его пополнить, устроить и дать ему силы для продолжения успешных боевых действий. Однако о каком отдыхе могла быть речь, когда надо было слабыми силами оборонять двадцативерстный фронт, имея перед собою втрое сильнейшего врага?
И с чистой совестью можно признать, что войска Черниговской группы делали больше, чем можно было от них требовать. Постоянно получаемые благодарности от высшего начальства свидетельствовали об этом. 7 октября генерал Драгомиров, например, телеграфировал:
«Полковнику Штейфону, копия генералу Бредову.
Сердечно благодарю Вас и молодцов белозерцев за доблестную отвагу в боях 6 октября у железной дороги Товстолес — Халявино. Особенно благодарю за постоянную активность действий. Уверен, что под Вашим умелым руководством доблестные белозерцы отстоят грудью древний Чернигов».
Читать подобные признания белозерских заслуг было, конечно, приятно, но, как всякие слова, они начинали терять свое значение. Ряды защитников уменьшались с каждым днем.
Недостатка в пленных мы, правда, не ощущали, но по своим настроениям это были лучшие большевистские части — они не годились для немедленной постановки в строй.
Нам не хватало солдат. Роты вновь снижались до 40–50 штыков.
Катастрофа приближалась, но, к счастью для себя, фронт ее еще не предвидел. Растянутые тонкой линией на сотни верст, войска пытались своею кровью и величайшей доблестью исправить недочеты тыла и организации. И как ядро, прикованное к ноге каторжника, стесняет все его движения, так и неустройство тыла, несовершенство военной системы и вся совокупность сделанных раньше ошибок парализовали порыв фронта.
Приближалась осень. Истомленные войска не имели теплой одежды. Резервов не было. Части воевали уже только своими кадрами. Дух бойцов явно изнашивался. И когда после занятия Орла и Брянска советская Москва готовилась к эвакуации и на фронт была двинута даже личная охрана Ленина — Латышская дивизия, добровольческое командование уже не имело сил, чтобы сломить несомненно последнее сопротивление.
Наступила агония фронта и трагический отход к Новороссийску.
Черниговскую и Киевскую группы ожидал крестный путь Бредовского похода.
Причины, подготовившие неудачу белой борьбы на юге России, конечно, чрезвычайно разнообразны. Нет нужды перечислять их даже с нарочитой добросовестностью, ибо каждая отдельная причина, как бы ни было велико ее самодовлеющее значение, все же не более как деталь. Деталь, порожденная несовершенством общей системы. Поведенная в 1919 году борьба в общегосударственном масштабе должна была и вестись приемами, выработанными государственной мудростью и государственным опытом. В 1919 году мы внезапно забыли истину, что настоящее будет жизненным лишь тогда, когда оно является логической и исторической связью между прошлым и будущим. Несмотря на величайшее горение духа, добровольчество как государственная система не имело органических связей с прошлым и не могло рассчитывать на успех в будущем. Трагедия Добровольческой армии и заключалась в том, что своевременно, то есть по выходе из Донецкого бассейна, она не превратилась в армию регулярную. Мы забыли о регулярстве, завещанном нам Петром Великим. Забыли и жестоко за это поплатились.
Несмотря на то что добровольчество, конечно, не по последствиям, а по духовной ценности, и является равным периоду Минина и Пожарского, все же оно было не более как исторический эпизод. К несчастью для нашей Родины, исторический эпизод был воспринят как якобы историческая эпоха. Героическому духу дана была не соответствующая масштабу борьбы форма. И не подлежит сомнению, что, если бы добровольчество как дух было введено в формы регулярства как системы, исход борьбы на юге России был бы иным.
В крымский период диагноз болезни был поставлен правильно, и генерал Врангель повел свои войска по путям русской армии. Эта благодетельная реформа, хотя и сильно запоздавшая, быстро возродила деморализованные долгим отходом части и помогла главнокомандующему удерживать Крым в течение семи месяцев.
И галлиполийское «чудо» объясняется главным образом тем, что галлиполийское командование впервые после революции стало неуклонно и систематически проводить принципы регулярной армии…
Россия уже пережила небывалые потрясения, а ко времени своего возрождения переживет их еще больше. И когда наша Родина приступит к своему устройству, она будет так бедна, что уже не сможет позволить себе роскоши ошибаться. Поэтому мы должны всегда помнить ошибки прошлого, дабы избежать их повторения в будущем.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Первое издание:
Штейфон Б. Кризис добровольчества. Белград, 1928.
Генерал-майор Штейфон Борис Александрович родился 6 декабря 1881 г. в Харькове в семье ремесленника, крещеного еврея, окончил Харьковское реальное училище, Чугуевское пехотное юнкерское училище, откуда был выпущен в 1901 г. подпоручиком в 124-й пехотный Воронежский полк, и Николаевскую военную академию в 1911 г. Участвовал в русско-японской войне. С ноября 1911 г. — командир роты 6-го гренадерского Таврического полка, с ноября 1913 г. — старший адъютант штаба войск Семиреченской области, с января 1914 г. — обер-офицер для поручений при штабе 2-го Туркестанского армейского корпуса. Участвовал в первой мировой войне; с июля 1916 г. — штаб-офицер для поручений при штабе 1-го армейского корпуса, в 1917 г. был произведен в полковники. В декабре 1917 г. вступил в Добровольческую армию, участвовал в 1-м Кубанском («Ледяном») походе, летом 1918 г. приехал в Харьков, где организовал центр вербовки офицеров в Добровольческую армию. С апреля 1919 г. — начальник штаба 3-й дивизии, с июля — командир 17-го пехотного Белозерского полка, с сентября — начальник 4-й пехотной дивизии, с ноября — начальник штаба Полтавского отряда (Правобережная группа войск Киевской области) генерала Н.Э.Бредова. В январе — августе 1920 г. занимал должность начальника штаба группы войск генерала Н.Э.Бредова, отступившей из Одессы на соединение с польской армией и интернированной в Польше, был произведен в генерал-майоры. В сентябре с остатками группы был перевезен в Крым. В ноябре 1920 г. с остатками Русской армии генерала П.Н.Врангеля эвакуировался из Крыма в Турцию. В 1921 г. занимал должность начальника штаба 1-го армейского корпуса и коменданта Галлиполийского лагеря, затем переехал в Югославию. С 1941 г. являлся начальником штаба Русского охранного корпуса, сформированного немцами из русских эмигрантов для операций против югославских партизан, позже был назначен командиром корпуса. Умер 30 апреля 1945 г. (по некоторым сведениям, был убит) в Загребе.
1 Генерал-майор Манштейн Владимир Владимирович с января 1919 г. командовал батальоном 2-го Офицерского стрелкового генерала Дроздовского полка, с лета 1919 г. по ноябрь 1920 г. — командир этого полка (с мая 1920 г. полк именовался 2-м Дроздовским).
2 Генерал-лейтенант Агапеев Владимир Петрович (1876–7) — окончил 1-й кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище в 1895 г. и Николаевскую академию генштаба в 1901 г. Участвовал в русско-японской войне; с июля 1903 г. — старший адъютант штаба Сводной кавалерийской дивизии, с декабря 1904 г. — штаб-офицер для особых поручений при штабе 1-го кавалерийского корпуса, с декабря 1906 г. — штаб-офицер для особых поручений при штабе 14-го армейского корпуса, с ноября 1907 г. — военный агент в Сербии, с октября 1909 г. — военный агент в Бельгии и Нидерландах, в декабре 1910 г. был произведен в полковники, с февраля 1914 г. — начальник штаба 10-й кавалерийской дивизии. Участвовал в первой мировой войне; в августе 1915 г. был произведен в генерал-майоры, с декабря 1915 г. — начальник штаба 6-го кавалерийского корпуса. С декабря 1918 г. — начальник штаба 2-го армейского корпуса генерала В.З.Май-Маевского, с апреля — начальник штаба 1-го (Добровольческого) армейского корпуса генерала А.П.Кутепова, с августа 1919 г. до мая 1920 г. — военный представитель главкома ВСЮР при союзном командовании держав Антанты в Константинополе. С мая 1920 г. в эмиграции.
Генерал-лейтенант Витковский Владимир Константинович (1885 — после 1963) — окончил 1-й кадетский корпус и Павловское военное училище в 1905 г. Участвовал в первой мировой войне в рядах лейб-гвардии Кексгольмского полка, в 1917 г. был произведен в полковники и затем назначен командиром 199-го пехотного Кронштадтского полка. Весной 1918 г. вступил в 1-ю Отдельную бригаду Русских добровольцев полковника М.Г.Дроздовского, в июне — командир Солдатского батальона, с июля — командир 2-го Офицерского стрелкового полка, с ноября — командир бригады 3-й дивизии, в декабре был произведен в генерал-майоры. С февраля 1919 г. — начальник 3-й пехотной (с августа — стрелковая генерала Дроздовского) дивизии, в апреле 1920 г. был произведен в генерал-лейтенанты, с 4 (17) августа — командир 2-го армейского корпуса. В ноябре 1920 г. эвакуировался в Турцию с остатками Русской армии, в Гал-липоли командовал 1-й пехотной дивизией, в Болгарии в 1921–1922 гг. — 1-м армейским корпусом. С 1924 г. — командир 1-го армейского корпуса в составе РОВС.
4 7 (20) апреля.
Харьковское направление прикрывала 14-я армия Южного фронта, сформированная 4 июня 1919 г. из частей бывшей 2-й Украинской советской армии. С 7 июня по 8 июля 1919 г. 14-й армией командовал К.Е.Ворошилов; части армии оставили Харьков 24 июня.
6 Имеется в виду 121-й пехотный Пензенский полк 31-й пехотной дивизии.
«Цветные» — неофициальное наименование, укрепившееся во ВСЮР за именными (то есть теми, кому было присвоено почетное именное шефство) полками (затем бригадами и дивизиями) и батареями (Кор-ниловскими, Марковскими, Дроздовскими и Алексеевскими) из-за присущих каждой части определенных цветов фуражек, погон, нарукавных знаков и шевронов. Для формы одежды всех «цветных» частей был характерен нашитый у всех чинов на левом рукаве шинелей, кителей, френчей и гимнастерок шеврон цветов русского национального флага углом вниз. Корниловцы-пехотинцы носили фуражки с красной тульей и черным околышем, двухцветные погоны (верхняя половина черная, нижняя — красная) с белой литерой «К»; на левом рукаве была голубая нашивка в форме щита с белой надписью «корниловцы» и белым черепом над скрещенными костями и мечами (острием вниз); корниловцы-артиллеристы носили фуражки с зеленой тульей и черным околышем и черные погоны с желтыми перекрещенными пушками и литерой «К». Марковцы-пехотинцы носили фуражки с белой тульей и черным околышем и черные погоны с белой литерой «М» (все с белой выпушкой); марковцы-артиллеристы носили фуражки с белой тульей и черным околышем и черные погоны с белой литерой «М» (все с красной выпушкой). Дроздовцы-пехотинцы носили фуражки с малиновой тульей и белым околышем и малиновые погоны с желтой литерой «Д»; дроздовцы-артиллеристы носили фуражки с малиновой тульей и черным околышем и красные погоны с желтой литерой «Д». Алек-сеевцы-пехотинцы носили фуражки с белой тульей и голубым околышем и голубые погоны с белой литерой «А»; алексеевцы-артиллеристы носили фуражки с белой тульей и черным околышем и черные погоны с желтой литерой «А».
Генерал-лейтенант Бредов Николай-Павел-Константин Эмильевич (1873 —?) — из российских дворян немецкого происхождения, окончил 1-н Московский кадетский корпус, 2-е военное Константиновское училище в 1893 г., откуда был выпущен подпоручиком в 13-й стрелковый полк, и Николаевскую академию генштаба в 1901 г. Участвовал в русско-японской войне; с мая 1904 г. — старший адъютант штаба 9-й пехотной дивизии, с августа 1905 г. — штаб-офицер для особых поручений при штабе 10-го армейского корпуса, с января 1906 г. — штаб-офицер для поручений при штабе Киевского военного округа (с декабря 1905 г. по декабрь 1906 г. командовал ротой 41-го пехотного Селенгинского полка), в декабре 1908 г. был произведен в полковники, с июня 1912 г. — начальник штаба 44-й пехотной дивизии, с марта 1913 г. — начальник штаба 33-й пехотной дивизии. Участвовал в первой мировой войне; в августе 19–15 г. был произведен в генерал-майоры и назначен генерал-квартирмейстером штаба Северного фронта, с сентября 1916 г. — начальник штаба Киевского военного округа, в 1917 г. был произведен в генерал-лейтенанты и назначен командиром 21-го армейского корпуса. С мая 1919 г. — начальник 7-й пехотной дивизии, с августа — командир Полтавского отряда (Правобережной группы войск Киевской области), с сентября — комендант Киева. В декабре принял под свое командование остатки войск Киевской области, во главе которых отступил в Одессу; с января 1920 г. командовал всеми войсками, отступившими к Одессе. Ввиду того что румынские власти отказались пропустить эту группу на свою территорию, в феврале вывел ее в район Новой Ушицы (Подольская губерния) на соединение с польской армией; продолжал командовать группой, размещенной в польских лагерях для интернированных и военнопленных, до переброски ее в Крым в августе — сентябре 1920 г. В ноябре 1920 г. с остатками Русской армии эвакуировался из Крыма в Турцию.
4Имеется в виду генерал от кавалерии А.М.Драгомиров — главноначальствующий и командующий войсками Киевской области с сентября по декабрь 1919 г.



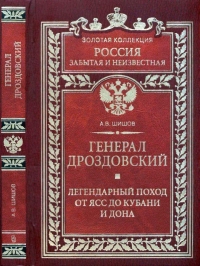


Комментарии к книге «Кризис добровольчества», Борис Александрович Штейфон
Всего 0 комментариев