Артем Захарович Анфиногенов А внизу была земля
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВСПОЛОХИ
Сухим безросным утром в августе сорок первого года летчик Комлев стал «безлошадным» и погорельцем; некрестьянская профессия свела его с мужицкой бедой ближе, короче, чем деревенское детство на волжском откосе, в Куделихе; с того случая, пожалуй, и начался путь Дмитрия Комлева к земле…
Свой первый командирский отпуск лейтенант Комлев проводил в родной Куделихе и понемногу — в гостях, на рыбалке, на пристани, где все новости обсуждаются как на базаре, — наслышался о Симе. Он не сразу сообразил, о ком речь, какая это Сима, потом вспомнил: после выпускного вечера они всем классом отправились на пароходе до Горького, и вместе с матерью-буфетчицей была в той поездке Сима, малявка-восьмиклассница. Смуглая среди светленьких подружек, в накинутой на плеча материнской хламиде до пят, она смахивала на цыганку; мелькала то в машинном отделении, то в судомойке, то на капитанском мостике, она и туда взбиралась, — везде своя. Подсаживалась к старшеклассникам, к взрослым, когда пели на палубе, — ей были рады, голос у Симы сильный…
Вот о ней и толковали, где бы летчик-отпускник ни появился: и расцвела-то она, и Певунья, и прославилась. «Чем же прославилась?» спрашивал Комлев. «Ее карточку в газете напечатали!» — «Да что она сделала?» — «Выпускное сочинение накатала!.. Первое место по области. Теперь учится на речного штурмана, вон куда пробилась. Еще в капитаны выйдет».
Весной Дмитрию Комлеву исполнилось двадцать два. С тем, что называют устройством личной жизни, он не спешил; здешние волжанки были Мите по душе, но скоро появятся у него новые, городские знакомства, ведь авиация может базироваться возле городов, выбор у авиаторов богатый.
Единственная перемена за время отпуска коснулась служебных дел летчика: его часть с Северного Кавказа была переброшена к западной границе. И в тот июньский день, когда Комлев уезжал из дома, — не на юг, а на запад, в Рава-Русскую, — в Куделиху на лето возвращалась Сима.
Был собран, уложен, вынесен на крыльцо лейтенантский чемодан, до автобуса оставалось меньше часа, а в дневной свежести реки, в сонном покое горбатеньких улиц, сбегавших к Волге, все еще таились какие-то ему обещания. Он решил пройтись до пристани. Туда-обратно. Последняя, прощальная прогулка. Жизнь — обязана чем-то человеку? Или только человек — ей?
Было пасмурно. Дальний берег Волги темнел, бросая ровную тень на тихую воду. Рыбацкие лодки стояли неподвижно. Одинокий катер тарахтел на середине реки раскатисто и зычно, как сухогруз.
Причалит, остановится в Куделихе «Дмитрий Фурманов», которым катила сверху Сима, или нет, было неизвестно. По расписанию стоянка не значилась, но практика с расписанием не всегда сходилась. Комлев слушал, что говорят. Первейшее значение получал тот факт, что зять капитана живет в Куделихе… Ждали почту, радио, промтоваров для сельпо; большинство сходилось на том, что причалит. «Ну и что? — спрашивал себя Комлев. — Увижу ее, знаменитость. Все?» Отвечал себе: «Знакомство будет. А без этого весь отпуск — пустышка».
Гулко ударяясь о причал, к пристани подгреб катерок: «Постоять-то можно?» — «Постойте, только двухпалубник идет, так что…» — «Понятно, понятно», — под командой двух парней навеселе катерок становился к месту непослушно, то отходил, то промазывал. Видя, как поводит их посудину и понимая причину, парни, его погодки, посмеивались над собой; закрепились, свели на пристань своих двух принаряженных, в модных туфельках попутчиц. Мужики расступались перед девахами неодобрительно. Комлев проследил за ними глазами до самых сходней на берег. «Митька, шею вывернешь… Идет!»
Сливаясь одним бортом с темным берегом и плавно, будто напоказ, разворачиваясь и выставляя другой, освещенный, выходил из-за речного поворота, долгожданный «Фурманов». «„Фурманов“ идет», — говорили рядом с Комлевым. Да, «Фурманов», «Фурманов»… Произнести вслух название двухпалубника было желанием каждого, пол-Куделихи имело в нем свой интерес. «Как скорость скинет, уберемся», — заверили парни с катерка; молодицы, что-то прикупив на берегу, погрузились в него снова. «Поживей бы», поторапливал их про себя Комлев, будто только что не любовался статью девиц и не завидовал находчивым парням, а теперь досадовал на этот не вовремя подплывший катерок, в нем усматривая причину того, что хлопково-пенистый бурун на остром носу «Фурманова» высок, держится, не спадает. Он следил за ним неослабно. Сверкали водяные, взвинченные форштевнем жгуты, с каждым метром приближая и ярко расцвечивая вдруг возникшую фантазию: он возвращается из отпуска — вдвоем! С ней, Симой. Шальная мысль, но и трезвость в ней, и подкупающий, всегда желанный для молодого летчика эффект. Вот так Комлев! — загудят в полку. Уезжал — ни слова, ни полслова, а сам-то, оказывается, все давно решил и подготовил. Хитер, Митя! Какую кралю отхватил… Глазаст, глазаст…
Отчетливей становились лица пассажиров, укрупнялась палуба, темные просветы между белых ведер с красными буквами, составлявшими название парохода.
Стиснутый толпой, Комлев ждал, не шелохнувшись, молча, надеясь, просил: «Остановись!»
В ответ прокатился по спокойной воде и над берегом протяжный гудок парохода.
«У-у-хо-жу-у», — понял Комлев.
Мимо…
Дальше, дальше, дальше… скрылся за изгибом реки «Фурманов», так и не показав ему гордость Куделяхи — Симу.
Глядя пароходу вслед, кто-то вслух утешился местной присловкой: «Воды-то сколь… сколь хочешь, столь пей». И Комлев, вздохнув, повторил: «Воды-то сколь… сколь хошь, столь пей…»
В полк, в селение под Равой-Русской, Комлев угадал как раз под войсковые учения. Зачета по штурманской службе, точнее, по знанию нового района, где они теперь стояли, у лейтенанта, естественно, не было, а на учения, на свое участие в них, он возлагал надежды, и немалые. Имел все к тому основания, да. Ибо с первого на летном поприще шага, с рулежки на бескрылой машине, сколько-нибудь серьезных замечаний в воздухе Комлев не получал. Согрешил «самоволкой», опаздывал из увольнений, под Первое мая был замечен навеселе и держал ответ перед комсомольской ячейкой. Но за работу в воздухе, за технику пилотирования — одни поощрения. В приказе, перед строем. Он гордился и дорожил этим, втайне сознавая преходящий характер, зыбкость достигнутого, да и невозможность в сроки, отведенные ему в училище и в полку, достигнуть большего; глухо, до последней пуговки — обязательно так, застегивая перед вылетом комбинезон, он вкладывал в свою манеру талисманный смысл. К полетам был жаден, как щука в зорьковый жор… И что же? «Мы на Комлева рассчитывали, — заявил политрук, — а он не получил зачета. Не освоил режим погранрайона. Подвел себя, и товарищей». Командир прямо отрубил: «К учениям не допускать!» Вместо штудирования карты, вместо облета района, тренировок в воздухе ему всучили деревяшку, макетик самолета. И с этой болванкой в руках, наклоном корпуса изображая развороты, виражи, «змейки», с откинутой в сторону рукой — крыло! — и мальчишеским гудением на губах он должен был проигрывать условный, воображаемый полет. «Победа в воздухе куется на земле», — ободрял его полковой командир, «батя»; тренаж назывался: «пешим — по-летному»…
Войну Комлев встретил на границе, откатился с полком к Умани, под Ятранью его сбили. Он выбросился с парашютом, приземлился неудачно, поясницу пронзила боль; сгоряча он вскочил, тут же сел, упал ничком… в себя пришел, расслышал чей-то выкрик: «Летчик!» Он понял, что это о нем. «Вцепился, не отпускает!» — слышал он торопливые голоса, топот. Его подхватили с земли и, спеша, бегом несли на руках к грузовику, положили на взбитый шелк парашюта: полуторка замыкала колонну, немцы двигались по пятам… тепло благодарности, и снова беспамятство.
Боль отпустила, он пришел в себя в тени садочка, укрывшего кузов, где он лежал с парашютом в головах. Тишина, прохлада, говор… опасность, видимо, рассеялась. С тем же благодарным чувством, какое испытал он к подобравшим его людям, вспомнил Комлев далекий день, когда с ребяческой решимостью — такой смешной, такой наивной и такой серьезной — выбрал, взял он себе в пример земляка-волжанина, ничуть не смущаясь его великой славы… Чкалов!.. Но подобрали-то на дороге Комлева-летчика…
Кто-то взобрался в кузов. «Как лейтенант за железку уцепился», услышал Комлев. «Кольцо это, — объяснил другой. — Вытяжное кольцо парашюта. У них закон: после прыжка кольцо не терять. Привезти на землю. Иначе позор». — «Пусть его держит… А парашютик — нам», — ловким сильным движением парашют был выхвачен, летчик брякнулся головой о дощатое днище кузова. «Куда?!» — закричал он, отбрасывая зажатой в правой руке вытяжное кольцо и хватаясь за пистолет.
Пистолета на ремне не было. Пистолет оборвался вместе с кобурой, когда раскрылся парашют. «Я летчик!» — кричал он, распластанный, пригвожденный к кузову болью. Собрав все силы, приподнялся, пытаясь кого-то схватить… и рухнул на спину, и разревелся от бессилия и боли…
Своих он повстречал в Каховке.
Как выразился полковой командир, «батя», бывший конармеец, Комлева «спешили», — за отсутствием в полку исправной боевой техники, а следом, по той же в основном причине, откомандировали в Крым, в разведывательную эскадрилью.
«Да вам на Берлин летать, на спецзадания! — польстили Комлеву в эскадрилье, знакомясь с его боевой аттестацией. — А не дроф в степи гонять…»
После разорения и пожарищ, полыхавших от Сана до Днепра, эскадрилья разведчиков действительно выглядела тихой заводью: подъем в семь утра, питание в столовой, вечерняя поверка…
Он принял бы их шутливое почтение, если бы не зарубка, появившаяся после Ятрани в его характеристике: «Проявил непонимание момента».
Короче, летать ему в эскадрилье было отказано.
Не на чем. Свои толпятся в очередь, как на бирже.
«Пешим — по-летному» — пожалуйста. Сколько угодно.
Украшение гардероба лейтенанта — выпускной кожаный реглан.
По части обмундировки Комлеву везло с первой курсантской гимнастерки: надел, перехватил ремнем, разогнал складки — какие сомнения, летчик. Как будто скроена гимнастерка на заказ! А получал в каптерке. Ворот с голубыми петличками, освеженный двухмиллиметровой ниткой подворотничка, был поставлен старшиной в пример. Шинелка серая, курсантская, а на нем — игрушка: пола лежит, спина как литая. И с техникой ему везло. Из боевых машин, имевших тонкие различия в сериях, ему досталась в полку не приземистая, тяжеловатая, а «щука» — летучий, легкий на руку бомбардировщик СБ…
Реглан у Комлева не черный, как у других, а черепичного отлива. На весь выпуск таких пришлось, может быть, с десяток.
В Крыму его Комлев сбросил. Сложил, упрятал подальше.
С подъема облачался в слинявший комбинезон, подбитый безрукавкой «самурайкой» («самурайку» он по-своему перекроил, надставил, опустив мех на поясницу), строго, глухо, до верхней пуговки застегивался — педант, такое он взял себе правило. Так себя приструнивал. Осенние ночные ветры уже студили степь, к полудню ветер стихал, воздух теплел, смягчался, продлевая лето. Он, бывало, жмурился под солнцем, как выползший из потемок к свету. Распускал свою потертую хлопчатобумажную схиму, оголял плечи… осторожно пробовал спину. Сгибал, разгибал… боль совсем отошла, полная свобода движений.
Он блаженствовал, отдыхая от боли, вслушиваясь, как проникает в него тепло, как пульсируют жилочки.
«Пешим — по-летному» — осадили его разведчики. После всего, что пережито, что пытался сделать… Ни самолета, ни места в боевом расчете, ни твердого жилья. Один.
Несколько дней назад появился здесь экипаж «девятки», экипаж приданного эскадрилье скоростного бомбардировщика под хвостовым номером «9», с летчиком капитаном Крупениным во главе. Казалось, он для того появился, чтобы подчеркнуть сиротливое положение Комлева. Стрелок-радист с «девятки» в столовой предупреждал: «Дежурный, оставьте расход на моего командира!» Штурман с «девятки» ставил синоптиков в известность: «Летчик устал, отдыхает, я за него!..» Комлев — без экипажа, без штурмана и стрелка-радиста. Их отсутствие в самом деле было чувствительно. Заботы, которых он знать но знал, — от получения сухпайка, мыла в банный день, до знания ходов, какие необходимы в БАО, чтобы получить сносное жилье, то есть все, от чего летчика заведомо освобождают штурман и стрелок, лежало теперь на нем одном.
И куда бедному крестьянину податься?
В разведэскадрилье на близкое будущее — никаких надежд.
Парк бомбардировщиков СБ поизносился, последнее отняла Одесса, разведку выполняли истребители, и главным образом «девятка» капитана Крупенина; среди латаных, штукованных колымаг, доживавших свой век в степном Крыму, пришелица «девятка» возвышалась царственно, старший воентехник, работавший на ней, объяснения по новинке давал неохотно, опасаясь сболтнуть лишнее, цедил: «Все управление на кнопках, одних электромоторчиков — восемнадцать штук…»
Комлев держался особняком.
Претензий не заявлял, ни перед кем не заискивал.
Недели через две ему предложили связной ПО-2.
Он согласился.
Развозил по Крыму командиров связи, корреспондентов в штатском и военных, забрасывал на «точки» московские газеты, запчасти из мастерских, изредка ходил в сторону Сиваша на разведку погоды.
В остальном он был предоставлен самому себе, и передышка на юге его понемногу завораживала.
В селении Старый Крым увидел Комлев яблоневый сад, похожий на дубовую рощу.
Стволы диковинных в два обхвата яблонь тянулись до неба, и ветви их сгибались под тяжестью плода, в названии сорта — шелест седых времен: «кандиль-синап»… Базарчик в Старом Крыму не людный, но все-таки южный, в слабых, но все-таки красках, беззаботный и щедрый. Черные пчелы приникали к сочащейся плоти пышных персиков сладострастно, с прилавка улыбнулась Комлеву россыпь тыквенного семени. Каленые тыквенные семечки, замешанные на патоке ах! Комлев себе в удовольствии не отказал, отвел душу.
Сад, старательно взрыхленный и политый, азарт не прижимистой, бойкой торговли, семя с патокой — домашняя услада, возвращали Дмитрия к родной Куделихе.
На двадцать третьем году жизни он вспоминал, как старец: чем отдаленней событие, тем оно ярче. Ему вспоминалось детство. Теплая крынка с молоком на столе, он клонит ее на себя, опиваясь, пока в гулких стенках не блеснет темное дно; лошадиная морда в пене, желтые зубы, по-собачьи клацнувшие над самой его макушкой, долгий, живучий страх перед ними и перед звоном бубенца. Свадьба дяди Трофима. Трошка, скинув новенькие «скороходы» со шнуровкой и засучив по колена штаны, мчится с кем-то взапуски, сверкая белыми пятками по сочной луговине, а бабы, весело повизгивая, срамят мужиков бесстыдниками…
Но своим канунам война дает особый свет: сгущает тени, казнит иллюзии, заботливо принаряжая все, что осталось позади надеждой, — даже с короткой дистанции, отделяющей крымский август от июня…
Сима.
После семнадцати дней боев, после Умани, после переправы через Ятрань, где его сбили, в желаниях Комлева появилась определенность: Сима. Определенность, нетерпеливость, временами какая-то взвинченность.
Помнит ли Сима его?
Ведь они, можно считать, незнакомы…
Из всех имен, с которыми он мог бы и хотел связать свои надежды, свое будущее, сейчас осталось это одно, и память с готовностью ему помогала: знакомы! До Горького плавали на пароходе — раз. В том же Горьком, в полуподвальчике магазина «Рыболов-спортсмен», вместе делали покупки — два. Причем, каленые крючки ходовых размеров из колючей россыпи на прилавке выбирал он, а Сима вторила ему, как обезьянка, говоря продавцу: «И мне!», «И мне!», и только грузила выбирала сама (покупных грузил Комлев не признает). Наконец, поминки по дяде Трофиму. Захмелев, он облегчал себе душу горячим чаем, а она, Сима, оказавшись рядом, заботливо дула ему на блюдечко, чтобы он не ожегся.
Ни единого слова они не сказали друг другу, но знакомы были.
Только бы она отозвалась.
Ему пришла на ум посылка — ведь он в Крыму…
Итак — посылка.
Каптенармус БАО за два ведра «кандиля» достал ему тару нужных размеров, он продумал и написал Симе письмо — в меру обстоятельное, с учетом эффекта, который могут произвести дары юга, и опасности быть неверно понятым, и на своем ПО-2, на своей «этажерке», как с давних пор зовут у нас коробчатого вида самолеты, наторил дорожку в Старый Крым, в яблоневый сад, похожий на дубовую рощу…
…Остывая после торопливой погрузки яблок и предвкушая быстрое возвращение восвояси над еще не прогретой, без марева и болтанки степью, он рулил на «кукурузнике» по знакомой, ровной полоске, чтобы развернуться против ветра и взлететь. Всходившее солнце мягко играло на тугой, глянцевитой обшивке нижнего крыла, и вдруг она лопнула, вспоролась наискосок, обнажив белесую изнанку. Комлев ошалело глядел на прореху, не понимая: откуда здесь взялся кустарник, проткнувший плоскость?.. Дохнуло жаром, чем-то брызнуло в лицо, и сверху по наклонной стойке рыжим зверем кинулся в кабину горящий бензин.
Комлев кубарем выкатился из кабины, успевая заметить, как, выправляя строй, согласно кренятся к перелеску два «мессера».
Быстро, радостно, с нетерпеливым потрескиванием сглатывал огонь упругую парусину, обнажая хрупкий остов машины из растяжек и проволочек… Рвануло бак.
Просвистели, осыпая искры, головешки, шрапнелью разлетелись яблоки…
«Зажгли походя, короткой очередью», — запоздало подумал Комлев о «мессерах».
Поднял яблоко, надкусил его, с отвращением выплюнул.
Самолет — в дым, летчик — невредим, весь нежный груз, заботливо им отобранный и уложенный, испекся, получив какой-то мерзкий привкус…
«Лучше бы мне разбиться в тумане, — думал Комлев, идя от пожарища прочь, кляня день, когда его спровадили из боевого полка в Крым, в разведэскадрилью. — Лучше бы в нем погореть, в тумане, чем на яблоках». Ведь, как ни крути, погорел-то он на яблоках, на «кандиле»…
К полудню он вышел на базовый аэродром; впереди, в лесопосадке, открывалась стоянка разведэскадрильи, где ждали его доклада, его объяснений.
— Товарищ лейтенант!
Комлев оглянулся — дюжий молодец перед ним. Сумрачная складка от переносицы кверху через красноватый лоб, тяжелые скулы… Конон-Рыжий! Степан!.. Старшина, однополчанин, собрат по Раве-Русской.
— Я, товарищ лейтенант, — улыбнулся Степан, замедляя шаг, но не останавливаясь.
В группе летчиков он направлялся к «р-пятым». Комлев сейчас же уловил выражение отрешенности на землистых лицах; так обычно бывают замкнуты, углублены в себя летчики, получившие задание. Задерживаться, откалываться от своих Степан не мог, Комлев к нему подстроился.
— В Одессу, в Одессу, — негромко подтвердил Конон-Рыжий — воздушный стрелок, перенявший привычку своих командиров называть цель приглушенно. Заходим с моря, чтобы не подловили, — доверительно продолжил он, и в его голосе Комлев уловил сомнение — оправдает ли себя уловка, на которую они пустились: выход на Одессу с моря.
— Приласкали, что ли? — пригляделся старшина к его комбинезону.
— А!.. — махнул рукой Комлев, дескать, чего там… Времени на разговор не оставалось.
— Кого-нибудь из наших встретил? — спросил Комлев.
— Нину помните? Жену мою?..
— Конечно! — наобум ответил Комлев, подчиняясь спешке. — Конечно! — повторил он, вспомнив маленькую женщину, появившуюся у них в гарнизоне и родившую перед войной.
— Обворовали ее!.. Обобрали дочиста!.. Добралась с малой до Феодосии, и дома — представляете, товарищ лейтенант?!. Осталась в чем была. Я говорю майору, рядом же, дайте увольнение на сутки, на полсуток! Одна с ребенком, попутным рейсом нагоню, а он: за юбку держишься! Не перестроился! Ты о тех подумай, кто в Одессе, Одессу надо спасать!..
Так, торопясь, дошли они до «р-пятого» под хвостовым номером «20».
— С «двадцаткой» не расстаешься? — спросил Комлев.
— Не изменил, товарищ лейтенант, — «двадцатка». — Степан набрасывал на плечи парашют, памятливость Комлева в такой момент была ему приятна…
Раздалось: «Запускай моторы!»
— Товарищ лейтенант, как Киев? — прервал свои приготовления старшина.
Газеты о Киеве молчали.
Степан глядел на Комлева как на посвященного в грозный ход событий, сроки и конечный результат которых обсуждались всеми; должно быть, старшина посчитал, будто он, Комлев, работает в том районе или как-то иначе связан с Киевом.
— Я думаю, Киев стоит, — выдавил из себя Комлев.
…Осела поднятая деревянными винтами пыль, и след «р-пятых» простыл в белесом небе, а Комлев все брел на свою стоянку… медленно, словно бы одолевая напор моторов, дунувших ему в грудь при старте на осажденную Одессу, словно бы мешал ему глядеть вперед и выбирать дорогу едкий, сладковатый, с примесью печеного яблока дымок, курившийся в степи над его «этажеркой», — знак дальнейшей участи лейтенанта Дмитрия Комлева, ставшего теперь и «безлошадным», и погорельцем…
В лесопосадке, когда он до нее дошел, звенели бидоны, мелькали ящики, плыли стремянки: разведэскадрилья основными силами срочно выбиралась в Севастополь, на Куликово поле, оставляя на обжитой в стопном Крыму площадке небольшую группу.
Командир эскадрильи слушал сбивчивый доклад лейтенанта, опустив тяжеловатые веки, воротил голову в сторону. Сквозь пергамент опущенных век проступал рельеф его крупных глазных яблок, настороженно ходивших.
— Бог шельму метит, — сурово сказал командир.
Комлев струхнул: прозорлив командир!
Однако выждал, и хорошо сделал! Возмездие обещалось «мессерам».
Посулив бандитам кару, командир как бы позолотил пилюлю, предназначенную собственно лейтенанту:
— Останешься караульным начальником. Будешь охранять самолетные стоянки.
Вместо пистолета, оборвавшегося при вынужденном прыжке под Ятранью, Комлеву выдали винтовку образца 1891–1930 годов. С этой винтовкой на плече он обходил вверенные ему посты. Встречал «девятку»: она после работы заруливала на свое место, покачивая двуперым задом. Он останавливался, подолгу на нее глядел.
Необычной делали машину хвост и нос: передняя кабина, напоминая карандашный наконечник, с некоторой задорностью приподнималась к небу в бликах плексигласа и дюраля. Хвост же, расщепленный надвое, напротив, тяготел к земле. Как бы припадал к ней, сообщая силуэту самолета затаенную готовность к прыжку.
Первым из ее загадочной утробы обычно выныривал третий член экипажа, располагавшийся в хвосте. Шлемофон не по размеру, сдвинут набок, в руках наготове — пук ветоши. Как заботливый папаша укромным жестом вытирает нос сыночку, выведенному на люди, так и он: смахивал, не задерживаясь, проступавшие на голубых капотах рыжие подтеки масла, отойдя для лучшего обзора в сторону, вглядывался: нет ли пробоины? Это был техник звена, звеньевой, старший воентехник Урпалов, летавший иногда вместо стрелка-радиста. За ним, по откидной рифленой лесенке, сходил штурман. Последним — летчик, командир экипажа. Летчик устало стягивал шлемофон, бритый череп и плотная фигура придавали ему сходство с инженером-футболистом из кинофильма «Вратарь».
На фоне выступающих из фюзеляжа антенных стоек, растяжек, трубочек, рамочек, других устройств неясного назначения мужское трио группировалось под прозрачной кабиной на васнецовский лад как сила, одолевшая, взявшая в свои руки новинку нашего самолетостроения, пикирующий бомбардировщик ПЕ-2, в просторечии «пешку».
— А вы, товарищ, — обратился звеньевой к Комлеву в первую же их встречу, — учтите: объект — государственного значения.
— Частную собственность не охраняем, — прервал его Комлев.
Задержавшись строгим взглядом на фигуре караульного начальника, капитан внушительно проговорил:
— Го-ло-вой ответишь! — и прошествовал мимо.
Так они встретились.
Теперь, зарулив, экипаж капитана Крупенина молча направлялся в летную столовую, а Комлев — обходить посты.
Базовый аэродром пылил, гудел, раскаленные патрубки извергали цветное пламя, земля подрагивала от взлетных усилий тяжелых машин, поднимавших бомбы из Плоешти и Констанцу; трудной была жизнь, которой жили здесь другие, опасной, смертельно опасной… но она была для Комлева тем единственным и необходимым, что могло поставить его на ноги, вернуть душевное спокойствие…
Гол как сокол.
Без кольца, без парашюта, без самолета.
Задумавшись однажды на ночном аэродроме, он так ушел в себя, что не заметил катившего за спиной на малом газу бомбардировщика. Черная тень крыла пронеслась над ним, как коса, воздушная струя сорвала с головы пилотку, он долго искал ее, ползая в темноте, извозился, взмок. «Загнали под лавку», думал он, с непокрытой головой сидя на земле, не зная, кому, зачем он нужен, вообще нужен ли…
Все потеряно, все.
Установка командиру «девятки» капитану Крупенину была: поддержать!..
В ту долгую сухую осень эта команда, — она же просьба, она же заклинание, — слышалась часто, а в данном случае она означала: поддержать эскадрилью, поддержать крымский плацдарм, поддержать войска надежной разведкой.
Все внимание — ей, разведке.
Выполняя разведку, помаленьку готовить себе замену.
«Не задержим, — обещали Крупенину. — Подберешь, натаскаешь нового командира экипажа, летчика, — все, свободен, возвращайся к своим».
Преемником капитана назначили младшего лейтенанта Аполлона Кузина, истребителя. «Лучший разведчик, воспитанник эскадрильи», — представили его Крупенину. К физиономии Аполлона, смурной, с шафрановым отливом, имя греческого бога не шло, все называли его по усеченной форме: Кузя. Как и Комлев, Кузя ходил в «безлошадниках».
Воентехник Урпалов допустил Кузю к своему «кондуиту» о самодельных, из алюминия, корочках с защелкой. Этот карманный сейф, хранилище секретов авиационной новинки, он смастерил, склепал еще во время стажировки, когда группу военных техников и инженеров из строевых частей командировали на завод, для изучения нового самолета конструктора Ильюшина — штурмовика ИЛ-2. Потом планы командования переменились. Урпалова в числе других специалистов, уже проникшихся к ИЛу интересом и симпатией — прост в эксплуатации, надежен в воздухе, — направили практиковаться на завод, выпускавший пикирующий бомбардировщик ПЕ-2. Воентехник не был легок на подъем; переезды с завода на завод, неустроенная, полуказарменная жизнь на городских окраинах, где выпадавший ночью снежок к полудню чернел от заводской копоти и где в морозном воздухе сутками висел не замечаемый горожанами тягучий гул авиационных моторов, проходящих стендовые испытания, — эту бивачную, в долгом отрыве от семьи жизнь скрашивало чувство собственной нужности, полезности, которое испытывал Урпалов, приобщенности к святая святых оборонной промышленности. И сейчас, когда они вдвоем с Кузей устраивались на отстойных ведрах в дальнем конце обезлюдевшей, белесой от гальки и пыли стоянки, уединенность, старательно ими оберегаемая, обретала значительность. Воентехник проверял Кузю и по текущим событиям. Поскольку обсуждать наши дела под Смоленском или Брянском особенно не приходилось, звеньевой выдвигал на первый план положение под Тобруком. Комиссар поручил Урпалову высказать перед строем солидарность героическому гарнизону Тобрука, Урпалов выступил, и с того дня Тобрук — его конек.
Книжицу — хранилище секретов — Урпалов из рук не выпускал, просвещая Кузю с голоса. Бубнил цифирь, узлы, схемы. Когда вблизи появлялся Комлев, выжидательно умолкал. Он верно определил шаткое положение «чужака», в которое был поставлен Комлев, и держался с ним соответственно: на людях не замечал, при встрече с глазу на глаз сохранял дистанцию.
Капитан Крупенин делил собратьев по профессии на тех, кто летает «подходяще», и таких, кто летает «слабовато». Глянув на Кузю, своего преемника, в воздухе, он, не входя в детали, крякнул: «Слабовато!» В округлом лице капитана Крупенина проглядывало добродушие, свойственное натуре, он как будто этого стеснялся: чтобы придать своим суждениям категоричность, а выражению лица твердость, капитан строго поджимал полные, обветренные губы, и тогда на лице появлялось неопределенное выражение готовности прыснуть от смеха или зло выругаться. И на земле, в укор командиру эскадрильи, он повторил: «Слабовато», поджав в подтверждение губы. «Но будем тянуть?» — с надеждой спросил командир эскадрильи. Капитан ответил тяжелым молчанием…
Вскоре тренировки с Кузей прервались: признак вражеского вторжения, витавший некогда над Крымом и в образе греческой галеры, и мамаевым табуном, и половецкой ратью, ожил, приняв осенью сорок первого года вид десантных планеров, позволивших батальонам рейха бесшумно взять британский бастион на Средиземном море остров Крит, и потому слухи о вражеском десанте в Крым, живучие, как головы Змея Горыныча, держали в напряжении наш штаб. То поступало сообщение, что итальянские транспорты с техникой и людьми, миновав Дарданеллы, следуют курсом на Севастополь. То на бухарестском аэродроме отмечалось небывалое скопище транспортных Ю-52, предназначенных, как известно, для переброски парашютистов. То под Евпаторией схвачены диверсанты, доставленные подводной лодкой с запасом дымовых шашек и опознавательных ракет…
В ответ на все эти сигналы «девятка» молнией уходила в небо.
От Арабатской стрелки до мыса Феолент, от горы Митридат до Каркинитского залива прочесывала опа укромные бухты, безлюдные плато, глухие ущелья. Призрак вторжения угрожал полуострову современными средствами, воительница «девятка» — единственная на весь центральный Крым — выступала с ним на равных: двуперая, два сильных, певучих мотора, три пары глаз на борту, фотокамера, которая не лжет, и — скорость, скорость!.. Всюду поспевая, все высматривая, она не оставляла уголка, где бы мог укрыться опасный враг. За капитаном Крупениным утверждалась слава первого разведчика; он, правда, выслушивал хвалу со свойственным ему выражением готовности рассмеяться и возмутиться одновременно…
Продолжив между делом обучение Кузи, капитан заметил:
— Жить захочет — сядет…
«Спарок», то есть учебных самолетов с двойным управлением — для инструктора и новичка, промышленность не выпускала, и очередной кандидат в летчики-пикировщики оказывался на птичьих правах. Точней, на пассажирских: для него освобождалось круглое сиденьице штурмана, обучаемый занимал его рядом с инструктором как пассажир налегке, складывая на коленях ничем не занятые руки.
Одно немаловажное достоинство за Кузей было: рост. Как раз то, что требовалось. Выдавалась свободная минутка, они взлетали не мешкая: штурманское сиденье, служа ученику, не поднималось, не опускалось оставалось на одном уровне. Это капитан ценил. Взлетали, строили «коробочку», и Кузя, вчерашний истребитель, на глазок, будто на шоферских курсах, перенимал, как ему управляться с пикирующим бомбардировщиком.
Комлеву оставалось созерцать все это.
Наблюдатель он был пристрастный…
Помимо военной, «пешка» несла в себе еще тайну инженерного творения, открытую небожителям — заводским летчикам-испытателям или таким орлам, как капитан Крупенин… С робостью взирал на нее лейтенант Комлев, рядовой армейский пилотяга. Полную власть над ним «девятка» забрала, продемонстрировав свою живучесть. Поджарая, дымя на предельном режиме моторами, ускользала она от «мессеров», принимала прямые удары зенитки — и ни разу не упала и не вспыхнула…
Но была еще одна тайна — тайна возможностей. Ее, «пешки», боевых возможностей, его, Комлева, летных возможностей.
Казалось бы, она доступна, открыта ему, летчику, эта тайна неба, где все происходит без свидетелей, но в действительности, при всем его желании, он с трудом мог представить себя за штурвалом новинки, созданной, как выяснилось, в том же КБ, откуда вышел легендарный моноплан для чкаловского прыжка через полюс.
Встречать «девятку», видеть ее после кратких утренних сводок Совинформбюро, смахивать с нее тряпочкой пыль, проходясь от «дутика», хвостового колеса, до винтов, было приятнейшим занятием Комлева. Над шасси черной краской пущен пунктир — вспомогательная, подсобная для летчика метка. Черным по голубому. В одном месте краска сгустилась, потекла, нарушив строгость вертикали, но кто-то от руки — это видно, — вручную тонкой кисточкой покрыл подтек. Комлев ногтем сколупнул дегтярную каплю, засохшую под голубенькой коркой; радостно было ему находить такие следы чужого участия, чужих забот на теле «пешки»…
Он свыкался понемногу со своим положением, обходился без товарищей, без их привычной помощи и поддержки; сам подхватывал парашют капитана и тащил его со склада к «девятке» (как в его экипаже делал это стрелок-радист), разузнавал, нет ли писем Крупенину, спешил первым встретить летчика, порадовать треугольничком из тыла…
Однажды экипаж «девятки» был поднят по тревоге, поднят из-за обеденного стола, — как ветром сдуло капитана Крупенина. Борщ на троих какое-то время дымил, не тронутый, как случалось, когда завязавшийся над аэродромом воздушный бой требовал взлета всех наличных истребителей; они вскорости возвращались, продолжая обед, и стыла в неприкосновенности тарелка товарища, которому не повезло… Истекло время разведки, стемнело, столовая закрылась — «пешка» не вернулась, и Комлев снова видел, как пригибает головы короткая и страшная весть, как она разводит, разобщает людей, какое воцаряется молчание…
«Лучше бы они ко мне не садились, — всхлипывала официантка. — Теперь все будут меня избегать, но ведь я не виновата, правда?»
Ночью пришло сообщение, что Крупенин вынужденно приземлился на яйле: не хватило горючего.
Прилетев, капитан снова взялся за Кузю.
Вздыхал:
— Жить захочет — сядет…
— Один мотор в руке или два — разница, — осторожно посочувствовал ему Комлев, понимая, что его собственное беспросветное положение не изменится, если сам он не переступит порог, которого в жизни еще не перешагивал: если сам не станет просить за себя.
— Другой обзор, другой горизонт, — продолжал Комлев рассудительно… Все другое… Крутящий момент винтов, — нажимал он на профессиональные тонкости, на специфику двухмоторной машины, будто бы ею одной озабоченный. Пока приноровишься…
— Долга песня, долга… Он в конечном-то счете сядет. Сядет… Но все натерпятся такого страху, что на разведку пошлют — кого? — Крупенин характерным для него образом поджал губы. — Опять же товарища капитана Крупенина.
— А если рискнуть… товарищем лейтенантом? — через силу сказал Комлев, смягчая резкость стопроцентвого почти отказа тем, что поименовал себя в третьем лице.
— Дать тебе один полетик?
— Четыре, — выговорил Комлев тихо. Господи, к чему война не принудит человека: Комлев клянчил, с гримасой, в которой можно было распознать и улыбку. — Для ровного счета — пять.
— Слушай, что врут про тебя, а что правда?.. Ты, собственно, откуда?..
«Пустить слезу? — ободрился маленьким своим успехом лейтенант. Разжалобить? Дескать, мать-старушка, семеро по лавкам плачут? А в Старом Крыму базар недорогой, собрал гостинец… — У него бы это получилось, он чувствовал себя способным искушать. — О яблоках, о Симе, разумеется, ни звука».
— Товарищ капитан, машина секретная! — бесом вырос между ними воентехник Урпалов. — С меня расписку взяли! Разглашать посторонним не имею права!.. Сожгли или сам упал, тоже бывает, тоже случается, — не знаю. А только без приказа — не могу. Не имею права.
И Кузя — тут как тут.
Нездоровая желтизна его лица сошла, поблекла, облупившийся нос пуговкой еще больше оттенял вдруг выступившую худобу и усталость. Должно быть, он все слышал и не смел открыть рта, но не потому, что трудно просить за себя, а потому, что не оправдывал надежд, возлагавшихся на него как на летчика. Понял это и капитан.
— Летчик на земле тощает, — сказал Крупенин примирительно. — Летчика исцеляет воздух… Вот что, лейтенант, я тебя как-нибудь проветрю. В связи с обстановкой, — добавил он неопределенно.
Звеньевой молчал, Кузя вид имел убитый.
Дождался своего часа Комлев, занял место в «девятке» на круглом сиденьице штурмана.
— Упрятываем шарики в кулак, — наставлял его капитан перед ознакомительным взлетом, демонстрируя, как на эстраде, умение накрыть ладонью черные бабошки секторов. — Забираем все своей мозолистой рукой, и в гору.
В полете капитан выкладывался весь, без остатка; перед посадкой как бы усаживался в кресле заново, несколько боком, гак ему было, видимо, удобней; нацеливаясь на белые лоскутья далекого «Т», отдавал себе распоряжение:
— Будем подкрадываться!
Цветущее лицо Крупенина серело, вялость кожи бросалась в глаза, короткие брови щетинились, как спросонок. Легкости, артистизма, которых почему-то ждал от него Комлев, не было и в помине, «пешка» забирала все силы Крупенина, требовала больше, чем он имел…
Капитан же с первых минут полета почувствовал в Комлеве хватку. Спокойствие, глаз, руку. Но вида не подал.
— Пока освоишься, — предупредил он лейтенанта, — на других не рассчитывай!
— Не понял.
— Самостоятельно полетишь сначала один.
— Опять не понял. Без экипажа?
— Один. Штурман и стрелок перекурят это дело на земле.
— Понял, — принял условие Комлев: в случае какой промашки, люди не должны страдать.
— К крану шасси — не прикасаться. Полетишь на задание — пожалуйста, а здесь, дома, гидравлику не трогать…
Конечно, поскольку «девятка» работает на весь Крым, а «зевнуть шасси», то есть отвлечься при крутом ее снижении к посадочной полосе, промедлить с выпуском колес, растеряться и в мгновение ока наломать дров — ничего не стоит, то, во избежание греха, колеса не трогать. Пусть торчат, выпущенные, как у немецкого «лапотника» «ю — восемьдесят седьмого».
Комлев, разумеется, и тут кивнул, поддакнул. Первый его вылет на разведку прошел спокойно.
— За Днепром зенитка попукала, — делился Комлев впечатлениями, скидывая, как бывало, теплый комбинезон и надевая реглан (теперь он снова был в своем кожане).
Воентехник едва дослушал лейтенанта:
— Капитан-то Крупенин — отбыл!.. Подхватили прямо отсюда, на попутном «Дугласе». Пообещался меня отозвать. Как специалиста с опытом… Пообещал, не знаю… А истребителя, Кузю этого, пусть, говорит, до ума доводит Комлев… Так он сказал.
Техник был обескуражен.
Осматривая «девятку», скрылся в бомболюке, а вышел оттуда — сам не свой:
— Ну, стерва, ну, сильна! — заголосил он издали, поднося лейтенанту на ладони зазубренный осколок величиной с черное семечко, — осколок выдохся на расстоянии волоска от взрывателя бомбы, зависшей под животом самолета. — До чего же она все-таки у нас с тобой живуча, товарищ командир! — проникнувшись сочувствием, звеньевой растроганно улыбался.
…На левом двигателе «девятки» кончился моторесурс.
— Мотор заменим, пошлю на разведку Кузю, — объявил Комлев.
— Считаешь, готов?
— Считаю.
— Смотри…
Урпалов отправился на склад.
Утром, разбив заводскую обшивку, новый мотор на руках снесли под крыло; по развалу цилиндров медленно скатывались тяжелые капли росы, и звеньевой, грешная душа, осенил обнову крестным знамением.
— Последняя замена, — сказал он. — Если теперь к своим не укачу, тогда не знаю…
Он был хмур, посторонних разговоров с помощниками не вел, только с Комлевым, никуда, кажется, не отлучался, все новости знал.
Днем он вежливо спровадил командира отдыхать, на ночь глядя Комлев появился снова.
Заголив по локоть тонкие руки, воентехник бренчал в ведре с бензином сливными краниками, продувал их, вставляя в рот как свистульки. «Коленвал смазан?» — намечал он очередную операцию. «Готово. Будем ставить винт». Взобравшись наверх по козлам, спросил: «Правда — нет, лейтенант, будто в эскадрилье, на Куликовом поле, подарки давали?» — «Правда». — «Мы, значит, опять ни с чем?» — «Дело такое, — сказал Комлев. — Или подарки получать, или здесь базироваться». (Комлев опасался, что на Куликовом поле, куда их зазывали, «девятку» у него отнимут.) «Обидно, товарищ командир. Вкалываем, вкалываем, а ровно как не воюем… Подняли!» Он свисал головой вниз, голос его звучал натужно. «Деревяшку!» Звеньевому подали увесистую чушку. Он постучал ею, спустился вниз. «Ну, — чтобы не бездельничать, — где ключик на одиннадцать?» — бодро спросил Комлев. «Все разложено, — остановил его звеньевой. — Ключики, болтики — все… Хозяйство не ворошить».
Невидимое во тьме хозяйство Урпалова располагалось на местах, выбранных заранее и с расчетом: в металлическом корытце, на брезенте, на ступенях стремянки. Без этого условия вести работы в кромешной тьме было невозможно. Три пары рук приращивали моторную станину к раме.
Новый мотор, пока не поставлен, не облетан, — загадка, и вся ответственность на звеньевом: он выбирал. Угадал или нет? — вот вопрос, какие бы слухи насчет сивашского рубежа обороны ни гуляли.
Навесили, затянули винт. Не бьет? То есть одинаково ли удалена каждая из его лопастей от острия неподвижно поставленной отвертки? Когда подошла третья лопасть, за их спинами над большаком поплыл моторный гул.
Воентехник распрямился, держась одной рукой за винт.
Комлев тоже замер.
Это могли быть немцы, танкетки немецкого воздушного десанта.
Если саперы на болыпаке завяжут бой, надо уходить.
Гудение возросло и прокатилось, затихая.
Пальба не началась.
Комлев неслышно перевел дух.
Урпалов принюхался, где у него тавот, где масло.
Масло ему не понравилось, распорядился прикатить другую бочку.
Они остались в темноте вдвоем.
На севере, в той стороне, куда прогромыхала наша мото-мехколонна, по краю неба занимались и гасли медленные фиолетовые зарницы.
— Будто хлеба выспевают, — заметил Комлев. — Это перешеек горит, возразил Урпалов. — Не все на земле ошиваются, — продолжил он, не зная, на ком сорвать злость. — Там, говорят, ИЛы работают. До того будто доходит, что рельсы к хвостам самолетов привязывают и теми рельсами боронуют стоянки немецких аэродромов…
Они долго смотрели на всполохи осенней ночи, в тревожном свете которой домысел Урпалова о летчиках-штурмовиках обретал черты правдоподобия, реальности, — как все, что способно было противостоять и противостояло вражескому нашествию.
— ИЛ не мой самолет, — проговорил Комлев. — Не нравится мне «горбатый». На ИЛ я не сяду. Хоть в штрафбат, хоть куда — не сяду.
Он под звездами вышел к своей палатке, прикорнул у кого-то в ногах.
— Лейтенант, а, лейтенант, — тут же затормошили его, — на стоянку!
Светало, над степью гулял ветерок. Первое, что увидел Комлев за хвостом «девятки», была витая нитка небесного канта авиационной фуражки, сформованной на особый манер, с высоко поднятым задником; так носил фуражку единственный знакомый ему человек — генерал Хрюкин.[1] И это действительно был он.
Хрюкин командовал авиасоединением, в состав которого входил полк, где служил Комлев. Вряд ли помнил генерал их короткую встречу под Уманью. Момент был тяжкий… Каждого, кто возвращался и докладывал ему, Хрюкин спрашивал об одном: «Что наблюдали?.. Покажите точку удара!» Его окружали командиры штаба, он смотрел не на летчика, не на штурмана — в карту. Весь был в ней, в быстрых микросмещениях линии фронта. Надежд они не оставляли.
Когда подошла очередь Комлева, генерал отвлекся от планшета: «Высоковато подвесили, товарищ лейтенант! — Стало быть, видел его посадку. В моложавом лице Хрюкина просвечивала горечь, пережитая с такой силой, что, вероятно, и в добром расположении духа следы ее смягчаются не скоро. — Или не вы сажаете самолет, а самолет сажает вас?»
Комлев знал, что приземлился грубо, с высокого выравнивания, но, весь под впечатлением Умани, понесенных группой потерь, досадовать на себя или на посадку не мог; и то, что генерал желчно выговаривал ему за скверный подход к земле, не задевало Комлева: суть была не в словах генерала, не в посадке, а в сломанной линии фронта, в отчаянном положении нашей пехоты, зажатой в танковых клещах врага…
С какой целью появился Хрюкин сейчас в степном Крыму, Комлев не знал.
— По сводке задействованы две машины, фактически в строю ни одной. Причина? — спрашивал генерал, обнаруживая знание дел в эскадрилье.
Приподняв подбородок, он косил внимательный глаз на звеньевого.
— За эскадрилью не скажу, товарищ генерал, мы у них пасынки, а на «девятке» моторы стоят. Так что… — Отступив в сторону, чтобы не загораживать самолет своей сухонькой фигуркой, воентехник указывал на него глазами.
— Резервный командир готов? — спросил Хрюкин. — Ко мне… Экипаж сколочен? Сработался?
— Сменщики наши пока что не крещеные, — уклончиво ответил Урпалов.
— Сменщики остались в цеху! В профячейке. А в армии, товарищ старший воентехник, существует боевой резерв, который в плановом порядке формируется командованием…
— Резервный летчик взлетает и садится грамотно, — вставил Комлев. — Но — один.
— Что ж такого, что один. — Хрюкин всматривался в запотевшие грани узкой кабины «девятки», и неожиданно: — Для генерала место найдется?..
«Уходим, — не поверил собственным ушам Комлев. — Берем генерала на борт, с ним уходим…»
— А если каждый будет хапать, что под руку попадет, — продолжал Хрюкин, — выезжать на готовеньком, то много мы не навоюем. Нет. Все профукаем… Все! — возгласил он с пугающей злой веселостью.
Восемь лет назад Тимофей Хрюкин, самый рослый среди курсантов летной группы, впервые был поставлен в голову траурной колонны. Держа на ладонях фуражку инструктора красной звездочкой вперед, он по булыжной мостовой степенным шагом выводил печальную процессию к городскому кладбищу. Самолет свалился в штопор средь бела дня, на учебном «кругу», и первой рванулась с места, скинула с себя оцепенение комиссарская «эмка», помчавшись в ДНС, куда страшные вести доносятся словно бы взрывной волной, и женщины, бывает, кидаются в садик за детишками или к проходной училища. Комиссар, говорят, поспел вовремя. Авиаторов в городе любили, на похороны высыпал и стар, и млад. Очутившись в центре внимания, Хрюкин боялся не так ступить, не туда повернуть. На кладбище, в лабиринте могил с деревянными пропеллерами вместо надгробий, он следовал тихим командам распорядителя, отлаженному механизму похорон… Братские могилы. Летчики, штурманы, техники. Сколько их?.. Отряд? Эскадрилья? Газеты о них не писали, радио не сообщало. Он дошел до указанного места, встал. На откинутой глине белели расправленные веревки. «Нелепый случай…», «Тяжело сознавать…» — говорили ораторы. Он слушал, как если бы они обращались к нему одному. Однако никто ни единым словом не заикнулся о том, что камнем легло ему на душу. Что авиация — не только взлет, признание, слава, но также и возможность раннего расчета с жизнью. Без всякого в ней следа. Вот он перед глазами, наглухо забитый гроб с останками.
Дыхание такой угрозы в дальнейшем не раз обдавало летчика Хрюкина. На взлете, на посадке, на полигоне… проносило. Терял товарищей, терял и нелепо: под винтами на земле, при столкновениях в воздухе. И каждый раз, отдавая им последний долг, задумывался о том, что поразило его в день первых похорон; тайное, долгое, но доходившее до конца раздумье…
Двадцатого июня сорок первого года ему исполнился тридцать один год.
Он собирался отметить событие в своем кругу, дома, на улице Серова, как был назван после гибели Анатолия старинный бульвар в центре Москвы, сбегавший от памятника героям Плевны вниз, к Солянке. Но из друзей, из близких в городе почти никого не оказалось, и двадцатого июня, в день своего рождения, прихватив в дорогу однотомник «Биографий» Плутарха, он, командующий ВВС 12-й армии, выехал из Москвы к месту службы, а на рассвете двадцать второго наземная армия, которой были приданы вверенные ему авиационные части, подпала под танковый таран врага… Все стало дыбом, перевернулось. Его передовые аэродромы, смятые бомбежкой, утюжились гусеницами, все пережитое им за восемь лет службы не могло даже отдаленно сравниться с тем воскресным утром… Смещаясь с горсткой своего штаба к Днепру, он делал все, что посильно человеку в условиях ада. Восстанавливал, налаживал, отводил, перебрасывал, маневрировал. Не зная общей картины, без информации, без связи. Его истерзанные полки получали распоряжения, о которых он, командующий, не знал, не мог знать, или они доходили до него с опозданием; однако ответственность за все, что творилось, не становилась меньше, напротив. Этими днями его перевели в штаб ВВС фронта. Должность в приказе определена торопливо, непродуманно: зам. командующего по боевым потерям. Он возразил против такой формулировки, попросил ее изменить, с ним согласились, но смысл вынужденной, непредусмотренной штатным расписанием должности, ему порученной, понятен: проведение срочных мер по пресечению потерь. И по строгому их учету. Учет, учет! Чтобы было ясно, с кого спрашивать, кому за потери отвечать… Он вспомнил скопище наших И-16, стянутых под Казатин. Получив команду на отражение подходивших «юнкерсов», летчики в очередь ждали, когда освободится единственный автостартер, от которого запускались моторы. А немцы подходили волнами, ритмично, выдерживая график.
Облетывая на ПО-2 полки и дивизии, он одновременно с наведением порядка, с организацией взаимодействия собирал все, что уцелело, что может быть снова послано в бой. Наша новинка, пикирующий бомбардировщик ПЕ-2, зарекомендовавший себя в борьбе против танков, — в особой цене. Москва требует отчета по каждой единице в отдельности… А какая ложится нагрузка на экипажи, с каким напряжением они работают. Для «пешки», отыскавшейся под Каховкой, бомбы складывались штабелями, как дрова, после каждого вылета экипаж прируливал к тротиловой грудке, собственными силами, в три пары рук, загружался, взлетал.
Поскольку его информировали о ПЕ-2, отошедших на Крымский полуостров, он сегодня с рассветом на своем самолете наведался и в Крым. Одну «пешку» обнаружил в Джанкое, другая — здесь, на стоянке разведэскадрильи.
— А я, значит, собирай всех, как Иван Калита… — продолжал Хрюкин. Давно в Крыму?
— Второй мотор сменили, — воззвал к его сочувствию звеньевой. — Все вылеты в режиме форсажа, исключительно. — Лицо воентехника обидчиво ожесточилось.
— Штаб запросил обстановку на шесть ноль-ноль, — сказал Хрюкин.
«Не уходим», — понял Комлев.
— Но сейчас не ясно, куда двинет противник: мимо Крыма, не задерживаясь, по берегу на восток или ударит на Перекоп.
Обстановка противоречива, единого мнения нет. Наземное командование ждет, что даст разведка на «девятке»…
«Пешка» в Каховке требует заводского ремонта, «пешка» в Джанкое сидит без моторов. В строю из его находок — одна «девятка». Одну «девятку», как бы ей не распорядиться, он может показать в активе.
— Мотор не облетан, — сказал Комлев.
— Кстати, вашего крестного, Крупенина, я поставил на полк, — уведомил его Хрюкин. — Я обговорю и ваше немедленное ко мне откомандирование… Но самолет с необлетанным мотором в неопытные руки не сбывают… Так? Я имею в виду, порядочные люди не сбывают…
— Совершенно согласен.
— Мотор — облетать. Вашего штурмана с картой и вновь испеченного летчика-пикировщика — ко мне.
В одобрении лейтенанта генерал, естественно, не нуждался; больше того, кивком головы он отпустил Комлева:
— Пожалуйста!
Что означало сие «пожалуйста»?
Комлев рассудил так: пока его штурман и резервный командир Кузя обсудят с генералом маршрут предстоящей разведки, он опробует в воздухе мотор. После чего дозаправится и… прощай, Крым?!.
Со своего места в кабине Комлев показал на пальцах: два. Два круга!
Хрюкин, отставив развернутую карту, приподнял в его сторону подбородок.
Что-то в генерале настораживало Комлева.
Что-то его задело, что-то ему передалось.
Неудовольствие? Сомнение? Протест?
Против ожидания, Хрюкин тут же сам показал ему пятерню.
«Пять минут, — понял Комлев. — Даю пять минут».
Не властным, не суровым жестом матерого РП, руководителя полетов, а коротким, низким, как шлепок под зад, Хрюкин подтолкнул его на взлет.
Сомнение, отвлекшее было летчика, рассеялось.
Пошел!
Он видел все, но слухом был прикован к левой стороне, к левому мотору.
Шасси убрались мягко, с легким перестуком; в привычную для глаз мозаику приборной доски вкрапились три ярких красных огонька, они сказали: передние колеса и хвостовое, «дутик», убраны, втянуты, схвачены замками. Снаружи их не видно.
«Девятка» пласталась — так он чувствовал ее стремительный, низкий над землею лет; левый мотор, вчера весь день открытый, обрел под капотами картинную слитность с крылом, внешний вид красавицы — безупречен. И внутри все в привычной неизменности. Гуляет ветерок в кабине, завихряется, по временам не обвевает, а сечет лицо — плохо задвинута боковая створка штурмана. Но до нее ему сейчас не дотянуться.
Разведка отучила Комлева от низких, крылом в землю, разворотов, высота же ему сейчас не подходила: и времени в обрез, и — риск. На высоте он открыт, отовсюду виден, может накликать на свою голову «мессеров», — повадки шакаливших на рассвете патрулей ME-109 ему известны.
Поглядывая в хвост, Комлев подумал, что все-таки зря он поторопился, не взял в облет стрелка-радиста.
Пустующее справа круглое штурманское кресло с неплотно прикрытой боковой створкой непривычно расширило обзор.
«Лучше бы стрелок был на месте, лучше бы штурман смотрел по сторонам».
Но в этом винить лейтенанту, кроме себя, некого.
Еще круг. Еще.
Четыре широких, растянутых круга, нечто вроде контрольной площадки перед маршрутом… возможно уже не его маршрутом — Кузи?..
«Девятка» показывала себя молодцом.
В моторе старший воентехник и на этот раз не ошибся. Все, садимся.
Решено: на разведку идет Кузя.
Комлев выпустил шасси.
На приборной доске вспыхнул одинокий зеленый глаз, — это далеко за спиаой выполз наружу и встал на свое место «дутик», хвостовое колесо.
Сигнальные лампочки передних стоек шасси не горели — передние колеса воле летчика не подчинялись, они не вышли.
Давление в гидросистеме — ниже нормы.
Он продвинулся на сиденье вперед, увидел запыленную, чугунной твердости резьбу покрышек… вывалившись из гнезд, оба колеса до своего места не дошли.
Кроме погасших лампочек, об этом говорила подсобная метка, черный пунктир на голубом фоне. Когда шасси выходят полностью, пунктир прям, как стрела. Сейчас пунктир надломлен, передние замки не сработали. Коснувшись земли, самолет всей тяжестью подомнет стойки, заскрежещет по грунту брюхом.
Сделав разворот, Комлев отыскал внизу стоянку.
Генерал, звеньевой, Кузя.
Связи с ними не было.
Была бы связь, он бы передал, в чем дело.
Догадаются, сообразят. Не сразу, но сообразят.
Короткими толчками штурвала Комлев потряс «девятку», вышибая из нее строптивый дух, ожидая, что цвет сигнальных лампочек переменится.
Картина не менялась.
Он перехватил в левую руку штурвал, дотянулся правой до рукоятки аварийного насоса, плунжера, два-три раза качнул его, как бы начав работать лучковой пилой и заново осознавая пустоту штурманского кресла.
«Ду-тик… вы-шел… ду-тик… вы-шел…» — качал он рывками, ободряя себя речитативом.
Разворот…
Он был стеснен, скован тем, что нет у него запаса высоты, чтобы качать, не отвлекаясь, не думая о том, что впереди Сиваш, а позади посты ВНОС[2] и зенитка и что шутки с зенитчиками плохи, особенно если не дано предупреждение и он выскочит на свою зенитную батарею бреющим полетом. На высоте ему бы открылось море; в детстве оно шумело и плескалось где-то далеко и — отдельно, независимо от реки, на которой он рос, и здесь, когда впервые раскинулась перед ним даль этих вод, таивших в игре теней и солнца опасность, отлогий волжский плес в его памяти не шевельнулся.
Любил реку, а пот проливать пришлось в небе.
«Ду-тик… вы-шел… ду-тик…»
Удерживая одной рукой машину, он работал аварийной рукоятью, как пилой-лучовкой, но теперь размеренней, тяжелее, не упуская ходивший вверх и вниз горизонт сквозь затекавший в глаза пот.
Толчок «от себя» был полновесным, «на себя» — слабее, тут он не дожимал.
Он покрепче уперся в педали, сил не прибавилось. Усталость, которой он вначале не замечал, поселилась в нем, все выгрызая. Он выдохся до разворота, толкал рычаг полулежа, разведя руки, как распятый перед «мессерами» подходи, бей; под Старым Крымом он их прошляпил, а сейчас если и увидит вовремя, будет так же беспомощен, и причина тому — он, Комлев. Разведчик, единственный экипаж, которого ждут на земле, завис над пустынной яйлой, оставив без надзора южный берег, откуда возможен десант. Завис, чтобы грохнуться.
Когда-то Комлев помышлял об истребителе — все немногое, что он слышал и знал о летчиках, сводилось к подвигам истребителей. Героем воздушных ристалищ и легенд был доблестный истребитель. Он один. Комлев к нему и применялся. Тот же Чапай, но, в духе времени, не на коне, а в небе. «Один на лихом „ястребке“». А военком поделил список на две половинки, и он оказался в училище, выпускавшем летчиков-бомбардировщиков. Эта чужая воля, проявившись внезапно и бесповоротно, сильно подействовала тогда на Дмитрия Комлева. Жить хотят все, садятся не все.
Чума болотная, клял себя Комлев, оставить штурмана на стоянке!
Возле этой тугой, неподатливой штуки надо быть вдвоем. Надо шуровать ею в две руки, как предписано. Штурман, будь он рядом, навалился бы, дожал. Или звеньевой… Капитан сказал: когда техник летает на своей машине да посвистывает, тогда он нашего племени, мастер. Урпалов же в воздухе переживает, а на земле наверстывает, сказал капитан. Одному, похоже, этой каши не расхлебать. Разве что на живот… Поаккуратней. Стойки, пока подломятся, частично смягчат удар, крылья не длинные, крепкие…
В момент кончины самолет становится похожим на живое существо.
На границе, под Равой-Русской, после того как освеженную песком и мелом самолетную стоянку взрыли, вздыбили, перелопатили «юнкерсы», два наших белотелых бомбардировщика, сблизившись остекленными носами, распластались в лужах черного масла как гигантские земноводные, сползшие к водопою; истребитель с подломанной ногой поднял короткий хвост подобно окоченевшей птице…
«Девятка», согнув винты, зароется в пыль двухголовым бараном.
Мать написала: трофимовская Зорька принесла телка о двух головах. Вся Куделиха всполошилась, служили молебен. Беда, говорят, катит большая.
Вот она, его беда.
Он с трудом разогнулся.
Разворот.
Распустил привязные ремни, ближе к паху сдвинул упиравший в ребро пистолет, разомкнул грудной карабин парашюта — рассупонился.
«Сейчас или никогда», — сказал он себе, выходя на длинную сторону своего маршрута над аэродромом. Сомневался — так ли. Сейчас ли… Собирался с духом. Только бы спина не отказала. Только бы не подвела меня моя хребтина. Только бы не она… Вглядывался в метки, в их излом.
Вроде бы что-то сдвинулось.
Вроде бы угол изменился.
«Причина?» — «Невыпуск шасси», — слышался ему чей-то диалог. «По возвращении с задания?» — «Облет мотора… Задание не выполнено… До задания дело не дошло. Фронт остался без разведчика! Назначено расследование…»
От себя — к себе, от себя — к себе…
Этому будет конец?!
Дядя Трофим отговаривал его от училища… теперь с Трофимом не поспорить, помер, но не должно, чтобы его, Трофима, взяла. Двадцать второго июня, под Равой-Русской, когда они днем вернулись с задания, у него был убит штурман и не выпускалось правое колесо. Он кружил с убитым на борту, пропуская всех, чтобы не занять, не загромоздить посадочную, не представляя, как ее вспахали немецкие «восемьдесят седьмые», налетавшие в их отсутствие, — а потом притер-таки свою «двадцатку», и колесо, с таким трудом дожатое, угодило в воронку, «двадцатка» чудом не скапотировала, не вспыхнула, Конон-Рыжий от удара потерял сознание, техник выдернул его из-под повторно начавшейся бомбежки, уволок в щель, а его, Комлева, снова послали на задание. И они мстили, как могли, делали, что удавалось, и так до переправы через реку Ятрань, а под Ятранью, передавая своему технарю, чтобы сберег, комсомольский билет, командировочное и проездную плацкарту, в которых так и не отчитался, выгребая из карманов мелочь, он не стерпел, высказал в сердцах, что думал: как же это получается, к учениям не допускали, «подвел товарищей», а на переправу, где «мессера» и зенитки без просвета пожалуйста?! Не зря сказал, предчувствовал, как в воду глядел — сбили его, выпрыгнул… нашел своих, нагнал в Каховке, и в Каховке — на тебе, влепили «непонимание момента», сплавили. Но момент-то он всегда понимал и понимает, Момент в том, чтобы качать. Ему заказано качать, до последней капли качать…
«Девятка» в его левой руке шаталась, кренилась, теряла скорость, он выхватывал ее, — работал плунжером, качал. Одним Умань, другим Каховка, думал он. Одни дойдут, другие — нет, дорога одна. «Непосредственный виновник?» — звучал в его ушах диалог. «Лейтенант Комлев».
Внизу, на стоянке, осталось двое, третий куда-то исчез — к телефону?.. докладывать?.. Он не рассмотрел — кто, да и не старался. Генерал, конечно, здесь. На что-то надеется. На самолет, который, как он сострил в тот раз, под Уманью, сам сажает летчика… Отослав его давеча своим «пожалуйста», генерал ведь медлил, не решался, не выпускал. Теперь сочтет себя правым… Он и был перед взлетом прав… не совсем, не до конца… но был… не в этом суть, а в том, чтобы качать, сгибая рукоять в дугу, выламывая плунжер из гнезда, со штурвалом в левой, с плунжером в правой, до самой земли… от себя — к себе, от себя — к себе…
Мокрая ладонь скользнула, он завалился, медленно, в изнеможении приподнялся, переждал, перевел дыхание, поднялся еще. Сел, почти как подобало ему, командиру, сидеть, когда он, возглавляя, экипаж из трех человек, водил неуязвимую «девятку», и она, чуткая, податливая, словно бы выжидала, когда он останется с ней один на один. Дождалась. Странно, но вместе с силами Комлева оставил страх. Страх потерять, погубить этот металл — моторы, крылья, шасси; опустошенный, он испытал облегчение, оно длилось, может быть, миг, но этот миг поднял его, возвысил, он испытал презрение к себе за свою недавнюю жалость к «девятке»…
Он, наконец, распрямился в кресле, как старался все это время, упустив рукоять, сел, как привык, как ему было удобно, и увидел: подсобные метки сошлись, сомкнулись в вертикаль, похожую на поднятый шлагбаум, колеса вышли, встали на место.
…Багровый Хрюкин, непослушными пальцами потирая височную кость, молча всматривался в Комлева, доложившего ему, что мотор облетан.
— Покажи спину, — сказал Хрюкин.
— Мокрая, — ответил Комлев, не оборачиваясь, — до пят мокрый. В сапогах хлюпает.
— Перемотай портянки. Перемотай, перемотай… Рука не отсохла?
Комлев через силу согнул и разогнул, будто пудовый, локоть, пошевелил набрякшими пальцами.
…Три-четыре поворота ослабевшей гайки гидропомпы устранили неисправность и поставили «девятку» в строй.
В ее проверенных, приподнятых моторах играл задор.
Но Комлеву она постыла.
Он в ней изверился, не мог, не хотел ее видеть, думать о ней.
Урпалов, в предчувствии беды убравшийся подальше от начальства, был потрясен и возмущен случившимся.
— Что значит, лейтенант, о себе возомнить, о других не цумать! — безжалостно выговорил он летчику. — Освоил «пешку», так уже все нипочем, ухватил бога за бороду?.. Да в боевых условиях, хочешь знать, на одноместных ИЛах, если припрет, вообще без «спарки» обходятся… садятся и летят, да! И ничего, не кичатся!..
Дозаправились.
— Поскольку личная просьба… — объяснял ему Хрюкин свое последнее решение, лицо генерала помягчело, в нем была просительность. — Поскольку у экипажа «девятки» большой опыт… необходим еще один, последний, так сказать, прощальный разведмаршрут… Я дал согласие.
«Все решается на земле…» — думал, слушая его, Комлев, впервые понимая не утилитарный, как в командирском назидании: «Победа в воздухе куется на земле», смысл этих слов, а другой, более общий, вбиравший в себя и ослабевшую гайку гидропомпы, и ато согласие генерала, и то, что ждало его, Комлева, сейчас и в будущем… что ждало всех. И — нет, повторял он себе, не в небе, гимны которому он тоже пел, не в кабине, мифические таинства которой пахнут потом и выжимают человека как половую тряпку, — все решается на земле.
— Главное, — закончил свои наставления Хрюкин, — узнать, что на дорогах!.. Прочеши дороги внимательно… Превозмогая себя, Комлев поднялся в кабину. Штурман и стрелок-радист ждали его.
— Карта подклеена? — обратился он к штурману. — Как меня слышишь? — запросил по внутренней связи стрелка-радиста; они оба были рядом, на своих местах, и такой для него отрадой явилась эта простая возможность сказать им несколько деловых, служебных слов…
…Данные, собранные экипажем «девятки», подтвердили, что главные силы немцев нацелены на Перекоп.
Утром следующего дня, сдав самолет, Комлев попутным транспортом отбывал в свой полк.
Кузя, новый владелец «девятки», приволок к его отлету туго набитую парашютную сумку. Она была крепко увязана, поколебавшись, Кузя размотал бечевку, откинул клапан.
— Пробуй, — сказал он Комлеву. — «Кандиль». Старокрымский «кандиль-синап». Еще есть «сары-синап», мне этот больше нравится. Его за границу продавали.
— Когда успел?
— Успел? — Глаза Аполлона сверкнули. — Во-он в синей кофте, за кустом, видишь? Стесняется, дуреха. Мужа ищет… Пробуй, — повторил он, хрустя сахарной плотью и стряхивая с пальцев липкие капли. — «Кандиль» сорт крымский, больше его нигде не сыщешь.
Запах брезента, прогретого солнцем, возносился над открытой сумкой, перебиваясь ароматом прелого листа и меда, а Комлев заново расслышал тошнотворный дух спекшихся в тавоте, пронятых парами бензина яблок, разбросанных взрывом его сгоревшего ПО-2…
С этой дареной, бугристой, будто камнями набитой ношей Комлев пустился догонять своих.
* * *
Штаб авиационной дивизии, действовавший на одном из участков Южного фронта, ждал результатов бомбового удара по вражеским эшелонам с техникой, ставшим под разгрузку. Первые известия поступили из бомбардировочного полка, куда на должность командира звена прибыл лейтенант Комлев. Дежурный по штабу, не дослушав сообщения, прервал говорившего: «Докладывайте „Триссе“ лично, соединяю…» — и протянул трубку командиру дивизии; штабной закуток землянки насторожился.
— «Трисса» на проводе, «Трисса», — досадливо подтвердил свой новый позывной командир дивизии подполковник Василий Павлович Потокин. Лучшие кодовые имена заимствуют у пернатых: «Орел», «Сокол». Хороши и реки; в спецкомандировке Василию Павловичу подкинули однажды «Прятву», ва Прятве он родился…
Но смелые птицы наперечет, родная речушка одна, и вот, не угодно ли: «Трисса». Сподобят же, господи.
— Кто на проводе? — переспросил Потокин, меняясь в лице. — Лейтенант Комлев? Где капитан?.. Капитан Крупении где, спрашиваю! Нет Крупенина?!.
«Крупенина! — эхом отозвался закуток, — Командира полка!»
— Докладывайте, лейтенант, если не уберегли командира… Комлев, как видно, запротестовал, помехи на линии его заглушали, командир дивизии, не желая слушать объяснений лейтенанта, требовал точных ответов.
— Сколько? — кричал он в трубку, наваливаясь грудью на стол. — А возвратилось?.. Пришло?.. Цифры, цифры! Соотношение!..
Бомбардировочный полк, которым недавно пополнилась дивизия Потокина, выполнял первое боевое задание, и бой, на дальних подступах к железнодорожному узлу навязанный «мессерами» девятке бомбардировщиков, был их первым боем. Экипажи приняли удар, не рассыпались, ждали поддержки истребителей прикрытия…
— «Мессеров» двенадцать, ЯКов пять, — повторял Потокин вслух. — Почему пять? Шесть!.. Была выделена шестерка!
— Ведущего сбили… — Связь улучшилась, голос Комлева зазвучал разборчиво.
— Брусенцова?
— С первой атаки… «Поршень-шесть» — капитан Брусенцов? Его.
«Брусенцов… Юра…» — тихо вздохнул штабной закуток. Маленький, синеглазый Брусенцов. Его эскадрилья почти не несла потери, имела на своем счету наибольшее число сбитых самолетов противника, сам капитан Брусенцов первым в дивизии получил орден Красного Знамени.
— …Проследили до земли, парашюта не было… Я принял решение пробиваться к объекту. С боем, с боем пробивались, товарищ «Трисса», остатками сил. — Голос Комлева звенел. — К экипажам претензий не имею, воздушные стрелки сожгли одного «мессера»…
— Удар по цели нанесен? — нетерпеливо спросил Потокин.
— Бомбы сброшены, — ответил Комлев. — Истребителей прикрытия повел на цель зам. Брусенцова Аликин. Крутился, конечно, а толку?.. Радиосвязь ни к черту, взаимодействие не отработано…
— Аликина, как сядет, ко мне! — бросил дежурному Потокин.
— Грамотной поддержкой нас не обеспечил, потерял капитана Крупенина… — продолжал Комлев.
— Аликин барахлом трясти умеет, коллектив позорить… Продолжайте, Комлев, слышаю, — сказал Потокин, не замечая оговорки, с мрачной решимостью выслушать все.
Не вернулись также экипажи Филимонова и Шувалова.
— Товарищ «Трисса», война не первый день, пора бы истребителям вывод делать, — Комлев шел напропалую. — Боевое сопровождение не парад, тут соображать надо!
Потокин — известный в армии летчик-истребитель; в составе праздничных «пятерок» Анатолия Серова и Ивана Лакеева он открывал воздушные парады на Красной площади, инспектировал полки, а надо знать, что и одной встречи с инспекцией ВВС бывало достаточно, чтобы долго ее помнить — запальчивый лейтенант Комлев больно задел Потокина.
— Держите себя в рамках! — отчеканил подполковник, багровея. Докладывайте по существу! — Гнев он все-таки сдержал.
Дивизия, принятая Потокиным в июне, сокращенно называлась САД смешанная авиационная дивизия, в ней под единым командирским началом Василия Павловича находились и бомбардировочные и истребительные полки, сильно потрепанные, со скудным парком современной техники. А «мессера» на их участке фронта паслись тучными стадами. Разделяясь на пары и четверки с цирковым изяществом, «все вдруг», они гарцевали, красуясь друг перед другом и оставляя за кромками тупо обрубленных крыльев витой инистый след. Ожесточенные бои, особенно потери в людях создавали между полками трения, устранять их Василию Павловичу было непросто. Бомбардировщики с авторитетом Потокина, разумеется, считались, не упуская, однако, из виду, что он истребитель, а своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Понимая это и в корне пресекая попытки внести в боевую семью раздор, Василий Павлович в свою очередь не давал повода для упрека в необъективности.
— Я по существу, товарищ «Трисса», по существу, — горестно и твердо проговорил Комлев.
Ответить, должным образом вразумить лейтенанта Потокин не смог — в их разговор вмешался еще один голос.
— «Трисса», але, «Трисса», — довольно настойчиво и так же возбужденно, как Комлев, добивался непрошеный голос командира дивизии.
— Не мешайте! — осадил его подполковник. — Не забивайте линию!
— «Трисса», я — «Поршень»! Я — «Поршень»! — Это истребительный полк, себе на беду, искал Потокина. Узнав командира, «Поршень» обрадовался: Товарищ «Трисса», але! Аликин усадил «мессера»! «Мессер» целехонек, немца забрали в плен!
— Какой Аликин? — уставился в аппарат командир дивизии.
— Петя! Петр!.. Петр Сидорович Аликин!..
Истребители знали, с чем, с какими вестями выходить на командира дивизии.
В истребительном полку служили два Аликица, оба — лейтенанты. Один бывший токарь ленинградской «Электросилы», скромный, дисциплинированный летчик, другой — уралец… Отличился Аликин-второй — уралец… Во время недавней перегонки машин с завода Потокину пришлось с ним столкнуться: этого Аликина вместе с техником по спецоборудованию забрала комендатура как спекулянтов казенным имуществом, пятно легло на всю дивизию. Позже, правда, выяснилось, что торговали не казенным и по рыночной цене, но их выходка задержала отлет. Потокин, водивший перегоночную группу, собственной властью дал Аликину пять суток ареста:
«Бьют не за то, что пьют, а за то, что не умеют пить!» Бывая после этого в полку, Василий Павлович, естественно, к Аликину-второму приглядывался. Сухопарый, с живым лицом, по которому можно читать все владевшие им чувства. «Ты что у „мессера“ зад нюхаешь?» — подступался, например, Аликин к товарищу, промедлившему с открытием огня, и лицо его дышало удивлением и укором. Или: «Я — из Сатки… В Сатке все бабы гладки», — и не оставалось в лице лейтенанта жилочки, не освещенной удовольствием. Он слегка играл этим.
— Из Сатки? — уточнил Потокин.
— Так точно! — весело подтвердил «Поршень». — Из Сатки…
— Выезжаю, — сказал подполковник. — Выезжаем, — повторил он адъютанту, не меняя тяжелой позы.
Девятка бомбардировщиков, искромсанная «мессерами», давила комдива.
Возвратился Василий Павлович под вечер.
— Из штаба ВВС фронта звонил генерал Хрюкин, — доложил дежурный.
— Был какой-то разговор?
— Да… «Что за похабный позывной — „Дрисса“? — спросил Хрюкин. Сменить!» — «Не „Дрисса“ — „Трисса“… термин из геометрии, вернее, хвостик, частица „биссектрисы“…» — «Все равно сменить!» Сам продиктовал телефонограмму: «Потокину явиться лично шесть ноль-ноль. Хрюкин».
Хрюкин. Хрюкин Тимофей Тимофеевич.
Они встретились впервые три года назад в подсобном помещении московского промтоварного магазина, куда вошли с черного хода в военной форме, капитанами, и откуда вышли через час в штатском, имея вид коммивояжеров средней руки. Шляпа Хрюкину была к лицу. «Молодцу все к лицу, и котелок с перчатками», — улыбался Тимофей, довольный своим преимуществом перед теми, кому модельная обувь последнего фасона и пиджак — как корове седло. В Китае он возглавлял бомбардировочную группу наших добровольцев, Потокин был замом командира отряда истребителей. Работали вместе, в сезон «хлебных дождей» подолгу сиживали вдвоем в тесной — табурет да койка комнатенке Хрюкина, слушали патефон, привезенные из дома пластинки, наших молодых певиц, входивших в моду, вздыхали и подпевали им. «На карнавале музыка и танцы…» — беззаботное веселье владело певицей. Хрюкин спрашивал: «Какой карнавал? Который в сказке?» — в их жизни карнавалов не было. «Сердиться не надо…» — давала совет, нежно утешала певица. О многом было говорено… Отметил тогда Василий Павлович, с каким интересом слушал Хрюкин его рассказы из времен детства, например, о бунте против учителя музыки, против домашних уроков фортепиано, о бегстве из детской через окно, с помощью жгута из пододеяльника и простынь, жестко накрахмаленных. Или как воспринял Тимофей конфликт Василия с любимой старшей сестрой, омрачивший всю его жизнь раздор между ними из-за библиотеки, книжного наследия отца… Подробности этого быта, этих отношений были Тимофею в диковинку.
Однажды, когда «хлебные дожди» вызвали перерыв в боевой работе, комкор, зам. главного военного советника в Китае, взял их с собой в поездку с аэродрома Ханькоу, где они стояли, на восток. Дорога шла вдоль рисовых плантаций. Крестьяне по колена в жиже, согнутые спины — без конца и без краю. «Как мураши», — сказал комкор. В штатском платье, с американским «Кодаком» на шее, он схватывал объективом пейзажи, сценки, лица увлеченно и находчиво, как бывалый европейский турист. Разговор между комкором и Хрюкиным все больше сворачивал к дому, к родным местам. Свиньи, дравшиеся возле кормушки, воскресили в памяти комкора грозного, дикого борова Петю, загрызавшего не только молочных поросят, но и молоденьких самок… «То боров! — заметил в ответ Хрюкин. — А когда и родные матери но больно ласковы…» — нехотя, касаясь обиды, не вполне прощенной, добавил про выволочку, свирепую выволочку, полученную от матери за то, что вместо отрубей задал поросятам сеянку… Бумажный куль удобрений под навесом повернул разговор на общую, близкую им обоим тему, в частности о том, как ходившие к Ленину мужики, создатели первых коммун на Тамбовщине, толковали слова Ленина насчет промышленных предприятий в будущем, специальных комбинатов для поставки селу фосфора, калия… Комкор при этом как-то огрузнел, осел в кабине, от всего отвлекся, завздыхал и закручинился, на его обветренном лице ожили сомнения и заботы мужика, тамбовского крестьянина, понявшего Советскую власть как свою в кровавой борьбе с Антоновым… Под вечер они сделали остановку — долить воды в радиатор. Возвращались с поля крестьяне, мычала усталая скотина, низко над крышами носились ласточки. Со двора, куда они зашли, пахнуло на них нищетой и горем: тут околела ослица. Опора хозяйства, главное тягло во всем, от обработки хлопчатника до вращения колеса домашней мельницы. Отец семейства, сидя на корточках в окружении молчаливых детишек, неторопливо, тщательно перебирал собранный в алюминиевую банку верблюжий помет. Каждое непроваренное кукурузное зернышко он очищал и откладывал в сторону, приготовляясь варить на ужин похлебку… Выражение страха, пожизненного страха перед голодом соединяло это семейство, неуловимо родственное всему, что открывалось им в стране, в ячейку живых существ без возраста и надежды… Комкор к своему «Кодаку» не притронулся. «Когда встречаешь такую жизнь, — сказал он, — такую нищету миллионов, иначе воспринимаешь, иначе расцениваешь жертвы, которые несем мы, коммунисты, перестраивая мир…»
Под конец загранкомандировки, когда обсуждались первые итоги и представления к наградам, военный советник высказался о Потокине так: «К ордену — да, к званию — нет». Хрюкин, как бы подтверждая мнение советника, напомнил об охоте за японской авиаматкой, когда белохвостые истребители противника пронырнули мимо нашего эскорта во главе с Потокиным, отвлекли, связали боем экипажи СБ, многочасовой рейд бомбардировщиков кончился ничем… Верно, тут же добавил Хрюкин, по данным наземной разведки выяснилось, что японцы вывели свою авиаматку из устья Янцзы тайком, за три дня до нашей охоты.
Военный советник мнение Хрюкина ценил, сделанное им уточнение оказалось кстати: оба, и Хрюкин и Потокин, возвратились домой майорами.
За год до войны они снова повстречались в инспекции ВВС. Тимофей Тимофеевич, тогда уже генерал, с ним, майором, был сама предупредительность. Собственно, рекомендовал его в инспекцию, определил в ней — генерал Хрюкин.
Когда они скромной проверочной группой прибыли в отдельный гарнизон, чтобы проинспектировать авиационную бригаду, Тимофей Тимофеевич, внешне ничем этого не выражая, взял Потокина под свой присмотр.
Он был инспектор-дебютант, но не новичок, отнюдь. Годы службы в строевых частях позволяли Василию Павловичу быстро входить в незнакомую обстановку. Расторопный техсостав в заношенных, но чистеньких, опрятных комбинезонах, рабочие места механиков, единообразно выкрашенные, сочная кирпичная крошка, сводящая жирные пятна отстойного масла, — все выдавало присутствие хозяйской руки. Позади стоянки подфутболивали тряпичным мячом по воротам с провисшей перекладиной гарнизонные Бутусовы в сапогах, в ремнях через плечо (но через день, под вечер, состоялась финальная встреча волейболистов истребительных и бомбардировочных полков, героем которой, по общему признанию, стал летчик-истребитель Иван Клещев. Хрюкин, темпераментный болельщик, вручил Клещеву именной подарок). Техсостав глазел на них, летчиков-инспекторов из центра, воображая в каждом героя, владельца пожалованных Моссоветом апартаментов (за Потокиным числилась койка в командирском общежитии) и участника приемов в Кремле…
Полковник, командир бригады, управлявший гарнизоном как вотчиной, удивляясь внезапному приходу инспекции, осторожно попенял Хрюкину: «Как из засады наскочили!» В саржевой гимнастерке с накладными карманами и отутюженной складкой на рукаве, сияя полученным за спецзадание орденом, он вполуха выслушивал своих командиров, поднятых по тревоге, доклады о готовности подразделений. С инспекторами держался на равных, на вопросы отвечал без ретивости, всем, кроме Хрюкина, говорил «ты». В его распоряжениях но устройству гостей заметна была искушенность в делах такого рода, диалог с генералом вел находчиво и гибко. «Почему выбран этот аэродром под летний лагерь?» — спросил Хрюкин. «Решение командующего, — отчеканил полковник. — Рассчитывали на стационарный пищеблок». Добавил — от себя, не скрывая личной неприязни к рыцарям пятой нормы: «Наша авиация в этом отношении бабонька балованная…» — «А пищеблока — нет», — угадал Хрюкин. «Нет», — подтвердил полковник, хмуря прямые, более темные, чем волосы, брови. «Надо было ориентироваться на Савинки». — «В Савинках площадка будет поудобней», — рассудил полковник вслух. «Без уклона, по крайней мере», сказал Хрюкин. «Там площадка как стол», — объяснил окружающим достоинства Савинок полковник, неторопливо прочерчивая ладонью ее профиль. Хрюкин, — с его слов и Потокин, — знали о полковнике то немногое, что было у всей бригады на устах: третий месяц собирается он самостоятельно вылететь на истребителе нового образца. Талантами в летном деле полковник не блистал. Если вздумает проверить соседний, километрах в тридцати, полк, техническая служба двое суток не спит, готовится и готовит, а взлетит полковник — дрожит вся бригада: как бы не «блуданул», не потерял ориентировку, не подломал машину при посадке. И вот, взялся за новинку… Выкрасил машину в сидонский красный цвет, держит ее в ангаре. При хорошей погоде ему выводят самолет как скакуна. Он в полной амуниции забирается в кабину. Замирает, затаивается. Прогревает мотор. Рулит в один конец аэродрома, в другой. Туда — сюда… Снова замирает… Пойти на взлет, оторваться от земли не решается.
Хрюкин затребовал себе на просмотр отчеты, диаграммы, графики.
Среда военных инспекторов-летчиков, сплоченная культом профессиональных интересов, была своеобразной, сложной, принадлежность к ней составляла привилегию летного таланта; дорожа ею, Хрюкин зарекомендовал себя докой и по части бумаг, исходящих и входящих. Он ими подчеркнуто не пренебрегал; замечал грамматические ошибки, подчистки бритвой и резинкой, тайное обожание машинистки, печатавшей слова в тексте «начальник штаба» заглавным шрифтом и в разбивку, не говоря уже о исполненных смысла нюансах в таких разделах, как налет, плановый и фактический, как плановые таблицы, методика; просчеты я уловки в документах он схватывал на лету.
Полк, взятый им на проверку, собирался по тревоге слаженно, укладываясь в рамки жесткого временного лимита, но, к сожалению, взятого ритма не выдержал. Вслед за промашками отдельных экипажей пошел разнобой в общих действиях, создалась нервозность, и так до самого заруливания, когда летчики, не дождавшись обязательной команды, покатили со старта вразнобой поодиночке. Видя это, расходившийся полковник рявкнул: «Заруливание — тоже этап! Могут дров наломать запросто!..» Аварии в полку, кстати, случались как на заказ: то на одном самолете надо менять или варить треснувший хвостовой шпангоут, то на другом, то на третьем…
Старший лейтенант, выбранный Хрюкиным из списка наугад, предстал перед генералом, клоня от усердия голову вправо, к узкой ладошке, вскинутой под козырек, — выудить фигуру для проверки Тимофей Тимофеевич тоже умел. «Заправка?» — спросил инспектор для начала. Вопрос нейтральный. Перед длительным маршрутом обе стороны заинтересованы в том, чтобы бензин был взят с запасом. «Хорошо бы долить, товарищ генерал…» — ответил командир со сдержанной рассудительностью. «Долить… не чайник! Как насчет слепой подготовки?» — «Я бы хотел, чтобы вы меня проверили», — подобие улыбки, просительной, недолгой, прошло по твердощекому лицу. Подкупающе вверить себя в руки инспектора — такую предпринял старший лейтенант попытку. «Налет за прошлый год?» — коротко, без неприязни, однако, уточнил генерал, давая понять, что попытка неуместна. «В облаках? Прошлый год, товарищ генерал, весь получился на колесах. Как повело с января, так без остановки… Перевозил семью, к дочурке хвороба привязалась… Хоронил мать…» — В нем теплилась надежда задеть в душе инспектора отзывчивую струнку. «Зуб еще этот…» — «Болит?» — «Болел!» — поспешил успокоить генерала старший лейтенант и раскрыл в подтверждение рот… смутился, демонстрировать зиявшую в десне промоину не стал. «Фельдшерица-пигалица мутузила меня щипцами, аж искры из глаз. Короче, потерял сознание в кресла, такой дикий случай. Сомкнув рот, он удрученно потрогал языком злосчастное место. — После этого комиссия, перекомиссия, еще два месяца из летной практики коту под хвост… Как будто так и надо…» — «Особенности аэродрома?» — «Отработаны. Как следует быть». — «В этом году в облаках летали?» — «В этом? — переспросил старший лейтенант медля, с той же слабой улыбкой. — Если округлить, так часов шесть наскребу…» — «А если вкачу „двойку“?» — приподняв подбородок, прервал его откровения проверяющий. И Потокин ждал, что сейчас генерал, по своему обыкновению, круто развернется, навсегда оставив за спиной незадачливого старшего лейтенанта.
Ошибся.
Назревшего, казалось бы, демарша Хрюкин не предпринял.
Глава подразделения московской инспекции всматривался в летчика с терпением и озабоченностью. Тут и Потокин пригляделся к старшему лейтенанту. Что-то крылось за его неприкаянностью, за желанием вверить себя в руки инспектора. Что-то настораживало. «Быт, — подумал Потокин. — Быт, о котором летчики не говорят, о котором вообще у нас говорить не принято… Быт и „дрова“. В полку пошли „дрова“, то есть поломка за поломкой. Бьют технику, хвосты, такая полоса. Старший лейтенант не уверен в себе, в своих силах, боится, что полоса его захватит, тогда ему шабаш. Не выбраться».
«„Двойку“ мне нельзя, — горестно покачал головой старший лейтенант. — Никак нельзя», — повторил он с каким-то загнанным выражением.
То ли ветер посвежел, то ли предвзлетное возбуждение — старшего лейтенанта познабливало.
Фамилия старшего лейтенанта была Крупенин.
Хрюкин проверил его выучку по всем статьям, в том числе на взлете и посадке (согласно местным, доморощенным установлениям Крупенин взлетал и приземлялся с полуопущенным хвостом), разъяснил промахи методики («Хвост на покатой полосе поднимают повыше не в конце, а в начале пробега, понятно?»), причины поломок.
На этом они с Хрюкиным расстались, а через день открылось, что командир бригады, прознав по собственным каналам о приближении инспекции из Москвы, заблаговременно поднял и расставил людей, настропалив их демонстрировать высокую боеготовность.
Отзвук громового ЧП не утихал долго — и после приказа командующего ВВС, и после смещения полковника.
Дольше всех не мог успокоиться Хрюкин.
«„Липач“, да к тому же еще и фокстротчик!» — негодовал он. Поминал «липача» на совещаниях: «Бесконтрольно поощрять таких нельзя. Не-ет… Таким необходима бускарона, как говорят испанцы: одной рукой — подарок, премия, другой — подзатыльник. Тут же, тут же, не мешкая, не стесняясь… и покрепче!» Возвращался к этой теме в домашних разговорах, усматривая связь между слабой летной выучкой бывшего командира бригады и тем, что показали во время инспекции контрольные полеты с командирами экипажей. «Конечно, говорил Хрюкин, — когда каждый самолет своим появлением обязан крохам, взятым у колхозника, труду рабочего, который ради обороны отказывает себе в необходимом, — в такой обстановке спрос за аварийность должен быть суровым. Очень суровым. И с командира бригады, и с рядового летчика. Без снисхождения, иначе нельзя. Отсюда нервотрепка… Сейчас в авиации перестройка, освоение скоростной техники, по существу — новый этап. Такие моменты показательны, сразу видно, кто с запасом, с багажом, а кто — пирожок с пустом. И вот наш полковник, командир бригады, ему бы тон во всем задавать, а он, видишь, попал в случай и боится расстаться со своим везением. И заметь: эта пагуба передается по воздуху — поделился с Потокиным Хрюкин. — Внизу всегда чувствуют, как с них спросят. Не в смысле жестокости. Управление должно быть жестким. Но при этом можно семь шкур спустить и ничего не добиться, если нет морального права на спрос… В нашей армии без классовых различий командир обязан возвышаться как нравственный авторитет, это в глазах подчиненных справедливо. Когда право командовать другими подкреплено морально, подчиненный в лепешку расшибается, факт!»
Эта внутренняя работа, неостановочно шедшая на глазах Потокина, прошлой весной пришла к завершению.
Мартовским днем, ярким и ветреным, они — он с генералом и их жены — не спеша проходили по скрипучим деревянным мосткам в тихом районе Москвы. Торопливые шажки прохожих, зябкие лица студенточек и военных напомнили Василию Павловичу его знакомство с Надей, их первое свидание в этих переулках; ее деловые интересы были в центре, на Рождественке, она кончала архитектурный, куда Потокин напросился в то же первое их знакомство: пройтись по бывшему Строгановскому училищу, обозреть его залы и стены. «Должна подумать», — ответила Надя, и не скоро было ему позволено явиться на кафедру рисунка. Что-то удерживало Надю афишировать свое с ним знакомство. Потом она так объяснила: летчик, военный — слишком яркая фигура. Он умолчал о том, каким маленьким, потерянным почувствовал он себя, оказавшись на кафедре в молчаливом окружении гипсовых фигур, живущих столетия.
На углу Большой Пироговской и Зубовской Надя и Полина Хрюкина остановились, озабоченно между собой шушукались. Слепил подтаявший, схваченный корочкой снег, ветер задувал леденящий. Покорно ожидая исхода важных обсуждений, занимавших женщин, Тимофей Тимофеевич развивал ему свои идеи — все об одном: «Есть другая крайность, от нее тоже вред порядочный: летать!.. Глаза продрал, на небо глянул: брезжит, — сейчас командует: летать! Выложить старт, открыть полеты! Без подготовки, без методики, без учета метеоусловий… Абы дать налет, выгнать цифру…» — «Мы идем!» объявила Полина Хрюкина решение женщин отправиться на прием в посольство с мужьями, хотя обеим, по мнению мужчин, лучше было бы от такого похода воздержаться…
Между тостами играла музыка. Он кружил с Надей, с киноактрисой, имени которой, как ни старался, не мог вспомнить, с Полиной. Застолье, ритмичное кружение под оркестр оживили румянец на несходящем кубанском загаре лица Полины, она подтрунивала над своими дневными страхами, хвалила Надину решительность, ставила ее себе в пример… Тимофей Тимофеевич не танцевал. В их конце стола он был единственный летчик, Герой, — он раскланивался, отвечал, выслушивал… вряд ли кто-нибудь, кроме Потокина, догадывался, что на душе у молодого, привлекавшего общее внимание генерала. Между тем, известный военный летчик, никем со стороны не побуждаемый, добровольно, по собственному разумению расстался с пилотской кабиной бомбардировщика, казалось бы, все ему принесшей. Поставил на своей летной карьере крест. «Или роль играть, или дело делать», — делился с ним Хрюкин, именно в таких словах пытаясь передать, как претит ему показное благополучие, фальшь положения, мишура и как страшит, какие внушает опасения все, отвлекающее их, военных, от использования благодатной паузы, отодвинувшей, отдалившей момент неизбежного военного конфликта с державами оси. «Я — не Чкалов, не Анисимов. Мой конек — организация, руководство, планирование. На нем мне и скакать…»
Не многие могли понять генерала, и он, Потокин, тоже. Но в пересудах на эту тему Василий Павлович не участвовал. Был снисходителен к Тимофею, помалкивал.
В апреле прошлого, сорокового, года они разъехались, и вот сейчас война свела их вновь — зам. командующего ВВС фронта и командира смешанной авиационной дивизии.
Взаимопонимания, содружества, которых вправе был ожидать Потокин, не складывалось, и, как ни печально, возложить вину за это на Хрюкина Василий Павлович не мог. Невольно и часто, часто возвращался он в мыслях к дням своей довоенной славы, укреплявшейся трудом. Тихие рассветы под многозвучный гул, громыхавший над сонными, без печных еще дымков, деревушками, пыль степных аэродромов на зубах, огни ночных стартов в тени вечерних городов… Все это виделось ему как одно личное напряженное усилие во имя «спокойствия наших границ». Он вообще полагался во всем на себя, не умел, как другие, снискать в загранкомандировке расположения военного советника, заручиться его влиятельной поддержкой… Не протекция, не выслуга, не ловкость в обхождении принесли Василию Потокину высокое положение, но координация, глазомер, расчет. И, может быть, еще нечто, коренящееся в мужских началах человеческой натуры. Может быть, дух, свобода, воля, высшая, земная насквозь, смелость. Его воспоминания отяжеляла горечь: своим довоенным трудом он обещал больше, чем дал. Больше, чем сумел в конце июня и мог теперь, осенью. Он уходил в бой в составе «девятки», чаще всего становясь в пару к капитану Брусенцову, сметливому командиру эскадрильи, умевшему брать инициативу на себя. Строй в сражении дробился, под рукой оставалось звено, четверка, потом он ловил кого-то в прицел, оставаясь с противником один на один… а ведь на его плечах — дивизия. Превосходство немцев в числе было одной из причин — одной, не единственной, — не позволявшей Потокину из участника стать руководителем боя, направлять его уверенно и результативно. Замыслы рушились, едва сложившись, в решениях случались просчеты.
По праву, казалось бы, возглавив авиадивизию, слывя в ней «летчиком номер один», он не находил своей особой командирской тропки, бросался в крайности. То как рядовой вылетал на задание по три раза в день, убеждая себя и других, что его место — в бою, где уловит он, схватит последнее слово тактики и соответственно нацелит подчиненных. То возлагал надежды на штаб, на обобщение опыта, на схемки, заранее проработанные, — их знание защитит от немецкого засилья в небе; привлекал к чертежикам всех способных водить карандашом.
В первый список представленных к наградам, где Потокин и Брусенцов шли на орден Красной Звезды, Хрюкин собственноручно внес такое исправление: командира эскадрильи капитана Брусенцова поднял на орден Красного Знамени, а командира дивизии подполковника Потокина сдвинул на медаль «За боевые заслуги». «Василий Павлович, согласись, — на словах добавил Хрюкин, большего ты не заслужил». Горчайшую преподнес ему пилюлю генерал, не сразу совладал с собой Василий Павлович, покрутил бессонными ночами «бочки» на постели, осознавая меткость слов о том, что горечь — лечит…
После случая с медалью каждая встреча с генералом была для Василия Павловича трудна. В довершение всего — сегодняшний разгром «девятки».
Зная, как легок Тимофей Тимофеевич на подъем и как язвительно песочит опоздавших, когда сам он, ранняя птаха, пребывает в лучшей поре своего неугомонного бдения и свежей утренней волей побуждает окружающих к трудам, дневным заботам, Потокин тем же вечером, как поступила от генерала телефонограмма, выбрался в деревушку, где стоял штаб ВВС. «Что генерал?» спросил он знакомого оперативщика. «Никого не принимает. Затребовал всю отчетность по потерям в САД, с нею закопался…»
Потокин понял, что дела его плохи.
В шесть ноль-ноль он входил в горницу небольшой избы, облюбованной Хрюкиным.
— Здравствуй, — приветствовал его генерал, протягивая руку и не вставая из-за стола. Сон ли не сошел с его лица, отяжелив маленькие веки, примяла ли их усталость? — Здравствуй… Как решаешь вопрос с рассредоточением техники? — Разговор сразу пошел по деловому руслу.
Вместо подробного рассказа о капонирах, вырытых летно-техническим составом между боями, — краткая справка, информация. Хрюкин, впрочем, выслушал ее с интересом. Информация ему понравилась, он оживился и — без всякого перехода:
— Слушай, как он его завалил? Твой Аликин?
«Мой Аликин!»
— На вираже…
— Понимаю, не на вертикали… Сильный летчик? — Пламя лампы, отразившись, блеснуло в глазах генерала. — Сколько сбитых?
— Один.
— Давно воюет?
— С июня.
— Техника пилотирования?
— В норме…
— А стрельба, воздушная стрельба?
Потокин знал эту слабость сошедших с летной работы кадровых военных: продолжая службу в новом качестве, они с неслабеющим вниманием следят за успехами в воздухе, особенно в пилотаже, знакомых и не знакомых им летчиков, терзаясь порой скрытой, затаенной и потому особенно жгучей ревностью.
— У немца мотор сдал, что ли? — осторожно, боясь разочароваться в парне, спросил Хрюкин.
«Аликин — восходящая звезда!» — вот чего он ждал. «Фронт со времеяем получит в нам фигуру!» — вот что он хотел услышать.
— Насчет мотора, будто отказал, байки, Тимофей Тимофеевич, — Потокину пришлось вступиться за Аликина. — Аликинская пуля прошила капот, срезала бензопровод, причем перед помпой. Как бритвой срезала, осмотр произведен мною лично. Мотор сдох, немец сел. Вторая победа Аликина.
— Хорошо! — вроде как оставил летчика в покое Хрюкин. — Обслуживание?.. Связь? — быстро подбирался он к больному месту, к вчерашнему поражению «девятки». — Крупенина помнишь? — неожиданно спросил генерал. — Как я его проверял в бригаде? Во время инспекции?
— Крупенина?.. Постой… Да-да! Лысоватенький такой, старший лейтенант?
— Честно сказать, я в нем сомневался. А в Крыму Крупенин себя проявил. И под Киевом отличился, слыхал? Короче, одиночным экипажем Крупенин работал как надо, людей нехватка, я капитана на полк выдвинул…
— А ведь его Аликин проморгал, Тимофей Тимофеевич. Аликин.
— Этот?
— Он самый.
— Кто взял на себя «девятку»?
— Лейтенант из новеньких, тоже в Крыму работал. Находчивый, но плохо воспитанный. На место его надо ставить, лейтенанта.
— В данном-то случае лейтенант, кажется, из тех, кто сам свое место находит… к счастью. Видишь, как получается: твой Аликин прошляпил Крупенина, мой Крупенин — «девятку»… если не полк. Значит, плохо мы их учим.
— Чему-у?.. — нараспев, устало и с таким откровенным унынием протянул Потокин, что отвечать ему: «войне» — не имело смысла.
— Силы не равны, в этом корень зла, — сказал Хрюкин. — Все несчастья отсюда. «Мессер» в нашем небе ходит гоголем, он король воздуха, его, Василий Павлович, надо как-то развенчать. Хотя бы частично. И к тебе сейчас такое дело: оседлать трофейный «ме — сто девятый». В чем сложность? Описаний нема, а Москву я ждать не буду. Не могу. Морально обезвредить «мессера», снять с него ореол — наша задача, нам ее решать. Тем более что есть инженер, до войны стажировался в Германии. Предмет знает. Воспользуйся пленным. Главное — в темпе. Результат доложишь лично. А как доложишь… Кстати, отвлекся Хрюкин, придвигая к себе проложенную закладками папку. — Ты Понеделина не знал ли? — Он помаргивал замедленно. — Командарм двенадцать… по-моему, служил на востоке…
— Нет…
«Сколько горя, несчастий, сколько потерь за три месяца», — думал Потокин, и все-таки он испытывал облегчение от разговора с Хрюкиным.
«Сбить, сбить, сбить!» — с укором себе вспоминал Потокин свои первые дни в Китае, свой зуд, лихорадку, когда боевая работа, еще не начавшись, ожидалась как новой в его жизни этап, как перемена в его военной судьбе, а все свелось к тому, что он открыл счет лично сбитых. Немалое дело, предельно рисковое, кровавое, потное — боевой счет лично сбитых самолетов противника. Внезапность долгожданного успеха и такой же внезапный страх, что победа над врагом и шумный отзвук на нее — случайность… Жажда новых шансов, погоня за ними — все к тому и свелось. На том он и остановился. Дальше дело не пошло. Способ, навыки, открывшие список его побед, обретали самоценное значение, а теперь видно, что ими нынешнего врага, немецкого фашиста, не возьмешь. «Современного немца не знаю, в бой лечу как слепец…»
А в Хрюкине, как теперь понимал его Потокин, глубже честолюбия жило сознание, что все личное, показное должно быть принесено в жертву умению управлять ходом событий, управлять в бою другими. Тимофей преодолел сомнения, которые мучают его, Потокина, знает больше, понимает лучше… он постиг, — или постигает, — тайну этого тонкого, многосложного искусства, предполагающего широту взгляда, уверенность и твердость действий.
Время быстро меняет людей, всегдашняя загадка — направление, характер происходящих перемен, и вот ответ: решение, принятое Хрюкиным мирным мартовским днем, сделало его значительней, крупнее.
— Сбитого «мессера» облетаешь, — сказал генерал, прощаясь, — будем решать твой вопрос. Ты, по-моему, засиделся на дивизии…
Пленного доставили к самолету под конвоем.
Худой, рослый, лет тридцати.
«Для истребителя, пожалуй, долговяз, — подумал Потокин. — Или у „мессеров“ кабины глубже?» Фирменная пилотка люфтваффе, выправка гимнаста. Щурясь от дневного света, пленный глядел на оголенные осенние курганы и песок сквозь толпившихся возле машины людей. На полросы отвечал охотно. Из Ганновера, не женат, в боевых действиях два года. Сбит впервые… Старшего его, Потокина — выделил безошибочно.
«Какое у меня звание?» — спросил через инженера Потокин, проверяя свою догадку. «Подполковник», — сказал немец без всякого затруднения. «Он?» Василий Павлович показал на соседа. «Военинженер второго ранга, — не ошибся пленный и, в свой черед выставив на обозрение лацкан куртки, спросил: — А я?» Все, в том числе и инженер, молчали, глядя на его серебристые звездочки. «Капитан, — удовлетворенно улыбнулся немец. — Сильных летчиков у вас нет?» спросил он. «У нас отличные летчики, переведите, — вскипел Потокин. Лейтенант Аликин, который сбил его!» — подтолкнув вперед Аликина, Василий Павлович не сводил с пленного глаз, — разумеется, ожидая увидеть не рога, но силясь понять, что за птица этот живой фашист, представший перед ним. «Но я не вижу портретов, рекламы!» — снова улыбнулся немец, удивленно поглядывая вокруг себя. Живого Аликина он как бы не замечал. Аликин для него отсутствовал. «А ведь он, товарищи, меня наглядной агитации учит!» — в сердцах проговорил Потокин.
Выслушав требование — объяснить устройство кабины, капитан несколько потупился, отступил назад… Он, видимо, не принадлежал к людям, о которых немцы говорят: «Man muss abwehrbereit sein» — всегда готов к обороне. Похоже, нет. Приземлился немец, по рассказам очевидцев, не ахти, не дотянув до посадочного знака, и, хотя приземление подбитой машины было вынужденным, аварийным, кто-то из летчиков весело и удивленно, как на откровение, воскликнул: «А „козлит-то“ шульц, как наш курсант Хахалкин!»
Пленный отступил, подумал… вспрыгнул на крыло. Элегантно, легко набросил парашют, рыбкой скользнул в кресло. Снял пилотку. В его темных волосах блеснула седина. «Вертеровская, — почему-то подумал о ней Потокин, удивляясь своему сравнению. — Вертеровская», — повторил он. То есть ранняя. «Во мне… наступает осень. Листья мои блекнут, а с соседних деревьев листья уже опали», — сравнение возникло из строк «Страданий»… Все-таки в сближении Вертера с брюнетом со спортивной выправкой, сидевшим в кабине «мессера», была неожиданность, озаботившая Потокина… впрочем, «мятежный влюбленный», кажется, увлекался лошадьми, слыл темпераментным танцором… что-то спортивное в нем было. Самый знак пережитого смутил Василия Павловича. Седая прядь не вязалась с обликом врага. Не предполагал он и впечатления, вызванного рассмотрением кабины «мессера». Тесный, обжитой, одному летчику ведомый мирок; надписи, таблички, запахи, в кабине обычно застойные, — все не свое, чужое, и все ему, Потокину, доступно, призывает: примерь волчью шкуру на себя, приноровись к ней — чтобы потом ловчей спускать ее с других…
Немец прошелся по арматуре, его жилистая шея покрылась пятнами.
Повторил беглую пробежку с умыслом, что-то говоря. Потокин, профан в немецком, понимал главным образом созвучия: «Kompas» — «компас», «Gas» «газ», «Pult» — «пульт», встречая каждое из них согласным кивком головы. Немец, в свою очередь односложно, с каким-то присвистом одобрял его понятливость. Налаживалось нечто вроде взаимопонимания. «Гош!» — неожиданно для себя сказал вовлеченный в беседу Потокин, ввернув старинное, со времен первой мировой войны, название ручки управления самолетом, термин инструкторов, летавших на «Ньюпорах» и «Фарманах». В отличие от наших, прямоствольных, «гош» трофейного «мессера» имел изгиб, что придавало ему хваткость, прикладистость: «Ja Gosch» — согласился с ним немец, профессионально берясь за рычаг, чтобы привычно поработать им, как это принято у истребителей, вообще у летчиков, — проверить действие рулей. Но ручка управления ему не подчинилась. Она была законтрена, зажата. Ее удерживали в неподвижности специальные зажимы, струбцины, — не фирменные, «мессершмиттовские», а русские, снятые с соседнего ЯКа. Они хорошо исполнили свое назначение.
«Не распорядится ли русский командир убрать их?» — взглядом спросил немец. «Нет», — взглядом же ответил Потокин. Капитан люфтваффе настойчиво подергал ручку, напоминавшую, что он — в плену, что он, как летчик, связан. Потокин подтвердил: струбцины останутся на своих местах, на крыльях. Все останется как есть… Убедившись в жесткости струбцин или в твердости русского, которого ничто не поколеблет, пленный сказал: «Das ist genau so richtig wie Magneto». Он произнес это раздельно, надавливая кнопку, вроде кнопки дверного звонка, удобно, под большим пальцем, красовавшуюся на ручке управления. Фраза была слишком длинной. Потокин сумел различить в ней одно слово: магнето. Он подумал, что, в интересах лучшего взаимопонимания, немец пустил в оборот еще один термин, понятный, как «гош», всем авиаторам «магнето». Капитан, снова нажав кнопку, утопил ее: «Wie… Magneto». Или он хотел сказать, что этим нажатием, утоплением кнопки, включается магнето? Зажигание, без которого мотор не дышит? Нет. Помогая себе интонацией, и в то же время наставительно, капитан проговорил: «Wie… Magneto».
«Точно так же, как магнето», — буквально поревел Потокин, явно чего-то не понимая. А все было важно, все могло повлиять на исход предстоящего облета «мессера». Провал, поломку, какой-то срыв на незнакомой, не отечественного образца машине он для себя исключал. Не намек Хрюкина на возможные перемены в его служебном положении — иные, более серьезные причины побуждали Василия Павловича к возможной тщательности и предусмотрительности. «Wie… Magneto», — еще раз, без прежней старательности повторил капитан. Его волосы растрепались, седая прядь отделилась от зачеса.
Контакт, наметившийся было между ними, разладился, но все, необходимое для опробования «мессера» в воздухе, было Потокину сообщено.
Первый его полет на трофейной машине занял около часа.
Многолюдная аэродромная обслуга судила об испытании на фронтовом аэродроме главным образом по удавшемуся старту, по отличной посадке Потокина. Летчики, его подчиненные, хотели знать существо дела, и сам Василий Павлович оценивал не концевые, зрелищно выигрышные элементы, а сердцевину облета, поучительные пятьдесят минут… После посадки он, похоже, скис в «мессере». «Не заело ли „фонарь“?» — обеспокоился инженер, «Фонарь» откинулся свободно, Василий Павлович оставался в пилотском кресле. И хотя краткое соприкосновение с пленным немцем в чужой привычно пахнувшей кабине ничего не дало Потокину для понимания механизма, посредством которого у всех на виду специальное, чистое, летное, ставшее достоянием человечества совсем недавно, поступило в услужение ложной, зловещей цели, — общее впечатление от чужого самолета оказалось вполне определенным. Впечатление было более сильным, чем ожидал Потокин. Одно дело — читать и знать, другое прочувствовать в небе достоинства боевого истребителя противной стороны. Особенно в сравнении с И-16. «Никаких Вертеров, никаких благородных отвлечений, — говорил себе Потокин, остывая. — Это зло, зло, матерое зло», связывал он воедино молодцеватого капитана из Ганновера и его оружие, самолет, заново осмысливая силу бандитского нашествия, поражаясь грозным его размерам….
Таить свои впечатления Василий Павлович был не вправе, устрашать летчиков, нагнетать обреченность — не мог. «А „козлит-то“ шульц, как наш курсант Хахалкин!» — вспомнил он. Промашка ганноверца, грубоватый подскок, «козел», с которым он приземлился, опростил «мессера», сделал его как бы доступней… Естественно. Теперь — свести трофей и ЯКа. Поставить в учебно-тренировочном бою друг против друга. Показать «мессера» голышом, то есть вне строя, без поддержки могучего радио.
— А «противником» — Аликина-второго, — поддержал Потокина комиссар истребительного полка.
Василий Павлович смерил советчика красноречивым взглядом… сдержался. Тактически Петр Аликин грамотен. Звезд с неба, правда, не хватает, но в данном случае это и неплохо. В том смысле, что любой летчик поставит себя на его место. Пять суток от командира дивизии ни для кого не секрет. Да еще этот слушок, будто он не сбил немца, будто у немца отказал мотор и победа досталась Аликину случайно…
Показательный поединок может завязаться. К сожалению, не исключена и такая реакция летчиков: командир дивизии своим выбором амнистирует разгильдяя.
Потокин колебался.
Еще одна проблема: чей самолет взять? Чью машину?
— Самый летучий ЯК в полку — аликинский, — опять-таки подал уверенный совет комиссар полка.
Его поддержали…
Потокин махнул рукой — будь по-вашему, Аликин.
Местом, в границах которого должно происходить состязание, избрали аэродром истребителей, — пусть все видят. Камешек, брошенный лейтенантом Комлевым в его огород, Потокин не забыл и распорядился, чтобы к назначенному часу подъехали свободные от задания летчики бомбардировочного полка.
Комлев оказался среди них.
Странно, непривычно для глаза выглядело мирное соседство на стоянке голубовато-зеленого ЯКа и темного, словно бы тронутого болотной ряской, с акульим зобом «мессера», дважды подрезавшего Комлеву крылья. Обычные, сто крат повторенные приготовления к вылету Потокина, окруженного свитой помощников, и Аликина с механиком вызывали повышенный интерес. «Приготовление одиночек», — дал себе отчет в происходящем Комлев с удивлением, как если бы все это он видел впервые. «В бой истребитель уходит один, жизнь и смерть свою решает — один. Никого рядом…» На четвертом месяце войны Комлев лучше, чем когда-либо прежде, осознавал собственные возможности — сказывалось пережитое в боях и на «девятке»: только сейчас он понял, почему однажды в разговоре с Урпаловым — это было еще в Крыму — так решительно высказался против ИЛа: дело тут не в ИЛе, а в том, что штурмовик ИЛ-2 — одноместный самолет. Одноместный, с хвоста не защищенный… гуляет, правда, крылатая молва, свидетель духа, будто Иван и здесь смекнул, нашелся, пристроил за спиной, в грузовом отсеке, какой-то шест, какую-то дубину, она издалека торчит, покачивается, как огнестрельный ствол, отпугивая «мессеров»… В Комлеве все восставало против одиночества. Он страдал от него на земле, страшился его в воздухе и впервые испытывал признательность военкому, чьей милостью стал командиром экипажа бомбардировщика, где есть рядом и штурман, и стрелок-радист…
Первым, сноровисто, ни на что не отвлекаясь, вырулил Петр Аликин, он же первым пошел на взлет.
Потокин не так был устремлен на вылет, его отвлекали командирские заботы. Прежде чем закрыться в кабине «фонарем», он привстал, вопросительно поднял руку, проверяя, готовы ли экипажи, выделенные на земле для прикрытия «боя».
Экипажи свою готовность подтвердили.
Летчики редко наблюдают воздушные бои со стороны, но если уж такой случай представится — не оторвать и лучших болельщиков не найти.
Симпатии зрителей были, естественно, на стороне слабейшего.
ЯК на какие-то секунды исчез за солнцем — его тотчас поддержали:
— Сейчас Петя запутает «худого»…
Петр поначалу осторожничал, потом в его боязливо-дерзких заходах вспыхнул азарт, верх взяла напористость, пожалуй, прямолинейная, бесшабашная, но и неукротимая. Чем дольше держался лейтенант, ускользая от «мессера», тем заметней воодушевлялись сторонники Петра, и комментарий к «бою» расширялся:
— Теперь пойти на «сто девятом» к немцам в тыл, на свободную охоту!..
— Срубят!..
Опытность командира дивизии как воздушного бойца, его превосходство над Аликиным принимались за должное, но призыв к выучке, к находчивости получал в действиях Потокина по ходу «боя» такую наглядность, что трудно было оставаться безучастным.
— Вираж — королевский. Всем виражам вираж.
— Раз — и в хвосте! Плевое дело, правда?
— Медведь, Аликин, медведь!..
— Идея!.. Потокин затешется в строй «юнкерсов»! Они подумают, что свой, подпустят, он и пойдет их валить. Уж он на них отоспится!
Трудно сказать, как обошлись бы немецкие бомбардировщики с Потокиным, подпустили бы они его или нет, но что летчики истребительного полка за жаркой учебно-показательной схваткой проглядели появление заместителя командующего — было фактом.
Подъехав сзади и не выдавая себя, генерал Хрюкин наблюдал за «боем».
— Дает дрозда товарищ подполковник! — слышал он справа.
— С нашим атаманом не приходится тужить… — раздавалось слева.
— Нет, не приходится!..
— Послать «мессера» с Потокиным на свободную охоту, а в прикрытие дать звено Аликина! Чтобы Аликин его и прикрыл!
— Будет работать на разведку! — положил Хрюкин конец спорам относительно использования трофея.
Дежурный, проморгавший генерала, растерянно тянулся перед ним.
Хрюкин дежурного не замечал.
Мастерство, с таким блеском проявленное командиром дивизии по ходу эксперимента, его личный триумф как летчика вызывали у Хрюкина тайную зависть. Генерал это чувствовал, не мог себя пересилить и раздражался.
Выслушав рапорт, Хрюкин поставил перед Потокиным задачу: используя трофейный самолет, вскрыть аэродромную сеть противника.
— Рейд под кодовым названием «троянский конь», — шутливо отозвался Василий Павлович, испытывая прилив уверенности и свободы оттого, что трофей — не полностью, но ощутимо, как того им и хотелось, — морально обезврежен. Потокин чувствовал это по себе, по тому, как воспринят поединок летчиками на земле. — Немцы нас учат воевать, ну а мы их отучим.
Какой он конь! — тут же возразил командиру дивизии Хрюкин, — «Мессер» в одиночку если на то пошло, стригунок… Не надо чересчур захваливать врага, вражескую технику. Не надо. Лучше обдумайте маршрут разведки. Чтобы не переживать сюрпризов наподобие последнего. — Генерал готов был взяться за виновников боевого провала «девятки».
Разгоряченный Аликин заявил категорично, как он умел:
— Сшибать их можно, товарищ генерал, это как пить дать!
— Здравое суждение, — сказал Хрюкин.
И отбыл, не изъявив желания обсуждать вопрос о служебном положении подполковника Потокина, — к вящему удовольствию самого Василия Павловича.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МУЖЕСТВО
Осенью сорок первого года, когда на душе Виктора Тертышного было безрадостно и постыло, жизнь неожиданно ему улыбнулась. Во-первых, он наконец-то получил командирское звание воентехника. Во-вторых, ему удалось добиться откомандирования из тыла, из летной школы, где он служил техником по вооружению, на фронт.
На тормозных кондукторских площадках, в толчее продпунктов, между амбразурами воинских касс воентехник Виктор Тертышный, — в темной куртке с «молнией» наискосок, в длинноухом шлеме на меху, — сходил за летчика. «Эй, летчик, давай сюда, без тебя пропадаем!» — обращались к нему. Это ему льстило. Во время финской кампании Тертышпый летал стрелком-радистом на СБ. Тепло, жарко одетый, припускал он через сугробы к самолету, загребая снег развернутыми носками собачьих унтов; триста-четыреста метров тяжелого бега по сигналу ракеты сменялись долгим, медленным остыванием в дюралевом, без обогрева, хвостовом отсеке бомбардировщика, откуда, в остальном доверившись летчику, он наблюдал за воздухом. Под конец вылета, ничем другим не занятый, стрелок-радист в промороженном фюзеляже взмокал, как в парилке, вываливался оттуда без задних ног, распластывался на снегу — животом вверх, устало раскинув руки. На шестом вылете под Выборгом их зацепила зенитка. Раненый командир тянул горящий самолет, боролся с огнем и сел дома, на льду, получил Героя. Виктора Тертышного отметили медалью «За отвагу». Слушая речи и музыку, наблюдая фотографов и женщин в окружном ДКА на вечере по случаю награждения, он посетовал на судьбу: авиация, не скупая на почести, могла быть к нему щедрее. Побывал в летном училище… летчиком не стал. Пошел по технической части, по авиавооружению; потребность предстать перед другими летчиком в нем, однако, не угасала. Вдруг, например, выряжался в парашют. Защелкивал все замки и, расхаживая по крылу, под которым трудились девушки-тихони первых месяцев службы, отдавал громкие указания насчет регулировки тросов.
Сейчас по дороге к фронту подбитая цигейкой куртка и длинноухий шлем служили ему добрую службу. Поезда от станции Пологи на запад уже не шли. Он собрал горстку бойцов — попутчиков, вырвал у коменданта из глотки паровоз («Ну, летчик, протаранил, шут с тобой — гони!») и на тендере, под дождем и снегом, гордый собственной изворотливостью и удачей, помчал разыскивать предписанный ему полк. Мелькали переезды, указатели: на Фодоровку, на Большой Токмак, на Конские Раздоры. Он вспомнил отца, его рассказы о скитаниях и погонях за махновцами где-то в этих местах, на юге. Однажды отец описал свой въезд в освобожденное от махновцев село Веселое, вернее, как он был при этом одет: одна нога обута в ботинок, другая — в лапоть, подпоясан бечевой, на голове котелок с красным бантом… «Так ты шляпу все-таки носил?!» — «Носил», — смеялся отец.
Часа через три паровоз устало попыхивал в тупике.
Распустив свою команду, Тертышный тут же наткнулся на пяток «ил-вторых», лепившихся к огородам в мазанкам: это был его полк. «Все? Вся наличность?» — спросил он о самолетах старшину, определявшего его на постой. «Вся, вся», — ответил быстрый на ногу старшина Конон-Рыжий, раздражаясь вопросом и удерживаясь от желания высказаться на этот счет, как ему хотелось: полк, неся потери, короткими прыжками смещался на восток. Тертышный прикусил язык.
Дело было под праздники, под седьмое ноября сорок первого года.
В хатке, ему указанной, готовилось или уже шло застолье, он не сразу разобрал; хотя и витал по жилью горьковатый дымок из плохо тянущей трубы, но было сухо, тепло, под ногами путались, повизгивая, щенки хозяйской собаки, а главное: на месте тамады, бочком, вполоборота к выходу восседал лейтенант Миша Клюев, бывший инструктор летной школы, только что оставленной воентехником. Кого-кого, а Клюева он знал. Питомцам школы запрещалось пользоваться личными, из дома взятыми вещами, и старшина при первом же осмотре обнаружил в тумбочке курсанта Клюева чистенькую, заботливо проглаженную майку. «Чья?» — спросил старшина. «Мамина», — ответил Клюев. Трикотажная маечка еще хранила запах бельевого комода, его среднего ящика, отданного Мише по старшинству, она была как бы маминым напутствием на службу, на полеты. «Два наряда вне очереди». В следующий обход майка была найдена под матрацем. «Чья?» — «Мамина». Потом старшина вынюхал ее в матраце. Голубенький трикотаж действовал на блюстителя казарменного порядка как красный цвет на быка, кроме внеочередных нарядов Клюев схлопотал еща трое суток «губы», но «мамина майка», сбереженная в курсантском тайнике, осталась при нем…
Тертышного свел с Мишей случай: курсант, уволенный в город до двенадцати, явился в часть под утро. Воентехник, Тертышный, дежуривший по лагерю, накрыл его возле дыры в колючей проволоке за уборной. «Фамилия?» «Курсант Клюев!» Он не врал, не запирался; возбужденный, он нетерпеливо и пристыженно посвящал дежурного, старшего по возрасту я званию, в конфуз, приключившийся с ним и его знакомой, девчонкой-школьницей: две рюмки водки подсекли девицу, свалили с ног. «Ну?» — насторожился Тертышный. «Ну и тащил ее на руках до Заимки, аж вон куда», — ответил Клюев. «Была возможность?» не удержался, вставил Тертышный. «Была… Какая возможность? Вы что? — осадил его курсант. — Товарищ воентехник, вот такая девчонка, вот! — Он выставил большой палец. — Сама играет, абсолютный слух, ребенком возили в Москву. Папа — закройщик… ее же весь город знает! Такой чертенок, такой Иванушка-дурачок, она в самодеятельности его исполняет, Иванушку». Прыщеватое лицо умаявшегося Клюева сияло. Он стоял перед Тертышным, ограждая рослой, сутуловатой фигурой и сиянием растерянных и счастливых глаз привалившее ему сокровище, чертенка с далекой загородной Заимки, до смешной никчемности низводя все мыслимые против него кары: наряды, «губу». «Опять за прежнее, Клюев?» — спросил Тертышный, «мамина майка» снискала тому скандальную славу. «Разгильдяй! — отчеканил Тертышный, знавший службу. Разгильдяй и пентюх. Тепа. Свою клизму получишь». Но рапорт, им поданный, был оставлен без последствий: Клюев летал отлично, его метили по выпуску перевести в группу инструкторов, и Тертышного попросили обстановку не осложнять: «Шанс у Клюева есть, посмотрим. Может, что и получится…» Тертышный просьбе внял, забрал свой рапорт. Не без осложнений, но инструктором Клюев стал. А распрощались они в июле, когда был поднят по тревоге и ушел под Смоленск первый отряд инструкторов-добровольцев. Ушел на рассвете, без речей в проводов.
Одна заминка случилась на старте, непредвиденная, странная, Тертышный ее помнил: перед самым взлетом на крыло клюевской машины вскочил откуда-то примчавшийся курсант, самолеты ревут на разбеге, отрываются, уходят, а Клюев мешкает, стоит, как прикованный, слушает курсанта. Вести из отряда были краткие, невеселые: кто-то врезался под Казанью в тригонометрический сруб, кто-то сгорел над целью. Потом из школы ушел второй отряд, более удачливый, он отличился, попал в сводку Совинформбюро, а первый рассеялся, не оставив ни памяти о себе, ни следа…
И вот в полку, где Тертышному служить — живой осколок безвестного отряда — Миша Клюев.
Не опасаясь сглаза, Виктор сказал себе, что ему везет, определенно везет.
Правда, большого оживления их встреча в хату не внесла.
Клюев, узнавая воентехника, глянул на него пристально. Тертышный, в свой черед, удивленно рассматривал знакомое, но другое, посмуглевшее лицо; угреватость, малиновые жировики с него сошли, ничто не затеняло привлекательного выражения открытости и силы. Клюев, продолжая говорить, привстал, здороваясь с ним; как определил Тортышный, за столом сидели летчики, в большинстве, видимо, подчиненные Клюева; скромное торжество отдавало тризной — Миша поминал ребят, своих товарищей. Поминал выборочно. Не вообще сбитых, а тех, кто падал на его глазах, кого смерть брала рядом. Колю Чижова, чьего крыла он уже не увидел, «а — табачного цвета дымок, наподобие облачка, когда лопается гриб-пороховик, но гуще, конечно. Да щепа осыпалась. Мелкая, как труха, ее ветром несло…» — прямое попадание зенитки, «эрэс» взорвался под крылом.
Серегу Заенкова. За ночь исхлестанный зениткой самолет Сереги кое-как восстановили, а немец снова поднапер, подошел вплотную, стоит под носом, в двух километрах, — ни времени для размышлений, ни места для старта. Против немца взлетать — под убой, по ветру взлетать — полоса коротка, не разбежишься, вообще не оторвешься. Серега хватил сто грамм, чтобы не сомневаться, и — будь что будет, — газанул против ветра, на немца. Увернулся. А по дороге к дому — «мессера». Одного шуганул, двое сзади… думали все, ан нет, пришел Серега…
Чижов, Заенков — инструкторы, однокашники Клюева, из его выпуска. Тертышный их знал.
Миша был старше своих подчиненных на год-два.
Их почтительное молчание означало, что, не будучи опытными, как Клюев, летчики мотают все это на ус. Где остановимся? — хотели они знать. Ни больше, ни меньше.
— За Пологами — встанем, — сказал Миша. — Упремся. Не все в это верили, но ему никто ве возразил: за лейтенантом признавалось всегда редкое среди молодых достоинство проницательности.
— Да, погодка, — повернул разговор Клюев, глядя на сброшенные в угол одежки Тертышного.
Обратившись к нему, стал вспоминать, как прошлой зимой, в ненастье, в стужу бегали они, несколько инструкторов, из школы в город, на дополнительные занятия, чтобы подготовиться в академию. Дорогу заносило, автобус не ходил, в оба конца на своих двоих… не унывали: жили планами, Москвой, командирским будущим «академиков». Занятия проходили в классах местного аэроклуба.
— На переменке курсанты-школяры высыпят, обступят, в рот глядят, как вы сейчас… А домой, в общежитие, ночью завалимся, поставим чайник…
— …и давай красоток обсуждать…
— Нет, — вздохнул Миша. — О женщинах скупо говорили. Очень скупо. Это здесь пошло. Дома таились. Почти не говорили…
— Добра-а…
— Без женщин трудно, с ними не легче, — сказал Миша. — Правда. Я, например, так ее и не понял: сама мне свиданку назначила и с другим пришла. «Мальчики, не надо драться, я боюсь». Драться… Он боксер, чемпион какой-то, в Первомай на грузовике приемы показывал. Я никогда в подобном положении ве был, даже растерялся…
— Миша, ты про свою знакомую с Заимки? — спросил Тертышный, с удовольствием говоря «ты» летчику, окруженному таким почтением, и показывая всем, сколь доверительны их отношения.
— Про нее, про Ксюшу… «Я хотела тебя проверить…» — «Проверила?» «Да! Не совсем… У тебя в волосах какие-то зеленые мурашки. Ой, и у меня! Я их боюсь…» Привезла с моря камушки: «Красивые, согласись?» Красивые, да не броские, говорю, ты их водой смочи, заиграют… «Как догадался? Молодец! Ты не знаешь своей силы!» Я — не знаю, она — знает.
— Я говорю — добра…
— Батя мой городошник — страсть. Как выходной, он за чурки. Мама ворчит, пилит, дескать, по хозяйству бы помог, знай баклуши бьешь. А как отцу соревноваться, выступать за свой завод, она ему: «Иди, иди, да смотри, выигрывай, не то на порог не пущу…» Вот и у нас с Ксюшей. Был рядом — все непонятно, на фронт улетел — вое по-другому. В каком отношении? Вроде как ради нее стараешься. Пытаешься что-то доказать…
— Чтобы на порог пустила?
— Вроде того.
— Боксер, наверно, давно через порог перебрался… Выражение спокойствия на лице Клюева сохранялось с некоторым усилием, всегда более заметном при желании продемонстрировать другим собственную невозмутимость. Не боксер его, однако, тревожил, а размолвка с Ксюшей… короткая, саднящая, из тех, что неволят долго. «На своей свадьбе я хочу быть в белом», — заявила ему однажды Ксюша. «Как в церкви, что ли?» — удивился он, свадьба между ними никогда не обсуждалась, свадьба от него была за тридевять земель. «В белом. Вся!» — Вскинув руки над головой, она плавно их опустила, заводя за спину и показывая, какой шлейф должен виться по ее следу. «Ты хочешь венчаться?» обмер Миша: летчик-комсомолец с невестой под фатой?!. «Я хочу быть как пушкинская невеста», — объяснила ему Ксюша тихо, так, что он не стал протестовать. И отговаривать ее — тоже. Не решаясь признаваться в этом вслух, презирая себя, он в душе ей уступил, а теперь, после нескольких месяцев фронта, уже не столь сурово, как прежде, судил себя за тайное потворство ее предрассудкам, ее мещанской прихоти. Ему хотелось поделиться этим с кем-то, приобщить другого к своей несмелой радости, но поймет ли его, например, Тертышный, он сомневался, не знал, заговорить с ним об этом или нет…
— У тебя сколько вылетов? — спросил его Тертышный.
— Сто, — нехотя отозвался Клюев.
— Боевых вылетов? — переспросил воентехник, делая ударение на первом слове.
— Сто.
Подозревая розыгрыш, желание подшутить над новеньким и одновременно понимая неуместность такой затеи, Тертышный потупился…
Летчики за столом были серьезны.
— С июля месяца — сто боевых вылетов?!
— Я в августе начал. Переучился на ИЛ и пошел, — пояснил Миша. Он не легко выговорил это «пошел», вновь поддался хлынувшим чувствам. — Первый вылет второго августа, как сейчас помню. Командир звена Федя Картовенко по плечу шлепнул… эх, мужик Федя Картовенко, в госпиталь попал, а то бы сами убедились, какой мужик. Рука у Феди… теплая. И второй, и третий вылет второго августа. А бывало, по пять раз в день вылетал, народу-то нет. Взлечу один, меня пара прикрывает, как аса, над целью уже табуном, гамузом, там не разберешь, кто персона, кто прикрывает, над целью все равны. Вчера разменял сотню. Погода — видишь? С утра сходил, вернулся.
— Давайте-ка за это делю, — предложил летчик, сосед Тертышного.
— За погоду, — уточнил Миша.
— И за нее. За вечный туман над Большой Лепетихой.
— Как подгадали, товарищ лейтенант, как раз под праздники, — вставил старшина, определявший воентехника на постой.
— Старался, Конон-Рыжий, старался.
— Да, это праздник. Вернее, подарок празднику. — Подняв кружку, старшина медлил, не позволял себе упредить в священнодействии молодых командиров, весьма за столом рассеянных.
— Каждому своя чаша, — сказал Клюев. — Кому эта досталась, кому заздравная, выбирать не приходится. Выпили.
— Товарищ лейтенант, далека вам кажется Заимка? — спросил Конон-Рыжий.
— Не ближний край.
— Старый Крым — дальше, — заявил старшина, взывая к жалости, к сочувствию с неприкрытой, выжидательной требовательностью.
Клюев отнесся к его словам с пониманием, в большем Конон-Рыжий не нуждался.
— Сто боевых вылетов на ИЛе такой факт! — отвлекся он от Старого Крыма. — Сто вылетов надо отмечать отдельно. Шутите? Сто!
— Товарищ лейтенант, мы вчетвером столько не сделали, — сказал сосед Тертышного. — Когда? Все пятимся. От Лепетихи к Федоровке, потом к Токмаку.
— За Пологами упремся, — повторил Клюев, склоняясь к столу.
— Миша, ты в себя веришь? — спросил один из летчиков, желая больше всего узнать: как он сумел столько, начав в августе? Больше, чем все они, вместе взятые?
— Работаю без предпосылок, — огласил он первое условие.
«Без предпосылок к летным происшествиям», — так следовало его понимать. Еще проще: летаю отлично, летаю как бог и без больших физических усилий.
У меня механик ювелир, ювелир-инструментальщик, самолет отрегулирован по науке, чуть трону — все. Двумя пальчиками. — Он улыбнулся, сложил два пальца щепоткой, осторожно подвигал, поводил ими из стороны в сторону: Тю-тю — все. А насчет того, чтобы смикитить в воздухе, сообразить, обдурить противника, тут лозунг старый: кто — кого. Меня на ИЛе не сбивали. Ни разу. Переучился и пошел… Слушая лейтенанта, Тертышный вспоминал маннергеймовские УРы, укрепрайоны под Выборгом, куда их посылали, вспоминал почему-то «аниски», емкости для мелких бомб, похожие на ведра, штурманы с «р-пятых» опорожняли их над целью вручную, дергая рычаг… бесконечные страдания и муки его шести боевых вылетов. А — сто?! Он слушал Клюева, и не было перед ним «разгильдяя, лопуха, тепы», да и себя Тертышный видел в ином свете, причастным к поразительной его судьбе, то есть не дежурным по лагерю, снисходительным к твердой просьбе начальства, а участливым, отзывчивым благодетелем Миши.
— Считаю, что пятьдесят на пятьдесят, — продолжал лейтенант. Пятьдесят процентов умения, пятьдесят — везения. Да чтобы под руку не вякали. Терпеть не могу, когда под руку вякают. Техник по оружию ошибся, не так поставил сбрасыватель, а мне взлетать. Почему, спрашиваю, «залп» поставил? Ведь по переправе бьем, нужна «серия», чтобы переправу накрыть? «Товарищ командир, чего вы кричите, все равно вас собьют…» А я в себя верю, — сказал Клюев. — Не сделан еще такой снаряд, чтобы меня убить.
Сказал о себе, полегчало всем; Миша и вовсе разошелся: сгреб под столом, подхватил двух хозяйских щенков спаниелей, на его широкой груди они сложились в странное двухголовое существо, и, глядя в их черные, влажные мордочки, по-матерински воркуя над ними и напевая вальс из «Петера», он осторожно закружил между столом и печкой.
Утром полк уходил дальше на восток, Тертышный месил сырую, вязкую землю вокруг одноместной клюевской машины, лейтенант прикидывал, соображал, как ему выбираться из этого киселя, да этой слякоти, как взлетать, грузить ли баллоны со сжатым воздухом для запуска мотора или уходить налегке. Положение Тертышного было аховое. К фронту, известное дело, домчат, доставят, без комфорта, но быстро, отход же планом не обеспечивается; не только паровоза, завалящей полуторки у них не было. Не возьмет, оставит его летчик, и вместо возможного — как мечталось на тендере, — желанного вступления в село Веселое, которое его отец отбивал у махновцев, придется ему топать пехом по раскисшей дороге до самых Полог — в куртке и шлеме.
Клюев принял такой вариант: взять Конон-Рыжего — он может и пушки зарядить, и бомбы подвесить, и за механика сработать, — взять один баллон со сжатым воздухом и Тертышного.
— Полезай, воентехник, отважный человек, — говорил он, помогая Виктору забраться в тесный вырез грузового отсека, прорубленный за кабиной летчика. — Полезай, Россия нынче на отважных держится.
Оба, Тертышный и Конон-Рыжий, могли только стоять в гнезде, как бы заклинивая друг дружку в узкой горловине и выставляясь наружу по грудь. Они напоминали хозяйских кутят, с которыми Миша накануне вальсировал, — он уносил их обоих от врага, сунув себе за пазуху.
Видимости не было, дождь со снегом сек лица, облачность укрывала их от «мессеров». «Отважный… Отважными держится, — повторял слова летчика Виктор, теснясь и ожидая близких Полог. — У меня медаль „За отвагу“, у него и этого нет, ни одной награды не получил…»
Облачность вдруг кончилась, низкое осеннее солнце ударило в глаза, дождь и снег прекратились — Конон-Рыжий слабо улыбнулся. Свет, разливавшийся над землей, все покрывая длинными тенями, не грел. Уныние овладело Тертышным: у него не было под рукой даже стартовой ракетницы. В холодном, слепящем свете низкого солнца он различил пятно. Неподвижный сгусток, комок, «Пчелиный волк!» — окрестил его Виктор, не понимая, откуда он взялся и откуда всплыло имя лесной осы-бандитки, налетающей из засады на пчелиный рой. «Пчелиный волк» сходился с ними, обретая черты «ме — сто девятого». «Мессер» видел их, жал вдогон. «Пчелиный волк!» — выставляя руки перед собой, кричал Тертышный, как будто это могло его остановить, задержать, сбить с курса, стучал кованым каблуком в кабину Клюева, верещал, не слыша себя, сквозь рев мотора взывая оглянуться, увидеть, вильнуть… Под четырьмя укрупнявшимися, в него нацеленными стволами ноги его обмякли, но, поддержанный старшиной, он стоял в рост, бессвязный вопль рвался из его глотки, вопль ужаса и проклятья, проклятья беспомощности, на которую он обречен, стесненности, скованности соседом, мешавшим ему укрыться, потом он осел и не видел, как мелкой воробьиной стаей прянул «мессеру» в нос бортовой инструмент старшины, как дротиком с отчаянья метнул в него Конон-Рыжий свой гаечный ключ…
Расстрелянный в спину в упор, ИЛ все-таки не упал. Он был посажен, приземлен Мишей, вмазал на окраине Полог в траншею, взметнулся на спину, и в момент последнего курбета непостижимая, никем не угаданная великая сила, поднявшая Мишу к ноябрю сорок первого года на высоту ста боевых вылетов, позволила ему короткое движение, безошибочный нырок вправо, к полу кабины, к лапкам магнето — выключить зажигание; в двадцать два года он был летчиком до мозга костей.
И завалившийся ИЛ не взорвался, не загорелся. Когда Тертышный и Конон-Рыжий, подрыв сырую землю, выбрались наружу, Миша Клюев, безвестный летчик сорок первого года, был мертв.
Мгновения, потрясшие и разобщившие под черными стволами «мессера» двух очевидцев последних минут Миши Клюева, еще не раз сказались в дальнейшем; но вскоре за Пологами их пути разошлись: воентехник Тертышный оказался на востоке, в приволжском ЗАПе,[3] где стал летчиком, Конон-Рыжий, с узким гребнем седины, оставленном на его выпуклом затылке Пологами, попал через Туапсе в осажденный врагом Севастополь, — со смутной надеждой, согревавшей его при каждой встрече с крымской землей — увидать своих, жену и дочурку… Снявшись июльской ночью сорок второго года по тревоге из Россоши, штаб 8-й воздушной армии вместе с войсками Южного фронта откатывался к Сталинграду; командующий воздушной армией генерал-майор авиации Хрюкин кружил на «эмке» по задонской степи, пытаясь наладить взаимодействие между наземными частями и авиацией и повторяя одно: «Всему голова связь!» Сложившаяся фраза, как он замечал, воспринималась по-разному: одни слышали в ней указание, другие частичное объяснение происходящего.
Путь от Россоши с ним коротал подполковник, бывший командир полка бомбардировщиков, списанный на землю по ранению и получавший стажировку в оперативном отделе штаба армии. Полевой телеграф бездействовал, сведения о полках и дивизиях не поступали сутками. На скрещении дорог или в заторах, не пропускавших «эмку», подполковник наводил справки. «Авиация не проходила?» спрашивал он, имея в виду наземные эшелоны. «Вся вышла, — отвечали ему. — С Харькова не видать». Бойцы наспех выдвигавшихся заслонов «голосовали» вдоль проселков, узнавая, где немец. Подполковник, седовласый сыч, воевавший на Дону в гражданскую, был в пути за командора.
В ногах он держал автомат, на коленях — планшет с картой. Лексика его конармейской молодости, пополнившись с годами авиационными словечками, придавала речи своеобразный бомбардировочно-кавалерийский колорит. «Даю тебе, товарищ боец, курс, — обращался он к водителю. — Тем курсом выскочим на балочку. Где и заднюем. Скорость аллюр три креста». Вместо балочки пробка на дороге. Поворачивать назад?.. Идти в объезд?.. Ждать?.. Ждать, пока налетят, потом поворачивать?..
«В объезд!» — командовал Хрюкин.
«В объезд!» — эхом вторил ему командор.
Чем ближе Дон, тем сумрачнее становился подполковник.
Вспомнил сгинувшего с началом войны Птухина («Мы с ним из одной роты аэропланщиков…»), потом своего первого эскадронного Горькавого, Косую Мечотку, где зацепила его когда-то казацкая пуля, как укрывался холодной осенью в стогах… а вокруг ничего не узнавал. Это его доканывало. Он мрачнел лицом, мрачнел…
— Конницу Мамонтова давили аэропланами, сколько их у нас было, слезы! — взорвался подполковник. — А через двадцать лет… через двадцать два года, где того белобандита рубали, меня берет в шенкеля «юнкерс», гад такой. Еще «фонарь» откроет, кулак выставит… — угрюмо оглядывал он пустующий на востоке горизонт… Нет наших.
Но летят.
— Всему голова связь, — дал свое объяснение Хрюкин.
— Возможно… Прошлый год, под Киевом, если помните… Я в каком положении оказался? А вот в каком, Тимофей Тимофеевич: то демонтируй узел связи, то взрывай. Тол подвели, собрались машинку дернуть — «Отставить!». Слетали на отсечение налета, команда: «Отходим!» А баки-то пустые, вот какое положение. Горючего нет, подвоз кончился. Связь перебита, что с Киевом неизвестно. Одни болтают — сдали, другие — уличные бои. Короче: истребители, командую, — со мной на пятачке истребители остались, — занять круговую оборону! Коли «дугласы» обещаны, авиация не подведет. День держимся, другой. Боезапаса нет, фуража нет. Приказываю: ждать! Будут «дугласы»! Меня подзуживают отходить, пробиваться, дескать, тепленьким накроют… Цыц! пресекаю. Паникеры, упадочники, отставить!.. Не было такого, чтобы авиация подвела, я им челюскинцев привел… И что же? Мой верх!.. Не «Дуглас», «пешка», в единственном числе, хвостовой номер «девягь»… Явилась. Как мы красавицу встретили — другой разговор… рассвета дождались, в бомболюки погрузились, и таким-то манером девять человек летного состава вывезли… Теперь в Валуйках встречаю воентехника с «девятки». От Харькова цехом прет, злой. Волком смотрит. Сапоги на нем, Тимофей Тимофеевич, не описать. Подметки прикручены телефонным проводом, как ступает — непонятно. «Пока, говорит, — союзнички второй фронт не откроют, я их не сяиму». — «Никак их устыдить хочешь?» — «Потерплю, — отвечает. — Может, из Тобрука ударят…» «Да ведь Тобрук-то, — говорю, — англичане сдали…» — «Тобрук?!» — «Сдали. Было сообщено». — «Тогда я босый пойду». Внешне как будто не того… Здоров.
— Долго же ему босым шлепать… — отозвался Хрюкин.
— А нам?! — и смолк подполковник: нос к носу с «эмкой» — немецкие мотоциклисты…
Под автоматными очередями метнулись в степь, петляли по ней ночью, как зайцы… Все живое с нашей стороны двигалось к Дону, их же в потемках занесло на какую-то пустошь, они увязли в трясине, на рассвете собралась подмога, «эмку» вынесли на руках…
По воде, сколько хватало глаз, колыхались плотики, бревешки, резиновые скаты, а лодок не было. И парома, обозначенного на карте, не было. Паром увели, чтобы не достался противнику, на другой берег, для верности там его и притопили.
Из обломков кинутого грузовика соорудили плот, подвели под него выловленные лесины, вкатили на хлипкую опору «эмку», В расчете на паром, к берегу подошла и встала мотоколонна, за нею слышны были танки… «Грести по команде, слушать меня, — распоряжался Хрюкин. — Не то поплывем и не выплывем». Вспомнив, как гонял когда-то да Дону плоты, скинул сапоги. Связал ремнем, перебросил за спину. Расставил гребцов. Упираясь босыми ногами в скользкие доски, вымахивал свою крепкую жердину, задавая ритм, находя в забытой, ладно пошедшей работе некоторое успокоение. Вода мерно шлепала, омывая тупой нос плота.
Покачиваясь и выправляясь, добрались до середины.
— Ве-зу-у… ве-зу-у… — гулко понеслось над слепящей темной водой.
— Идут по наши души, — сдавленно выговорил командор, подгребавший позади генерала дощечкой; девятка «юнкерсов» заходила на мотоколонну по течению Дона низко, полигонным разворотом. В налаженном маневре с тщательным соблюдением строя — безнаказанность, вошедшая у немцев в обычай. Просвистела, ухнула, вскипятила воду пристрелочная серия.
— Р-раз! — командовал Хрюкин, сгибая колени и вымахивая свой шест. Ему вторили с другого борта. Не успеть, не уйти — понимал Хрюкин, вкладывая в толчки всю силу и прикидывая расстояние до «юнкерсов». — Р-раз… р-раз!.. Заносил жердину, и греб, и толкался… Хриплый клекот раздался сзади — это выдохнул и выпустил из рук дощечку подполковник, первым увидя, как, слабо дымя, без пламени завалился… громыхнул флагман девятки.
— Батюшки святы, — бормотал подполковник, изумленно осевший. — Тимофей Тимофеевич, товарищ генерал, — теребил он Хрюкина за штанину, но теперь уже и Хрюкин не отзывался, захваченный зрелищем: пятерка наших истребителей с безоглядным азартом, в остервенении расшвыривала «лапотников», вошедших во вкус даровых побед. Он не звал, не понимал — кто они? Откуда? Из дивизии Сиднева?.. Неистовость, находчивость ЯКов, а главное, конечно, результат вслед за флагманом закурился дымком, закачался еще один «юнкерс», — вызвали всплеск восторга, заглушивший все его команды. Кто-то, на радостях не утерпев, прыгнул с плота, подняв волну и угрожая «эмке». За ним другой, третий…
— Куда!.. Отставить!..
Какое…
Подполковник по пояс в воде, не слыша себя, орал:
— Руби!.. Руби баклановским ударом!.. Ну, держись, гады!.. Держись!..
Потом и Хрюкин, вскинув связку своих сапог, кричал яростно и восхищенно:
— Время!.. Время засекай, подполковник!.. Я их разыщу, командира разыщу, ведомых!.. Всех узнаю, всех! Так добралась они до Калача-на-Дону.
Когда вступивший в командование 8-й воздушной армией Хрюкин предложил Василию Павловичу Потокину должность инспектора по технике пилотирования, Василий Павлович ответил согласием без промедления. Место армейского инспектора отвечало желанию Василия Павловича быть там, где он принесет наибольшую пользу. Эта должность, не являясь командной, делала его, однако, полновластным хозяином в тонкой сфере, где пульсирует и дышит все, что определяет выучку, степень зрелости, перспективу летчика.
Инспектор Потокин — признанный мастер техники пилотирования.
Отточенность навыков, школа, культура, которой он обладал, позволяли инспектору, как говорится, читать с листа все, что выявляло неопытность, недоученность, особенно резко бросавшиеся в глаза, когда на аэродромы Приволжья группами, по-школярски старательными и неумелыми, приходила молодежь из ЗАПов и училищ. Держался он независимо, несколько особняком, влиятельный, наделенный правом строгого спроса полковник, но эта манера, сложившаяся с годами, внутреннему состоянию инспектора не отвечала. Меньше всего думал Василий Павлович о контроле, о проверке. Главная его забота сводилась к тому, чтобы как можно быстрее усадить молодых, не позволить «мессерам», с их собачьим нюхом на такие прилеты, нанести внезапный удар в самый невыгодный для нас момент, когда строй уже распущен, самолеты разошлись, растянулись на «кругу» поодиночке, без прикрытия, как живые мишени… «Выстилай полотнище!» — командовал Потокин финишеру, медлившему расправить свернутое в целях маскировки посадочное «Т». «Зеленую ракету! Еще!.. Красную!.. Автостартер!..» — мотор, сдуру выключенный молодым летчиком на посадочной, грозил затором. Зная, что это часто случается, Потокин держал автостартер наготове. И пожарную машину, и дежурного врача, но существо положения не менялось: хозяйничали в августовском небе Сталинграда немцы; порой инспектору казалось, что он слышит беззвучный лепет отчаянья и решимости: «Дайте сесть!.. Дайте сесть, и я начну!..» — наивная попытка молодого, впервые пришедшего на фронтовой аэродром, выставить противнику какие-то условия. Чуткость, с которой улавливал Потокин это осознание новичками собственной беззащитности, была повышенной, болезненной не только потому, что война учит жертвами, где ошибка, там и кровь, но и потому, что в душе он считал себя ответственным аа эту кровь.
В лучшем случае — сесть давали.
В лучшем случае «мессера» опаздывали, вновь прибывшие успевали заправиться, отведать фронтового харча… не больше: час первого боевого вылета вступал в свои права.
Неповторимый час. «Должно быть, похож на мать!» — замечал Потокин среди отобранных на задание летчиков чьи-то сведенные брови и приоткрытый, детской свежести рот; как трогательна, как обнажена в молодом лице его доверчивость и мягкость… «Не в отца, в мать», — решал инспектор. И эта сосредоточенность душевных сил на одном придавала ему уверенность… Но то, что он принимал за собственную проницательность, было лишь волнением стартовой минуты, желанием уверить себя в счастливом исходе вылета.
— Бомбы сбрасывать умеешь? — спрашивал Потокин.
— Да.
— На полигоне бомбил?
— Один раз. В ЗАПе.
— Один раз?
— Да.
— Попал?
— Нет.
— Сейчас полетишь и попадешь.
— Хорошо… Согласен.
За секунды до взлета, повинуясь внутреннему толчку, редко в нем обманываясь, Потокин вскакивал на крыло, нырял с головой в жаркую, подрагивающую, обдуваемую винтом кабину новичка — проверить соединительный кран, триммер, сбрасыватель, то есть сделано ли все, чему летчик научен, но что в преддверии первого боя может вылететь вон из головы. Полуобняв паренька за плечи и видя, как изменено его лицо тесным, неразношенным шлемофоном, его сморщенные веки, напоминал:
— Направление — держать!
Это о взлете говорил инспектор, о подсобной примете, ориентире на горизонте, помогающем не уклоняться…
— Направление, товарищ полковник, одно — на фашистов!
— Уцепись за хутор, голова! Хутор видишь? На него взлетай!
— Есть, хутор!
Инспектор съезжал по крылу на землю, пряча свое смятение, неспособность что-то изменить, улучшигь.
«Десятилетку кончил. Определенно!» — слушал он другого истребителя, зычноголосого, с выправкой строевика-гвардейца. Черты лица не по возрасту определенны, изгиб складок вдоль крутого лба — в контрасте с достоинством и собранностью молодого летчика… А выправка! Таким разворотом плеч в авиации блещут редко.
— Давно воюете?
— С двадцать третьего числа. Нынче двадцать пятое. Давно.
— Идут дела? Или как?
Чем-то сержант неуловимо привлекает.
— Напарника увели, — указал сержант на летчика, похожего на мать. — Как буду без него — не знаю.
— Слетались?
— С детского сада, товарищ полковник.
— Мне казалось — с ясель…
— Или даже с ясель… Упор делали на то, чтобы немцы нас не расщепили.
— Правильная установка… Что имели по истории? — Василий Павлович почему-то решил, что он найдет с ним общий язык, если коснется истории.
— Не профилирующий предмет, — улыбнулся сержант. Резкие складки на лбу летчика разгладились, лицо прояснело.
— Студент?
— Два курса архитектурного.
— На экзаменах по рисунку давали голову Сократа?
— Если бы… Корпел над Диадуменом.
— Олимпиец с копьем?
— Олимпиец с копьем — Дорифор, — сержант осторожно поправил полковника. — Диадумен — олимпиец-победитель. Олимпиец, который повязывает себя лентой. — Неожиданный, быть может, неуместный разговор смягчил, расслабил сержанта, его образцовая выправка потерялась, медленным, шутливо-грациозным поворотом головы и плавным движением рук он передал, чуть-чуть шаржируя, горделивость утомленного грека-триумфатора с лентой, изваянного Поликлетом. Радиошнур, вделанный в шлемофон летчика, свисал за его спиной китайской косицей.
Таким он и остался в памяти инспектора.
Проводы — нервы, ожидание — пытка.
Время на исходе, а горизонт светел, спокоен, чист, потом на небесном своде замаячит один-одинешенек… Наш ли? Наш. А дойдет, единственный из восьмерки? Он не летит, шкандыбает, клюет носом, покачивает крыльями, и стоянка, земля, безотчетно вторит судороге его движений…
Сел. «Лейтенант, — говорят на стоянке. — Виктор Тертышный».
— Разрешите доложить, товарищ полковник, пришел! — выпаливает летчик, оглушенный происшедшим, понимая пока что немногое: майора, водившего группу, нет, двух его замов нет, а он, пилотяга без году неделя — выбрался, явился.
— Вижу, что пришел. Группа где, лейтенант Тертышный?
Лейтенант ждет скорее поощрения, похвалы, чем требовательного спроса.
— Был поставлен в хвост, товарищ полковник. В хвост, а не в голову колонны поставлен, вот что достойно сожаления, так он отвечает.
— Замыкающим последней пары, — продолжает летчик, — из атаки вышел ни-ко-го, степь да степь…
— Вышли — влево?
— Вправо.
— А было условлено?
— Условлено влево. Но слева, товарищ полковник, — то ли вспоминает, то ли подыскивает оправдание летчик, — очень сильный огонь. На сунешься, пекло… Я блинчиком, блинчиком…
— Вправо?
— Ага… Когда смотрю — один. Такое дело, курс девяносто, и домой…
— Сколько у вас боевых вылетов?
— Первый, товарищ полковник…
Что с него взять, с Тертышного…
Выезжал Василий Павлович и на передний край, в убежище из трех накатов, где воздух без паров бензина и пыли, куда ночью с реки тянет свежестью, а днем, с духотой и зноем, сгущается трупный смрад. Живя в соседстве с пехотой колебаниями и поворотами наземного боя, Потокин наблюдал за воздушными схватками, штурмовиками, поддерживая на последующих разборах вылетов инициативных, смелых командиров, помогая изживать шаблон, намечая пути дальнейших поисков в организации и ведении боя. Близость к пехоте, личные, многократно проверенные впечатления придавали суждениям Потоиина убедительность. В этом смысле ему однажды особенно повезло: на НП, где он находился, был заброшен редкостный по тем временам трофей, прихваченный до ходу танкового контрудара вместе с термосами, финками, зажигалками, прочими солдатскими цапками, — немецкая полевая рация ФУГ-17. Компактная, надежная в узлах, на резиновом ходу. Потокин, нацепив литой резины наушники, шарил в эфире, когда появился утренний наряд «мессеров». Вслушиваясь, подстраиваясь на волну, Василий Павлович сквозь ветку тальника над головой следил, как приготовляются «мессера» к защите порученного им квадрата: запасаются высотой, выбирают освещение. Вскоре он их услышал. На волне, отведенной ведущему, ни воплей, ни посторонних команд. Беззвучное торжество дисциплины.
Своих Потокин проглядел.
Он увидел их с опозданием, не всех сразу.
Вначале бросились ему в глаза два наших тупоносых истребителя И-16, два маленьких «ишачка», в любых обстоятельствах юрких и маневренных, но тут словно бы тем-то связанных. Низко, над самой землей, меняясь друг с другом местами, они, казалось, все силы прилагали к тому, чтобы не продвигаться вперед. Точнее, продвигаться вперед как можно медленней. Потокин их не понимал. Выставившись из отрытого для радиостанции окопчика чуть ли не по пояс, он увидел всю группу и понял причину такого поведения истребителей: еще ниже «ишачков», что называется, елозя брюхом по руслу старицы, рокотало, приглушенное боем артиллерии, звено наших ветхозаветных Р-5… Как будто с Киевских маневров (когда на разборе в Святошине нарком лично поощрил действия находчивых разведчиков) — как будто прямым ходом явившись оттуда, с предвоенных Киевских маневров, деревянноперкалевые «р-пять» средь бела дня отчаянно и неудержимо лезли черту в пасть, в жерло бушевавшего вулкана, и вел их не порыв: в вынужденно-медленном движении звена под наводку, под прицел была обдуманность, своя хитрость, — они прижимались к высохшему руслу речушки, чтобы ударить немцев с фланга, где наших не ждут, где зенитка слабее и пристрелена по другим высотам… Варят, варят у ребят котелки, не впустую украинские маневры.
«Они?! — похолодел Потокин. — Они», — безошибочно определил он, еще больше выставляясь из окопа, — те два летчика, которых недавно он провожал в бой, архитектор, воспроизведший грека-победителя с повязкой, и товарищ его детских лет, похожий на мать. Именно эти двое сопровождали на «ишачках» звено «р-пятых». Скорость «р-пятого» в три-четыре раза меньше скорости «ишачка», и два наших молодых истребителя, храня братскую верность тихоходам Р-5, защищали и ободряли их своим тяжелым танцем над степью, требовавшем такого труда и такой беззаветности.
Дрожь колотила Потокина.
Неторопливо разделившись, «мессера» связали боем «ишачков», чтобы расправиться с троицей «р-пятых».
«Achtung!.. Vorwerts!.. Helmut!..» — выхватывал Потокин отдельные слова в гортанной чеканке, слыша сдавленные, напряженные хрипы, понимая главное по смыслу:
«Вперед, Хельмут, вперед, покажи Ивану, что ты не коротышка», командир следовал за Хельмутом, прикрывал его и нацеливал. «Ближе, ближе, еще!.. Молодчага, Хельмут! Теперь Иван не проснется… И не засматривайся!.. А я пишу письмо твоей Урсуле!» Концовку, выпадавшую из контекста, «Und ich shreibe den Brief an deine Ursula», Потокин, не отдавая себе в этом отчета, перевел машинально, с беглостью прилежного мальчика из языковой группы.
Почудилось Потокину, или забулькавший мотор взвыл с предсмертной тоской, или со стороны пришел и распространился над водой этот звук — звук нестерпимой обиды, безответной, сиротливой жалобы, совпавший с последними секундами «р-пятого»… но долго пролежал он в окопчике, потрясенный.
Звено, как и он, Василий Потокин, добросовестно вынесло из довоенных дней все, что могло, и вот его удел. Исполнить долг и погибнуть.
Пленный летчик из Ганновера вспомнился Потокину.
Его седая прядь, пошедшая пятнами шея.
Он не понял немца в тот раз.
Немец не объяснял, комментировал: связь, радио для него все равно, что магнето, дающее искру в мотор. Как мертв мотор без магнето, так для него немыслим вылет, воздушный бой без радио…
Сколько же нам нужно сил, времени, знания, думал Потокин, чтобы исполнить свой долг и — победить.
…Едва отбыл Потокин по срочному распоряжению Хрюкина в местечко Гумрак, как прямое попадание мины развеяло трофейную радиостанцию ФУГ-17 по ветру…
В Калаче Хрюкин зацепился. Наладил работу штабного звена, и сразу пошли от него в разные стороны посыльные и нарочные. Одни — на запад, откуда только что выбрались с грехом пополам: под Вертячий, Суровкипо, Верхний Мамон, Бутурлиновку, то есть в незанятые врагом хутора и селения, где, согласно оперсводкам, падали подожженные, сбитые СБ и ПЕ-2, - оказать помощь потерпевшим, демонтировать и доставить на КП армии самолетные радиостанции. Волами, коровами, лошадьми, любыми средствами, срочно… Без радио он задыхался.
И — на восток.
Разыскивать пропавших, восстанавливать боеготовность, обеспечивать в Сталинграде штабные тылы…
Командиром смелой пятерки ЯКов, расколотившей «юнкерсов» в горький час донской переправы, оказался… Клещев! Иван Иванович Клещев!.. Тот самый старший лейтенант, волейболист, забойщик, который брал игру на себя… взлетал над сеткой, бил неожиданным способом, застигал соперника врасплох. Удар у него шел. Когда это было?
Вот такая встреча. Майор Клещев.
Собственно, встреча еще не состоялась, встреча впереди.
Истребители Клещева входят в особую авиагруппу, созданную Ставкой для прикрытия нового, Сталинградского направления. Немецким истребителям экстра-класса противопоставлены наши мастера, наши асы. Асы против асов. Словечко «ас» в обиход введено, легализовано. Возглавил группу начальник инспекции ВВС, стремительно — что не раз бывало в авиации — восходивший: капитаном не был.
Прошлой осенью блистал по кабинетам управления майором, подполковником не был, а нынче — широкий золотой шеврон на рукаве, четыре «шпалы» в петлицах: полковник. Всесильный полковник. В Сталинград прибыл на личном «Дугласе», на том же «Дугласе» виражит, воткнув крыло в землю, гоняет коров.
Место базирования особой группы — Гумрак. «Гумрак — вроде острова, поют Хрюкину штабники, — все к нему льнут»… Именно льнут. «Разбитые части, отдельные экипажи, — говорят ему. — Некоторые сидят без руководства. Полк, скажем, в какой-то мере уцелел, командира нет…»
Гумрак ждал Хрюкина, торопил и подстегивал, но пока из панелей, конденсаторов, выпрямителей, блоков, свезенных гужевым транспортом на КП в компенсацию потерь, понесенных при ночном, по тревоге, отходе штаба армии из Россоши, не был создан полевой пункт радионаведения, Хрюкин с места не тронулся. Его удерживал, конечно, не один пункт наведения, не он в первую очередь. Его связывала необходимость восстановить, полностью восстановить контроль над обстановкой, снова почувствовать в руках тугие вожжи управления… Претензии в Гумраке ему предъявят. Там с него спросят, можно не сомневаться. Связь Гумрака с Москвой прямая… Оставаясь в Калаче, он направил в Гумрак Потокина — информировать о происходящем, оказать помощь Крупенину, майору Крупенину, уцелевшему в памятном бою с «мессерами» и теперь прибывшему со своим полком под Сталинград.
Скрасил жизнь генералу Калач-на-Дону, порадовал, когда он, «Река-один», вышел в эфир навстречу ИЛам, каких удалось наскрести для поддержки пехоты. Размашисто и плотно прочесывая Дон, в зените играли «мессера». Хрюкин, строго говоря, своих по радио не наводил… То, что он делал, не было собственно радионаведением, он мог упредить летчиков об опасности… упредить штурмовиков, поднятых на задание без прикрытия… предостеречь: в воздухе «мессера»! Вот и вся его помощь. Все-таки помощь… Помощь… Волнуясь, он сбился, назвал себя не «Рекой-один», а «Волгой». Штурмовики, естественно, не отозвались. «Трезво мыслит! — воздал он должное ведущему и, смягчив той, поправился виновато: — „Река-один“, „Река-один“…» Командир группы тут же отозвался…
Обретали в воздухе голоса наши летчики, удивлялись и радовались, впервые слыша себя со стороны, — и что за свистопляска царила в ту пору в эфире, господи!.. Ведь столько соблазнов. Анонимно, то есть не раскрывая себя, вполне безнаказанно врезать от всей души капитану за слишком быстрый его отход от цели. Пустить руладу по случаю удачи. Смачно приложить нерадивого Семена: не держит строй, мерзавец.
Как в том анекдоте: культурки нехвата… Единственно. Всего прочего — в избытке. «„Кашира“, прикрой!» — «Я не „Кашира“, я — „Севан“». — «Прикрой, „Севан“, все одно российские!» Самозванец Левитан — в каждом полку свой: «От Советского Информбюро!.. От Советского Информбюро!» — и каждый похож, до удивления похож! Что тембр, что раскатистость обращения… Озорство, мальчишество, разрядка после боя — как не понять.
Радиоприемник в кабине противостоял гнету одиночества, укреплял чувство солидарности… Пусть не на виду товарищи, но — рядом, им тяжко, может быть, труднее, чем тебе, но они бьются, как и ты… несут свой крест, не бросают…
«Товарищ командующий, летчики поют!» — доложили Хрюкину. «Как — поют?» — «В голос. Во всю ивановскую. Один басит, другой тянет дискантом».
Хрюкин нацепил наушники — и что же он услышал?
— Я — Амет Хан-Султан! Я — Амет Хан-Султан! — с астматическим призвуком волнения оглашал небо молодой летчик, проявивший свою выучку в нескольких победах, одержанных подряд на виду всей линии БС:[4] он настигал врага «свечой», бил по нему, положив свой истребитель на спину…
— Я — Амет Хан-Султан, нахожусь над Сталинградом. Смерть немецким оккупантам!..
Татарский акцент усиливал клятвенность его обращения.
Кто же все-таки в небе пел?
Прикинули время; дуэт могли создать истребители, поднявшиеся с Гумрака. Хрюкин связался с полковником, командиром особой группы. «Мои летчики веселые люди», — ответствовал ему полковник. «Это не веселье!.. Это кабак в эфире!..» — «Жизнь любят, смерть презирают, потому и поют!» — «Прекратить безобразие!.. Предлагаю заняться связью как тому подобает!..»
После этого Гумрак стал для него безотложным делом.
…Однажды в детстве, в открытой степи, их накрыла низкая, темная хмара. Блистая молниями и погромыхивая, туча надвигалась быстро. В лицо веяло влажной свежестью, серая пыль впереди закипала паром, чернозем на глазах расквашивался, все уже становилась не тронутая дождем полоска. Туча накатывалась, однако, не в лоб, не фронтом, ее сносило ветром в сторону, и пока первые тяжелые капли не шлепнули его по темени, в плечи, в грудь, он надеялся, что она обойдет их, беззащитных.
Детские ожидания, как они живучи!
В Гумрак ему предстоит въехать.
По прямому каналу он поставил задание на разведку лучшему экипажу ПЕ-2, рассчитав так, чтобы к приезду на место, в Гумрак, иметь на руках самые свежие данные о противнике. Информация — козырь, в его положении единственный.
Слух о сильных, как на подбор, истребителях, собранных, чтобы прикрыть город, разошелся широко, на переднем крае их ждали… Вера в панацею, в некое средство, в универсальный способ, который один все повернет и изменит, поддерживалась в нем неопределенностью, смутой положения, но кавалерийский задор в руководстве, мнимое могущество повеления: «Навести в воздухе порядок!» всерьез не принимались. Вызревало чувство, что суждены нам иные, неблизкие и небыстрые пути, с каждодневной кровью, болью и страданием, с проявлением упорства и въедливости… Они выправят, наладят, поставят ход военной машины.
Вспомнился ему Сергей Тертышный, первое впечатление о нем, когда он увидел его на крыльце таверны, где они столовались. В напускных клетчатых гольфах, в такой же клетчатой куртке свободного покроя, при галстуке, а на голове — мягкой кожи потертый летный шлем; по моде, узаконенной Чкаловым, поднятые вверх застежки прихвачены резинкой очков-консервов, что придает шлему сходство с чепчиком… Штатское одеяние обнажало в Тертышном не просто военного, но летчика-военного. «Истинно военный летчик», — вот как он о нем подумал. А позже вслух о нем сказал: «ас». Но его тут же поправили: «Не надо пользоваться этим чуждым термином…»
Крупные серые глаза Сергея, словно бы от роду не мечтательные, привлекали выражением неслабеющей собранности. С такой внимательностью глаз плохо летать невозможно, Сами испанцы обращались к нему на французский манер: ас Тертышный. Болгары — по-польски: пан Тертышный. Русские звали по имени — Сергей…
А ему, волонтеру Хрюкину с паспортом на фамилию Андреева, солоно пришлось за Пиринеями, на каталонской земле. Еще ничего не сделав, да, по сути, ничего и не умея, только выруливая на первый боевой вылет, он попал под штурмовку мятежников, был смят, раздавлен, унижен… как будто кто уселся на нем, брошенном на землю, верхами, прижал, не давая дохнуть, повернуться, пикнуть, и потчевал, потчевал каменистой землицей… Из тех, кто успел взлететь, с задания не вернулись двое, он вспоминал их и себя, перебирая все подробности дня, черного вечера, черной ночи; никто не спал, все разбрелись во тьме, растерянные, стыдясь собственной слабости, пытаясь в одиночку совладать с пережитым, с ударом, нанесенным между глаз. Кружа в потемках вокруг хибары, козьего загона, вдыхая запахи, напоминавшие ему кизяк и катухи бездомного детства, он наткнулся на Тертышного, ему показалось, Тертышный обрадовался их встрече. «Да, товарищ командир, сказал он, угадывая во тьме крупное лицо Тертышного, — на войне нужны железные нервы!» Это было первое, что в тот момент просилось на язык, означая понятное обоим согласие с выпавшей судьбой и необходимость третьего не дано — ей противостоять… «Железные нервы», — отозвался командир; та же горячность уцелевшего была в его словах, та же придавленность потерями…
Тяжелый кулак ландскнехта навсегда выбил из Хрюкина беспричинный оптимизм, развеял романтические грезы о войне и понудил делиться полученным опытом щедро, без сожалений к своим соратникам.
А его попутчик-командор кое-что в своем рассказе упустил.
Кое о чем умолчал, вспоминая последние денечки Киева. «Дугласов» для эвакуации застрявших — не было. Вообще воздушного транспорта не было, пока не свалилась откуда-то «пешка». Крупенин — его Крупенин, капитан, сидевший на аэродроме, — при виде этой «пешки», говорят, взыграл. «Губы поджал, ноздри раздулись…» Вызвался на «девятке» выхватить истребителей из-под носа немцев… да своя своих не познаша. Вот беда, нет страшнее. Всем бедам беда. Хорошо, если кто объявится, пойдет наперекор, сумеет образумить. Короче, наши в окружении в сумерках приняли «пешку» капитана Крупенина за «ме — сто десятого» и открыли по нему огонь. Он заходит, садится, а его решетят, как вражину с десантом. Пуляют в кабину, в бак… Мог бы плюнуть, уйти… сел. Сел, подлатался, на рассвете распихал людей по бомболюкам, вывез девять летчиков.
«Вывез… вывез… вывез…» — устало, пытаясь вздремнуть, думал Хрюкин.
Вот он, Гумрак, о котором ему пропели уши. Достославный Гумрак, спасение Отечества, — мелькнул за хуторским плетнем, прорисовался росчерком пустынной взлетной полосы… Пылит, грохочет беспокойный Гумрак. Что-то он ему готовит, что-то здесь его ждет? Единственная на летном поле белая гимнастерка, перехваченная темным ремнем, как он определил при въезде, была гимнастеркой полковника, командира группы. Полковник прохаживался возле посадочного «Т» в сопровождении двух или трех человек, видимо, поджидая возвращения кого-то из своих. «Туда!» — скомандовал водителю Хрюкин в сторону этой отовсюду видной белой фигурки. Тут путь «эмки» преградил ихтиозавр ТБ-3, известный в авиации и под женским именем «Татьяны Борисовны». Чадя четырьмя моторами, «Татьяна Борисовна», по-слоновьи разворачивалась на старт, ее покрытый красками камуфляжа хвост ометал широкую дугу торопливо, резко, а в оседающей пыли — доставленный ТБ выводок.
Пополнение, понял Хрюкин. Первая встреча — пополнение. Добрый, такой желанный знак. Переминаются парни у тощих своих «Сидоров», оправляя потертые гимнастерки «БУ», как по команде запуская гребешки в едва отросшие курсантские прически… Он вышел из «эмки».
— Товарищ генерал-майор!.. — подлетел к нему старший.
Докладывал складно, радуясь, что углядел генерала, не подвел команду, косил возбужденно глазом в сторону жиденькой шеренги товарищей.
Выпускники училища, шестнадцать душ. Истребители…
Уже не курсанты, еще не воины.
— Здравствуйте, товарищи военные летчики!..
Желторотые птенцы, «слетки», как говорят о пернатых детенышах, впервые покинувших гнездо.
В хорошие бы их руки сейчас! На полигоны, на стрельбы, в учебные бои.
— Год рождения? — спросил он старшого.
— Двадцатый!
Выражение взволнованного ожидания на молодом лице выступило еще отчетливей.
— Хороший возраст… Зрелый. Не сморило?.. — спросил Хрюкин. — Болтает в этой дурынде, — кивнул он в сторону ТБ. — Плюс жара…
«Я для него генерал, который все прошел, — подумал Хрюкин. — Десять лет разницы. Но остальное пройти нам предстоит вместе».
— Я на вас надеюсь, — пожал он руку старшему.
Да, поднатаскать бы молодых.
Но вся его армия сегодня — тридцать шесть истребителей, сорок восемь «ил-вторых». А в четвертом флоте Рихтгоффена тысяча двести машин.
Снаряженный по его команде из Калача экипаж ПЕ-2 ушел па разведку с опозданием, радиосвязи с ним, к сожалению, нет. Радостей ждать от него не приходится, не привез бы разводчик сюрприз вроде необходимости срочно мотать отсюда за Волгу…
«Дождусь разведчика, тогда», — отложил, оттянул встречу с командиром особой группы Хрюкин, направляясь не к посадочному «Т», а в сторону КП и высматривая издали Клещева.
Сторонясь землянки КП, — выказывая почтение начальству и вместе оставаясь в поле его зрения, — стояли летчики особой группы. Только что из боя и — токуют: все в ней, в откатившейся, отгремевшей схватке с ее сплетением жизней и смертей, перекатами звука, рваным ритмом, перепадами давления… Земля для них сейчас беззвучна, благолепна, ее ничтожные заботы, вроде ТБ, «Татьяны Борисовны», уклонившейся на взлете, — не существуют. Летчики группы экипированы знаменитым люберецким портным, как на плац, уже слышны завистливые вздохи его армейских пилотяг, хотелось бы и им щегольнуть в парадной паре последнего фасона… Что-то непривычное, новое в знакомой картине отвлекало Хрюкина. Английское хаки?.. Сапоги индивидуального кроя? Он не мог с точностью определить — что. Клещева с непокрытой, взмокшей головой признал издалека. Майор подобрался, приготовляясь ему рапортовать, потянулся к шлему… спохватился, надел на потную голову пилотку…
Тыловой лоск еще держится, еще заметен на летчиках, но кровоточат раны, полученные от асов берлинской школы воздушного боя и «африканцев», истребителей, переброшенных сюда из армии Роммеля. Наша особая группа сколочена в пожарном порядке, рядовые должности занимают капитаны, вчерашние командиры звеньев и комэски. Иван Клещев, недавно, кажется в мае, получивший Героя, — в гуще, в фокусе событий.[5] Под Харьков, где тоже было жарко, явился чуть ли не прямиком от Михаила Ивановича Калинина, с новенькой Звездой, и не сплоховал Герой Советов… А здесь, под Сталинградом, за несколько дней — семь побед, таких разительных. Крутое восхождение Клещева, его меткость и удачливость ободряют молодых, он для них и опора, и образец…
В первые минуты на земле возбуждение боем обычно таково, что усталость не чувствуется, но, судя по внешнему виду Клещева, этого не скажешь.
Полчаса назад «мессер», пойманный Клещевым в прицел, искусно увернулся, а хвост клещевской машины издырявлен. Через короткий срок Ивану снова взлетать, вламываться в свару, видеть все и решать в момент, ведя борьбу за жизнь… его, Ивана, жизнь. Скулы, подсушенные жаром кабины, степным солнцем и ветром, выступают остро…
— Немцев кто валил над Доном? — спросил Хрюкин, приняв рапорт Клещева. — Я вам скажу, нигде так не кроют нашего брата, как на переправах… Здорово!..
Сильно запавшие, обращенные внутрь, в себя глаза Клещева. Он как будто от всего отключился. Стоя рядом с ним — отсутствует.
— Флагмана как раз товарищ майор сбил, с первой атаки, — подсказывают генералу.
— Так и понял. Знакомый почерк, — ввернул Хрюкин с усмешкой, разделяя иронию фронтовых истребителей относительно газетных штампов: «воздушный почерк», «чкаловская посадка»… Случалось, и Чкалов при посадке бил машины, почерк дело канцелярское. А воздушный бой — это натура, ум, характер.
— Такого бы бойца, как майор Клещев, да новичкам в помощь… Я сегодня получил шестнадцать человек. Сосунки, «слетки».
— Молодым неплохо бы помочь, — очнулся, наконец, Клещев. — Взял нас немец, крепко взял. Другой раз сам не знаешь, как ноги унес. В крайнем случае, включать их на задание с теми, кто поднаторел. Одних посылать — это без всякой пользы, гроб.
— Такую возможность надо изыскивать, — подхватывает Хрюкин. «Разведчика нет, а время истекает», — думал он, с надеждой всматриваясь в горизонт. Он вдруг понял, что его задело, отвлекло в группе собравшихся возле КП истребителей: очкастый шлем, краса и гордость авиатора — отходит. Отживает свое. Вшитые радионаушники придали новому образцу спецодежды марсианское подобие и отняли достоинства чепчика, всеми признанное. Собственно, это уже не головной убор, а шлемофон. Кто цепляет его за ремень, кто — к планшету, некоторые соединяют в пару шлемофон-планшет.
Отсюда пестрота картины и…
Утробный, натужный вой истребителей в полете — он отсюда же. «Этот стон у нас песней зовется…»
Пение, услышанное на командном пункте в Калаче, — стон, мычание, которым летчик пытается смягчить ушную боль, нестерпимую, вероятно, но вызванную не сквозняком, не простудой, а неослабным треском, гудением, направленным в барабанную перепонку… таково качество наушников, склепанных по военному времени из железа, без смягчающей фетры, таково качество самолетных раций. И таких — дефицит. На три борта — один передатчик. «Жизнь любят, потому и поют», — вспомнил он.
— Молодых целесообразно усилить, — сказал подошедший и ним комиссар.
— Но не за наш счет, товарищ генерал! — возразил Клещев. — Не за наш. А то, говорят, генерал Хрюкин явится, он вас живо порастрясет, пораскулачит…
— Языки-то без костей, — холодно остановил его Хрюкин.
— О том и речь… Одного, слышу, прочат на повышение, другого инспектором, третьего вообще на передний край.
— Беспочвенные слухи! — отрезал Хрюкин.
— Нельзя, — договорил свое Клещев. — Нельзя, товарищ генерал, — тихо, твердо повторял он. — Так нас расщелкают в два счета. Необходим кулак.
— Железный кулак, — подтвердил Хрюкин.
— И чтобы каждый, кто соображает, был в деле, в бою. Каждый.
— Умный командир всегда в цене. — Хрюкин отвел Клещева под локоток. Как с начальством?
— Хлопотно, — понял его Клещев.
Хрюкин, ни о чем не спрашивая, мягко выждал.
— Летать рвется, а я за него отвечай, — коротко пояснил свою заботу Клещев. — А работает не чисто, — с возможной сдержанностью добавил он. — В суть дела не лезет, меня, надо сказать, поддерживает. Даже чересчур. Ребята пошумели, дескать, самолет тяжеловат, хорошо бы облегчить. Он сразу: «Представителя на завод!» У него все сразу… «Представителя на завод!.. Кислород из кабины — долой!.. Радио — долой!..»
— Перебарщивает, — сказал Хрюкин. — Будем поправлять.
Сдал Клещев. Смотреть страшно.
По шесть вылетов, по шесть боев за день.
Немцы варьируют, меняют составы, а он без передышки, из боя в бой…
Здесь у немцев выигрыш. Не полный, но выигрыш. Не окончательный. Тот верх возьмет, кто пожилистей. Чей дух свободней…
— Досуг летчикам каким-то образом обеспечили? — спросил Хрюкин комиссара и, не дождавшись ответа, с усилием, тщательно скрытым и все-таки явным для него самого, выговорил Клещеву, холостому мужику двадцати пяти лет: — И чтобы никаких Марусек!..
Хрюкин с одного взгляда распознавал летчиков, томящихся пылом минувшей ночи или грезивших о радостях новой в тот момент, когда командир ставит задание на вылет. На фронтовых аэродромах он был к ним снисходительней, терпимей, чем в мирное время…
Клещев под этот случай не подходит — собран, натянут как струна, но крайне изнурен.
— Никаких Марусек! — повторил Хрюкин. Удивленно развернув ладони опущенных рук, Клещев собрался было возразить… с лукавым смирением склонил голову. Высох. Как головешка черный.
— Вы поняли?
— Слушаю, товарищ генерал, — и впервые улыбнулся, обнажив «казенную» вставную челюсть из нержавейки, память лобовой атаки и прыжка с парашютом над Халхин-Голом.
Устоять ли танцорке из фронтовой бригады перед таким добрым молодцем? Да за ним поскачет и балерина с подмостков Большого…
Товарищ генерал, вызванный вами командир БАО заняты по личному приказанию командира группы, — доложили Хрюкину. — Навешивают в общежитии летного состава занавески. А музыка уже доставлена.
— Какая музыка?
— Патефон… Ракета…
— Тебе? — спросил Хрюкин.
— Мне, — ответил Клещев.
Уводя Ивана, «ракета» оставляла Хрюкина наедине с тревожным Гумраком, необходимостью других встреч, других объяснений.
— Надеюсь, — тиснув локоть Клещева, генерал отошел от ЯКа.
Мимо гуськом катили красноносые самолеты группы, он узнавал в кабинах знакомых, вспоминал фамилии летчиков, некоторые из них гремели под Ленинградом, под Вязьмой… Цвет нашей истребительной авиации устремился в стартовую сторону сталинградского аэродрома.
— Отбываем, товарищ командующий, — отвлек Хрюкина возникший перед ним майор Крупенин. — В ЗАП…
— Докладывайте!
Крупенин докладывал долго, трудно, отвлекаясь то на плохую оперативную информацию («Два дня полк обстановки не знал! Целей, объектов, куда бомбы бросать — ничего! Два дня ждали!»), то на скверную работу БАО («Недорабатывал БАО, крупно недорабатывал, все сами делали — и загрузку боекомплектом, и заправку машин…»). Из рассказа майора складывалась знакомая картина быстрого превращения маршевого полка в горстку летчиков, «атлантов», как назвал Крупенин тех шесть-семь командиров экипажей, на плечи которых через неделю после прибытия под Сталинград ложилась вся боевая работа, предназначенная полку… Но это было еще не все. К самому трудному майор только подбирался.
— Не поднялись истребители прикрытия? — спросил нетерпеливо Хрюкин. Бросили?..
— Хуже, товарищ командующий. — Глядя Хрюкину в глаза с выражением боли и, главное, решимости, столь ему не свойственной, Крупенин собирался с духом. — Восемь боевых дней полк отработал с полной нагрузкой, ничего не скажешь… Были потери, были и результаты… Были… И опыт… Дорогого стоит, товарищ командующий, тот опыт, сравнить не с чем, как он ценен. Теперь бы мы прежних глупостей уже не допустили, теперь мы сами ученые… да. А на девятый день, товарищ командующий, вместо ЯКов полк перехватили «мессера». Особняк считает, что был подслушан наш разговор по радио с аэродромом истребителей. Или противник шпионил на земле. Точно сказать не берусь, а факт таков: мы к маету встречи подошли с рассветом, земля еще, знаете, в дымке, взлетная едва просматривается… и вместо ЯКов снизу, с задней полусферы вознеслись «мессера»… И жахнули…
— Откомандирование в ЗАП — отставить! — прервал его Хрюкии. — Майор Крупенин, вы и ваши летчики поступаете в мой личный резерв. Вы, майор, сегодня же примете другой полк. Поскольку фронт растянулся, дальность полетов возросла, учтите: истребители в оба конца ходить с вами не смогут…
— Слушаюсь…
— Займитесь отработкой сопровождения. Вопросы увязывать путем личных переговоров. В крайнем случае, через толковых командиров штаба… — Не меняя деловой интонации и выражения лица: — Приветствую вас, полковник Потокин… Майор Крупенин, вы свободны, Василий Павлович, дела на ждут… А то и подождут, — отвлекся он; снижая голос и теряя нить разговора, он пересчитывал появившиеся на горизонте ЯКи. — Клещев?! — спросил он Потокина.
— Он… Его группа… Его летчики… По времени должен быть Клещев, уточнял и поправлял себя Потокин.
В подтверждение мрачных предчувствий, изо дня в день сбывавшихся, из шестерки к дому ковыляли трое.
Видя исхлестанную, растянувшуюся в полнеба и не чаявшую дождаться земли троицу, веря и не веря в возвращение «непотопляемого Ивана», как зовут Клещева, и уже точно зная, что разведчика ПЕ-2 ему не дождаться — сожжен или на вынужденной, но сюда, в Гумрак, разведчик не придет, свежей информации ему не доставит, — Хрюкин с горькой решимостью подытожил вынужденные, единственные в этих условиях меры, на которые он пошел, покрывая опустошительные потери. Третьего дня подвернулась ему под руку и — прямо в бой, — эскадрилья «ил-вторых», направлявшаяся из-под Куйбышева пролетом в Астрахань. Астрахань может подождать, а под Сталинградом счет на единицы, дорог каждый экипаж; давеча он прибрал и пустит в дело майора Крупенина и его пять-шесть «Атлантов»… Летчики, получающие боевой опыт в отчаянных условиях Дона — Сталинграда и способные цементировать молодняк, — на вес золота. Удержать их в армии любой ценой — его задача. Не то расщелкают. В два счета расщелкают, повторял он мысленно слова Клещева, делая усилие, чтобы следом за другими не кинуться по-мальчишечьи к его ЯКу, на этот раз целехонькому.
Оставаясь в неподвижности, на месте, Хрюкин тяжело перевел дыхание, как после трудного рывка, — перед новым препятствием.
Теперь — разговор с полковником, командиром особой группы, решил он.
— С командиром группы создались трения, — сказал Потокин, — Расхождения в одном пункте. К сожалению.
— Связь?
— Да. «Связь не стреляет», — Потокин попытался передать интонацию, безаппеляционную и насмешливую, с которой выносился этот краткий приговор средствам связи.
— Я запретил своим подчиненным употреблять выражение «связь не стреляет»… По моей армии издан приказ…
— Не обо мне речь, товарищ генерал. «Не стреляет» — его слова, полковника.
— На пункте наведения сижу лично с микрофоном, в наушниках, со всеми работаю, никого не пропускаю. — Генералу нужно было выговориться. — С нерадивых взыскиваю, вплоть до разжалования и лишения наград. Понял, Василий Павлович? С этой позиции меня не сбить!
…В суровый час, Здесь мной назначенный… — донесся до них голос певицы.
И все вокруг — или показалось обоим? — стихло. Какая власть в женском голосе на войне: полоснул по сердцу, пришиб, возвысил… Какая сила!
— Товарищ генерал! — доложил Хрюкину посыльный. — Командир особой группы и член Военного совета вызывают на двадцать один ноль-ноль…
Хрюкин мигнул Потокину с выражением: а, где наша не пропадала!
— Будем объясняться, — сказал Хрюкин. — Будем…
Классы поселковой семилетки, застроенные дощатыми нарами в два этажа, оживали к ночи, когда грузовик привозил с аэродрома летчиков. Комлев валился на свой топчан, не раздеваясь, без сил, его смаривало, потом сон отлетал. Голова гудела, как пивной котел, в глазах стояла резь. Глядя в темноту, в щелястый настил над головой, он слушал шарканье ног, сонные бормотания, говор летчиков и штурманов, сходившихся к парте у классной доски. Единственная в третьем «Б» парта — и стол, и стул, и гардероб. На ней дырявили сгущенку, потрошили бортпайки и брикеты в аппетитной упаковке из далекого штата Айова, клеили карты, резались в карты. Иногда рассаживались за ней наезжавшие в полк политруки, и оттуда доносилось: «Ленин о неминуемом крахе империалистической Германии?», «Когда русские войска вступали в Берлин?» — армейская парткомиссия разбирала заявления вступавших в партию. В конце школьного коридора — кадка на кирпичах. Поворотливый дед-дневальный, остриженный как новобранец под «нулевку», встречал очередную партию летчиков из тыла тем, что натаскивал воду в бочку до самых краев…
Два дня назад командир бомбардировочного полка майор Крупенин собственной властью, без лишних объяснений, отнял самолет у командира эскадрильи, а командир эскадрильи собственноручно и так же молча забрал в свое пользование «пешку» командира звена. После этого командиру звена старшему лейтенанту Комлеву, чей уцелевший самолет представлял собою все наличные силы звена, ничего другого не оставалось, как, не дожидаясь вечернего грузовика, на своих двоих отправиться с аэродрома в поселок, в летное общежитие.
В третьем «Б» стояла полуденная тишина.
Днем он здесь был впервые.
Окна плотно завешаны пахучим палаточным брезентом, вымытый пол отдает прохладой, на топчанах — гимнастерки, пилотки… «Сумрак покойницкой…»
В глубине класса, за партой, вели разговор трое. «Снять ночью охрану, и — на скоростях… ищи ветра…» — говорил один. «Мы же ночью не летаем», — возражал другой. «Не имеет значения!.. На рассвете!.. Когда сон крепок!..» «„Сон крепок“, балда… На рассвете наш аэродром кишит как муравейник…» Занятые собой, активны были двое, третий, которого они называли «Братуха», хранил молчание. Наконец, высказался и он: «Дело надо делать днем. — Братуха был ростом пониже, на товарищей взглядывал сердитым беркутом. — Небрежно подходим, запускаем мотор… ни один черт не хватится». На припухшем лице Братухи подсыхали струпья, он ощупывал их, внимательно наблюдая за ходом приготовлений вокруг алюминиевой баклажки. «Принято», — соглашались приятели. «Принято? Огонь», — заканчивал Братуха очередной тур обсуждений, а вскоре зачинался новый; «Или на ПО-2. Канистры с бензином грузим в фюзеляж…» По ходу скудного застолья языки ребят развязывались. Воскресали какие-то события, встречи, имена. Олечка… «А ведь я ей заливал», признался Братуха. «Насчет чего?» — «Насчет полетов… Будто мы — ночники. Работаем ночью, чуть ли не ходим на задания…» — «Ерунда, не страшно…» «Врал, вроде как орден заработал, должен получить», — добавил беспощадный к себе Братуха, не опуская головы. Вспомнили ребята митинг перед вылетом полка на фронт, слова Братухи от имени молодых: «Моя душа не выдерживает больше сидеть в тылу!» На что, как теперь выяснилось, отозвалась Олечка. «Правда?» — вонзил свой взгляд в приятеля Братуха, и голос его упал. Она сказала: «Братуха содержательный юноша. Я в нем не сомневаюсь». Тепло и горечь этого задним числом дошедшего до него признания выдали веки Братухи, заметно взбухшие… после Морозовской, после Тарусина, куда ходили всем полком и откуда возвращались единицы, тело Братухи покрылось волдырями, нестерпимый зуд терзал его день и ночь. Живот, ноги, грудь он растер до крови. «Лабильная натура, — объяснил врач, не освобождая его от полетов. Нервный». И Братуха, весь в крапивных ожогах, вкалывал. И на Клетскую, и на Поронин. А когда полк кончился, уцелевшие ИЛы было велено сдать комендатуре и отбыть с техсоставом на Урал, эскортируя ушитое в чехол полковое знамя. Бесславное возвращение в городок, откуда их недавно проводили, где ждала его Оля («Я в нем не сомневалась!») — такое возвращение было для Братухи как соль на его кровавые волдыри, и он нашел, как скрасить горечь поражения: собрал небольшую компанию, откололся от эшелона. Дерзкое и праведное желание Братухи было в том, чтобы доставить полковое знамя не товарняком, не «пятьсот веселым телятником», как назывались эти медленные, забитые детьми, стариками и скарбом железнодорожные составы, а на боевом ИЛе. Три исправных ИЛа, сданных комендатуре, стоят на аэродроме — на одном из них. Прогреметь над тихим городком одиноким, все прошедшим, готовым к мести экипажем… чтобы Оля и другие видели и знали это.
Вверившись гордому сердцу Братухи, заговорщики настойчиво изощрялись в поисках решения. Несколько раз Братуха отдавал команду «огонь», да все вхолостую, и в конце концов неуемный летчик-штурмовик вместе с друзьями и драгоценной поклажей был спроважен на Урал по недавно пущенной узкоколейке.
Теперь, — тем же маршрутом, тем же наземным эшелоном, — предстояло отбыть в тыл Комлеву.
Отъезд полка Крупенина был назначен на утро.
Комлев лежал на топчане пластом, подавленный, без сна, когда в третий «Б» с грохотом ввалились летчики, пришедшие с маршрута.
Видать, далекого.
Намыкались по трассовым комендатурам, землянкам, повсеместно именуемым «Золотой клоп», с порога столбят свободные нары, пуская в ход планшеты, шлемофоны. Из Новосибирска, вон откуда. Фронтового харча отведали, обсуждают летную столовую: «Казашка на раздаче — ни-че-го!» «Селедку из Астрахани завозят, обопьешься с нее…» «Картина как в санчасти, обратил внимание? У того рука в бинтах, у того — нога, третий обгорел…» «Малый травил, не знаю, правда-нет, будто напоролись на генерала… Старший докладывает, так и так, выпускники училища…» «Старший группы сержантов старший сержант Сержантов!» «Слегка зарапортовался?» «Никак нет! Старший сержант Сержантов…» «Вон что… Популярная в авиации фамилия…» А тот Сержантов, не моргнув, генералу в лоб: «Так точно! Маршалу товарищу Тимошенко в масть!» «А насчет сапог? Не слыхал? Ну… Забросили партию хромовых сапог. Интендант, понятно, себя не обидел, а тут с переднего края Хрюкин. Прилетел, командует построение… „Амет Хан, два шага вперед!“ Амет как раз поимел пару „юнкерсов“, ну, и выступает перед строем в своих кирзовых бахилах. Он ведь коротышка, Амет. В кирзе этой как кот в сапогах. Хрюкин — интенданту: „Снимай!.. Амет Хан, одевай!..“ „А Хрюкин-то — кто?“…
Ночлег, третий „Б“, вызывал у прибывших снисходительное к себе отношение. „Братцы, мы попали в бунгало, весьма просторное. Так и отметим. Места — на выбор“. „Саман — это экзотика?“ „Саман — это навоз. Или камыш?“ Снисходительность, непритязательность нервного ожидания, озабоченности другим. Но детали отмечаются: „И полотенце тебе, и щетка“. „Мыло с мыльницей, а зубного порошка нет…“ „Зубного порошка в Новосибирске уже год как нет…“ „Хозяин шею не намылит?“ „Какой хозяин?“ „Хозяин лежака…“ „Я худой да не гордый, пристроюсь с краю…“ — голоса стихали. „Говорят, концертная бригада выступает…“ „А танцы?“ — бесовских искушений оказываются полны последние мирные часы. Быстротекучесть времени, ничтожная толика отпущенного, бессилие перед ним. „Пилотка… шарф… гимнастерка…“ — перебирал в потемках чьи-то вещи сосед Комлева, уразумевший, наконец, почему так вольготно здесь с местами, кому принадлежат эти гимнастерки, предметы личного туалета…
Комлев поднялся, вышел из класса.
Дед-дневальный, чьи заботы сводились в последнее время к тому, чтобы наполнять умывальник, натаскивал воду в просохшую кадку.
В черном небе подвывал невидимый „хеншель“, навстречу ему всходили и гасли трехцветные трассы, на земле в проулке, узком и тесном, клубилась пыль, — наполняя ночь топотом, скрипом, гомоном, внося в проулок беспокойство и тревогу, от Волги шла эвакуация. Вслух о страшном — о судьбе сожженного Сталинграда, о страданиях и горе никто не говорил. Вслух люди обходились мелким, несущественным. „Воды-то сколь… Сколь хошь, столь пей…“ — вздохнул кто-то во тьме. Горький вздох по водице, сокрытая в нем усмешка над желанием прохлады и привала… Комлева остановила фраза: „Фурманов“ на плаву сгорел… может, кто и спасся…»
— Мать! — он шагнул навстречу толпе. — Вы с «Фурманова»?
Молча покачав головой, усталая женщина прошла, не останавливаясь.
— Земляков ищешь? — отозвался мужской голос. — Мы из Кинешмы…
«Мы — гороховецкие», «Из Коврова будем», — толпа увлекала Комлева за собой, по проулку. «На „Фурманове“ полкоманды из Куделихи, — говорили ему. И зять капитана живет в Куделихе». — Он слушал все это и не слушал, вспоминая, как стоял прошлым летом на пристани в толпе, ожидая Симу и прощаясь с Куделихой. Теперь красавец «Дмитрий Фурманов», прогудевший в то утро мимо него, вместе с военными грузами, медикаментами, хлебом, ротой девушек-санитарок донес до осажденного Сталинграда покой и свежесть прощального июньского дня, запахи и краски родного места… а война предала все это огню, вызвав у Комлева боль, которая не нуждалась в утешении вместе с болью, вместе с мучительным сознанием и своей вины за гибель всего вокруг рождалась мысль: надежды, которые поднимают человека, огню не поддаются. Глядя на уходивших от Волги людей, он все ясней, все тверже понимал, что никуда отсюда не уйдет.
Надежды огню не поддаются, но им нужна защита, за них нужна борьба.
В тот же горький час, в ту же тревожную ночь генерал Хрюкин был срочно вызван к члену Военного совета. Разговор начался без околичностей: «Почему саботируешь мое указание?» — бросил ему с порога член Военного совета. Ничего не объясняя, протянул Хрюкину машинописный текст, адресованный: «Москва, Наркомвнудел, начальнику Управления Особых отделов…» — «Читай, читай!» — «…генерал-майор авиации Хрюкин, потеряв управление вверенной ему воздушной армией, — читал Хрюкин, — грубо нарушает приказ Наркома обороны, коим запрещено разбазаривание отходящих на формирование авиационных частей. Не видя дальше собственного носа, Хрюкин строит кадровую политику с расчетом на выдергивание из состава отбывающих на пополнение авиационных частей наиболее ценных в боевом отношении кадров, что идет вразрез с приказом Наркома обороны». — «Копия, — сказал член Военного совета, забирая телеграмму… — Сю цидулю я мог и не знать, ушла по принадлежности… Этот, — он ногтем указал на подпись, — работал у меня в аппарате. Вел транспортный отдел… Он мне ее показал».
«Все искажено, все ложь и неправда!» — хотел сказать Хрюкин, вспомнив свое объяснение с полковником, командиром особой группы, и то, как предусмотрительно и ловко пытался присутствовавший при этом автор телеграммы смазать вопрос, прикрыть, оправдать поверхностное отношение полковника, которому от роду двадцать три годочка, к связи. Старался, да не смог, и вот, в прямое продолжение разговора, с единственной целью — дискредитировать командующего Хрюкина, обезопасить полковника от возможной критики, состряпана шифровка…
Хрюкин и рта не успел открыть, чтобы сказать об этом, как последовал второй удар. «Почему саботируешь указание о поддержке пехоты? — спросил член Военного совета. Он не кричал, это действовало угнетающе. — Всеми наличными силами, без ссылки на объективщину?..» — «Всеми, товарищ член Военного совета! — заверил Хрюкин, чуя, как уходит почва из-под ног. — Ни на что невзирая!» — «Читай! — Коротким движением член Военного совета двинул по столу листок служебного бланка. — Читай подчеркнутое!..» Жирным красным карандашом были выделены строки: «Командир полка майор Крупенин: „Посылка экипажей ПЕ-2 в пекло без прикрытия — безрассудство… обрекает летчиков… не дает боевого результата…“ — Командир полка — твой?» — «Мой». «Разберись немедленно, лично, утром доложи… К этому, — он показал московскую шифровку, — вернемся…»
…Рассвет был уже близок, но тьма над страдавшей степью не редела, словно бы продлевая бойцам передышку, когда, спеша воспользоваться этим коротким часом, с грейдера, урчащего техникой, сошел и быстро направился к аэродромной стоянке бомбардировочного полка генерал Хрюкин. За ним, припадая на раненую ногу, ковылял майор Крупенин.
— Твой? — громко, отрывисто спрашивал Хрюкин, различая во тьме силуэт самолета и останавливаясь.
— Ремонту не подлежит, — отвечал ему майор, по инерции прошагивая вперед. — Не подлежит… Заменяют мотор… Эта — в строю…
— «Кадр, ценный в боевом отношении!..» — презрительно и непонятно выговаривал ему Хрюкин. Командир бомбардировочного полка, с трудом за ним поспешая, не понимал причин нараставшего гнева.
— Нет заместителя?.. Погиб?.. — гремел Хрюкин, быстро двигаясь, держа Крупенина на удалении, сбоку от себя. — И ты погибнешь!.. Не грози!.. Как собака погибнешь!..
При этих словах Крупенин остановился, оторопело и почтительно, и уже Хрюкин, пройдя вперед, возвратился, всматриваясь в лицо майора.
— Почему саботируешь мое указание? Ждешь подношения на блюдечке? Нет у меня истребителей прикрытия, прямо тебе говорю. Для «пешек» у меня истребителей: сегодня нет. И нечего язык распускать, зарабатывать дешевую популярность.
— Не было этого, товарищ генерал!
— Было!.. Было!.. Поворачиваться надо, соображать, господи, что за темень на мою голову, что за бестолочь! Ожегся на молоке, дует на воду. Нет условий нанести бомбоудар группой, не дают подняться, жгут на взлете — так действуй одиночками. Фронт двести верст, работа одна, на пехоту, другой задачи нет. Наносить удар, не считаясь ни с чем, днем и ночью…
— Пикировщики ПЕ-2 ночью не воюют, смею сказать…
— Не смеешь!.. Воюют же!.. Воюют!.. При этом командиры шевелят мозгами, ищут, выклеивают кабину изнутри черной фотобумагой, чтобы летчика не слепило, и бомбят с горизонта… За Россию биться надо, биться!.. Я с вашей мерехлюндией покончу, дух ее вышибу!.. Сдать дела начальнику штаба! Начальника штаба — ко мне!..
— Если заслужил… считаю долгом предупредить… через день полка не…
— Не будет!.. Костьми ляжет, а приказ выполнит!.. Они двигались в потемках к тому месту, где собирались к отъезду люди полка.
— Что за народ? Построить!
Человек пятнадцать образовали нестройную шеренгу.
— Товарищи пикировщики, прикрытия у меня нет, — обратился к строю Хрюкин. — У меня сегодня нет прикрытия для вас, прикрытия для переднего края. В результате мы теряем экипажи, дорогостоящую технику ПЕ-2. Два экипажа за вылет, четыре, как вчера у вас, а то и семь… Тяжело. Всем тяжело. Но если мы сейчас не поддержим с воздуха пехоту, враг ворвется на улицы города, ничего не щадя. Ваш командир — трава, гнется, он снят, пойдет под суд, ибо поймите: пехота изнурена. Ее необходимо поддержать всем возможным и невозможным… Чьи самолеты? — перебил себя Хрюкин, высмотрев на одной линейке с поджарыми «пешками» троицу «горбатых» ИЛ-2.
— Залетные, — выдавил из себя Крупенин, Начальник штаба, за которым было послано, не появлялся.
— Залетный — гость на свадьбе, или у вас уже отсутствует элементарный порядок?
— Самолеты штурмового авиаполка, отбывшего в тыл… не могу знать…
— Стоянка ваша? Командир обязан знать, если он командир!..
— Товарищ генерал, прикрыть пехоту, понятно, а на чем? — спросил Комлев.
Обращение летчика было неуставным — из строя, но с такой трезвостью и болью прозвучало в нем главное, нерешенное, что генерал на эту частность не отвлекся.
— На этих «горбатых», больше не на чем, — закончил Комлев неожиданное для него самого вмешательство в объяснение двух старших командиров.
— То есть? Прикрыть передний край ИЛами? — на лету сформулировал идею Хрюкин. — Летчики, шаг вперед… Из шеренги выступило четверо.
— На три самолета четыре кандидата. Сразу получается переизбыток… Что же, отдельные штурмовики бросаются за «юнкерсами», преследуют, не дают им спуску, — рассуждал Хрюкин вслух. — Такие факты на нашем участке отмечены. Одноместный ИЛ1 в роли истребителя…
— В тяжелой роли истребителя, — поддакнул Крупенин.
— Но ведь нет «спарки»! — сказал Хрюкин, оставляя без внимания реплику майора. — Чтобы сесть на боевой ИЛ, освоить его, нужна «спарка»…
Война ставила Комлева в такое положение; нечто подобное в его жизни уже происходило…
— Нужен летчик-инструктор, — сказал Комлев.
— И «спарка»! — зыркнул в его сторону, в дальний конец шеренги генерал.
— «Спарка» не обязательна. Можно без нее, без «спарки». Летчик жить захочет — сядет.
Повторялась прошлогодняя история с «девяткой» в Крыму — с той разницей, однако, что штурмовик ИЛ-2, на который он сам напросился, вызвался, одноместный самолет, нет на нем подсобного штурманского креслица, чтобы присесть да перенять, как пилотировать незнакомую машину; но вместе с ожесточением, достигшим предела, когда человек идет на все, только бы поступить в согласии с совестью, за год войны развилось в Комлеве умение прибегнуть к чужому опыту, нигде не описанному, печатно не закрепленному, но как бы разлитому в дымном воздухе фронтовых дорог, уводящих армию в глубь России, что и позволяло выходить, выворачиваться из любого положения. Так, в сердцах произнесенная и занозой в нем сидевшая несправедливая тирада Урпалова, будто на штурмовиках ИЛ-2 в случае нужды обходятся без «спарки», что истине не отвечало, — этот злой упрек, уточнившись со временем слухами и боевой практикой (поступком того же Миши Клюева, вывезшего к Пологам двух своих последних пассажиров), подсказал теперь Комлеву выход: усадить инструктора в грузовой отсек ИЛ-2. Инструктор устроится там, позади летчика, за его кабиной, сквозь щелочку все увидит и подскажет, что надо…
«Грубо игнорирует… самовольно… вопреки…» — думал о своем генерал, слушая летчика. Высшее звено, командующие армиями — в поле зрения Верховного. Ответ Москвы может быть убийственным. Уничтожающим. Ждать, как все повернется? Но не сложа руки! Делать то единственное, что он обязан. Четверо вызвались, четверо вышли из строя? Двоих оставить здесь, в армии. Как закоперщиков, проявивших инициативу…
Да, понял Комлев, об этой щелочке, разрешающей проблему «спарки», обучения на одноместном ИЛе в полевых условиях, генерал не знал. Почувствовав свое преимущество перед ним, летчик успокоился.
— Есть такой опыт, — уверенно сказал он.
— Будет вам инструктор, — отозвался Хрюкин. Так осуществил Дмитрий Комлев созревшее в ночь решение остаться под Сталинградом.
Так распорядился он своей судьбой, навсегда покинув бомбардировщик ПЕ-2, «пешку», свой боевой экипаж.
В штурмовой авиационный полк, на самолет ИЛ-2, Комлев пришел командиром эскадрильи.
Мотаются, как черти, вплотную, теснят бортом, две пушки, три пулемета в бок! — кричал, взмахивая руками, Комлев, не слыша собственного ликования, не замечая, как угрюмо дожидаются механики, чтобы он, новый комэска, объяснил им, наконец, где их летчики, их экипажи, час назад поднявшиеся с ним на Абганерово.
Подошел механик из братского полка. Худой, длинный, на голову выше собравшихся, темные от моторного масла руки торчат из рукавов короткой гимнастерки, как у Пата.
— Какие-то «мессера» полинялые, выцветшие, сжелта, — возбужденно, на всю стоянку, оглашал свои впечатления Комлев. — А зоба вот такие, спесивые. — Он показал, какие у «мессеров» зоба.
— А где Тертышный? — спросил механик из братского полка.
— И никакой острастки! — Комлев его не слышал. — Никакой!.. Въедается, как клещ, пока очередь не всадит — не отвалит, а скорости-то нет, куда?
— А Тертышный? — громче повторил механик.
— Какой Тертышный? Понятия не имею о Тертышном!
— Да ведь он с вами летал, товарищ старший лейтенант… потеряли?
— Кого?
— Моего командира, лейтенанта Тертышного? Его в вашу группу четвертым поставили…
— Я не знал, что он — Тертышный… Я его в лицо не видел. Мне его на ходу подкинули, в последний момент, перед выруливанием…
— Ну? — спросил механик, не договаривая и без того ясного: что с ним? Где он?
Комлев уставился на механика, не зная, что сказать; подъехала полуторка с завтраком, он двинулся к ней поспешно, торопливо, как будто повариха, сидевшая среди термосов, могла помочь ему с ответом.
— Гуляш, товарищ старший лейтенант? — предложила повариха Комлеву.
— Пить!
— Мясо свежее, с подливой…
— Верблюжатина?
— Баранина. Попробуйте, хороший гуляш.
— В глотку ничего не лезет.
— Самолет-то ваш, говорят, «Иван Грозный»? Грозному надо хорошо кушать…
— Пить…
Комлев присел в тени полуторки на продырявленном скате. Безотчетно перекладывая шлемофон с колон на землю и обратно, подолгу задерживая кружку на весу, шумно отхлебывал жидкий чаек. Во рту пересохло, он выдул бы самовар — все в нем горело, клокотало пережитым: близостью губительной развязки, необъяснимым счастьем удачи. Никогда прежде за год войны смертная угроза не нависала над ним так неотвратимо и не осознавалась им так ясно, так трезво, как полчаса назад, когда на одноместном, новом для него ИЛе он впервые попал в лапы «мессеров» — все тех же «худых», разве что необычно расцвеченных, утративших свежесть зеленоватой защитной покраски, слинявших и оттого еще более зловещих. Терзая в небе «пешку», «ме-сто девятые» допускали между атаками короткие паузы, какие-то просветы, а сегодня его гвоздили справа и слева без передышки. Он несся к Волге балкой, не зная, спасение ли в ной, потому что уязвимый живот ИЛа прикрыт, — или же его погибель, потому что резко, размашисто маневрировать, к чему взывало все его существо, не мог, обветренные склоны балки, поднимаясь выше кабины, стесняли его. Загнанный в этот желоб, он, чтобы сбить истребителей с прицела, уклониться от трассы, делал какие-то микродвижения (чудо состояло в том, что их хватало!) и ждал, ждал, ждал прямого удара, поражаясь свету, а не тьме, озарявшему его последние мгновения. Но как не коротки они, как протяженны эти мгновения, какая в них глубина, какая возможность выбора!
Его вынесло на пойменную гладь, навстречу ему раскинулась покрытая дымами Волга. Его ведомый Заенков, всплывший в боковой форточке кабины, как на экране, покачивался, мотор Заенкова парил, пятнистый борт Аполлона Кузина оставался в поле зрения. Упал Кузя?.. Сел?.. Он потерял его. Отвлекся. Что-то изменилось в намерениях «мессеров» — признак нового подвоха… Он крутился, как на сковороде, понимая, что истязанию нет, не будет конца, не зная, с какой стороны и что на него обрушится…
— Танки — в движении?
Пыльные носки ботинок перед Комлевым. Широкие икры в обмотках, «баллонах», как их называют, — обувка бывшего звеньевого, старшего воентехника Урпалова; минувшей ночью на полевом ремонте двух подбитых ИЛов Урпалов отметал свое вступление в должность политрука эскадрильи старшего лейтенанта Комлева. Снова они вместе, Комлев и Урпалов. Ближе, однако, не стали.
Урпалов в штурмовой авиации — по нехватке рабочих рук, как эксплуатационник с опытом. В этом смысле он чувствует себя на месте. Но бомбардировщик ПЕ-2 позволял ему входить в состав экипажа стрелком-радистом, летать на задания, делить с летчиком и штурманом тяготы боевой работы в огне, над целью, а одноместный ИЛ привязывал его к земле, ограничивал обязанностями техника… Может быть, это обстоятельство и прельстило Урпалова, но признаться себе в этом он но смел. Риск, которому подвергает себя летчик, в глазах техника Урпалова еще наглядней: за двадцать пять боевых вылетов в условиях Сталинграда летчик-штурмовик, по приказу, представляется к званию Героя… Правда, о таких пока не слышно. Три, семь, десять вылетов… Двадцать пять — астрономия. Астрономическая цифра… не в том суть.
Дитя самолетной стоянки, начавший свой путь со ШМАСа,[6] Урпалов знает, что первый спрос с него — за боеготовность, и жарко взялись они вчера за работу, восстанавливая неисправные ИЛы. Ажурная громада поврежденного мотора пробуждает в Урпалове властность: он один все решает, его слова ждут все. Техсостав в эскадрилье молодой, Урпало-ву пришлось не легко, он испытал, пережил дорогое чувство своей единственности, нужности. Ремонт двух самолетов был закончен в срок. И вот этих-то двух машин, Кузина и Заенкова нет. Нет и третьего ИЛа… Комлев возвратился домой один, и во что же он посвящает стоянку? О чем говорит? «Мессера», видите ли, не зеленые, а сжелта… Ну, только что из боя. Разгорячен. Вываливает, не думая… Но далее необходимы объяснения. В обстановке Сталинграда — это требование, железная необходимость.
Телефонным звонком из штаба Урпалову поручено опросить вернувшихся с задания летчиков.
— Танки под Абганеровом, по вашим наблюдениям, стоят? — повторил Урналов. — Или в движении?
Комлев, не подняв головы, прихлебнул из кружки. Какие танки?
Кузя не вернулся, Аполлон Кузин, Поль, как его еще называют, пришедший в штурмовой авиаполк с ним вместе, в один день и один час. Закваска летчика-истребителя, коротковатое, плечистое туловище на сильных ногах, по мнению Комлева, больше подходили для штурмовика, для ИЛа, чем для «пешки». С первого дня Кузин утвердился в строю ведомым. Так он себя поставил: только ведомый, и все. Кузя не вернулся, Заенков не вернулся, место их падения можно себе представить. А лейтенант, поднявшийся четвертым? Куда он делся? Лейтенант Тертышный из братского полка, поставленный для усиления группы в последнюю минуту? Когда «сто девятые», выделившись из волчьей стаи, бросились им на перехват, лейтенанта уже не было. Испарился, исчез. Когда, куда, как?
— Танки, немецкие танки, — терпеливо повторил Урпалов. «О „мессерах“ даже не спросит», — терпеливо подумал Комлев, раздражаясь настойчивостью Уртаалова, с трудом унимая свое торжество по случаю счастливого от них избавления, свое желание посвятить в пережитое другого, вместе с другим разобрать, что происходило в небе. До танков ли ему, если он в толк не возьмет, где Кузя, где Заенков, за которых отвечает головой? Лейтенант Тертышный? Нынче утром, собираясь на аэродром, он спросил Кузю: не поведет ли он звено? Не засиделся ли он как ведомый? «Зря ты, Комлев, вылез с этим делом, — осадил его Кузя. — Со штурмовиками. Зря. Сам видишь, что получается. На „пешке“ у нас скорость, два мотора, от „мессеров“ всегда могли уйти. А на „горбатом“? Куда денешься? Я, например, не знаю…» Такой упрек бросил ему Кузя, и вот его нет.
— Танки обычно пылят, — осторожно напомнил Урпалов.
— Ты бы лучше не пылил! — вскипел Комлев, швыряя шлемофон о землю; дельное, вполне уместное замечание вывело его из себя. Этого еще недоставало! Урпалов будет ему подсказывать, давать советы! Урпалов примолк.
В сущности, он Комлева никогда не понимал, и в глубине души до сих пор не мог ему простить случай с «девяткой», — прошлой осенью, в Крыму, — того пренебрежения к нему, Урпалову, которое Комлев тогда проявил: не выслушав его, техника звена, ни словом с ним не перемолвившись, ушел в облет единственной дорогостоящей новинки без штурмана, без стрелка, зависнул над землей, едва ее не приложил… А ведь первым получил бы штрафбат он, Урпалов, тогдашний звеньевой. Первым — как пить дать… Случай спас Комлева, господин авиации случай. Не слепой, но несправедливый: возносит к славе летчика, в черном теле держит техника…
Да, сейчас перед ним на дырявом скате полуторки сидел далекий, незнакомый ему человек. Как заверял его Комлев в Крыму, что на ИЛ не сядет! Никогда, ни за что. Под трибунал пойдет, не сядет. Зарекся. А теперь по собственному почину — в штурмовой авиации. В отношении самолетов Комлев вообще баловень. До войны ему, рядовому летчику, достался в полку распрекрасный экземпляр СБ, в Крыму получил «девятку», теперь и того больше: его самолет персонально поименован. «Иван Грозный» — так он назван. Морской обычай именовать корабли в авиации не прижился. «Максим Горький», «Родина», два-три случая еще… пресеклась попытка. И вот — «Иван Грозный». Единственный в дивизии, может быть, во всей воздушной армии штурмовик, получивший, кроме хвостового номера, имя.
Короче, он, Урпалов, назначенный после ускоренных курсов политруком, не знал, как ему наставлять Комлева. Как к нему подступиться? Он и сочувствовал летчику, и досадовал на него, злясь от собственной перед ним растерянности и от того, что это могут заметить другие.
— В штабе о летчике из братского полка ничего не говорили? — задал ему вопрос Комлев.
— О Тертышном? — переспросил Урпалов неодобрительно, дескать, как же так, водил группу, а не знаешь. — Лейтенант Тертышный в санбате.
— Ранен?
— Упал… С самолетом упал. Сам бледный, идти не может, — скупо делился Урпалов информацией, полученной на КП полка. — Думали, ранен, — нет. Врач говорит, порыв отчаянья…
«Но подозрение на немецкие танки есть, пыль-то внизу была, курилась, припоминал Комлев, остывая и успокаиваясь. — Пыль определенно была. И какое-то шевеление среди копен. И это остервенение „мессеров“, когда его звено наткнулось на то место. Солнечный зайчик, сверкнувший на земле, в жухлых покосах…»
Комлев сказал об этом Урпалову.
— Когда наблюдали?
— Шесть пятнадцать, шесть двадцать…
— Так и запишем, — сказал Урпалов, не трогая карандашного огрызка.
«Меня не зацепили, при всем их старании, — думал Комлев, но гордость собственной неуязвимостью выветривалась, какая-то сушь, какая-то горечь оседали в нем, — земные мысли овладевали летчиком. Он вспомнил Крым. Как всех поразметало:
— Кузя сбит, Урпалов, садившийся, бывало, за турель „девятки“, сошел на землю, я — на „горбатом“… А Кузи нет… И Заенкова…
Холод, проникший в душу, пустота и горечь в ней — жизнь? Или это смерть, гулявшая справа и слева? Ничем она мне не обязана, жизнь. Холодная, как смерть. А я держусь ее. И буду…»
Потокин застал Хрюкина в его штабной комнатенке. Подолгу бывая в полках и на передовой, Хрюкин, возвращаясь, повисал на телефоне, доставал любого, в ком была нужда, выспрашивал все, что хотел узнать. На этот раз Хрюкин сам давал объяснения.
— Что сообщают летчики? — расслышал Потокин знакомый ему, осевший, раздраженный голос генерала из штаба фронта. — Я имею в виду Абганерово, добавил генерал, досадуя на непонятливость Хрюкина, с неприязнью к нему; генерал слыл за большого умельца намыливать подчиненным холку.
— Задание ставил лично, — заверил Хрюкин генерала. — Экипаж подобран опытный, проверил лично. — Он повторялся, был тороплив. Потокину хотелось подойти к Хрюкину, стать с ним рядом. Он оставался у двери, как вошел. Согласно радиодонесениям с борта, западнее Абганерово намечается сосредоточение немецких танков.
— Наземники не подтверждают!
— Не расхождение ли в сроках? От какого часа ваши данные?
— А данные такие, что немец начал наступление из Калача!
Хрюкин промолчал.
— Двинул из Калача, намереваясь расчленить, отсечь город с севера. А под Абганеровом тихо.
— Других сведений в моем распоряжении нет.
— Плохо!
— Может быть, плохо. — Хрюкин обрел свой голос. — Вы запросили, я доложил. Если к моим данным недоверие, не надо меня дергать.
«Дело серьезное», — подумал Потокин.
— А когда реальность показывает другое? — генерал сбавил на полтона.
— Разведчик отснял заданный район.
— Представьте снимки!
Трубка щелкнула.
После долгой паузы Хрюкин сказал Потокину: «Здравствуй!»
Связался с «Патроном», штабом разведполка, потребовал командира и штурмана ПЕ-2, ходивших на Аоганерово. Молча ждал, перекладывал трубку в потной руке, не глядя на Потокина, решая: послать его, Потокина, — с места в карьер, — за фотоснимками? Или поручить фотоснимки другому?
— Экипажа нет, — доложил «Патрон». — И не будет.
— Сбили?
— Сожгли. Сожгли при посадке. Уже сели, на пробеге…
— А снимки?
— Стрелка-радиста выхватили, — добавил «Патрон» для полноты картины. Обгорел, но жив… Машина взорвалась.
Хрюкин положил трубку.
— Василии Павлович, ты сей же миг отправляйся к штурмовикам! Это рядом. Сей момент. И лично, лично выспроси штурмовиков, засекших танки под Абганеровом. Все выуди. Всю картину. Одна нога — там, другая — здесь.
Возвратившись к ночи, Потокин заметил, как переменился утомленный Хрюкин. Он был угрюм, рассеян, что-то его точило. Просматривая полковые сводки, уточняя с инженером сводную цифру по штурмовикам, готовым участвовать в массированном ударе, заговорил, к удивлению Потокина, об эвакуированном на Урал многодетном семействе инженера. Спрашивал о жене, жилье, продуктах… Потокин, держа наготове исписанный листок, вкратце доложил, как, по словам летчиков, обстоит дело с немецкими танками. Вернее, одного летчика, ведущего.
— А было послано?
— Звено. Четверка. Двоих отсекли «мессера». Отсекли, сняли. Третий до цели не дошел, от боя уклонился. На якобы подбитом самолете сымитировал вынужденную посадку, шмякнулся на брюхо. Боевой исправный ИЛ разбит, летчик заключен под стражу.
— Фамилия?
— Лейтенант Тертышный.
— Как?
— Тертышный.
В упор глядя на Потокина, генерал выжидал…
— Летчика не опрашивал, — пожал плечом Потокин. — С ним разобрались.
Других вопросов у генерала не было.
Покончив с Абганеровом, Василий Павлович перешел к «фотографии дня», как он выразился.
Хрюкин, казалось, слушал его, не перебивая.
Абганерово, обнаружение танковой угрозы с юга уже ие являлось для него первоочередным, главным, все внимание сосредоточивалось сейчас на проведении массированного удара по этим рвущимся к Волге танкам. Днем его вызвал командующий фронтом, подтвердил время удара, по существу же дела ничего не сказал. Нацепив очки в железной оправе, проглядывая бумаги, тер кулаком розовый подбородок. Волосы на склоненном загривке командующего топорщились кверху. Грузно, со скрипом поднялся из-за стола, приблизился к Хрюкину, стоявшему навытяжку, поддел пальцем, повернул тыльной стороной его Золотую Звезду. Сощурился, всмотрелся в цифру: «Маленький номер. Небольшой. А Героев надо много. И они у нас будут». Не выпуская медаль, слегка придавил ее большим пальцем. Хрюкин ужаснулся: сорвет… «Вы свободны, генерал», сказал командующий. Предостерег, предупредил… О чем? «Идите!» Он вылетел оттуда пулей…
Резервы ему обещанные — будут? Маршевые полки? «Толкачи» на трассе молчат. Тертышный… Лейтенант Тертышный… Однофамилец? Брат?..
С тем, другим Тертышным, он распрощался в Каталония. Сергей Тертышный был в синей шапочке пирожком, пилотке. Как и шлем с поднятыми кверху застежками, она сидела на нем ладно, была сероглазому к лицу. Их оттуда и завезли, эти пилотки, из Испании. Такой же подарок белозубого Мигуэля, своего механика, Хрюкин обменял на пилотку самого малого размера — для дочки. Испанки вошли у нас в моду, прижились, дочка подрастет… потом сынок… и так далее. Будет переходить по старшинству всем его детишкам семейная беретка.
В Москве с Сергеем Тертышным они не встретились: едва вернувшись, Хрюкин получил команду собираться на восток. Но тут, перед самым отъездом, произошла заминка. Он до сих пор помнит ее, подолгу думает о ней и до конца не понимает. Какая-то таинственность, какое-то замешательство, неясность: посылают его в спецкомандировку? Или от ворот поворот, и в родную часть? Велись затяжные беседы, прощупывания. «В каких отношениях находились с Тертышным?» — спросили его в одном кабинете. «Ходили на задания. Больше никуда…» Так он ответил. Так сказал о своем командире, летчике Сергее Тертышном, поднявшемся в армейской глубинке, на безвестных аэродромах и полигонах, снискавшем признание узкого круга товарищей. И в Испании, делая свое дело, он оставался в тени, божьей милостью летчик. А след оставил алмазный.
— … «Мессер» с выпущенной ногой явился, — рассказывал между тем Потокин. — Бандюга одноногий, как Джон Сильвер, главарь шайки из «Острова сокровищ», — исключительно прицельно работал, всех на стоянке уложил. А тут еще «кукурузник», будь он неладен, с кассиром получку в мешке вез, он и «кукурузника» завалил. Один наш истребитель, хоть и пострадал, хоть и сбили его, хорошо сработал. Самоотверженно. Он, надо сказать, молодец, свое дело сделал, отвлек противника, обеспечил ИЛу посадку, а то бы я и этих сведений от Комлева не получил. — Потокин показал свои листочки. — Он, значит, здесь же опустился, — там лужа? болотце? — возле того степного оазиса… Обгорел, лица нет, мясо да волдыри… То ли, понимаешь ты, плачет, то ли брызги на нем… «Суки!.. Псы!.. Трое на одного… Трое!» — перекосоротило его, не может, понимаешь ты, с собой справиться, рыдает…
— Переживал…
— Очень переживал. Очень. Самолет жалко, себя жалко… трое на одного, а на чем его подловили — не поймет…
— Одного-то сбил?
— Все видели!
— Фамилия летчика?
— Старший лейтенант Аликин.
— Наш?
— Он. Аликин-второй. Петя Аликин.
— Почему не воспользовался твоей подсказкой по радио? Ты же командовал?
— Почему? — с вызовом переспросил Потокин. — Он в полотняном шлеме взлетел. В аэроклубовском, из синей фланели. Одолжился у своего механика.
— Воспаление перепонок?
— Совершенно правильно. Заткнул уши ватой, натянул этот швейпром… Вот каково положение!
— Положение во гроб! — сказал Хрюкин, и рука его, сжатая в кулак, поднялась над столом. — В бою объясняемая, покачивая крыльями, на пальцах да матом…
Зазуммерил телефон штаба фронта.
— Хрюкин? — раздалось в трубке смачно и неприязненно. Потокин узнал голос генерала из штаба фронта, с которым утром, долго не умея взять нужный тон и заметно нервничая, объяснялся Хрюкин.
Прямое, открытым текстом обращение: «Хрюкин» — недобрый знак.
— Выезжаю, — сказал Хрюкин, меняясь в лице.
Штаб воздушной армии готовит удар, собирает, сводит все, что есть, в кулак, нацеливает против танкового клина Гота, а меня отвлекают, дергают, думал Хрюкин, пыля в «эмке» по ночной степи. — Не по обстановке дергают, манера нового командующего: вызывать, поучать, ставить себя в пример, дескать, раненый руководил войсками с носилок… Впрочем, в последнее время эти «вызовы наверх» прежнего впечатления на Хрюкина не производили. Не потому, что плох или хорош командующий, — события приняли такой оборот, что возлагать особые надежды на отдельную личность, пусть и самобытную, не приходилось.
Но за него-то взялись крепко, тягают третий раз подряд. Плотно взялись, основательно. От таких приглашений кашлять станешь. На светлой полоске ночного неба крестом поднялся самолетный хвост.
«Ил-второй» — прочел он силуэт. Вышел из машины, постоял, привыкая к темноте… «Либо насчет меня дана команда из Москвы, — думал Хрюкин, — либо оперативность проявлена на месте. Высшая оперативность. Каковой ей и свойственно быть, когда в аппарате срабатывает рефлекс самозащиты и телеграф выстукивает: меры приняты. „Хрюкин“», — повторил он смачный призвук в трубке и рассмеялся коротко, давно зная хиханьки вокруг его фамилии. От бессилия они, от неправоты. «Он на меня нахрюкал!» — жалился, прикидываясь овечкой, подкулачник, укрывавший в коллективизацию хлебные излишки, когда комсомольцы станицы вывели его на чистую воду. Хамство, вот что коробило генерала. Во тьме скреблись, ковыряя лопатой землю.
— Эй, хозяин, — позвал Хрюкин, легонько стукнув по крылу.
— Хозяев нет, — донеслось из-под мотора, глубоко просевшего в грунт. Давно повывелись. Еще несколько тычков лопатой.
Сопя и отряхиваясь, из-под самолета выбрался человек в реглане.
Запыхавшись, люди отвечают не подробно, отрывочно. Хрюкин переждал, потом спросил:
— Докопались?
— Смерть кого хочешь в землю вгонит. Голос был знакомый.
— Комлев?
— Товарищ генерал? Здравия желаю!
— Здравствуй, товарищ Комлев. Ты сейчас пулю вряд ли найдешь.
— Трудно, — согласился Комлев, отряхиваясь. — Фонарика нет. Придется отложить на утро.
— Где летчик?
— Увезли. В особый отдел.
— Летчик — лейтенант Тертышный?
— Так точно. Виктор Тертышный. Лейтенант.
— Как объясняешь ЧП?
— Лично Тертышного не знаю, поскольку он из другого полка. Ко мне был поставлен на один вылет. Полагаю так, что с переляку. «Мессера» зажали, причем крепко, товарищ отчаялся.
— Весь сказ? Просто! Сколько вылетов у Тертышного?
— Знаю, что в первом вылете как будто не сробел. Проявил находчивость.
— Новичка лучше видно во второй и последующие вылеты.
— Возможно…
— Проверено!
— Согласен с вами в каком отношении? У молодого чутья нет. Другой раз к цели подходишь, небо чистое, земля спокойная, вдруг будто дунет, будто чем тебя обдаст. Ничего нет, а ты уже настороже, глядишь в оба, ждешь… И Тертышный загодя отвалил…
— Не надо выгораживать! — резко перебил его генерал. — Лейтенант виновен и будет судим по закону военного времени. Какой налет Тертышного на ИЛе?
— Боевой вылет — третий, а налет часов тридцать. В этих пределах.
По нынешним временам не такая уж беднота.
Не из самых он незаможних.
До мастерства, конечно, далеко, но нельзя все сводить к одной недоученности. Под Валуйками сержант Хахалкин на третьем вылете не опознал «харрикейна», атаковал его как противника, получил в ответ по мордасам, был тем же «харрикейном» сбит, выбросился с парашютом, опустился рядом с КП… Лицо кроваво-синее, вспухшее, глаз не видно, парашют из рук не выпускает… Мог в оправдание нагородить семь верст, а что заявил? «Дураков жизнь учит, товарищ генерал». Что-то не слышно Хахалкина. Если жив, солдатом станет.
Короче говоря, тридцать часов — цифра не такая уж малая.
— Тридцать часов — цифра, — вслух сказал Хрюкин. Виктор Тертышный… Не обязательно брат. Брата мог он иметь.
— Он… откуда?
— Он из ЗАПа, товарищ генерал. Из техников. На финской был стрелком, добился направления в летное училище. Откуда отчислен.
— Даже?
— Вытурен! В личном деле записано: «по летной неуспеваемости».
— Но в кабину летчика все-таки попал! Со второго захода, что ли?
— Бывает, товарищ генерал: данных нету, по данным — нуль, а его тянут. Изо всех сил пропихивают. Мало еще, значит, с ним намаялись. Забывчивость какая-то, шут его знает, даже не пойму.
— Не помним ошибок. Собственных ошибок — не помним. Всякий раз начинаем, как будто сегодня родились.
…Его дети — первая кроха, которой нет, и вторая дочь, и сын, и третья, все вывезенные Полиной прошлой осенью в Свердловск, поднимались в детском садике под приглядом мамы-клуши. Их детский комбинат гремел на весь округ, такая славная подыскалась заведующая. Ее он видел, может быть, раз или два, а уж был наслышан о ней… «Отдашь своего заморыша Рите, она его раскормит, щечки будут во!» — говорили молодым мамашам женотделки, и сами удивлялись: чем Рита берет? Ее голопузики семенили по травке с ломтями посыпанной солью ржанухи и набирали в весе, почти не болели… И вдруг порывом ветра поваленное дерево пришибло насмерть шестилетнего ребенка. Тополь, погубивший девочку, как выяснилось, был посажен известным способом: ткнули палку в землю, она и выдула. А корнями крона не поддержана, корневая система отсутствует. Мама-клуша, в три дня поседевшая, своими руками свела, порубила на участке все сомнительные, сходного развития стволы. А через дорогу — школа-семилетка. Учащихся вывели сажать деревья, и директор школы направляет их в детсад за посадочным материалом! Хрюкин ужаснулся, узнав об этом. Направить детишек за тополиными сучьями, нарубленными в горе белоголовой Ритой… вот она, застарелая наша болезнь, неумение учиться на ошибках.
— Наверно, воентехник, переаттестованный лейтенантом?
— Да.
Нынешней весной, в виду нехватки кадров, в ЗАПах и тренировочных полках переучивали на летчиков чохом, всех, кто пожелает. Этим воентехник Тертышный и воспользовался. Прямо со стремянки — в кабину пилота. Прельстился карьерой брата Сергея… Впрочем…
Тяга молодежи в авиацию огромна. Почти ровесница революции, плод одних с ней десятилетий, авиация по-своему ее отражает, по-своему ей служит. Призыв Октября: кто был никем, тот станет всем, — осуществляется здесь наглядно. Но где лучшие, там и худшие, иначе не бывает, не под колпаком живем. Аморалки в частях, сколько с ними боремся, случаи воровства в курсантских общежитиях… поди знай, в каких соках выварился фрукт Тертышный. Ведь каждый ищет свое. На выпускном вечере в училище летчик-комсомолец Федя Метелкин заявил с трибуны: «Веками сияла над Арктикой одинокая Полярная звезда, а ныне Советская власть подняла над льдами семь Золотых Звезд, и наш выпуск вступает в жизнь под знаком этого созвездия!..» Не только выпуск. Молодец, метко осветил Федя, все его помнят, он под Ржевом сейчас… Лейтенанта Грозова, по словам самого лейтенанта, с авиацией свела фамилия. «Летчик Грозов! — объяснил он, призывая вслушаться в словесное сочетание. — Звучит!» Хахалкин, сбитый под Валуйками, кротко взглядывая из-под седых ресниц альбиноса, поделился таким соображением: «Форма больно красивая, товарищ генерал. В нашем роду, да и во всей Добрянке никто такой не нашивал…» Потокин на это улыбнулся, а для крестьянского парня из многодетной семьи в Добрянке возможность хорошо, красиво одеться — забота не шуточная. И Добрянок этих на Руси не счесть. Другое дело — честолюбцы. Голубенький кант, знак принадлежности к профильтрованным, отборным, огражденным от всяких сомнений кадрам, дурит им головы, подогревает. Между тем героизм — это терпение. Терпение, терпение и терпение. Что понимается с трудом, не сразу. Вообще не понимается. Уповают на авось: попасть в летчики, кривая вывезет… Но механическое-то приобщение разве что-нибудь значит? Прикрыться формой — одно, подняться, возвыситься до деяния, до личного мужества во имя добра — другое. Авиация близка, созвучна русской натуре: способна поощрять порыв, безрассудную отвагу, молодецкую удаль… Но все, чем она чарует, привлекает и что дает, не есть, конечно, синоним наших общественных идеалов. Проще говоря, профессия не делает летчика коммунистом. Он, как и другие, на пути к тому, чтобы стать им. Может быть, как и другие, не полностью, не до конца осознает, что коммунистом быть трудно. Гражданское самосознание брата-авиатора не всегда на высоте, в критический момент это сказывается, — он уже не о Тертышном думал, он себя судил, вспоминая страх и растерянность в первый момент знакомства с бессовестной шифровкой, отправленной в Москву… Да, тут однобокость, перекос, недоработка. Надо бы поярче выделять подвижников духа, борцов за правду, за честность. Тех, кто проявил доблесть на общественном поприще. Это древние, готовясь к служению своей Элладе, с детства сами — сами! — развивали в себе наклонности «к подвигам и общественной деятельности». Так зафиксировано, рядом, в одной строке: «к подвигам и общественной деятельности», он это место подчеркнул и продумал. Ибо у нас такое дело не может быть пущено на самотек. Рабоче-крестьянская власть ради своего укрепления и расцвета должна стимулировать подобную тенденцию, увенчивать достойных наградой, званием народного трибуна, что ли…
— Водит нас с тобой война, товарищ Комлев, друг за дружкой, будто что один другому должен. В который раз встречаемся?
— В четвертый.
— Как ты СБ под Уманью подвесил, страх. А с «девяткой» справился молодцом. Помнишь крымскую лесопосадку?.. Этот Тертышный — лапша. Подсунули, говоришь, на вылет? Ты мог его не взять, — быстро говорил Хрюкин, не давая Комлеву объяснить, как все получилось. — Не умеем поддерживать командира, его мнение, его инициативу… Взять командира эскадрильи. Бремя боевой работы — на нем, на комэске, никто с ним не сравнится. Он ломовик, битюг, он колымагу тянет, это же надо понимать! Советчиков, поводырей ему поурезать, колодки из-под колес — убрать. Чтобы ответственности не робел. И знал, твердо знал, не сомневался: верность делу всегда вознаграждается. Всегда.
— Всему голова — связь, — в юн Хрюкину, как нечто сокровенное, выговорил Комлев.
То, о чем твердил Хрюкин, возвращалось ему в его же словах.
Потокин, явившись с передовой, формулировал вопрос так: «Привить глухонемым дар речи и слуха!» Он поправил Потокина, дал рабочий термин: «Внедрять!» Внедрять радио в боевую практику, чего бы то ни стоило. Как новая мера во благо, так призывай петровские меры. Выход один: брить. Брить бороды без всякого снисхождения.
Выношенное, выстраданное Хрюкиным, прозвучав в устах другого как надежда, как упование, обрело свое истинное, реальное, огряниченное значение. Иное чувство, более важное, более высокое, завладевало его душой.
Лачуга в Каталонии, где олья дымилась в праздники, а в будни уминали чечевицу, фанза под Ханькоу, продуваемая ветром насквозь, хлебово из кукурузных зерен, собранных в верблюжьем помете, щербатые мазанки его босоногого детства — все это один мир, мир братства, скрепленного нуждой, великого творящего братства обездоленных, мир нищеты, откуда его вместе с народом подняла к новой жизни революция. Сделала его своим генералом. Как и подобает настоящей революции — красным генералом. Она звала его за Пиренеи и в Ханькоу, ради нее, во имя нее он сейчас здесь, на Волге — чтобы правдой всех далеких земель и своей родной, русской, отстоять занявшуюся для людей зарю справедливости.
Отстоять или вместе с нею погибнуть.
— Думаешь в партию вступать? — спросил Хрюкин.
— Товарищ генерал, занесло в новый полк, здесь меня не знают… или знают с другой стороны, — Комлев привстал на загнутую кверху, смятую консоль самолета, побалансировал на ребре. — Рекомендацию могут не дать.
Хрюкин, помнивший свой ночной приезд к бомбардировщикам Крупенина, помнил и то, как «занесло» Комлева в штурмовой полк.
— Дам, если попросишь, — сказал он.
— Спасибо…
— Фонарика-то нет, землекоп. Идем к машине. «Я, Хрюкин Т. Т., знаю т. ст. л-та Комлева на фронте Отечественной войны свыше года, — писал он синим карандашом, на ощупь, не видя слов, крупные строки лезли друг на дружку. Для партячейки сообщаю коротенько. Т. Комлев из крестьян, имеет 10 классов, бьет врага без колебаний в самом трудном месте, чем т. Комлев показал себя как выросший из комсомола сознательный коммунист. Считаю достойным быть в рядах ВКП(б). К сему генерал-майор авиации Хрюкин».
…С лопатой в руках возле загубленного, ушедшего в землю металла, с занывшей вдруг поясницей (память прошлогоднего вылета на Ятрань), — Комлев не знал, как нужна была встреча с ним другому: ведь Хрюкин готовился к безоглядной борьбе до последнего.
Но в штабе, где Хрюкин вскоре появился, все определяла фронтовая обстановка, в последние часы заметно ухудшившаяся. Это означало, что экипажи, входившие в боевой расчет, должны выйти на передний край не в семь утра, как намечалось, а с рассветом. Поднять армию затемно — вот что было ему сказано. Он выслушал распоряжение, не раскрыв рта, через час возвратился к себе — рассылать людей, проверять, взбадривать, вносить коррективы.
И хотя в последующей лихорадке круглосуточной работы на КП и в штабе он пытался забыться, отвлечься от нависшей над ним угрозы, ему это удавалось плохо. Ожидание неправедной кары гнездилось в нем рядом с другой, неизмеримо большей тревогой за исход поединка, который вместе с наземными войсками вели его летчики против танковой брони, день за днем и час за часом подбиравшейся к городу с юга, из района Абганерова. Сил не хватало, противостоять лавине низколобых танков Гота его армия не могла — и все-таки она противостояла. Летчиков, на которых он опирался в этой неравной, кровопролитной борьбе, называли на аэродромах непотопляемыми; тут была толика горького юмора, желание уберечь их от сглаза, не искушать судьбу. Истребитель Клещев, бомбардировщик Полбин, штурмовик Комлев — непотопляемые. Зная, что на войне неуязвимых нет, Хрюкин публично поддерживал это миф, дававший надежду на завтра.
…Сентябрьским вечером, в потемках, в низине овражистого поселка, где размещался штаб фронта, он ждал, когда откроется представительное совещание. Народу собралось порядочно, командующий с началом медлил. Генералы затягивались дымком по-солдатски, в рукав. Отблеск сталинградского пожарища доходил и сюда, падая на ветровые стекла машин, отражаясь в чьей-то роговой оправе. Настроение было гнетущее: немцы прорвались к Волге, танки и артиллерия прямой наводкой крушили городскую окраину… Подлетел «джип» члена Военного совета, все тут же направились в домик командующего фронтом. Окликнув Хрюкина, член Военного совета увлек его за собой, защелкнул дверь, молча придвинул ему листок из полевого блокнота с пометкой в правом верхнем углу: «копия». Ниже шел машинописный текст директивы Верховного на имя представителя Ставки Жукова. «Сталинград могут взять сегодня или завтра, прочел Хрюкин. — Недопустимо никакое промедление. Промедление теперь равносильно преступлению. Всю авиацию бросьте на помощь Сталинграду. В самом Сталинграде авиации осталось очень мало…»
Участники совещания, прошедшие в комнату командующего фронтом, расселись и притихли, задержка была за членом Военного совета.
Стоя с ним рядом, член Военного совета, как понял Хрюкин, не знакомил, — он посвящал его в только что полученный документ, посвящал как сообщник, быть может, косвенно причастный к каким-то его акцентам. Сознавая всю значимость директивы, выдвигавшей авиацию, следовательно, и его, на первый план, Хрюкин прежде всего — странное дело! — отметил вкравшуюся в текст неправильность. Описку, как он тут же определил для себя это место: «В самом Сталинграде авиации осталось очень мало…» Собственно, в Сталинграде, в городской черте авиация уже не стояла. Все, что он имел, находилось на левом берегу, за Волгой. Описка вкралась в директиву словно бы специально для того, чтобы выпукло представить истинность главного признания: «…авиации очень мало…» Обстоятельство, с которым до последней минуты никто не желал считаться. Теперь, непререкаемо утвержденное Верховным, оно бросало ясный свет на все, что он, Хрюкин, делал этим знойным летом и осенью в донской степи, под Калачом, в Гумраке и Заволжье. «Всю авиацию бросьте на помощь Сталинграду». Представитель Ставки Жуков находился много севернее города, и это требование означало, что кроме 8-й воздушной в дело должны быть немедля введены бомбардировщики АДД, резервные штурмовики и истребители, стоящие в верховьях Волги. Ни словом не коснувшись лично его, Хрюкина, ничем не выражая своего отношения к поступившей на него шифровке, — может быть, и не зная ее, — властный и жесткий Верховный своей оценкой грозного момента сталинградской битвы оценивал, между тем, и его, командующего 8-й воздушной армией.
— Держись, Хрюкин, — шумно, тяжело вздохнул член Военного совета, подводя итог их молчаливому объяснению. Взял листок, сложил вчетверо и только теперь направился к командующему фронтом.
Он мог бы этого ему и не говорить.
Сколько стоит мир, сколько враждуют на земле племена и народы, не проявлялось силы более могущественной, чем сила мужества и воли, окрыленных справедливостью.
Солнечным февральским утром сорок третьего года, когда над студеным, заснеженным волжским правобережьем, где восемь месяцев не стихал гром сражения, воцарилась победная тишина, в Гумраке, вновь ставшим действующим аэродромом, готовился к старту транспортный самолет ЛИ-2.
Среди трофейных «юнкерсов» и «мессеров», стоявших на летном поле более скученно, чем наши самолеты здесь же в жаркие дни минувшего июля, ЛИ-2, с погруженным на борт имуществом штаба 8-й воздушной армии, был незаметен. Возле машины, оживленно переговариваясь между собой, прогуливалось несколько штабных офицеров, — в новеньких полушубках и валенках, только что пожалованных комсоставу по случаю великого фронтового торжества. Офицеры поругивали селение, откуда они отбывали на запад, вслед за наземными войсками: с дровами было плохо, намерзлись, и с водой всегдашняя морока. Но преимущества насиженного места, где столько прожито, где столько пережито, брали свое: и банька, и теплая столовая, не говоря уже об овраге, где так хорошо укрывались фургоны узла связи. А будет ли все это в Котельникове, куда перебирается штаб, неизвестно. Кто-то утешился предположением, что война отныне пойдет такая, что уже не придется больше рыть щели, укрытия.
Вдруг по соседству с ЛИ-2 взревели моторы, и полушубки кинулись врассыпную, спасаясь от быстро и неверно, рывками и зигзагами, катившего на них трофейного бомбардировщика Ю-87. Чудом не столкнувшись с ЛИ-2, «ю восемьдесят седьмой» пронесся вперед, резко затормозил, встал как вкопанный, неуклюже развернулся и как оглашенный, вздувая снег и ветер, понесся на прежнее место.
— Техсостав резвится, — говорили офицеры, снова собираясь группкой и вспоминая вчерашнего техника-сумасброда, тяжко пострадавшего при попытке подняться в воздух и удивить товарищей на трофейном «мессере».
Показалась генеральская «эмка», перед которой так торопливо ретировался «ю — восемьдесят седьмой».
Доложив генералу Хрюкину о готовности экипажа ЛИ-2, летчик протянул ему торопливо исписанный листок.
— Бортрадист только что принял, — сказал летчик. — Спешил. Боюсь, ошибок насадил.
Хрюкин глянул на подпись: «Военный совет 62 армии Чуйков, Крылов, Гуров…» Он уже знал этот документ, приветственное обращение Военного совета армии, которой в дни Сталинградской битвы выпали самые тяжелые испытания. «Празднуя победу, мы не забываем, — вновь стал перечитывать его Хрюкин, — что она завоевана также и вами, товарищи летчики, штурманы, стрелки, младшие авиационные специалисты, бойцы, командиры и политработники объединения тов. Хрюкина. Те восторженные отзывы о нашей победе, которыми пестрят страницы газет, в равной мере относятся и к вам… С самых первых дней борьбы за Сталинград мы днем и ночью беспрерывно чувствовали вашу помощь с воздуха… В невероятно трудных и неравных условиях борьбы вы крепко бомбили и штурмовали огневые позиции врага, истребляли немецкую авиацию на земле и в воздухе… За это от имени всех бойцов и командиров армии выносим вам глубокую благодарность».
Офицеры штаба, подтянувшись к раскрытой дверце самолета, ожидали, чтобы генерал поднялся на борт.
Сложив листок и сунув его в карман бекеши, Хрюкин пожал летчику руку, взял под козырек:
— Счастливого пути! До скорой встречи в Котельникове! Козырнул офицерам, сказал шоферу:
— Даю тебе, товарищ водитель, курс: на Калач!.. На открытом, в передувах, проселке «эмка» не раз проседала по самые оси, заваливалась, но возвращение морозной, безветренной придонской степью в Калач, к переправе, где увидел в бою Клещева, где впервые подал по рации команду штурмовикам, эти километры, пройденные в августе, весь обратный путь от Гумрака, столько взвалившего на его плечи, что он едва устоял, наполняли каждую клеточку его существа пьянящим чувством освобождения.
Позже ему всегда казалось, будто, ныряя на «эмке» по сугробам из Гумрака, он не ехал тогда, а летел.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Лето 1943 года на юге страны выдалось сухим, безветренным, кровопролитным. Летчики эскадрильи капитана Комлева, крещенные огнем немецкой зенитки и «мессеров» на рассвете первого, июльского, штурма вражеской обороны по реке Миус, прогрызали тяжелый рубеж и в августе. Нешумное наступление, казалось, вот-вот захлебнется. Наскребая с вечера боевые расчеты, составляя экипажи па завтра, командир эскадрильи капитан Комлев уходил в подсолнечник, окружавший редевшую стоянку его самолетов, шелестел там стеблями, перебирал варианты. Решения, принимаемые капитаном, быть может, не для всех убедительны, но неоспоримы: Дмитрий Сергеевич Комлев воюет третий год.
Из свежего пополнения ему достался всего один летчик, Борис Силаев.
Сколько прошло на глазах капитана и сгинуло без следа молодых, но кто наперед скажет: удержится ли в строю новичок, устоит, или завтра его смоет? На третьем боевом вылете Силаева сбили, его воздушный стрелок погиб. Пробродив дотемна в увядавшем на закате подсолнечнике, капитан взамен погибшего назначил в экипаж Силаева воздушного стрелка Степана Конон-Рыжего — увесистый хвостовой пулемет в руках Степана играет, и сколько минуло с того дня, когда в острой схватке со злым, неукротимым «фоккером», вместе с воплем отчаянья и торжества: «А я ж тебя батогом!» — понял Степан, что стегать истребителей врага надобно как скотину, бить их меткой очередью по кабине как палкой, как плетью, как дрыном, ни на что другое не полагаясь; с того случая Степан, если у него просят перед вылетом совета, отвечает сумрачно и деловито: «Батогом!.. Он к тебе цепляется, ты же его батогом…»
Законное место Конон-Рыжего, естественно, в машинах сильнейших летчиков, назначение же старшины в экипаж новичка Силаева вызвало на стоянке щемящий отзвук…
Несколько вылетов прошло удачно, но, как того и опасались, вскоре Конон-Рыжий с молодым своим командиром пострадал: их сбили. Это случилось 27 июля. Иссиня-черная и голубая пропасть Миуса, иссиня-черная и голубая, разверзлась под ними, и оба, летчик и стрелок, порознь прогремели с небес на землю.
В полк они возвратились поодиночке.
Похороненный было Силаев явился на стоянку, к подсолнухам, среди бела дня нежданно, как Христос народу, в рубище вместо гимнастерки, вызвав сочувственное и даже почтительное к себе отношение как первый и единственный, кого на Миусе сбили дважды. От спирта, поднесенного на радостях, Силаев слегка захмелел, его невразумительный рассказ, в котором то и дело повторялось: «Как даст, как даст по…» и «Правую ногу на сиденье и соплей!» — перемежался коротким, тихим, несколько жутковатым смешком… это производило тягостное впечатление. Как летчик Силаев многого не обещал.
Легко раненный Конон-Рыжий попал в дивизионную санчасть, где отлеживался в окружении заботливых сестричек и с некоторым комфортом, которым он гордился и от которого страдал: он был в палате один; во время миусского штурма, как, впрочем, и всю войну, раненые в авиаполках насчитывались единицами. Поцарапанное осколком правое плечо Конон-Рыжего заживлялось йодом, опаленная и обработанная марганцовкой правая щека была фиолетово-черной, придавая удлиненному лицу неожиданное сходство с маской циркового клоуна, почему-то очень для Конон-Рыжего обидное: шуток по этому поводу он не терпел.
Капитан Комлев навестил стрелка.
Присел в ногах на край постели: как сон, аппетит? О последнем вылете, по сути, не расспрашивал, — Степану сочувствовал, сам тяготился его исходом. Младший лейтенант Силаев, конечно, жидковат. Особенно в строю, в хвосте. Плохо держится в хвосте шестерки младший лейтенант. А ставить его в середину группы — боязно, черт его знает, что может выкинуть…
— Неустойчив он как-то, Силаев, — поделился со стрелком капитан, кровать под ним поскрипывала.
Проведали Конон-Рыжего замполит, командир полка, и, заикнись старшина о своем желании перейти в другой экипаж, к летчику понадежней, его просьбу сейчас бы уважили. Но он об этом не просил. На прямой вопрос замполита ответил, что будет летать с новеньким, — как будто приворожил его Силаев.
Комлев предоставил летчику короткий отдых — несколько дней воистину царской жизни.
Утром он вставал не по команде, а когда хотел, завтракал последним, до обеда валялся на солнце, прогревал бока, забывался долгим сном, — спать Силаеву все время хотелось, — иногда упражнялся в стрельбе, расставляя в капонире, земляном укрытии для самолета, фотокадры немецкой «солдатской газеты» и пересчитывая их из пистолета «ТТ» навскидку.
Две тренировочные разминки вклинились в его санаторный режим.
Хороши они были — вольготные, без лихорадки сборов, без пытки ожиданий первого залпа.
Особенно удалась последняя: разведчик «хеншель» протянул из края в край вечернего неба высокий инистый след, и больше ничто не напоминало о близости передовой.
Придерживаясь темневших внизу угольных копров, он на машине, сохранявшей свежесть аляповатой заводской покраски, ходил по широкому кругу в свое удовольствие, — должно быть, так летали, тренируясь, в строевых частях перед войной.
— Ну, что, Силаев, — спросил капитан Комлев через несколько дней, собрался с духом? Не мерещится?
— Вроде бы, товарищ командир. — Он не понимал, на что намекает командир, что ему должно мерещиться.
— Пора впрягаться или как?
Царская жизнь кончилась, понял Силаев, начинается солдатская.
— Вам видней, товарищ командир…
— На завтра я тебя заявил. Конон-Рыжий остается за тобой. Пойдешь ведомым у Казнова.
Лейтенант Алексей Казнов, дружок Силаева, по прозвищу Братуха командир звена, воевал под Сталинградом, когда ИЛы шестеркой взлетают на задание, его место не в хвосте, куда обычно попадает новичок, а в середине строя. Таким образом, и Силаев передвигался в середину…
Как будто угадал капитан с составом пары Казнов — Силаев, как будто пара складывалась: в дело входила напористо, из боевого порядка «круг» не выбивалась, подавляла зенитку…
— Как Силаев? — спрашивал Комлев, проверяя свои впечатления.
— Тянется, — отвечал Казнов. Не более того.
Упреждать события в эскадрилье Комлева не принято: загад не бывает богат.
Под Саур-Могилой Силаева сбили в третий раз.
Удар снаряда пришелся по мотору.
Из-под ног летчика брызнуло масло, смотровые стекла сейчас же затуманились, пожелтели, стали темными, в кабине создался сумрак, по ногам загулял сквозняк.
Прикрываясь от брызг горячего масла и чтобы хоть что-то видеть, Силаев откинул над головой колпак, «фонарь» кабины, выровнял самолет. Мотор фыркал, две-три минуты тянул, потом умолк.
— Прыгать?! — крикнул Конон-Рыжий.
В наступившей вдруг тишине тонко посвистывал ветер; голос Конон-Рыжего из задней кабины, отделенной от командирской стояком бронеплиты, прозвучал не в наушниках, а откуда-то сверху или сбоку, как если бы они затеяли перекличку на бесшумном планере. Но не внезапная тишина удивила Силаева. Прокричав: «Прыгать?!», Конон-Рыжий выжидательно смолк. Выжидательно и настороженно. Раньше этого не случалось. С того дня, как старшина впервые представился своему новому командиру, между ними, летчиком и стрелком, существовал уговор, и, следуя ему, воздушный стрелок не позволял себе в воздухе ни единого лишнего слова, которое могло бы отвлечь летчика. В свою очередь Конон-Рыжий знал, что в нужный момент, согласно их уговору, командир первый, сам просигналит ему трехцветной бортовой сигнализацией, всеми лампочками одновременно: красной, синей и зеленой: «Прыгай!»
Мелькнул песчаный берег пересыхающего Миуса, по которому вилась передовая, земля в пестрых красках — черные, рыжие, желтые клинья — неслась навстречу.
— Сидеть! — ответил Силаев, слыша звук собственного голоса, как только что слышал голос стрелка: непривычная после долгого рева мотора тишина ему мешала.
Переломив крутое, в лоб, движение земли, ИЛ послушно выстлался над нею, сухая трава зашуршала по колесам.
Ничего перед собой сквозь залитое маслом бронестекло не видя, зажав визжавшие тормоза, он ждал удара о какой-то сруб, в забор, в избу…
— Где сели? — кричал Степан.
— Дома! — Инерция пятитонной машины быстро угасала. — Дома сели, повторил Борис, когда самолет остановился, вытаскивая из-под зада планшет. У себя.
Самолет был невредим, Силаев как бы со стороны оценивал его только что завершенное, легкое, впритирку возвращение на землю; длившееся более часа движение оборвалось, гудение скорости прекратилось.
— Вот это посадочка! — гремел позади сапогами Степан, выбираясь из своего гнезда наружу. — Вот это притер!
Борис слушал его, распустив привязные ремни, устало отвалившись к бронированной спинке сиденья.
Спокойствия, блаженной от всего отрешенности — не было.
Тишина оконченного вылета — тишина, которая могла не наступить, воцарялась в самолете, в кабине, но не в нем.
Он поднял заляпанный маслом планшет и тут же увидел на карте речку Криницу. Она так и бросилась ему в глаза, Криница.
Песчаный берег, над которым он прошелестел без мотора, отвлеченный тишиной, криком стрелка, звуком собственного голоса, был, как показывала карта, берегом речушки Криницы, протекавшей вдоль линии фронта в немецком тылу, к западу от Миуса, километрах в пятнадцати от него. Сдуру принял Криницу за Миус.
И сразу же в голосе Степана, успевшего выбраться наверх и предостерегавшего: «Командир, гляди-ка!», ему послышалась перемена.
«Немец!» — понял его Борис, вспоминая, как нехотя, будто приневоленный, начал он над целью доворачивать в сторону от своих, от Казнова и Комлева, носом на запад, на эту Криницу, улавливая в перекрестие прицела пылящий гусеницами немецкий танк…
Пот прошиб Бориса; он не знал за собой вины, кроме этого шального доворота, а на него надвигалось нечто ужасное, несравнимое со всем, что он вытерпел за этот месяц и что все-таки могло обрушиться на кого угодно… на Женю Столярова, пропавшего в первом же вылете без вести, а недавно пронесся слух, будто кто-то опознал его, худющего, в колонне пленных под страшным конвоем власовцев и что найдена в каком-то сарае, в щели между бревен, и переслана в полк записка:
«Передайте нашим, Столяров жив…»
Силаев медленно выбирался из кабины, смутно полагаясь на некую высшую, к нему благосклонную силу, которая вмешается, вступится, не оставит его.
Поднялся на ноги, распрямился, — прямо под ним, под колесами ИЛа, чернела, отдавая прохладой, противотанковая яма, ее глинистые края, поросшие дикой травой, осыпались. Конон-Рыжий, возбужденно крича: «А, командир!», показывал ему на двухметровый ров, для них уготованный, да их не дождавшийся, усматривая причину поразительной удачи в мастерстве своего командира, но Силаев, не решаясь поверить в избавление от ужаса, несравнимого с тысячами таких ям, осматривался вокруг недоверчиво и зорко. Он увидел впереди, в полукилометре от рва, маскировочные сетки для укрытия самолетов, наметанным глазом различил между ними «махалу», как еще со времен аэроклуба называл дежурного с флажками, черным и белым («Сто посадок посмотрю, одну запишу себе», — со вздохом утешал себя Силаев в школе военных летчиков, когда инструктор в воспитательных целях зарядил ставить его «махалой» — в пыль и зной, перетаскивать сигнальные полотнища, гонять забредавший на аэродром скот), теперь этот маленький «махала», воскресив безрадостные дни, своим неосторожным поведением нарушал к тому же интересы маскировки, а Борис не мог на него наглядеться, и впервые после посадки на его губах, как отсвет внутреннего успокоения, появилась улыбка. Затем различил Силаев мягкий шелестящий звук, быстро достигавший резкой, пронзительной ноты, — вздымая пороховую строчку пыли, сносимую ветром на пятнистые маскировочные укрытия, брала разбег пара истребителей с ясно различимыми красными звездами на красивых хвостах… Наши!
Он — дома.
— Глазам больно, — сказал Борис, забрасывая подальше за спину планшет с картой, так его устрашившей. — Все в глазах плывет, как в тумане.
Горячее масло пробилось в поры его лица, придав ему мулатный оттенок, в лоснящихся мазутом бровях наметился восточный изгиб, белки под вспухшими веками летчика светились ярко.
Послюнявив чистую тряпицу, Степан вытер Силаеву щеки и лоб, помог сбросить хлюпавшие маслом сапоги, простирнул под бензиновым краном гимнастерку, брюки, портянки командира. Своей железной хваткой выжал их добела.
…Источая едкий огнеопасный аромат и молча обходя длинный противотанковый ров, Силаев спустился с пригорка. ИЛ высился на холме подобно горному туру: смелый прыжок вынес его на кручу, он замер над пропастью, вскинув голову и напружинив свои стройные ножки.
За Силаевым, навьюченный парашютами, бортовой радиостанцией и самолетными часами, следовал Конон-Рыжий, принявший вместе с негабаритным грузом обязанности дядьки при двадцатилетнем офицере.
Летчик и стрелок направлялись к полевой стоянке истребителей.
На полпути Силаев еще раз оглянулся.
Нет, не подобен горному туру его ИЛ-2.
И громоздок он, и тяжеловат. Широко разнесенные ноги тумбообразны, спина выпирает горбом. Одногорбый верблюд — вот профиль ИЛа. Этот выступ, бугор-кабина летчика, породившая кличку «горбатый», когда штурмовик был еще одноместным, с беззащитным хвостом. С прошлого года фронт получает улучшенный, усиленный его вариант, к бронированной пилотской кабине пристроена кабина воздушного стрелка, «скворешня». Горб ИЛа несколько сгладился, утратил остроту, но прозвище за машиной прежнее, да и оснований для этого больше: теперь, обрабатывая передний край, штурмуя цели, горбатятся трое — летчик, стрелок, самолет.
Не изящный, не легкий, не летучий, ИЛ посреди изрытой войною степи заново открывался летчику самой нужной и дорогой для него красотой надежности.
— Красив «горбатый», — сказал Силаев.
Конон-Рыжий по-своему судил о достоинствах и недостатках ИЛа: в частности, его кабина, его «скворешня», с боков прикрыта не броней, а клееной фанерой, но ведь «мессер» атакует и с боков… Однако под впечатлением давешней посадки он не стал оспаривать командира.
— Ноги крепкие, — сказал старшина.
Полевой аэродром, куда они вскоре пришли, оказался «пятачком» подскока, откуда, как из засады, — вроде тех, что были у немцев под Сталинградом, действовали наши истребители.
«Пятачок», как выяснилось, ждал пополнения, безаттестатный экипаж ИЛ-2 больших забот хозяевам не доставил: летчика и стрелка накормили, отвели им место для ночлега.
На свежезастланном топчане сон Борису не шел.
Несколько раз выходил он в трусах и пропотевшей майке на крыльцо.
Луна стояла над темной степью, алая примесь в ее светло-лимонном диске была как отблеск сечи, идущей неподалеку, по рубежу Миуса. Борис курил, пряча огонек, вслушивался, опустив голову, в гудение наших «Бостонов» и ПО-2, проходивших в сторону реки, на частокол шатавшихся прожекторов; поднял руку, поводил ею в темноте, вспоминая боль, которая днем, перед вылетом, его встревожила и которая исчезла; синоптика, пришедшего за несколько минут до старта, когда летчики, улетающие в бой, в центре внимания, свою неожиданную, неуместную браваду перед синоптиком, — Комлев ее заметил, — и с новой силой ожило в Силаеве дважды испытанное им за день предощущение удачи. Глубокое, ясное, такое неверное.
В первый раз — утром, когда ходили на Донецко-Амвросиевскую. Под Донецко-Амвросиевской ожидалась мотоколонна противника, прикрытая зениткой. Казнов, его ведущий, двадцать раз повторил на земле: «Не отставай, держись за мной клещами!..» Силаев и сам знал, как осмотрителен противник, как умело и жестко оберегает он резервные части, в спешном порядке, днем продвигаемые к фронту. Но в районе, указанном разведкой, мотоколонны не оказалось. Либо она проскользнула, либо не появлялась. Вместо грузовиков по большаку пылили эскадроны румынской конницы. Ведущий Комлев снизил шестерку на бреющий. Куцехвостые коняшки, вздыбливаясь под моторами ИЛов свечой, были смешны и слишком беззащитны, чтобы действовать против них свирепо. Его новенькая «семнадцатая», чуткая, легкая, прямо-таки играла в руках, он впервые во время штурмовки испытал охотничий азарт. Возвращение домой в собранном, плотном строю без единой царапины было триумфальным, из суеверных опасений он сдерживался, не пел. Пребывая под впечатлением безопасной и азартной кутерьмы над большаком, он не заметил, как нос командирской машины коротко нырнул, что означало роспуск группы, как исчез только что находившийся рядом самолет Казнова, и в мгновение ока он оказался один, не представляя, — где он? К счастью, впереди мелькнул чей-то хвост, он за ним увязался. Пристроился, зашел на посадку, с ходу сел… Но не закончил еще пробежки, как радость счастливого возвращения погасла: он понял, что мчится на своей «семнадцатой» по чужой, братского полка, взлетно-посадочной полосе — прямым ходом на разнос, на позор, ибо, по справедливости, не многого стоит летчик, теряющий аэродром назначения под крылом своей машины.
Все дальнейшее он проделал с отчаяньем ускользающего из западни: волчком развернулся на сто восемьдесят градусов, застопорил костыль и газанул на взлет — в лоб садящимся братским ИЛам, чудом с ними не сталкиваясь. Этот вопиющий, с точки зрения правил, но единственный, на его взгляд, спасительный маневр он осуществлял быстро, уверенно, без размышлений, испытав мгновенное и острое предощущение удачи — знакомое, редкое чувство, которое и впредь ему поможет.
Он не опоздал, успел на свой аэродром, приземлился одновременно со своей шестеркой. Но Комлев все видел.
«Обрадовался?» — спросил командир эскадрильи. «Обрадовался!» подтвердил он (рот до ушей). «Ничего этого не было, — тихо сказал Комлев, поглядывая по сторонам, а он с готовностью ему поддакивал. — Не рассчитал, ушел на второй круг, сел замыкающим… ясно?» — «Ясно!» — подхватил он как заговорщик. Комлев как будто покрывал его, подсказывая версию, коей следует держаться в случае вызова на КП. Как будто так; Силаев видел, однако, что капитан сыт его художествами, что все это может плохо для него кончиться, а его распирало прекрасное, только что испытанное предчувствие, он в него верил, ничего не страшился. Подкатил «виллис» с охрипшим посыльным: «Комэска Комлева и летчика Силаева — на КП!.. Звонок от соседа!.. Ругается сосед!» Чего и следовало ожидать.
Комлев молча опустился рядом с шофером, молча указал Силаеву на место сзади, «виллис» рванул, не дожидаясь, пока летчик усядется, но и этот рывок, и кара, нависшая по его вине над ним и капитаном, не заглушали возбудившейся в нем веры в благополучный ход событий. И что же?
На полпути к КП все изменилось: стоп, «виллис»! В чем дело?
Сейчас же назад, на стоянку, к подсолнухам! Пулей к самолетам, вылет по ракете!
Ракеты, однако, пришлось ждать долго, нервное напряжение не спадало: то штурман дивизии проверял знание курсов и расстояний, то летчиков вновь собирали в кружок, и командир полка, подкативший на «виллисе», предостерегал: «Комлев, работу ИЛов с земли наблюдает представитель Ставки!»
Все это, несмотря на то что о посадке на соседнем аэродроме — ни звука, понемногу вытрясало из Бориса обретенный утром оптимизм.
Они сидели на чехлах комлевской машины, все уточняя, выверяя начертание линии фронта, ежечасно менявшееся.
Собственно, вникал в ее неспокойные изгибы Комлев, с терпеливым старанием подчищая и заново расцвечивая каждый выступ, каждую вмятину красно-синей линии, а он, Силаев, примостившись сбоку, глазел в поддуваемую ветерком карту командира, механически ее копировал. За его, Силаева, спиной с карандашом и розовым шариком школьной резинки наготове, то привставая, чтобы тоже видеть линию фронта, то приседая, ноги калачиком, посапывал Конон-Рыжий. Повторяя на своем листе рисунок командира, Силаев ждал одного: где, в какой точке остановится остро отточенный карандаш капитана? Куда их пошлют? На балку Ольховчик? На Снежное?..
И Снежное, и балка Ольховчик, и Саур-Могила — ключевые позиции немцев по миуескому рубежу, но худшим из трех вариантов был для Силаева один.
«Только бы не туда», — думал он.
Не на Саур-Могилу, где двадцать седьмого числа разверзлась перед ним иссиня-черная и голубая пропасть Миуса… Быстрые, слишком скорые мгновения над ней были не стычкой, но схваткой. Первым воздушным поединком, где он уже не был скован, не служил мишенью, знал, что делать, у него даже возник какой-то план, и все могло бы повернуться иначе, поддержи его Конон-Рыжий, вовремя обеспечь огнем. Но хвостовой пулемет молчал.
Неясность, не поддающаяся разумению летчика двусмысленность вкралась в последние секунды боя, в его раэвязку, когда Борис выбрасывался с парашютом.
Фронтовая жизнь, исполненная риска, была в тыловых представлениях Силаева тем хороша и желанна, что несла с собой избавление от всяческих постромок и опек. Еще в курсантской курилке привлекала Силаева и многими живо обсуждалась такая подкупающая мелочь фронтового быта, как общение летчиков между собой не по званию или фамилии, а посредством невесть откуда взявшейся сокращенной формы; например, ДБ — так называли друзья летчика-истребителя Дмитрия Борисовича Глинку, прославленного аса; ББ — так обращались к его однополчанину, старшему брату Борису Борисовичу. И выдумка тут, и улыбка, и фронтовая вольность… Надо ли удивляться, что по прибытии на Миус Силаев сейчас же прослышал краем уха о какой-то уловке, проделке, будто бы предпринятой в разгар кубанского сражения старшим из братьев, ББ, чтобы попасть из тыла на Кубань, где действовал полк младшего, ДБ…
БС — тоже звучало не плохо.
Дело оставалось за малым: чтобы такое обращение получило признание, права гражданства. Чтобы возможности, которые он в себе чувствовал, самостоятельность, которую оп развивал, вышли, наконец, наружу, оставили след по себе… в виде пока безвестного сокращения «БС», что ли…
Помереть, погибнуть, ничего не сделав, никак не проявившись?
В горьких размышлениях об этом он еще до армии, на крышке школьной парты перочинным ножом вырезал три слова: «Россия, милая Россия…» Никто из активистов десятого «Б» не вздумал прорабатывать Бориса за порчу казенного имущества. Посоветовали закрасить остро белевшую строчку, чтобы не так бросалась в глаза. Он закрасил, затушевал, — с товарищами Борис всегда ладил. Но завуч — историк, прежде его не замечавший, прицепился. «Это не случайная выходка Силаева», — заявил он. Сердечный вздох тугодума был истолкован завучем как проявление скрытого анархизма, как склонность к беспочвенному пессимизму, «который может завести далеко не в ту сторону». Силаев выслушивал все это с интересом. «Выходка!» — настаивал завуч на обсуждениях, значительно намекая на некий уловленный им в умонастроениях юноши подтекст, — чего Силаев не желал уже ни слушать, ни сносить. Конфликт, надолго затянувшийся, ничем не кончился…
И в летной школе Силаев никому и ничего не доказал, хотя и пытался. Словарь блюстителей армейского порядка довольно скуп, но для свежего человека с «гражданки», вчерашнего десятиклассника, в нем много неожиданного. «Курсант Силаев разгильдяй!» — схлопотал он перед строем за плохо прибранную тумбочку. Не показав обиды, в спокойных выражениях Силаев взялся было разъяснять, какое это заблуждение: он из учительской семьи, где с детства приучают к порядку, и никто, никогда не называл его разгильдяем… не убедил. С кем ему особенно не повезло, так это с инструктором. Его инструктор Заенков был тем в жизни счастлив, что не опоздал, успел, выскочил из военной школы лейтенантом, получил лейтенантское обмундирование, лейтенантские знаки различия за день до приказа наркома обороны, по которому военных летчиков по окончании курса стали аттестовать как младших командиров, присваивая им звание «сержант». Год, как работал Заенков инструктором, а все не мог успокоиться, унять своей радости, сам говорил, что просыпается по ночам и, не веря себе, ощупывает ворот гимнастерки, красные квадратики на нем, «кубари». Ретиво занимался спортом, спринтом, получал призы и грамоты. На разборы полетов с курсантами являлся одетым с иголочки. Тонкая кожа белесого, тщательно промытого лица пылает от ветра и солнца, бровки домиком слегка подбриты, от густых светлых волос, разделенных пробором, отлетает стойкий парфюмерный запах (инструктора за глаза звали Душистым). Лучшие часы Заенкова были, конечно, в воздухе, где так зримо проявлялось его превосходство над теми, кто, как его ученики-курсанты, подпали под приказ и кому теперь до лейтенантского чина служить, как медному котелку. Прежде чем сесть в кабину «р-пятого», Заенков обмахивал бархоткой пыль с надраенных сапожек, натягивал перчатки желтой кожи, потом прикреплял у себя на груди резиновый раструб переговорного устройства, «матюгальник», от которого в воздухе не отрывался, — матерщинником молодой инструктор был ужасным. Курсант человек подневольный, что ему остается: либо терпит площадную брань, либо старается ее не замечать. Силаев по натуре не кисейная барышня, и не подзаборная ругань сама по себе убивала его, а вот это желание унизить тех, кто и так лейтенанту не ровня, насладиться превосходством счастливчика… На беду Силаева, в нем что-то устроено так, что всякая обида, несправедливость, оскорбление вызывают в нем оцепенение. Потом он соберется, ответит, даст отпор, но первая реакция — боль бессилия, оцепенение. «Выбирай стабилизатор!» — орал на него из своей кабины Заенков, немыслимо изощряясь и не подозревая последствий, глубины обратного эффекта, силы тормоза, приведенного им в действие. Заенков бесновался, Силаев, сидя болван болваном, раз за разом повторял одну и ту же ошибку. Когда он ошибся в энный раз, Заенков, доведенный тупостью ученика до белого каления, двинул от себя штурвал сдвоенного управления так, что костяшки правой кисти, которой Силаев держал штурвал в своей кабине, расшиблись о стенку бензобака в кровь. На земле Заенков подлетел к нему, чтобы излиться до конца. Стоя навытяжку перед инструктором с глазами, полными слез, Силаев, стараясь говорить твердо, заявил: «Я с вами летать не буду!» — «Будешь, трам-тарарам! — заходился в крике Заенков, удивляясь слезам курсанта и не понимая их. Еще как будешь, трам-тарарам! Сначала сто посадок посмотришь, одну запишешь себе, а потом я подумаю, допускать тебя к полетам или нет!..» Все было так, как сказал Заенков. Из стартового наряда «махала» Силаев не выбирался, летал урывками, перебиваясь с хлеба на квас, по всем элементам летной практики Заенков выставил ему «четыре», что означало профессиональную непригодность, необходимость отчисления… а ведь шла война. Может быть, потому и не отчислили, что война: средств и сил на подготовку летчика было затрачено немало. Не отчислили, допустили к полетам на СБ — с другим инструктором. «И отец учитель, и мать учителка?» — встретил его новый инструктор. Курсанта Силаева никто об этом не спрашивал. Между тем в обращении инструктора были наивность и удивление, знакомые Борису с детских лет, по пионерским лагерям, где его всегда расспрашивали об этом новые приятели; вопрос вернул его в дом, в их семью, где в последние годы, несмотря на стычки с отцом, складывалась вокруг него атмосфера внимательности и заботы, как это часто бывает вокруг единственных сыновей, подающих надежды. Штатный «махала» как-то приободрился, повеселел; с той встречи, с того вопроса началась в жизни Бориса новая, светлая полоса. Его новым инструктором был лейтенант Михаил Иванович Клюев…
Но как мелки, как смешны, ничтожны тыловые мытарства Силаева — в школе и ЗАПе — в сравнении с тем, что началось для него июльским рассветом на Миусс.
С первого дня, с первого вылета, когда не стало Жени Столярова, все зло земли сошлось для Силаева в холодном звуке «мессер». Все его страдания и боль — от немецкого «мессера», «худого», смертного врага его ИЛ-2, «горбатого». Когда он стал курсантом, его долго преследовал страшный сон школяра: как будто выпускные экзамены, и он с треском проваливает химию. Ужас домашних, большой педсовет: выдавать ли Силаеву свидетельство… Теперь по ночам на него надвигались беззвучно мерцавшие пушки «ме — сто девятого», он кричал Конон-Рыжему: «Почему не стреляешь?! Стреляй!» Голос отказывал, летела сухая щепа вспоротого борта, отваливалось прошитое очередью крыло…
Так они сидели на свежих чехлах командирской машины, уточняя линию БС, боевого соприкосновения, и когда уже под вечер цель, наконец, определилась, худшее из опасений Силаева сбылось: Саур-Могила. Предчувствие, весь день жившее в нем, себя не оправдало.
Подошел синоптик, худенький младший лейтенант административной службы, в портупее, в фуражке с лакированным козырьком и «крабом».
— Облачность с «мессерами» или без? — громко обратился к нему Силаев, боясь выдать свою мгновенную, острую зависть к синоптику, которому не грозит Саур-Могила и который вечерком преспокойно отправится на танцы. Тоном голоса — с легким вызовом, чуть-чуть насмешливым — и замкнутым, холодным выражением лица Силаев постарался показать, сколь безразличны ему такие младшие лейтенанты административной службы, как он ни во что не ставит их, офицеров-сверстников, не умеющих находчиво ответить на шутку боевого летчика о «мессерах»…
— ИЛу «мессера» не догнать, — отчетливо проговорил Ком-лев, поднимаясь с чехлов и сдувая крошки со своей карты. «Он, кажется, меня осаживает, удивился Силаев. — Меня ставит на место». В сильно потертом, белесом на спине и в локтях реглане, в армейской, защитного цвета пилотке, сидевшей па крупной голове капитана несколько кургузо (его синюю, с авиационным кантом, «организовала какая-то разиня», как объясняет капитан Комлев), он приготовлялся надеть шлемофон. Капитан уважителен к тем, кто хорошо делает свое дело на своем месте. Синоптик, которого капитан знает по Сталинграду еще студентом-добровольцем, этому правилу отвечает, а он, Силаев, пока что нет. Задирать нос, заноситься всегда вредно, а перед вылетом — недопустимо. Перед вылетом, считает капитан, в человеке должна преобладать трезвость, — И от «мессера» ему не уйти, — закончил Комлев, натягивая шлемофон и делая привычный, беглый, моментальный снимок окрест себя, по головным уборам собравшихся, в надежде обнаружить свою пропажу, синюю пилотку.
Хлопнул стартовый пистолет: «По самолетам!»
«Отрекся, — подумал Силаев о командире, так истолковывая его озабоченный взгляд. — Комлев от меня отрекся».
Со вздохом, с заученной осмотрительностью, как бы чего не задеть, Силаев на руках опустился в бронированный короб своей кабины. Перед ним мотор, не пробиваемое пулей лобовое стекло; по бокам — шесть миллиметров, за спиной двенадцать миллиметров брони.
Отзываясь трубному реву мотора, хвост удерживаемой на тормозах «семнадцатой» подрагивал, бился о землю.
Стартуя в паре с Казновым, Борис знал, что в тот короткий отрезок времени, когда лидер группы Комлев пустит свой самолет в разбег, быть может, уже оторвется, повиснет над землей, набирая скорость, а они, Казнов и Силаев, изготовляясь, будут в последний раз пробовать моторы, «прожигать свечи», — в эти секунды стоящий впереди Братуха, как он ни занят, повернется к нему вполоборота. Повернется, будто бы проверяя, все ли в порядке у нерадивого Силаева. И будто бы убедившись, что — да, в порядке, удовлетворенно кивнет ему в открытом, свободном для взлета направлении, приглашая его и подстегивая: пошли!.. Он только это и сделает, Братуха. Жест сообщника, одному ему предназначенный.
Привычного знака на этот раз не последовало; Борис, ни на кого и ни на что не надеясь, из ритма не выбился, взлет их пары не исказился, все пошло как ни в один другой вылет, — и медлительный, долгий, с подпрыгиваниями разбег по кочковатой полосе, и одновременный с Казновым отрыв от земли, и легкий без нагона и подстраивания сбор на кругу… эти быстрые минуты, складываясь в единое, завершенное в надаэродромном пространстве движение, снова, как утром, вызвали в нем прилив уверенности, воскресили развеянное долгим ожиданием старта радостное предчувствие успеха.
«Казнов и Силаев — отличная пара», — могли сказать о них на земле.
Наверняка сказали.
Торбочка, подумал Силаев. Конон-Рыжий где-то прознал, будто вещи пропавшего, если взять их на борт, — хорошая примета, к добру, и приторочил внутри фюзеляжа «семнадцатой» парусиновый мешок, надписанный: «Столяров Е.». Личные вещи Жени отправлены родным, а в парусиновой торбочке летают на задание книги, взятые Женей из дома, письма, две общие тетради, заполнявшиеся торопливо и малоразборчиво…
Длинными тенями редких строений обозначился внизу Большой Должик степной, без заметной сверху границы, аэродром истребителей.
Будто закурился пылью тракт, образуя два бурунных следа, и вот пара ЯКов прикрытия, по-птичьи поджавши короткие лапки, кренится впереди в лихом развороте с тугим струйным следом за кромкой крыльев, но и этот коронный номер ЯКов не затмил в глазах Бориса слитности, с которой взлетали они, Казнов и Силаев. Неторопливо отваливая от Большого Должика и удерживая в виду резвых истребителей, Борис не отдавал им превосходства, считая себя с ними на равных. ЯКи растаяли где-то вверху.
«„Маленькие“, плохо вас вижу», — вслух, требовательно сказал Борис, как если бы на «семнадцатой» стоял передатчик.
Уж слишком они вознеслись, слишком. При таком прикрытии брюхо ИЛа оголено, беззащитно; на третьем вылете, под Кутайниково, «мессер» вынырнул как раз снизу и оттуда же, в упор ударил…
— Балуют, шельмы, — подал голос Степан, не одобряя ЯКов, быстро набиравших высоту.
Силаев сунул планшет под зад, плотней прижался к самолету Казнова.
Свежесть километровой высоты подсушила лицо, омытое при взлете потом, альпийский ветерок холодил мокрую между лопаток спину. Рация наведения глухо, отрывочно пробивалась сквозь писк и потрескивания, скрадывая расстояние, отделявшее их от заданного места, приоткрывая клокотавший над передовой котел. До цели оставалось восемь-девять минут, строй держался ровный, — еще не прошла по нему судорога последнего приготовления, когда, отвлекаясь от боевых интервалов и дистанций, летчики включают тумблеры оружия, и снова затем подтягиваются, ровняются, чтобы вскоре начать — до первого залпа наугад, вслепую, — импровизацию противозенитного маневра… «Пронесет», — сказал себе Силаев, забыв об удачном, обнадеживающем взлете, который, правда, был хорош, но все же не настолько, чтобы полностью унять, развеять страх перед надвигавшейся Саур-Могилой, где двадцать седьмого числа, прикованный инерцией и плечевыми ремнями к своему креслу, он отвесно, теменем сыпался в бездну Миуса, помня — за его спиной Степан — и не понимая, что с ним… вывалился кулем, рванул кольцо парашюта…
Сейчас, держась в строю, он, быть может, и дальше шел под гипнозом устрашающей цели, если бы не отвлек его мальчишеский соблазн взведенного курка: как бабахнет внизу, подумал он, глянув на клюквенного цвета пусковую кнопку, освобождавшую компактно размещенный в люках ИЛа убойный груз, — как бабахнет!.. До сего дня не сжился он с опасным могуществом, которым наделялся, которым обладал, поднимаясь на боевое задание.
«Комлева небось это не отвлекает», — подумал Борис.
Курясь слабыми дымами, какие обычно подолгу стоят над выжженным местом, мерцая разорванным полукольцом орудийных вспышек, открывалась по курсу Саур-Могила.
Он не разглядывал ее, видел и не видел сглаженный ветрами холм, с которым вновь сводила его судьба, — тогдашнее несчастье началось с того, что он отстал, — теперь он не сводил глаз с Казнова, следил за командиром, ждал, когда, нацелив тулова своих машин как нужно, они освободят держатели, и «сотки», стокилограммовые фугасные бомбы, вначале плашмя, потом медленно заваливаясь на нос, под тупым углом повалятся вниз. Но Комлев пустил не бомбы, а «эрэсы», реактивные снаряды; Борис последовал его примеру: легкий, не различимый, примусный шип, разновременный противотолчок в оба крыла… и предвкушение переполоха, страхов на земле.
Видеть, толком разглядеть, как боевые «эрэсы» сокрушают цель, ему пока не приходилось. Не мог дождаться — некогда.
И нынче…
Показывая ему закопченное брюхо, самолет Комлева выходил с вражеской стороны на нашу, где огонь не так плотен… капитан вытягивал, уводил их из-под опасных трасс, подальше от беззвучно и неожиданно вспухающих на разных высотах зенитных разрывов, то ли чутьем, то ли опытом увертываясь от пристрелявшихся «эрликонов» и облегчая тем, кого вел, возможность не отстать, не оторваться, не потерять друг друга. Комлев над целью не забывал, помнил о них, — вот что передавалось Борису, вызывая его ответное старание. Он пожалел, что идет не рядом, далек от капитана; крепче, крепче прижимал он нос своей «семнадцатой» к Казнову, резал круг, поддерживая, сохраняя боевой порядок…
И снова струились внизу дымки пепелища и прочерчивали небо трассы, тяготея к параболам, сгущая и как бы убыстряя свое движение в точках перекрещивания, и сильный ветер на высоте клонил в одну сторону облачка зенитных разрывов. Вдруг, в такой близи, что крылья «семнадцатой» дрогнули, ударил крупный калибр… мелькнули к хвосту три шаровидных образования цвета сажи с лимонной жилкой. Он поспешил от них в сторону, но «семнадцатая», его новенькая, его умница, его пушинка отзывалась на эти усилия дремотно, тяжело… бомбы! Бомбы наружной подвески и в люках съедали скорость, затрудняли маневр. Ахнуло с другого бока, еще ближе. Он понял, что — в клещах, что «семнадцатая» вот-вот будет накрыта… ничего другого не умея, он рванул рукоять аварийного сброса, единым махом освобождая ИЛ от поднятого груза бомб. Самолет облегченно вспух, взрыв зенитного снаряда поддал его волной, запах пироксилина, смешавшись с горным воздухом кабины, перехватил глотку, он закашлялся, на глазах навернулись слезы… но гул мотора был ровный, ручка сохраняла упругость, и главным его желанием было убраться отсюда как можно скорее. «Только бы Комлев не задержался!» — думал вн, снова заворачивая на Саур-Могилу. В ногах была вялость, он старался, как мог, поддерживать образованный шестеркой ИЛов круг, не допускать в нем разрыва. Невесомая, вновь покорная ему, как на взлете, «семнадцатая» словно бы намекала, что миг, так грозно сверкнувший, не повторится, сейчас не повторится…
«Силаев — грамотный летчик», — скажет о нем Комлев, когда они сядут. Именно в таких словах, не совпадающих, казалось бы, со всем, к чему понудила и как представила его в глазах других миусская баталия, вплоть до последних минут, когда он сбросил бомбы на цель аварийно, — именно в таких словах выразит командир свое изменившееся к нему отношение.
Он заметил внизу два танка, уступом шедшие на бруствер.
«Шугану-ка я их, — без злобы, без азарта подумал он. — Все не попусту болтаться…» — и отвалил от Казнова; впервые после взлета связь их пары разрушилась. Танк, шедший впереди, не сбавляя хода, начал задирать ему навстречу длинный ствол. Держа его на примете, Борис круче, круче заваливал «семнадцатую», и была в его довороте какая-то неохота, в которой он себе не признавался, неуместное раздумье, сомнение, что ли: все кончить, не начав… Все-таки («я его полосну, он меня, разойдемся…») — пошел в атаку. Ввод получился резким, его подхватило с сиденья, он завис на пристяжных ремнях, уперся головой в «фонарь», чуть не сел верхом на ручку, но опоры не потерял, приноровился и в этом странном, несуразном положении, почти стоя, валился с самолетом на далекий танк. Пушки ИЛа немецкую броню не брали, он бил по ней, по защитного цвета коробке, по яйцевидной башне, в надежде на ничейный исход… но с каждым мгновением своего крутого, под гул пушечной пальбы, падения, остервеняясь на себя, на этот подвернувшийся танк, он уверялся в мысли, что ошибся, поддался соблазну… ничьей не будет, скоротечная стычка эта — насмерть…
И тут в мотор ударил снаряд, из-под ног фонтаном брызнуло масло…
Сон не шел. Силаев ворочался на топчане.
Звучали в ушах голоса, команды, крики. Светящиеся трассы воскрешались с такой явью, что, казалось, воздух вокруг него густеет и накаляется.
Боль в руке исчезла, надежды, которыми он жил весь день и вдохновлялся, пошли прахом.
Как они зыбки, предчувствия.
Грош им цена.
«А завтра? — спрашивал он себя. — Завтра — все снова?»
За окном начинало светать.
«Нужны умение и сила. Сила не дается взаймы. Силу надо накапливать, собирать по крупице».
В тишине забулькали выхлопные патрубки.
Он ткнулся отяжелевшей от бессонницы головой в подушку, слыша, как металлический шелест переходит в многозвучный гул; моторы, заботливо прогреваемые, торопили летчиков к кабинам, звали на бой…
А когда Силаев проснулся, солнце стояло высоко, и над крышей прокатывался гром: истребители возвращались на «пяточок» с задания.
На табурете, придвинутом к топчану, стоял остывший завтрак, валялись какие-то открытки. Открытки были цветными; румяные пулеметчики под заснеженной елкой, припав к «максиму», косили немецких парашютистов. На оборотной стороне — столь же красочное обращение: «Боевой новогодний привет с фронта всем родным и знакомым!»
Одна открытка была надписана: «Гор. Ачинск… Контанистовой Наташе…» — прочел Силаев.
Химическим карандашом, крупно, в расчете на ребенка, нацарапан текст:
«Здравствуй крошечка Натуся!
Письмо твое получил где нарисован домик. Я повстречал папочку он рассказал мне про тебя ведь у меня тоже дочинька, но я за нее не знаю. Папа показал мне ваши фото на велосипеде и с бабушкой и козликами и твою киску, которую ты прислала папе. Мы оба рады, что свидились, когда еще свидимся? Дядя Степан».
— Кореша встретил, Контанистова, — радостно объявил с порога Конон-Рыжий. — Своим-то писать некуда, я с его Наташкой переписываюсь. — Он сел на табурет, строго перечитал свои каракули, вписал дату. — С Контанистовым мы на Херсонесе бедовали. Жуткое дело Херсонес. — Он говорил, не сводя с летчика глаз. — Немец по стоянке из минометов лупит в упор. Голову от земли отдерешь и видишь, как на Каче «мессера» взлетают, сейчас штурмовать явятся, три минуты лета…
Херсонес, последний рубеж севастопольской обороны, Степан вспоминает не часто, но если заговорит о нем, — не скоро успокоится. Как раз тот случаи, Силаев слушал рассказ о том, как мечутся на узкой полоске земли, вдоль высокого берега толпы, крича про подлодки, транспорты, приказы генерала Новикова, про условия плена, — немцы моряков в плен не берут, моряков стреляют и вешают, — снова бросаются, кто к морю, кто в сторону Балаклавы. «Большая земля молчит!» — швыряет оземь наушники радист с 35-й батареи. Это — конец. Ни боеприпасов, ни продуктов, ни подкрепления не будет. Слухи о «Дугласах», посланных им на подмогу, утрачивают смысл, но на вспаханном минами летном поле Степан натыкается на транспортный «Дуглас» с работающими моторами. Он только что приземлился — как? И готовится взлететь — как? Его распахнутую настежь дверцу охраняет наряд моряков с автоматами наизготовку. Какой-то солдат, помогавший на погрузке, пытается втиснуться вместе с ранеными в спасительную утробу «Дугласа», его вышвыривают оттуда, как кутенка, под устрашающий треск автомата; «Дуглас» берет раненых и офицеров по списку генерала Новикова, — от майора и выше…
— Да… а Контанистов, скажу тебе, мужик, каких поискать. К моим в гости заезжал, в Старый Крым, с женой и дочкой познакомился… И вот мы оба живы. Поговорить бы надо, а он комиссоваться полетел. На Кубани ему в шею залепили, вот сюда… Глинка, говорит, выпроводил на комиссию, дескать, лечись, Контанистов…
— Какой Глинка?
— Капитан Глинка. Истребителями-то здесь командует Глинка, капитан.
— ББ?
— Контанистов так его называет, ББ… Я говорю, Контанистов мужик поискать. Настолько отзывчивый… — В подтверждение своих слов старшина, помявшись, протянул Борису клочок бумаги. — Вот!
«ЕВТИР», — прочел Борис надпись на листке газетного срыва химическим карандашом.
— Что за ЕВТИР?
— Тихо, товарищ командир. — Конон-Рыжий, понизив голос, придвинулся к летчику вместе с табуретом. — От него подарок, от Контанистова. Мне, говорит, эту грамотку по секрету на херсонесском маяке инвалид той войны нашептал. Я, говорит, не поверил, да так, не веря, два года и провоевал. Теперь отвоевался, так, может, она тебя поддержит. Глядишь, так до своего Старого Крыма, до своей дочурки и жены дотопаешь. Ты ведь их прошлый год не повидал? Вот, бери. Война такое дело, зарекаться не приходится…
Что означают эти буквы, какой смысл стоит за ними, Степан не знал, да это его, по правде, и не интересовало: главное для старшины состояло в том, чтобы воспользоваться защитной силой таинственного созвучия. Ибо там, где стоят, где начертаны эти буквы, пуля и снаряд пасуют. «И осколок тоже!» добавлял Степан. Не проходят, получают отворот. Контанистов нацарапал их финкой на моторе, на хвосте, на крыльях истребителя — и что же? Ни одной пробоины.
— Сам, говорит, не особо много сбивал, но и его не тронули, только на Кубани влепили по загривку… За два-то года!
— И что ты предлагаешь? — серьезно спросил Силаев.
— Как — что? Надписать! Неужели нет, товарищ командир? Новый самолет получим, я свою кабину этими словами со всех сторон укреплю…
— Еще получить надо.
— Но, товарищ командир, уговор: ни гу-гу. Могила. Иначе вся сила пропадет… Кроме нас двоих, чтобы ни одна душа. Желанного впечатления на летчика грамотка не произвела.
— Посмотрим, — сказал он, складывая бумажку вчетверо и упрятывая ее в «пистончик», маленький внутренний карман в брюках, где хранился медальон. Я на земле молчать умею. Я не люблю, когда в воздухе в неподходящий момент умолкают, — недовольно и уже не в первый раз возвратился летчик к бою с «фоккерами», когда оба они, командир экипажа и стрелок, порознь выбросились из самолета.
— А что я мог поделать, если ленту перекосило? — быстро ответил старшина, отодвигаясь от Силаева вместе с табуретом. Сильные, сжатые кулаки Степана как бы выжали на весу мокрую тряпку, показывая крутой перекос пулеметной ленты. Этот резкий, наглядный жест повторяется, едва заводит летчик речь о катастрофе, разразившейся над ними двадцать седьмого числа. Перекосило ленту, заело и — никак… Почему — «умолк»? Не умолк! Я кричал… Командир, кричу, «фоккера»… Не слышал?
Этого крика, предостережения Силаев, мчась над огненной бездной, над клубящейся преисподней Миуса, не слышал. Он сам увидел позади себя «фоккера». Великое преимущество увидеть врага первым — он получил сам. Первым! До того, как от лобастого, сомовидного «фоккера» пошла сверху, ясно различимая в темнеющем предвечернем небе, накаленная докрасна, нацеленная в них трасса. Не прозевал, не упустил момента и уверенно им распорядился: помешал прицельному удару, ускользнул, а сигнала, голоса стрелка не слышал… Отказало переговорное устройство?
— Во всю глотку кричал: маневрируй, командир, маневрируй! — твердил Степан.
Возможно, внутренняя связь была перебита, — думал Силаев, вспоминая ни с чем не сравнимый восторг, испытанный им, когда он увернулся от трассы, и, одновременно с охватившим его торжеством, свою тревогу, свою догадку, свою уверенность: два «фоккера» в хвосте! Два! Слева и справа! От одного ушел, одному не дался, одного оставил ни с чем, а другой тем временем прокрался с противоположной стороны, чтобы тихой сапой… Но Конон-Рыжего на мякине не проведешь! Сейчас стрелок, используя созданное летчиком преимущество, развернется со своим пулеметом и… Черта получат их «фоккера»! Черта!..
Но Степан, его хвостовая опора, его турельный защитник, — молчал.
Ни единого выстрела.
В следующий миг небо и земля поменялись местами, он понял, что самолет на спине; рули ему не поддавались, не двигались, рули окостенели, и Силаев головою вниз — тянулся, тянулся к защелке, чтобы откинуть «фонарь», открыть кабину.
— Во всю глотку кричал: маневрируй, командир, маневрируй!
— На спине, что ли, маневрируй?
— Как — на спине? Почему на спине?
— Летели-то вверх тормашками, колесами к солнцу, не разобрал? Второй «фоккер» по управлению ударил, рули заклинило…
Ужас положения Силаевым не осознавался, в нем работал какой-то трезвый счет, в каждое мгновение этого счета он помнил, что хвост перевернутого ИЛа оголен, беззащитен, это убыстряло его действия, он как бы состязался с «фоккером», сидевшим сзади… кто раньше успеет, кто раньше сделает свое дело: «фоккер» добьет его, расстреляет, зажжет, или он откинет «фонарь», откроет кабину, выбросится с парашютом.
Так, головою вниз, дотягивался Силаев до защелки, до замка кабины, понимая, что стрелок, возможно, убит, ранен, но прежде, чем поставить ногу на сиденье, оттолкнуться, выпрыгнуть, он норовил, как строго условлено между ними, просигналить, скомандовать Степану трехцветкой: «Прыгай!»
Сделал он это?
Подал сигнал?
Или же только помнил о нем, открывая кабину?
Помнил, но не успел, отвлекся привязными кресельными ремнями, необходимостью изловчиться, поставить ногу на сиденье, посильней толкнуться?
Он выпрыгнул и приземлился удачно.
В дивизионной санчасти повстречал Степана, которого считал погибшим, главврач дал им на радостях по маленькой разведенного спирта. Они снова летают вместе, но всякий раз, когда в расспросах, настойчивых и осторожных, подходит Силаев к неясному месту, пытаясь понять, почему молчал пулемет старшины, почему не поддержал его Конон-Рыжий, летчик страшится услышать встречный вопрос, встречный упрек: почему не просигналил, командир? Опасаясь прямого вопроса стрелка и не слыша его, он обходит молчанием трехцветку, аварийную трехцветную сигнализацию, обговоренную ими в первое же знакомство как раз на подобный случай.
Но стрелок вопроса не задавал.
Не задал он его и сейчас.
Ну, и слава богу, успокаивал себя Силаев. Значит, я как командир все сделал. Просигналил… Конечно, просигналил. Конон получил мою команду, выпрыгнул… А вчерашний его выкрик «Прыгать?» — сомнения не оставляли летчика. Один раз ждал условленной команды, не дождался, как бы снова не попасть впросак?..
— Ну, и притер ты вчера, товарищ командир, — переменил тему Степан. На аэродром так не сажают… вжик! Я и не понял, еще летим или уже катимся?
«Оцени», — говорили при этом его уставшее лицо и беспокойный взгляд. Ведь на колеса садились, без гарантий. Ты скомандовал: «Сидеть!» — я и не рыпался, сидел как мышь…
— Пойду смотреть, как истребители садятся, — сказал Силаев.
Никто на старте его не ждал, никто туда его не требовал.
Старт казался ему тем местом, где он, сбитый, может быть понят, может быть оправдан.
Там он увидел капитана Бориса Борисовича Глинку. Первым приземлившись, капитан принимал своих ведомых, подхлестывая проносящиеся мимо него машины взмахом сдернутого с головы шлемофона: быстрей! На нем была необношенная куртка коричневой кожи; кожа, которой в предвоенную пору авиация блистала сплошь, теперь, на третьем году войны, уже не могла быть ее отличительным признаком и служила своего рода опознавательной приметой среди самих летчиков; такие, как на ББ, элегантные, мягкие куртки, поступавшие от союзников по ленд-лизу, назывались в частях геройскими, поскольку, из-за крайнего их дефицита, доставались главным образом Героям.
Сейчас, при виде Глинки в молодцевато сидевшей на нем, рассеченной сверкающей «молнией» спецовке, вспомнил Борис историю, что вилась за капитаном: работая летчиком-инструктором, Глинка бросил тыловое училище, удрал из него, «дезертировал на фронт», как выразился в рапорте по начальству его командир, возбуждая дело перед прокуратурой. Бумаги, взывавшие к законности, настигли беглеца в разгар Кубанского воздушного сражения, и командующий армией, не раз видавший Глинку в бою, закрыл это дело резолюцией: «Героев не судят».[7]
В шлемофон, которым размахивал капитан, был вделан короткий шнур с темным эбонитовым набалдашником, он мелькал в воздухе подобно хлысту, подгоняя истребителей: быстрей!.. В дальний конец полосы!.. А там наперерез быстрому самолету бросался, — может быть, без крайней на то необходимости, механик, ухватывался за низкое над землей крыло и, упираясь каблуками, с той же рьяностью помогал летчику развернуться и катить под маскировочную сетку.
Торопливое, в клубах пыли и грохоте, приземление истребителей дохнуло на Бориса жаром вчерашнего боя.
Не зная, с чем вернулись истребители, то есть был ли воздушный бой, кто отличился, заслужил очередную красную звездочку на борт самолета, Силаев пытался разгадать их вылет до того, как пойдут по стоянке рассказы, и поедал капитана Глинку глазами. Но ББ оставался непроницаем.
До конца проследив пробежку замыкающей машины, ББ направился к питьевому бачку.
Все перед ним расступились.
— Твой ИЛ стоит на пригорке? — бросил он на ходу Силаеву, угадывая в нем гостя, непредвиденно вторгшегося со своим самолетом в зону «пятачка».
Борис поспешно кивнул.
— Вчера летал днем — все вокруг чисто, когда под вечер смотрю «горбатый», — громко продолжил капитан о ИЛе, в то время как от него ждали рассказа о вылете, только что законченном.
— Стоит себе на колесах, как на аэродроме. Там же ступить негде…
— Товарищ командир, компоту? — предложили ББ холодный компот, принесенный в солдатском котелке специально к прилету истребителей.
От компота Глинка отказался, зачерпнул кружкой из питьевого бачка и мычал, не отрываясь, вода стекала ему па подбородок, на грудь. Жадно выпил еще одну кружку, утерся, уставился на Бориса. Тугая шея ББ алела, глаза округлились несколько оторопело.
— Усадили, — сказал Силаев, страдая, что именно в этом он должен признаваться такому летчику, как Глинка. «А бомбы?» — со стыдом вспомнил Борис свои аварийно сброшенные бомбы, казнясь своей удачливостью и не зная, как он должен был поступить.
— Зенитка, — отчеканил капитан, определяя причину падения ИЛа (прикрытие ИЛов от шакалящих «мессеров» поручалось его группе), и выждал, не будет ли возражений. — Иные на аэродром не могут сесть, как положено, продолжал он несколько мягче, ибо претензии не заявлялись. — Второго дня, не у нас, правда, на основной точке, один лупоглазый шлепнулся… аккурат на самолет Покрышкина. Слава те, Покрышкин в кабине не сидел. Да… Что можно сказать? Зенитка вокруг Могилы поставлена густо.
— Еще танки добавляют, — выдавил из себя Борис. — А рация наведения с земли ничего не говорила. Я ее не слышал.
— В эфире, слушай, бардак, — подхватил капитан, наконец-то, кажется, обращаясь к вылету, из которого вернулся. — Один голосит, как тот, прирезанный: «Вижу пару „сто девятых“, вижу пару „сто девятых“…» Кто? Где? В какой точке? Ничего не разобрать, а шухер, полундра, сейчас этот наш «давай-давай»…
Результат вылета истребителей сведен, по-видимому, на нет, решил Борис.
Капитан, однако, не печалится.
Прошелся с группой по району, прочесал его, постращал фрицев.
Вернулся без потерь.
Но и распространяться об этом ББ настроен не был.
— Почему сел на колеса? — спросил Глинка. — Приказ знаешь? Командующий Хрюкин приказал: в случае вынужденной самолет сажать на брюхо. Строго! Поскольку гарантируется безопасность экипажу. Мог бы в ящик сыграть. А?
— Машину жалко.
Сбоку, коротко глянув на Бориса, капитан поморгал светлыми ресницами.
— Погода изменится, стрижи играют… Маневр строят, гляди! — легко отвлекался он от своего вылета, от посадки ИЛа. — Дал-дал ускорение и ушел, как тот «мессер» от ЯКа…
— Танки все же здорово лупят, — повторил Борис. — Поднимет свою оглоблю и караулит, когда ИЛ ему на мушку сядет… Я, правду сказать, не ожидал.
— Не ждал!.. На войне так: ждешь одно, получаешь другое. Третьего дня вышел звеном против четверки «худых», а их оказывается восемь, такой подарочек, не приведи господь. Нынче утром звонят: «Капитан, просил пополнение? Принимай! Но учти, — стручки, зелень…» Зачем, спрашиваю? По старту дежурить? «Принимай, принимай, назад в училище не отправим!..» Но в бой-то я их тоже не пошлю, пока не облетаю. А «пятачок» для тренировки не подходит. Видишь как? Будут сидеть… Ну, отдыхай… — отпустил капитан Силаева.
В ожидании новичков в столовой вывесили стенгазету «Боевой счет».
Броский вид ее Борис оценил сразу.
Вместо передовой столбцом давались фамилии летчиков, против каждой из них стирающимся караадашом указывалось число боевых вылетов, воздушных боев и количество сбитых на сегодня самолетов. Последняя цифра, как самая показательная, уточнялась дробью: в числителе — сбитые лично, в знаменателе — сбитые в группе. Глинка шел по ним впереди всех, «На Кубани начал, на Миусе — Герой». Не было для Силаева ничего более трудного и пленительного, чем эта арифметика.
Новички прибыли под вечер, шесть или семь человек.
Поглядывая то на небо, то на пятнистые маскировочные сетки, держались кучно, ожидая одинакового ко всем им, хотя бы на первых порах, отношения. В пестрой их обмундировке сказывалось желание потрафить переменчивой авиационной моде, последнее слово которой принадлежало фронтовым аэродромам. Больше других преуспел в этом смуглолицый, крутобровый младший лейтенант. На нем была не пилотка, как на других, а фуражка с золотистым «крабом» и длинным, плоским козырьком. В отличие от товарищей, обутых в кирзу, он щеголял хромовыми «джимми», спущенными книзу, сжатыми в гармошку так, что издалека их можно было принять за ботинки. Роль вожака за ним, похоже, не признавалась, зверовато поглядывая из-под козырька, младший лейтенант надежд на раздобытую им амуницию все же не терял. Оценив мятый, жеваный вид Бориса, подмигнул ему:
— Клюют?
— Кусают, — сказал Борис.
— А он, Глинка?.. Мы с ним однокашники, из одного училища…
— Все?
— Двое. Но я из одной с ним эскадрильи, и вместе терпели от нашего Мухобоя, что ты!.. Поставит перед строем, и давай крагами махать, регулировать, пену на губах набивать… Накатал на Глинку докладную.
Помимо обмундировки, новичок, следовательно, уповал также на стены училища, в которых оба они, он и знаменитый ныне Глинка, мыкались и возрастали… «А на что другое ему рассчитывать?» — подумал Борис, вспоминая собственное свое прибытие на Миус.
ББ явился к ужину в своей обнове, для помещения, пожалуй, жарковатой.
Прошел к столу, где, разбирая кружки, терпеливо перекладывая приборы, его стоя ожидали летчики. Занял свое место.
Все сели.
То ли властное командирское начало смягчалось в нем обходительностью тамады, предусмотрительного, со всеми ровного, то ли, напротив, самый авторитет ББ обострял к нему интерес, только внимание к нему, особенно в начале ужина, было всеобщим. Молодые не сводили с него глаз, ожидая во всем, что он делал или говорил, скрытого смысла, все отмечая. Как принюхался к своей кружке — и аккуратно отставил ее, приготовляясь. Скинул, сложил рядом куртку, пригладил податливый, пшеничного отлива чубчик, запоздало и недовольно ощупал на пухловатых скулах щетину… Все медля, оттягивая начало ужина, распорядился на ночь усилить караулы (потом дважды к этому возвращался). Наконец с веселым, шумным вздохом оглядевшись перед собой, поднял на ладони тугой, в пупырышках огурчик. Ласково щурясь на него, объявил:
— Люблю есть огурцы не так, как многие. Я люблю их вот так… с горчицей…
Командирская финка гипнотически засверкала, четвертуя огурец, потом смазанные горчицей мелкозернистые дольки его скользнули за поднятой капитаном кружкой.
Строго оглядев молодых увлажнившимся взглядом, ББ напомнил:
— Главное, не мешать закусок!
И со сдержанной энергией в них углубился. Ожидаемый молодыми разговор затевался не главой стола, а где-то на периферии:
— …Отговаривают, дескать, вы больны, товарищ капитан, температура, все такое… а он: «Поведу сам! Что ж такое, что Кутейниково. Тем более, говорит, — штурмовики обижаются, вроде как наши плохо их прикрывают…» И повел на Кутейниково.
— Самая плохая цель — аэродром.
— Бывает хуже.
— Хуже аэродрома?
— Да, переправа.
— Я летал на Кутейниково, — подал голос Борис.
Оказалось, что он находится среди свидетелей — или виновников? — его падения при штурмовке немецкого аэродрома Кутейниково: все они кружили наверху, прикрывая отход ударной группы штурмовиков, а «мессер» на бреющем, по балкам, настиг их шестерку и влепил снизу в маслорадиатор…
«ББ водил, а „мессера“ гуляли, как хотели»… — вертелось у Силаева на языке, но сказать об этом вслух он по решился, опасаясь упреком ли, неосторожным ли признанием привлечь внимание к собственному сходству с «ванькой-встанькой», как с сожалением и насмешкой крестила фронтовая аэродромная молва летчиков-бедолаг, которые, казалось, только то и делали, что, дойдя до переднего края, с первым же залпом, с первой очередью валились на землю…
Разговор вроде бы завязался, капитан в него не вступал, мимикой, жестом поощряя новичков к свободному общению.
С тихой, глуховатой жесткостью, на которую так чуток свежий слух, поминался за столом Севастополь, его Куликовч поле и мыс Херсонес… Мыс Херсонес, где кровью харкали год назад, безвестные российские речушки, села и деревни, близ которых сбивали, были сбиты, падали, горели…
— Под Мысхако одним залпом накрыло командира полка и ведомого, — взял тут слово ББ, отставляя в сторону подчищенную хлебной коркой тарелку; похоже, он имел обыкновение так вклиниваться в общий разговор. Гомон за столом уменьшился. — Причем в первом боевом вылете накрыло, они только из ЗАПа пришли. Ведомый-то еще стручок, а командир — летака, строевик, любил все по букве, его у нас в училище курсанты Мухобоем звали…
— Жлоб! — с резвостью захмелевшего от трех глотков вылез в тишине бровастый младший лейтенант, держа на коленях фуражку и напряженно косясь в сторону капитана. Новичка придержали, ткнув слегка в нетронутую им тарелку, он не унимался…
— Духом был тверд, — строго возразил ему Глинка, с печалью глядя поверх голов. — Погиб, не повезло, — войны не знал. А ведомый выбрался, его снова на задание. Тем же курсом, на Мысхако, где сгорел командир… Да… Неприятный осадок, конечно, действует, но что можно сказать? Неустойчив оказался парень. Поддался мандражу, ну и в штрафбат… Младшой! — через весь стол обратился ББ к Силаеву. — Оставайся-ка ты у меня.
— Я? — переспросил Борис.
— Сделаю из тебя истребителя. Вывезу, натаскаю. Будем фрицев на пару рубать. Стол притих.
— Он, товарищ командир, того… долго думать будет, — воспользовался паузой младший лейтенант из новичков, строго сводя крутые брови и упреждая попытку цыкать на него.
— Истребитель — это истребитель, — продолжал Глинка, обращаясь к Силаеву. — Один в кабине, сам себе хозяин и отвечаешь только за себя. В бою выложился, с умом да расчетом, — все, на коне, собирай урожай… Ни от кого не зависишь, что и дорого.
Конон-Рыжий, все время почтительно молчавший, при этих словах капитана несколько напрягся. Не меняя позы, переставил под табуретом ноги. Раздвинул их пошире, прижал голенища сапог к ножкам. Борис это отметил. Засомневался, подумал он, не бросит ли его командир. Не оставит ли его командир снова, как двадцать седьмого числа…
— Вы лучше меня возьмите ведомым, — захмелевший истребитель-новичок в своем намерении заручиться поддержкой Глинки был настойчив.
— Его возьмите, — улыбнулся Силаев, любивший великодушный жест на людях.
Глинке это не понравилось. Он насупился, заморгал глазами.
— Твои в полку прочтут в газетке: «Отличился в бою истребитель Силаев…» — спохватятся: как? Ведь он же наш, штурмовик? Туда-сюда, по начальству… поздно. Героев не судят.
— Я вчера сообщил своим, что сижу на «пятачке», жду «кукурузника», — в краске смущения объяснял Силаев, далекий от мысли, что сватовство, затеянное Глинкой в присутствии молодых истребителей, могло иметь и воспитательную цель, показать, как поощряется на «пятачке» находчивость, — Товарищ капитан, — благодарно добавил Силаев, — за Индию! — и поднял кружку.
— Ну, смотри, — вроде как отступился от него капитан. — Братцы, за Индию!
Конон-Рыжий подсел к Силаеву, тиснул его, зашептал в ухо жарко и непонятно:
— Ну, командир, не переманил тебя Глинка, дальше вместе летать — скажу, камень с души, нехай его так… ведь сиганул я от «фоккера»!
— Выпрыгнул? — опешил Силаев, — Бросил? Не дождавшись моей команды?
— Выкурил он меня, товарищ командир. Ошпарил, как сверчка… Тот, первый… Он нас зацепил, мелкие осколки от бронеплиты плечо ожгли, я подумал, взрыв, пожар… Пока не завертелись, пока живой — с горизонтального полета, за борт…
— Без моей команды?
— Ну, как сверчка, — развел руками Степан. — Я Мишу Клюева вспомнил. Миша Клюев летчик — не чета тебе, у него когда сто вылетов было…
— Лейтенанта Клюева?
— Лейтенанта. Михаила Ивановича.
— Моего инструктора?! Я его на фронт провожал!..
— А я под Пологами схоронил…
…Так узнал Борис Силаев о гибели человека, которому был обязан тем, что остался в авиации, и негодование, поднявшееся в нем против Конона, смягчилось.
«Что значит — посадить на колеса подбитую машину, — думал Силаев, приписывая порыв откровенности Конон-Рыжего своему летному умению, своей посадке на изрытом поле. „Мерещится!..“ — вспомнил он Комлева. — Ничего не мерещится, я сразу почувствовал: темнит Конон-Рыжий, темнит. Я в себе сомневался, а капитан Комлев думал… Честно, и сейчас не знаю, успел просигналить или нет…» — Он не мог признаться себе, что, приказав вчера в воздухе Степану: «Сидеть!» и сажая безмоторную «семнадцатую» на колеса, лишь слепо доверился случаю.
Между тем неуемный новичок, да и товарищи его оценили иронию впервые услышанного тоста «За Индию», скрытый в нем призыв отвлечься от тягот боевого дня и, таким образом, начать свое посвящение во фронтовое братство.
— За Индию! — подхватили молодые, призывая гостей, летчика и воздушного стрелка не принимать всерьез их злоязычного товарища, сумевшего, — так это было понято, — подпортить аппетит обоим, отвлечь их от дружного застолья…
В полк, на самолетную стоянку эскадрильи, они явились в этот раз вдвоем: впереди летчик, командир экипажа, младший лейтенант Борис Силаев в своем застиранном комбинезоне, за ним — воздушный стрелок старшина Конон-Рыжий, притихший и молчаливый.
— Силаев, как всегда, явился кстати, — встретил его Комлев. — Подгадал! — прикрыл он улыбкой холодный взгляд, без больших усилий оберегаемую внутреннюю твердость, которая требовалась от него и вошла в привычку, благотворную в такие моменты, как сейчас, когда на фронте наконец-то обозначился успех, полоса прорыва требует штурмовиков, а боевой расчет эскадрильи зияет брешами, и неизвестно, чем, как их затыкать. — Подгадал, лучше не придумаешь, — повторил капитан, впервые, кажется, замечая, как осунулся новичок, трижды сбитый за месяц миусских боев. Щеки запали, ключицы выступили остро. Комбинезон сбегался на плоской груди Силаева в привычные, не расходящиеся складки, он был на нем как сбруя, ладно пригнанная, подчеркивая готовность летчика в любой момент впрягаться, стартовать куда угодно… в любой момент, куда угодно, — если выдержит, осилит, потянет дальше груз, без расчета взваленный немилостивой судьбой на одни плечи.
Эту опасность, этот предел Комлев почувствовал ясно.
— Выспаться, а потом танцевать, — сказал Комлев. — По вечерам в конюшне танцы под гармонь…
«Я его на завтра не назначу, — подумал капитан, — так тот же командир полка пошлет!»
Комлев мысленно поставил себя на место только что назначенного командира полка, бритоголового майора Крупенина, отстраненного от должности под Сталинградом генералом Хрюкиным и сумевшего безупречной боевой работой во время волжского сражения в качестве рядового летчика добиться восстановления в правах и вновь получить полк, правда, не бомбардировочный, а штурмовой. Стоило Комлеву на минуту представить, как поступит Крупенин с новичком Силаевым, как вынужден будет он поступить, — и сомнений не оставалось: упечет, не задумываясь. Как пить дать. Ибо все резервы — в прорыв…
— Инженер, «спарка» на ходу? — спросил Комлев. — Силаев, решение такое: сейчас ужинать и спать. Бух — и никаких миражей. Понятно? Отдаться сну. Утречком сходим в «зону».
Как все волжане, Комлев с детства любил зорьку, сладкую пору рыбацких страданий. Но война развила в нем недоверие раннему предрассветному часу, когда солнце еще не взошло, над землей держится сумрак, очертания предметов размыты… мягкие, длинные, переливчатые тени под крылом самолета, неуловимо и быстро меняясь, не просматриваются, в них — неизвестность.
Поднявшись с рассветом в небо, Комлев вначале долго оглядывался, перекладывая с крыла на крыло учебно-тренировочную «спарку», самолет с двойным управлением. «Опасность держится в тени, — говорил Комлев. — Хочешь жить — учись распознавать опасность». Силаев, сидя впереди и придерживаясь за управление, примечал краски земли и неба, осваивался с ними, — ему предстояло начинать все сызнова, и он чувствовал серьезность минут, предварявших «пр-ротивозенитный маневр-р Дмитр-рия Комлева!» — как прокомментировал по внутренней связи капитан свою манеру вхождения в зону зенитки, сближения с огнем. Ничего подобного Силаев не видывал. Комлев не подкрадывался и не ломил напролом, это больше походило на пляску, исполняемую вдохновенно и назидательно, напористую, осмотрительную и безоглядную пляску человека и машины в соседстве со смертью; не «Пляска смерти», а пляска бок о бок со смертью. Бориса вдавливало в сиденье и швыряло, как на штормовой волне, переваливая с борта на борт под рев мотора, который то возрастал, то падал, переходя от трубного форсажа к голубиному воркованию. В каждый момент неземного канкана исполнитель обнаруживал такую изощренность и неистощимость, не предусмотренную никакими инструкциями, такое строгое следование первому завету боя «ни мгновения по прямой», что все это вместе представилось Борису чем-то недосягаемым.
— Пр-ротивозенитный маневр-р Дмитр-рия Комлева!.. — повторил капитан, С косой надо бодаться, Силаев, бодаться надо, не то схрумкает, глазом не моргнешь!..
Неукротимое «бодаться», вся импровизация поединка с нацеленными на самолет стволами зенитки явилась для Бориса откровением: как преображает, как должно преображать человека дыхание грозной опасности! Комлев в «спарке» не был таким, каким он его знал, не был похож на себя, наружу выступила какая-то вулканическая мощь, недоступная и влекущая…
На земле командир сказал:
— Спать! Отсыпаться до обеда, никому на глаза не попадаться. — Лучшим средством лечебной профилактики он считал на фронте сон, за исключением случаев, когда требовались дефицитные медикаменты…
Прорыв наших войск, взломавших миусскую оборону, с каждым днем расширялся, дышать становилось легче, — капитан поставил Силаева на вылет, и снова подхватила, понесла Бориса фронтовая таборная жизнь.
— По выполнении задания производим посадку возле отбитого у врага хутора, — определял очередную задачу командир эскадрильи, указывая на карте новую точку, новый аэродром, где каждый, кто возвратится после штурмовки, должен проявить умение быстро, с одного захода, сесть….
Вот он, хутор…
ИЛ прокатывается по свободной от мин полосе, не страдая на рытвинах и ухабах. Мотор смолкает журчаще успокоенно, и так же, не спеша, устало и умиротворенно поднимается, встает в кабине на ноги Борис, чтобы, грудью возлежа на лобовом козырьке, медленно остывая, отходя от разбитой водокачки, от скрещения трасс за нею, от низкой крутой «змейки» и от захода на эту полосу близ хутора, приглядеться, куда же вынес его очередной зигзаг наступления, какова она, очищенная от оккупантов местность.
Размытые дождями, осыпающиеся под ветром глинистые гнезда и окопы. Уже и не понять, кому они служили. Немцам и нашим, наверно. Два года бороновали степь туда-обратно взрывчаткой и сталью, а выбрать полосу, чтобы посадить полк «ил-вторых», нетрудно. За сумеречной балкой, на суху — мазанки, сараи, колодезный журавль.
Пехота прошла вперед не задерживаясь. Борис Силаев вступает в хуторок в своем видавшем виды комбинезоне. Верх его расстегнут, планшет — через плечо до пят, очкастый шлемофон приторочен к поясному ремню, разумеется, в фуражке, ее яркие цвета и блестки — для торжества. Конон-Рыжий прослышал, будто неподалеку от хутора встречать наших вышел отряд мальчишек в красных галстуках, с пионерским знаменем и трофейными автоматами — два года отряд пребывал в подполье, вредил оккупантам и не попадался… На отшибе хутор, в стороне. Нет здесь дощатых подставок, тумб, как на перекрестке в городе Шахты или в Таганроге, где регулировщицы царят, властвуют жестом, будто на сцене… Тихо в хуторе. «Цоб-цобе!» — хлещет возница по ребрам меланхоличного одра. В конце проулка, возле афиши на газетном листке, обещающем отпуск керосина, — скопление пестрых лоскутов и говор.
— В Севастополе нас встретят, вот где, — говорит Конон-Рыжий коротко, не печаля по возможности светлого часа. Но последние дни Херсонеса, отход с крымской земли июньской ночью проживут в старшине до гроба: как, грузнея от усталости, ткнулся он носом в прибрежную гальку, пополз к воде на коленях и увидел во тьме катерок, малым ходом огибавший Херсонесский мыс, спасавший от немецких минометов и орудий тех, кто жался к отвесному берегу… канат за кормой катера, ухваченный Степаном с последней попытки… как, закинув ногу, вязался он к нему своим брючным ремнем…
Далек еще Севастополь, далек Крым, на пути к Херсонесу — хутор. Худой, поросший щетиной дед направляет хлопчиков, волокущих к колодцу камень взамен разбитого противовеса. Камень громоздок, тяжел для детской команды… а одеты ребятишки, господи… рвань, окопные обноски. Жабьего цвета пилотка на одном сползает на нос, ступни обмотаны тряпьем. Не спорится работа у детишек, отвлекла их разродившаяся под плетнем сука. «Расшаперилась!» неодобрительно, с чужого голоса басит малец… Жизнь.
«Отбитый у врага хутор», — как говорит капитан Комлев. Не взятый, не вызволенный, не освобожденный — отбитый.
Отбитая у врага жизнь.
И в подтверждение жизни, в награду за нее, — стая писем, едва ли не первая с начала миусских боев, неожиданная, из таких далеких миров, что Борис долго вертит в руках треугольничек, соображая, чьи же это инициалы «А. Т.»? — дом, училище, ЗАП так от него отошли, отодвинулись, как будто он не месяц на фронте, а годы… но все, что в прожитой жизни коснулось сердца, видится ярко. «А. Т.» — Анюта Топоркова. Когда их команда, их капелла сержантов-выпускников летного училища, расположилась на травке возле проходной ЗАПа, ему велено было отыскать местное начальство, и он по шатким, подопревшим мосткам направился вдоль плаца, окруженного забором. Репродуктор над плацем гремел: «Иди, любимый мой, родной, суровый час принес разлуку», а с крылечка домика, стоявшего вдоль мостков, сходила девчушка. Сходила неторопливо и осмотрительно: придержав шаг, свесила со ступеньки узкий носок в синей прорезиненной тапке, Тем, кто находился сзади, возле проходной, могло показаться, будто она одного с Борисом роста… пышноволосая юница в скинутой на плечи светлой косынке под цвет глаз предстала перед командой вновь прибывших как-то не ко времени и но к месту, ибо в центре всего был выжженный солнцем плац, полигон за лесом и — в не садящихся клубах пыли аэродром, катапультирующий курсом на Сталинград, на Сталинград, на Сталинград маршевые полки. В тот момент, когда он поравнялся с крыльцом, она сошла на мостки; не упредила его, не переждала — пошла с ним рядом, беззаботно и даже озорно. «Никак Силаев сестренку встретил», — сказал кто-то из ребят.
Сказал, как припечатал. Должно быть, на расстояние передался тон свойских, братско-сестринских отношений, как бы существующих между ними. Вчерашняя школьница была ему по плечо, это всем бросалось в глаза на плацу, где Анюта вместе с подружками постарше наблюдала, лузгая семечки, как учат летчиков печатать шаг и козырять начальству, а потом, по заведенному обычаю, вытягивала его в сторонку, к каменной ограде, чтобы условиться о встрече на вечер; он слушал ее, вытирая пот, кативший с него градом. Однажды, когда сержантская команда ремонтировала тракт, она катила по своим делам в телеге, груженной обмундированием. Остановилась, сошла, прогулялась с ним под руку туда-обратно, погнала дальше… На вещесклад, где работала и куда через накладные, через приходно-расходные книги, разговоры каптенармусов каждодневно сходилось и обсуждалось все то, что Борис узнавал в курилках, на занятиях, из приказов: «погиб», «разбился», «не вернулся», «геройский», «без вести», «упал в болото», «направил свой горящий ИЛ»…
Этим, ничем иным, как этим, в первую очередь объяснялось, что их знакомство не развилось, все переносилось, отодвигалось на потом, до сроков, которые наступят…
В день, когда Борис улетал на фронт, Анюта, все знавшая, примчалась к шлагбауму, перекрывавшему въезд на летное поле. Он не ждал ее там. Вообще не ждал, не видел. Как теперь уяснилось из письма, только что полученного, стоял в полуторке к ней спиной. Она не подала знака, не крикнула, смотрела вслед грузовику, увозившему летчиков к самолетам, а когда они взлетели, глядела в небо и гадала, какой самолет его, Бориса. Пририсовав в конце письма крестики, обозначавшие строй уходивших на фронт «ил-вторых», вопросительным знаком спрашивала — верно ли, угадала ли?
— Нет, — припомнил Борис, — не угадала.
В заботах Анюты, в ее интересах была трогательность и детскость. Детскость, навсегда похороненная в нем Миусом.
Он отложил Анютин треугольник, принялся разбирать вещи Жени Столярова. На каждой тетради сделана пометка:
«Отправить по адресу: Москва, Солянка, 1, кв. 25, Маркову Г. В.». Надписи сделаны Жениной рукой не размашисто, тщательность, ему не свойственная, усиливает… наказ? распоряжение? Не предсмертное же? Распоряжение «на худой конец», скажем так. И что, как же теперь?
— Вздыхаешь, Силаев? — застал его в этих раздумьях Комлев.
— Жалко, товарищ капитан, — сказал Борис, упрятывая тетради.
— Жалко! — повторил Комлев, складка возле его рта углубилась. Спокойствие его лица и глаз задело Бориса. Отстоявшееся в нем терпение. Оно в Комлеве давно, всегда, но отметил его Силаев только сейчас, точнее почувствовал, насколько мера его превосходит то, чем располагает он, Силаев.
— Технари восстановили в поле ИЛ, надо его перегнать домой, — сказал Комлев. — Вопросы?
Не бог весть какое поручение, «каботажный» маршрут, двадцать три минуты лета по прямой. Но Силаев без вопросов не умеет. Любое поручение встречает тихим, внятным, однако, сомнением: верно ли он понял? Не ошибся ли командир?
Не ошибся.
И уже на месте Силаев сам, без подсказки, должен решать все, в частности как быть ему с технарями-ремонтниками: отправлять их домой своим ходом или же грузить на собственный риск и страх всю троицу, всю ее гремучую, громоздкую поклажу в кабину стрелка?
— Только быстро у меня! — прикрикнул Борис на технарей для порядка, спешить ему, собственно, было некуда, скорее напротив, не мешало кое-что обдумать, поразмыслить, как изменится центровка самолета, как пойдет разбег по целине… В заботе о благополучном отрыве от степного поля, он с деланной строгостью, будто чем-то недовольный, наблюдал за суетой ремонтников, убиравших «козелки» в заднюю кабину; под колпак стрелка они карабкались, мешая друг дружке, в «скворешне» теснились, один складывался калачиком, другой гнулся в три погибели, чтобы не заколодить турель хвостового пулемета… И в мыслях не имел Борис, что эти едва ему знакомые, оголодавшие, обросшие щетиной работяги, выбравшись дома из «скворешни» и исчезнув в направлении столовой, напомнят ему о себе. Да как… «О Силаеве идет молва!» — услышал он на стоянке за своей спиной, и замер. «Молва» пошла от них, от ремонтников… Правда, «молва» не выходила за пределы двух-трех землянок, исчерпываясь фразой о летчике Силаеве, «который, хотя и молодой…». А когда Комлев подловил на перегоне быстрый бронепоезд немцев и армейская газета посвятила атаке находчивых штурмовиков полосу: «Громить врага, как бьют его летчики капитана Комлева!», то — коротка земная слава благодеяния Силаева были забыты; Борис вспоминал о ремонтниках благодарно. «Зря я на них шумел, на ремонтников, — задним числом вздыхал Силаев. — Такие трудяги»…
Разрыв, дистанция между ним и капитаном давала о себе знать постоянно.
Осенью сорок третьего года на одном из фронтовых аэродромов Донбасса в ранний час дважды звучала команда: «Запускай моторы!», дважды: «Отбой!», но и после этого восемь лучших, отборных экипажей, нацеленных на Пологи и далее, на высоту 43,1, где колобродит переменчивая фронтовая фортуна, продолжали томиться ожиданием, — обстановка на переднем крае не прояснялась. То наши под губительным огнем захватывают укрепленные склоны на главном направлении прорыва, то противник, контратакуя танками и авиацией, занимает ключевые траншеи. «Из рук в руки, из рук в руки», — озабоченно повторяют связные, помалкивая об опасности в таких условиях удара по своим…
Летчики и стрелки восьмерки пригвождены к кабинам, поверяющие, техники возле них — в ревностной суете.
Подчеркивая, демонстративная, что ли, дотошность, с которой в новые, дополнительные сроки осматриваются лючки, крепления, дюриты, есть выражение готовности наземных служб не щадить живота своего, только бы все сошло благополучно, без потерь, и не повторилось бы недавнее ЧП, когда такая же команда избранных, но в шесть единиц, не обнаружив цели, привезла бомбы назад.
Терриконы опоясали аэродром, подобно пирамидам. Серой мышкой рыщет среди ИЛов армейский фотограф в надежде щелкнуть панораму и не попасть под руку суеверного аса, сглазить его камерой перед вылетом.
Группу ведет майор Крупенин, командир полка; осенью сорок первого года на Южном фронте капитан Крупенин впервые поднимал на врага бомбардировочный полк, теперь, два года спустя, на 4-м Украинском фронте, ему предстоит впервые вести на задание штурмовой авиационный полк. В составе группы, сформированной майором, лучшие летчики полка, как о них говорят — «кадры».
«Кадры» — это стаж, опыт, энная степень мастерства, закрепленная в мифе о добром молодце-пилоте, конечно же истребителе, капитане или майоре, блистающем искусством делать в небе все, начиная с умения притереть своего «ишачка» тремя точками на три фонаря «летучая мышь», поставленных буквой «Т». Это также причастность к известным событиям армейской жизни, вроде, например, Киевских маневров. Командир полка не упускает случая сказать о них, да и как забыть ему удачную разведку во главе звена «р-пятых», отмеченную на разборе личной благодарностью наркома, именными часами из его же рук…
Киевские маневры, Белорусские, спецкомандировка…
Или — Халхин-Гол.
Капитан Комлев, который воюет с двадцать второго июня, комэски Кравцов и Карачун, прошедшие огонь и воду, командиры звеньев Казнов и Кузин «кадры». «Цвет нации», — подвел командир полка под составом восьмерки черту и долго молчал, глядя в список. Шеи не видно, бритая голова вобрана в заостренные плечи.
В связи с предстоящим полетом между Крупениным и капитаном Комлевым вышел спор. Полеты «кадров», заявил Комлев, — шаблон. В принципе шаблон, надо от него избавляться. Зачем рисковать ценными летчиками, например, при облете нового района?.. «Облет района — не боевое задание, — возразил командир полка. — Линию фронта не переходим, правда? Так, пристрелка…» «„Мессера“, товарищ майор, когда прищучивают и валят, наших намерений не спрашивают, А слетанностью, если на то пошло, сборные группы никогда не блистали. Другое дело: вытащить всех ведущих на передний край, в траншеи, к стереотрубам. Познакомить с расположением целей, системой огня. Тогда каждый начнет думать, как работать. Как заходить на цель, как уходить… Уходить… В нашем деле главное — вовремя смыться…»
Командир полка своего мнения не изменил, но есть Крупенину о чем подумать.
Летчики в группе как на подбор, однако степень их готовности к бою все-таки не одинакова.
Дело в том, что всякий отрыв от полка, от боевых условий сказывается на летчике. Даже короткая пауза по непогоде: подниматься на задание после перерыва труднее, чем в разгар боевой работы с ее ритмом, с внутренней готовностью к предельному напряжению сил. Не говоря уже о борьбе, которую ведет с собой летчик, садясь в кабину ИЛа после ранения, после госпиталя. А сейчас в составе восьмерки три экипажа, только что вернувшихся из тыла, — на новеньких, с заводского конвейера, машинах. По случаю их благополучного прилета майором накануне была заказана баня. Не только из радушия, но и для того, чтобы блудные сыны, свыше месяца куролесившие в тылу, на перегоночной трассе, с ее неистребимым картежно-водочным духом, очистились от скверны. Все три летчика — сталинградцы: Кузин, Алексей Казнов по прозвищу Братуха и Тертышный. Да, Тертышный, именно он… Опыт и зрелость. На них командиром сделана ставка.
И все-таки — месяц отлучки…
Братуха в баню не пошел.
Вымыл голову под рукомойником, сменил белье.
На его обветренном лице с густеющим на скулах кирпичным румянцем выражение сосредоточенности… а грудь летчика под чистым воротом расстегнутой рубахи полыхает багровыми пятнами: жестокий приступ крапивницы. «Опять?» — удивился Силаев, по рассказам Алексея знавший, какие страдания пришлось ему терпеть в разгар боев под Сталинградом, когда все его тело покрылось волдырями, и давно уже не слыхавший от Братухи жалоб. Братуха промолчал, сцепив пальцы рук. Видно было, что он подавлен. «Чем, Оля?», спросил Силаев. Братуха распрямился. Угадал приятель: Оля. Два года назад Казнов, выпускник летного училища, сидя в запасе и безвыездно пропадая в колхозе, на уборочной, куда гоняли весь авиационный резерв, заливал своей знакомой Оле, будто занят тем, что летает ночью. По особой программе готовится к спецзаданиям. Намекнул на орден, якобы заработанный, но не полученный. Принимала ли она это за чистую монету, или догадывалась, какие чувства руководят Братухой, подогревают его пылкую фантазию, но только отзыв Оли, переданный ему через третьи руки, был окрыляющим: «Братуха содержательный юноша. Я в нем не сомневаюсь». Фронтовая их переписка шла с перебоями, с какой-то вялостью, временами совсем обрывалась. И вот два года спустя командированный в тыл Братуха оказался в городе, где она жила, и на знакомом мосточке, под окнами Олиного дома, куда он мчался, не чуя под собою ног, его перехватила Олина подружка, знавшая Братуху со времен уборочной. На одном дыхании, испуганно и растерянно предупредила: «Не ходи туда, Алеша, не ждут тебя там. Там давно другого ждут. Там другой поселился…»
Оля работала на заводе, где они получали машины, и в цех к ней он все-таки пришел.
Она его не ждала…
Охнула, всплеснула руками, всплакнула и рассмеялась, повела по солнечному проему цеха, со всеми шумно знакомила, объясняла, как дурачку, назначение пилотажных приборов ИЛа, монтаж которых выполнялся в цехе. «Нюра», — указывала Оля в сторону девочки, компонующей прибор; детские пальчики, которыми в свободную минуту Нюра наряжала и прихорашивала самодельного кукленка, ловко ухватывали и соединяли труднодоступные трубочки. Рассказывала о пареньках-подростках, дающих план; прогревая моторы в сильные морозы, пацаны, случается, засыпают в тепле кабины от голода и холода, стужа рвет радиаторы, их приходится менять… «Ты думаешь о смерти?» — неожиданно спросила Оля. Когда вопрос прозвучал, — не прежде того, — он понял, что готов говорить о смерти часами. Ничему другому не учила его война так настойчиво и предметно, как размышлениям о смерти, ничто другое не занимало его мыслей так глубоко, так полно. «Да», — коротко ответил он, со стыдом вспомнив, как хвастал Оле два года назад, хотя реальные события его фронтовой жизни, пожалуй, давали право отнестись к тем россказням снисходительно. Сбиваясь, перечисляла она ему свои пожелания на будущее, свои напутствия. «Возвращайся, мы вас всех ждем», — быстрая острая улыбка скользнула по тонким губам, произнесшим столь великодушное признание. Вспыхнула, поразив Братуху, погасла. Он все вытерпел, ничем себя не унизил. Он хотел одного, чтобы все это скорее кончилось. Но когда они распрощались, желанное облегчение не пришло: в воздухе, в кабине ИЛа, Братуха оказался перед черными зеркальцами пилотажных приборов, собранных Олиными руками. Они располагались так, что, куда бы он ни повернулся, он видел отражение ее лица, ее быструю улыбку, — и снова вспоминал ее подругу на мосточке: «Не ходи туда, Алеша, не ждут тебя там…»
Не войной, не боем опечалено, стеснено сердце Братухи. Страдает его самолюбие, но сильнее самолюбия уязвлена его вера в женскую правдивость, разочарование проникает до самых глубин Братухиного существа, напоминая о себе и сейчас, когда летчик наедине с черными зеркальцами приборов ожидает сигнала на штурмовку высоты 43,1.
Конечно, все последствия месячного перерыва командиру полка неведомы; но долго тянется предстартовое ожидание, и чего только не передумает за это время майор Крупенин.
Так понемногу поднялись в нем и заговорили сомнения относительно Тертышного.
По возвращении с завода Тертышный многих огорошил: женился.
«Не встречал, не видел, представления не имел!» — отчеканил сияющий молодожен, будучи спрошен, знал ли он свою суженую прежде, и сам удивлялся, как это все у него получилось. «Девятнадцать, — сообщил он, кучерявым джигитом беря в шенкеля парашютную сумку. — Еще братишка — ремесленник, а сестренки нету… Десять классов, плюс это, — прошелся он пальцами по воздуху, как по клавишам, — музыка. Слух. Ребенком возили в Москву», — и ждал отклика, и не обманулся, музыка была оценена. «С первого взгляда, а как же… война! Мать — домохозяйка, папаша — закройщик. С работы на свою Заимку идет, под мышкой — штука. Ах, думаю, папаша, прихватил шевиота зятю на костюм. А он бревешко несет, топить-то нечем… Но, правда, вот, — выставил он напоказ голубой кант, от голенища до стеганого пояса освеживший его галифе: — В моем присутствии за полчаса… Ак-синь-я!» — по складам открыл ее имя Тертышный. Положив указательный палец вдоль сомкнутых губ, покусывая заусеницы, он косил темными блестящими глазами в ту сторону, откуда чувствовалась ему поддержка, — у него какой-то нюх, умение заводить или угадывать в других единомышленников, — но, скорее, обеспокоенно, чем озорно: не видать ли Конон-Рыжего, который помнит Мишу Клюева, его подружку Ксеню, ставшую теперь его, Тертышного, женой. «Красивая?» — спросил его Комлев. Тертышный в ответ — как когда-то Клюев — выставил большой палец и просиял… Были в его внезапной женитьбе нетерпение и какой-то вызов, желание поступить наперекор как бы негласному среди воюющих парней уговору не спешить с этим делом… вызов совестливой осторожности именно сейчас, после того, как, судимый и разжалованный под Сталинградом, он вновь получил офицерское звание, командует звеном.
Женатый летчик, всем известно, не так безогляден, как холостяк. А молодожен Тертышный, — после веселой свадьбы, после радостей рая, поставлен на подавление зенитки… Этим запоздало встревожился майор Крупенин.
Что же касается Бориса Силаева, то на фоне «кадров» Силаев, как говорится, не смотрелся. Хотя бы и с формальной стороны: к «кадрам» причислен боевой актив полка от командира звена и выше, а он всего лишь летчик старший.
Когда с рассветом потянулась на старт командирская «восьмерка», Борис расположился среди других наблюдателей под камышовой крышей пищеблока со спокойствием солдата, поставленного начальством во второй эшелон, и с беспечным видом зорко прослеживал, кто взят в ответственный полет, кто не взят, какой боевой порядок для «кадров» избран — в мечтах-то летчик старший уже возглавлял группу. Звено, точнее говоря. Со звеном бы он сейчас, пожалуй, справился. Звено, то есть, две пары, четверку штурмовиков, — он бы провел.
Справа и слева от Силаева — молодежь, стручки, в полку две-три недели, обо всем судят и рядят громко, — уже идет среди них обычная с началом боевой работы переоценка ценностей, падают вчерашние авторитеты, восходят новые, и этим надо объяснить довольно частые по вечерам воспоминания о героических поступках детства: тот спас утопающую, этот отличился на железнодорожных путях…
— Загрузка по шестьсот килограмм?
— По шестьсот.
— Насчет прикрытия… Вроде как прикроет сам Алелюхин?
— Или Амет Хан.
— Нас теперь, братцы, трофейный батальон утешит, — объявил светлобородый новичок, по прозвищу Борода, взглядывая на Силаева с готовностью составить ему компанию, как-то услужить. — Конон-Рыжий разведку делал, говорит, рядом, одни девчата…
Борис насторожился.
О своем близком соседстве трофбат заявил песенкой.
Баянист уловил мелодию на слух, и по вечерам, после ужина, страдал над нею. «Татьяна, помнишь дни золотые», — начиналась песенка. Не зная ни Татьяны, ни золотых с ней деньков, Силаев под эти слова и напев уносился в прошлое, в свой родной город, где была школа имени Сергея Мироновича Кирова, компания Жени Столярова, поздние, за полночь, возвращения, недовольства и тревоги мамы… Либо рисовались ему те лазурные времена, которые наступят, когда все снова будет как до войны, но он-то будет другим, самостоятельным, ни от кого не зависящим…
Конон-Рыжий провел его в трофбат одним из первых; девичье лицо в дверях, приветливо распахнутых, — на него в сумерках сеней обращенное лицо Раисы встало перед ним. И то, как смутила, обескуражила его в тот момент, когда он ее увидел, одна подробность, — чубчик из-под кубанки, сдвинутой на затылок, кем-то присоветованный, подпаленный завиток волос, лихо загнутый… Они отвлекали его, мешали, тихий мамин укор слышался ему (предостережение; ведь еще ничего не было); он заметил на щеке Раисы шрамчик; розоватый сверстник его миусской царапины, но не размашистый, пощадивший милое лицо… Предчувствие какой-то перемены, каких-то новых отношений шевельнулось в нем… кубанка, нелепый чубчик для него исчезли.
Не сегодня-завтра задождит, думал Силаев, наблюдая, как перестраивается «восьмерка». Зарядит без просвета, с утра до ночи, он и отоспится. Или его командируют на завод. Оттуда по горнозаводской ветке — домой. Хорошо бы начальство том временем рассмотрело наградные. С пустой грудью появляться дома стыдно, невозможно… И на почте перебои. Месяц как отправил маме перевод, просил: получение подтверди. Молчит. Тысяча двести рублей — сумма. Жалко, если не дойдут. Хорошо бы всех повидать. Три месяца в боях вечность. Как говорят, по войне пора бы уже и домой наведаться. По наградам — рано.
Впрочем, лейтенант Тертышный, например, и так прекрасно обошелся: в командировку на завод сорвался молнией; его, правда, в офицерском звании восстановили, под Сталинградом он воевал рядовым. Тертый калач лейтенант. Когда бомбили в море немецкий транспорт, драпавший из Таганрога, Тертышный был где-то сзади, Борис его не видел, а на земле, с глазу на глаз, лейтенант так предложил: «Силаев, ту баржу, которая перевернулась, на двоих запишем, сговорились?»
«Но пока я буду путешествовать на завод, домой, с завода, — размышлял Силаев, — трофбат продвинется с войсками, уйдет. И как же тогда с Раисой? Вообще, как с Раисой?» — «Ты не забудешь дорогу ко мне?» — подняла она тяжелые веки и тут же их опустила, то ли смущенно, то ли беспомощно. Они прощались, впереди был день, вылет, два вылета, в ее словах ему послышалась тревога, он Раисе поверил, назавтра примчался к ней, как только сняли готовность, в ужин, ждал ее, томясь вблизи столовой, смело выходя из тени и поспешно прячась; она прошла в строю понурых, уставших девчат под командой худющего старшего лейтенанта рядом, в трех шагах от него, делая вид, будто его не замечает.
Он позвал ее, окликнул. Мельком, издали оглянувшись, она одними губами объяснила: «Сегодня не могу!» или «Не выдавай нас!» Можно было понять и так: «Не выдавай!» Он собрался уходить, когда она появилась. «Ты не знаешь нашего старшего лейтенанта!» — говорила она, запыхавшись, гордясь своей смелостью и страшась, что их накроют. «Бежим!» Схватив его руку, она кинулась по теневой стороне проулка, держась штакетника и пригибаясь, — мальчишка с девчонкой… Он-то давно таковым себя не считал, до их побег смешил его, как будто он все-таки мальчишка. В тесной улочке под луной действительно выросла какая-то фигура. «Сюда!» — юркнула Раиса в калитку, и не дыша, прижавшись к нему, выжидала. И он замер, — в готовности поддержать игру, от внезапной близости тела. Чьи-то сапоги прогромыхали мимо. «Пригрей меня», — шепнул Борис. «Домой!» — шепотом ответила она, схватив его руку, помчалась в обратную сторону.
Одинокий ИЛ, с низким грохотом ворвавшись в аэродромное пространство, вернул Силаева к предстартовым, сейчас далеким от него заботам. ИЛ пронесся над полем, выстилая сухую траву за хвостом, и крутой, до синего неба «горкой» просалютовал полковому обществу: «Я — здесь!»
«Я» — это армейский инспектор по технике пилотирования полковник Потокин.
Подобные приветствия импонируют стоянке, когда ИЛы возвращаются с задания. А штаб армии, откуда на «спарке», не боевой, тренировочной машине пожаловал полковник, чтобы усилить контроль за уходящими на задание, квартирует в тылу, на почтительном расстоянии от линии фронта. Так что эффект создался скорее обратный.
Но вот полковник, зарулив, направляется в голову стартовой колонны ИЛов. Летчики, сидевшие рядом с Борисом под камышовым навесом, выжидательно смолкают, — инспектор Потокин, с его правом безапелляционного суждения о выучке, о способностях летчиков, влиятельный человек.
Седоватый бобрик над открытым лбом; осенний ветер выжимает из светлых глаз полковника слезу, но не ускользает от него колом торчащая шинель среди фюзеляжей — армейский фотограф спешно ретируется…
Командир полка, майор Крупенин, стесненный в кабине парашютом и раскинутым планшетом, производит ему навстречу учтивое телодвижение, распускает застежку шлемофона.
Инспектор останавливается подле командирского мотора.
Техсостав навостряет уши.
Инспектор изъявляет желание пойти на задание в составе восьмерки… Так!
«Горка», исполненная Потокиным над аэродромом, сейчас же обретает молодецкий отблеск.
Майор Крупенин, естественно, не возражает, нет. Но кое-что он должен уточнить. Вернее, дать разъяснения. Ведь инспектор претендует на место заместителя? А своим заместителем по группе командир полка назначил капитана Комлева. Решение это — твердое, с Комлевым они сработались, слетались… больше того: новые цели, в частности высоту 43,1, Комлев знает, командир же полка ее даже не прощупывал… Короче, Комлев — заместитель, без которого командир полка ни шагу.
Но если полковник возьмет в этом вылете на себя другую пару?..
Не меняя представительной позы, Потокин большим пальцем вопросительно указывает себе за спину — принять пару в хвосте?
Да, наклоном головы подтверждает Крупенин.
Возглавить пару в хвосте. Замкнуть колонну вдвоем с Тертышным. С женатиком Тертышным.
Место трудоемкое, «мессеры» только и ждут, чтобы подобрать отставшего, стреляный волк здесь как нельзя лучше.
Пауза…
Потокин предложение командира полка отклоняет.
В таком случае он останется на земле. Выборочно проверит летчиков, свободных от задания.
Командир полка затягивает ремешок шлемофона: быть по сему.
Сделав выбор, полковник тем же упругим шагом направляется к своей «спарке», и одновременно с этим приходит в движение колесо судьбы Силаева.
— Быстрей! — издали машет Борису посыльный.
— Меня?! — летчик приподнимается в недоумении. Неусыпной бдительностью наземных служб на одном из самолетов обнаружен дефект, трещина шпангоута. Неисправный самолет от вылета, естественно, отстранен, на его место из резерва поставлена «семнадцатая». «Семнадцатая» — с ним, летчиком Силаевым. О чем ему и просигналил посыльный.
«Комлев», — понял Силаев.
Ввести его, Силаева, в состав «восьмерки» предложил Комлев.
Их последний разговор наедине с комэском был таков:
«Как думаешь о партии, Силаев?» — «Высоко думаю». — «Думай».
Не командир звена, всего лишь старший летчик, Силаев, в знак высокого доверия поставленный в сборную группу, заартачился: почему разбивают пару Казнов — Силаев?.. Казнова знаю, привык, могу лететь за ним с закрытыми глазами… Еще приказ читали, слетанность пар — основа…
Тут рассыпалась над КП ракета к взлету.
Полковая головка, семь моторов, молотила воздух, дожидаясь, чтобы строй был восстановлен.
— Быстрей! — рявкнули на Бориса.
Махнув рукой, дескать, с вами не договоришься, он постарался не сплоховать.
Вскочил на крыло «семнадцатой», скользнул в кабину, сманипулировал в ней, — винт завращался, объявив всем, кто за ним наблюдал: «Силаев не задержит, не смажет дела».
Вот он рулит в хвост колонны, на правый фланг.
Задвинутые «фонари» кабин мерцали бликами, прикрывая и сухие и распаренные волнением лица. Борис катил мимо строя с открытым верхом, как на легковушке. Спина распрямлена, грудь развернута, в посадке головы готовность обогнуть случайные препятствия, ничем другим не занят, — и вдруг сверкнул в улыбке белозубым ртом.
Его улыбку приняли.
Подняв «семнадцатую» на виду инспектора и возбужденного аэродрома, Борис споро пошел, так сказать, на сближение с Тертышным. Как раз лейтенант Тертышный оставался в строю без напарника.
Как водители, мчась по автостраде на пределе дозволенного, умеют при обгоне схватить обдуваемое ветром, притомленное движением лицо соседа по ряду и все по нему понять, так и Силаев, — на скорости, в три-четыре раза большей, но не уходя, не вырываясь вперед, напротив, держась строго за Тертышным, — так и Силаев, дорожа своим не до конца проверенным еще умением и радуясь ему, отзывался на каждое шевеление лейтенанта в кабине.
Он хорошо видел рядом с собой Тертышного, его крутой профиль. После взлета лейтенант долго елозил на сиденье, приноравливался. Что-то ему мешало. Задирался, закатывался рукав, он вскидывал руку… Мала куртка? Напряжение полета, отметил Борис, не заостряло, напротив, сглаживало резкие, оставленные Сталинградом складки на лбу и щеках лейтенанта. По временам он слегка выставлялся вперед, за обрез боковой створки кабины. Вообще Тертышный производил на Бориса двойственное впечатление силы и усталости, надломленности, скрываемой тщетно, но старательно. Разница в возрасте, в боевом опыте давали себя знать. Но больше другого мешала ему понять Тертышного его женитьба: за неделю непогоды Тертышный, по его словам, «построил отношения», перед которыми Борис терялся…
Вера в свою звезду?
И в воздухе лейтенант Тертыпгный, случалось, задавал загадки, иной раз ухватывая бога за бороду, но чего-то ему всегда недостает, чтобы удержать ее, чего-то не хватает… неясность — тягостная, неловкая — сопутствует его поступкам.
Не так давно на пути от цели вблизи передовой упал подбитый «Иван Грозный», верой и правдой служивший штурмовой авиации, принявшей единообразный, двухкабинный вид. Теперь одноместный самолет-сталинградец выглядел в полку белой вороной. Когда нужен был снимок цели покрупнее, поразборчивей, посылали на фотографирование «Грозного», упрятывая его в середку группы, под защиту стрелков; вызывались ходить на нем и отдельные доброхоты-любители, в частности Аполлон Кузин, бывший истребитель, скрывавший под стремлением порезвиться, отвести душу на «Грозном» нежелание брать на себя ответственность ведущего, обременительную, почти всегда для него чреватую неудачами… Нет-нет, да разминал, проветривал «Ивановы косточки» Комлев, — и на Миусе, и на Молочной, вплоть до последнего времени, когда все очевидней становилась его привязанность к безномерной «нолевке», имени пока не имевшей…
И вот подбитый «Грозный» грохнулся.
Без долгих размышлений скользнул Тертышный на вязкую пахоту вблизи передовой. Как ни велика была спешка, все-таки заметил, что залитый моторным маслом, обрызганный кровью самолет не разбит, — посажен, подлежит ремонту… Выхватил из кабины раненого Аполлона Кузина, усадил вместе со своим стрелком, поднялся в воздух, и все бы кончилось эффектно, как в кино, если бы не сбился с маршрута, не спутал бы в сумерках полотно железной дороги и вместо юга не ушел бы к северу от дома. А бензин и светлое время истекали. Подсвечивая себе крыльевой фарой, плюхнулся, не убился, ну разнес самолет. Как об этом судить?
В окончательной версии штаба вынужденное приземление в потемках и спешный поиск санитарной повозки подавались с акцентом на похвальном желании лейтенанта выручить терявшего кровь товарища…
Боевой порядок, строй, составленный полковым командиром, сегодня сблизил их, Тертышного и Силаева, связал, вроде бы крепче некуда — крыло в крыло. Но что-то между ними не складывается. Никак не подстроится Силаев к лейтенанту. Никак за ним не удержится. Никак его не поймет.
Впрочем, что Силаев…
Тут командир полка не все додумал. Охотно предоставляя место инспектору Потокину, он тем был прежде всего озабочен, чтобы укрепить хвост колонны, куда поставлен молодожен Тертышный. Но Крупенин упускал из виду обстоятельство, пожалуй, не менее важное для Тертышного, чем его женитьба: Пологи. Населенный пункт Пологи.
Молодой Силаев, случайный в составе «кадров», проходит эти места — как хутор Смелый — впервые. И другие участники восьмерки в Донбассе не воевали. А Тертышный, безоружный свидетель трагической гибели Миши Клюева, в ноябре сорок первого Пологами надломлен. Когда под Сталинградом, в районе Абганерова, он устрашился «мессеров», бросил товарищей и усадил в степи на брюхо свой якобы подбитый ИЛ, то объяснить себе все происшедшее он мог одним: ужасом, который жил в нем, от которого после Полог не мог освободиться. Сейчас для него Пологи — высота, рубеж, рано или поздно встающий на пути человека, чтобы предъявить спрос на все его возможности, на все силы, какими он сумел запастись для самостоятельного, — без помощи извне, без поддержки со стороны, — вполне самостоятельного шага… За Пологами — село Веселое, фронтовая молодость отца. Какие ветры, какая даль, какое солнце! Нет пути вернее, нет дороги лучше. Но вначале надо их пройти, Пологи. А напора изнутри, который поднял бы его и повел, Виктор в себе не ощущал. Этой внутренней силы — не было. «Пологи — смерть, Пологи — гибель», — стучало у него в висках. Он закрывал «фонарь» кабины — стопор ему не подчинялся, проверял прицел — сетка прицела двоилась и плыла, сбил настройку передатчика и не мог ее восстановить, наладить.
Понять ли все это Силаеву?
Когда пары сводят случайно, наугад, абы взлетели, абы поднялись и ушли, летчики, не зная друг друга, ярятся и психуют; задолго до первого залпа вражеской зенитки Силаев был затюкан, выпотрошен, пот катил с него градом, и неизвестно, какой бы от него был в этом вылете прок, что вообще стало бы с ним, если бы не соседство, не властная поддержка летчиков, отобранных в группу майором Крупениным. Если бы не «кадры»! С подходом к опасному рубежу, клубившемуся неоседавшей пылью и дымами, восьмерка перестроилась, образовав в небе круг, огневое, накрененное к земле, на бок легшее колесо; как бы гигантский точильный диск пришел в движение, сравнивая с землей опорный пункт вражеской обороны. Капитана Комлева Силаев не видел, но ритм, заданный огненной «вертушке», был комлевским. Впереди, не позволяя Силаеву отстать, покачиваясь, вспухая и оседая среди зенитных разрывов, — ни секунды по прямой! — шел Братуха, за хвостом Силаева — командир полка. «Круче, Силаев, круче, — слышал Борис его раздраженный голос. — Ставь „горбатого“ на крыло, не переломится!» Сила и неуязвимость круга была в умении каждого удержать свой ИЛ на заданном, определенном месте. Либо летчик врастал в него, впаивался, укрепляя строй, и строй принимал на себя его защиту, либо круг разрывался, отшвыривая виновного на съедение «мессерам», под убой зенитки. «Выложись!» — взывали к Силаеву «кадры», и он — откуда сила взялась — себя не щадил. То ли солнце поднялось выше, обесцветив дульные обрезы работавших внизу орудий, то ли немцы выдохлись, но после двух прикладистых заходов рябой бугор, указанный ИЛам, уже не так блистал острыми огнями, он, похоже, испускал дух, а точильное колесо в третий раз неотвратимо опускалось своей режущей гранью на высоту, и тут Борис увидел «мессера». Скользя над сизыми внизу дымами, «мессер» безнаказанно, с жуткой наглядностью метил в подслеповатого ИЛа, с кротовьим упорством давившего своими пушками уцелевшие на склонах высоты ячейки. Казалось, на мгновение отвлекся Силаев, чтобы пресечь поползновение «мессера» крыльевыми стволами «семнадцатой» — и в этот короткий миг все переменилось: напористым летом снарядов над его крылом возникла трасса… Воистину с врагом не разминешься. Теперь уже не он, Силаев, сбивал нацеленный удар, теперь его, Силаева, оттирали очередью от восьмерки, и он вынужденно отворачивал от своих, отворачивал вправо, что всегда не так сподручно, отмечая все ту же неподатливость «семнадцатой», чувствуя невозможность восстановить утраченную поддержку строя, своего Тертышного или Братухи. Мысленно приготовляясь к неудобному выбрасыванию с парашютом на развороте, он оттягивал его, сколько возможно. «Все», почувствовал Борис, сейчас брызнет щепа… мановением ноги и ручки, которое в необъяснимо угаданный — или случайно пойманный — момент трезво, расчетливо исполнилось само, — выскользнул, вывернулся из-под удара.
Резкая смена света и тени в глазах — и он один.
Высвободился. Все развязал.
В сероватом небе — ни наших, ни чужих; одиночество как выход, как избавление, как свобода. «ЕВТИР, — решил Силаев. — ЕВТИР», — только сейчас он вспомнил об этом.
Через час с четвертью после старта восьмерка появилась над терриконами, — не в строгом строю полковой колонны, разметанной вражеской зениткой.
Стоянка на радостях не придавала этому значения.
— Как сходили? — спрашивали ребята из братского полка.
— Все вернулись! — счастливо ответствовал механик с бледным, одутловатым от усталости лицом.
Аэродром возбужден, дань шумного восхищения первым принимает Алексей Казнов, Братуха. Собственно, сам Братуха в стороне. Валом катясь к его новенькому, с заводского двора ИЛу, наземная служба потеснила летчика. Прибористам, техникам, оружейным не терпится увидеть, во что превращена в бою казновская кабина, — приборная доска разбита, все пилотажные приборы вынесены вон. Трудно сказать, что достойно большего удивления: мастерство командира звена, сумевшего довести самолет, или то, что сам Братуха не получил при этом ни одной царапины? Лицо летчика истомлено, кирпичный румянец поблек. Спохватываясь, ои разводит локти в стороны, оглядывает свои бока, стряхивает с комбинезона сверкающую стеклянную крошку. В ахах, охах, царящих вокруг, есть какое-то преувеличение, кажется Братухе. Какая-то чрезмерность. Этот гам приятен людям, но не соответствует тому, что с ним стряслось. Когда вдруг беззвучно брызнули, исчезли черные зеркальца перед ним, Братуха ничего не понял. Он знал, что должен видеть горизонт, — и он его видел, он знал, что должен слышать мотор, — и он его слышал. Горизонт и мотор. Они держали его, вели… а в приборной доске, в том месте, где компануются пилотажные приборы, зияла рваная, глубокая, темная дыра. Приглядываясь к ней и чувствуя в руках послушную машину, он понимал, что, пожалуй, дойдет, дотянет, сядет…
Дошел.
Семьдесят три боевых вылета у него на счету. Семьдесят три. После такой передряги пронесет и на восемьдесят, — в одну воронку дважды снаряд не попадает. Дальше загадывать не будем, но восемьдесят вылетов он сделает, отмолотит. И к званию его тогда представят. Обязаны, есть приказ: за восемьдесят боевых вылетов на самолете ИЛ-2 летчик представляется к званию Героя. После чего, дорогая Олечка, мы с тобой встретимся. Мы с тобой побеседуем. Объяснимся.
Счастливый Урпалов, с выражением растроганности, даже умиленности на озабоченном лице, охаживал Братуху, боевого комсорга эскадрильи. И Братуха, только теперь сообразив, как непредвиденно, как прихотливо и жутко сработал осколок, вынесший из кабины зеркальца приборов, собранных руками Оли, во всеуслышанье, так истолковал происшедшее:
— Не иначе как, братцы, к письму…
Бориса Силаева тоже поздравляли.
Кто помашет мимоходом, кто подморгнет, кто шлепнет по спине: с возвращением, Боря, да и с продвижением, как же, поставлен в ряд лучших летчиков полка, не шутка!
Принужденно улыбаясь и не понимая, что с ним, собственно, произошло, как удалось ему ускользнуть от «мессера», он ждал какой-то подсказки со стороны…
В его капонир входил Тертышный.
Носки сапог по-утиному развернуты, в руках плоский, не складной планшет, размером со стиральную доску. «Планшет ему мешал, не куртка», вспомнил Борис, как долго приноравливался лейтенант к кабине.
Тертышный был мрачен.
Борис подобрался.
Потеря ведущего над целью безнаказанно не проходит.
— Проявляем ненужную инициативу? — начал Тертышный. — Ты эти хода брось! — Рубцы, надавленные шлемофоном на щеках, алели, от широкой груди лейтенанта веяло жаром… — «Эрликоны» замолчали, ты и рад, думаешь, у него снаряды кончились… или немец устал. Черта! Прекратил стрельбу, жди «мессеров»…
— Я не думал… ждал…
— Чего ты ждал? Чего?
— «Мессеров»…
— «Мессеров»… Почему ногу-то не подобрал, голова?
— Какую?
— Ты что? Ослеп? Правую!.. Вывалил правую ногу, весь маршрут шкандыбает с культей, над целью поддержать ведущего по-настоящему не может, в результате ведущий… Конечно, когда колесо торчит, скорости-то не хватает. Не видел, что ли?
— Не видел, — выдавил из себя Силаев, поняв, наконец, почему так непослушна, трудна была «семнадцатая» в полете, почему бесновался лейтенант.
— Нельзя, Силаев. Надо видеть. Надо… Теперь. — Тертышный запнулся, посмотрел в планшет. — Ты какой курс взял от Гуляй-поля?
— В Гуляй-поле не был, — напряженно ответил Силаев.
— А где ты был? — Ведущий смягчил тон.
— В Пологах.
— В Пологах!
— Пологах, — твердо повторил Силаев.
Тертышный, с сомнением качая кудлатой головой, уставился в планшет, его нижняя губа, спекшаяся в жару кабины, недоверчиво отваливалась, а подсказка Силаева — «Пологи!» — делала свое дело. «Пологи, — с горькой пристыженностью думал он о себе, задним числом и потому легко, свободно восстанавливая ход событий. — Страшился их как черт ладана, готов был огибать за сотню верст, и не узнал. Населенный пункт Пологи принял за Гуляй-поле…» Короче, потерял ориентировку и упал бы где-нибудь без горючего, если бы не мелькнул, не попался ему на глаза странный, с выпавшей ногой ИЛ — свой, из восьмерки, Силаев! Ухватился за него как слепой, да так оно и было, — слепой от мандража и растерянности, — и колесо силаевской машины обернулось для него удачей, вывело на свой аэродром…
Он восстанавливал картину запоздало, легко и безрадостно: не открывшись, не поддавшись распознанию с воздуха, Пологи как бы продлевали свою темную власть над ним, обрекая и впредь перемогаться от вылета к вылету, когда волнения и страхи над целью не приглушаются, не скрашиваются надеждой, какую дают летчику признание, растущая самостоятельность, уверенность в своих силах.
Впервые за долгие месяцы, пожалуй, впервые после Сталинграда мрачные предчувствия Тертышного не подтвердились, — явился домой как следует быть, сел вместе со всеми, а гнет непосильного бремени иссушает его и точит; не дает ему авиация радости, одни страдания и муки, и нет впереди просвета.
— Что, гудут ноженьки? — переменил Тертышный гнев на милость, понимая, что он может оставаться на высоте в глазах других, но не Силаева. — Гудут, родимые?..
К вечеру того же дня из клубов пыли и копоти, поднятых влетевшей в шахтерский поселок «Т-тридцатьчетверкой», выросла возле штабного домика фигура в пятнистом маскировочном халате. Танк после короткой остановки прогромыхал дальше, пыль за ним осела. Разминая под накидкой затекшие члены, десантник-одиночка неуверенно, нетвердой поступью направился к штабу.
Его остановил дежурный.
— Не знаю, — улыбнулся незнакомец на вопрос дежурного, обнажая влажные белые зубы с темной промоиной посередине. — Не знаю, верно ли я направлен, туда ли попал…
Диалог между ними не завязывался.
— Кто вам нужен? — спрашивал дежурный.
— Но других-то штурмовиков на этом тракте нет? — отвечал вопросом незнакомец. — У вашего командира, к примеру, какой позывной?
Дежурный потребовал документы.
— Первый раз у летчиков, — говорил словоохотливый заезжий, обнаруживая под балдахином немецкую, фабричного изготовления финку с готическим вензелем на ножнах: «Solingen». — До этого приходилось восхищаться ИЛами с земли. Пожалуйста, — показал он свое удостоверение. «Капитан Епифанцев… Командир батальона…» Вздув огонек от кресала, напоминавшего кастет, он затянулся, оглядывая простор, изрытый ячейками зениток и оживленный скифскими навалами шихты. Со стороны огорода вплотную к изгороди штабного домика был подтянут ИЛ. В такой доступной близи от самолета капитан, должно быть, находился впервые. Мог его потрогать, подняться на крыло, сесть, с позволения хозяев, в кабину.
— Шоколад-то вам дают? — спросил комбат, попыхивая самокруткой. — Или так, болтают?
Сакраментальный вопрос солдатского веча.
— Килограммами, — отозвался Тертышный. — Махнем на цацку? Даю пять плиток.
Крыльцо оживилось — летчикам трофеи достаются редко. Силаев, слыша предприимчивого лейтенанта, пожал плечами. Дело в том, что шоколада у Тертышного не было и быть не могло. БАО не выдавал экипажам шоколад. В бортпаек (на случай вынужденной посадки) входила сгущенка, и пехота на переднем крае это знала. Однажды Силаев сам видел, как средь бела дня, под огнем два солдата вымахнули из траншеи на нейтральную, чтобы вытащить из упавшего ИЛа сгущенку.
Но легенда о шоколаде, которым вскармливают авиацию, не увядает.
— Ну, как? — лейтенант положил глаз на финку комбата.
Круто к нему оборотившись, отчего балдахин, стянутый у горла, внизу раздулся, пехотинец поднес к уху ладонь: ась? Что вы сказали?..
Он был контужен.
Батальон, которым командовал капитан Епифанцев, трое суток удерживал предполье высоты 43,1, терпя дробящие удары немецкой артиллерии и «юнкерсов». Уцелел при этом неполный взвод; комбату, по его словам, «помяли котелок», — он осторожно трогал голову, — «грунтом попортило ухо»…
— Поправляюсь! — громко заверял Епифанцев, с улыбкой входя в штабной домик. — Хочу вас благодарить, — говорил он, безошибочно признавая в сидящем за столом бритоголовом офицере командира полка. — Никому так не рады, как ИЛам и гвардии «катюшам». ИЛы подходят, сейчас по траншеям, знаете, шумок, их по моторам знают. Как бы, значит, побратимы, ради пехоты себя не пожалеют… Всегда над землей, чуть не на брюхе по окопам лазят!..
Скулы его светились — комбат представил командиру полка бумагу, рукописный документ, несколько часов назад отдиктованный по вдохновению на передовом НП без запятых и точек, и, не утерпев, улыбаясь щербатым ртом, сам его огласил: «Невзирая на ураганный заградительный огонь ЗА МЗА и противодействие ИА противника, — с чувством декламировал Епифанцев, выставив вперед ногу, — проявляя мужество и личный героизм на поле боя, восьмерка ИЛ-2 исключительно своевременно прицельно атаковала высоту 43,1, в результате чего изнуренные войска воспряли и слаженным ударом выбили с насиженных позиций хваленые батальоны битого Манштейна… За отвагу и мужество на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками от имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю орденом боевого Красного Знамени летчиков-штурмовиков…»
Для фамилий было оставлено место. Картонные коробки с орденами Епифанцев вытряхнул из сумки для противогаза, терявшейся в складках его маскировочной накидки. Слюнявя карандашик, присел к столу, чтобы со слов командира полка внести в документ имена отличившихся.
Домик быстро наполнялся, разговор шел возбужденный.
— Что такого, мне под Москвой комиссар медальку в госпиталь привез, за двадцать вылетов. Между прочим, все на Р-5 и все днем…
— То свой комиссар, а то — пехота.
— Комбат-то орел: два боевых и Невского!
— Чапаю замухрышку не пришлют.
— Еще кавкорпус Кириченко, говорят, раскошелится. Говорят, тоже своих представителей выслал…
— Славяне, треба тачанку!
— Для орденов?
— Для брехунов. Всех собрать и зараз вывезти, спасу нет…
Командир авиационного полка, слегка от сюрприза опешив, затем в достойных выражениях благодарил посланника за оперативность и дальнейшие события планировал и направлял уверенно: товарищеский ужин, подключить БАО, кое-что использовать из командирского НЗ…
Церемонию награждения он, главный виновник торжества, всецело доверил Потокину.
Тут бы армейский фотограф развернулся!..
Увы! Не зная собственного счастья, фотограф укатил к саперам на «тридцатьчетверке», доставившей капитана Епифанцева.
Первым подучил награду командир полка Крупенин, за ним Комлев, Казнов, Тертышный…
Как утром на аэродроме, была оглашена фамилия Силаева.
Худой, в отличие от многих — неулыбчивый, он откликнулся на вызов спешным шагом, как утром. Седеющий бобрик поджидал Бориса благосклонно. Полковнику, однако, недоставало изящества в исполнении ритуала. Закрепленных навыков. Заветную коробочку он протянул Силаеву не левой, а правой рукой, и лучше бы не поправлялся, потому что, промахнувшись, Борис вторично ухватил руками воздух. Раздался смешок.
Тертышный нашептывал комбату: «Мы все с вечера наметили… Подобрали людей, лучшие экипажи…» В другое ухо Епифавцева пел начальник штаба: «Опыт богатый… впредь будем опираться на „кадры“…»
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Пустым делом было бы продолжать Комлеву вчерашний спор с командиром.
Шаблон потому живуч, что он — верняк, благодетельный верняк, он снимает с нашего брата бремя ответственности, избавляет от необходимости рисковать, расставание с шаблоном — тягостно… пока не понято, как быстро ведет он под залпы зениток, в волчью пасть «худого». Комлев-то это усвоил…
Командир полка сохранял подобающую моменту серьезность, был торжествен и строг. В таких подношениях судьбы, как ни редки они, как ни случайны, Крупенин усматривал некую обязательность, нечто вроде всплеска зеленого луча, который, говорят, показывается из океанской пучины на радость морякам, преданным морю. Командир глядел прямо перед собой не мигая. Ему такой час выпал, и он был счастлив.
Он же произнес краткую речь от имени награжденных.
Когда утихли аплодисменты и Потокин, скупо улыбнувшись, объявил гонец, с узла связи подоспела телеграмма от командующего и члена Военного совета воздушной армии.
Замалчивать подобный знак внимания не годилось, с другой стороны, все как будто было сказано, в настроении создался перелом, обычный после официальной процедуры, стало видно, например, как рассеян полковник Потокин, досадуя по удаче, его обошедшей.
Нашелся Тертышный.
Продвинувшись к столу, он заявил:
— Меня поздравляет командующий! — и повел вокруг себя успокоенным, не лишенным торжества взглядом. Он так пожелал истолковать приветствие генералов. Алексей Казнов переглянулся с Комлевым… Не только летчики-сталинградцы поняли Тертышного.
— Персонально! Точно, Витя!
— Толкай дальше!
— Что ордена подбросили с нарочным товарищем капитаном, — продолжал лейтенант, — отблагодарили без волокиты, — приятно, но всегда у нас так бывает. Ну, так и ордена не каждый день дают… Товарищу капитану, конечно, спасибо, постарался… Праздник для нас… От лица товарищей и от себя лично скажу: служим Советскому Союзу…
Шумно перебрались через улочку наискосок — в столовую.
Деревянный пол столовой был наспех вымыт и просыхал, па затемненных окнах белели подсиненные занавески, аромат свежести смешивался с запахом выставленных солений, раскрытых плавленых сырков.
Дожидаясь слова тамады, рассматривали ордена, не открепляя их от гимнастерок. Оценивали качество, выделку с лицевой и оборотной стороны. Сопоставляли порядковые номера, надежность подвесок, пружинистость булавок. С первым тостом ордена пришлось все-таки отцепить и — «чтобы оно не заржавело» — окунуть в наполненные кружки. Награда располагает к воспоминаниям.
— Братуха на заводе беседовал с конструктором, лично, — рассказывал Кузя под впечатлением месячной поездки в тыл. — Обещали поставить защелку, чтобы откинутый «фонарь» не наезжал…
— Я Клименту Ефремовичу так представился: «Из рабочих, говорю, рабочий…» — не первый раз, но кстати воскрешал неповторимое майор Крупенин. — Были приглашены к столу. Закуска, скажу, побогаче… да уж… причем разрешалось уносить, Прямо подсказывали: «Берите с собой…» Я, знаете, постеснялся…
Подвыпивший Казнов лез в спор с Потокиным:
— Вы с Чкаловым в парикмахерской сиживали, а я с Алелюхиным на станцию Самбек ходил!..
— Так выпьем за удачу, за успех! — пересилил себя полковник Потокин.
Комлев, сидевший рядом, тоста полковника как будто не слышал. Помалкивал. К своей кружке не прикоснулся.
— Сейчас Алеха запоет, — предсказал он, в упор глядя на Казнова. Понюхает корочку, и понеслась… Давай, Алеха. «Разметался пожар голубой…» Давай, — ровным голосом подбадривал он Казнова.
— У нас дуэт! — напомнил Алеха. — Товарищ старший техник, ко мне! — скомандовал он Урпалову. Урпалов отозвался с деланной неторопливостью: он любил в подпитии вторить баском голосистому Братухе, знатоку «авиационного фольклора» — от вещих строк: «Весна! Механик, торжествуя, сливает с стоек антифриз…», до исполненной эпической мощи «Отходной»: «Планшет и шлем мой загоните, купите летчикам вина…» Но в полку-то известно, что, хотя Урпалов первую скрипку на себя не берет, держится в тени, он еще лучший, чем Братуха, знаток авиационных саг, и такие гвоздевые номера, как «Если бы не Мишка, Мишка Водопьянов» или «Хозяин дядя Сема», — за ним.
— Что не весел, товарищ капитан? — подсел Урпалов к Комлеву. — Пехота удостоила, царица, какое же недовольство?
— Наземные командиры, я вижу, ценят работу боевых летчиков повыше, чем иные авиационные начальники.
— Наградной материал на вас составлен, — отвел упрек Урпалов. Возражения, какие были, сняты.
Базируясь на хуторе, эскадрилья Комлева обходилась без наземного эшелона, без тылов, задержанных распутицей, работала напряженно, вплоть до того, что увязавшие в грязи ИЛы уходили на взлет буквально с рук, со спин механиков, подпиравших самолеты снизу, а Урпалов, появившись на хуторе, стал вменять ему в вину «аморализм моториста», угодившего в санчасть. Комлев поставил критика на место, Урпалов ретировался, до поры притих.
— Надо к полковому как-то подъехать. — Старший техник-лейтенант как бы сочувствует капитану, — Чтобы дальше на мурыжил, не тянул с рассмотрением наградного листа.
С этим-то и не желает мириться Комлев. Он свое дело делает, как велит ему совесть, скоро, даст бог, отметит двухсотый боевой вылет.
Не гордыня, а боевая работа, ее всеми признанный результат возвышает его в собственном мнении — он полезен, нужен, необходим в борьбе, которую ведет народ. А то, видите ли, благодетели, милость ему оказывают. Он должен быть кому-то благодарен…
— Поезжай-ка ты, знаешь, куда? — поворачивается он к Урпалову боком.
Казнов, как ни увлечен, это заметил, его дуэт с Урпаловым не налаживается.
— Но какова машина ИЛ-два! — В уюте чистенькой столовой Епифанцева выделяли луженая глотка комбата и выцветшая гимнастерка. Разомлевая от спирта и хлебосольства летчиков, сдвигавших ему под локоть все дары «пятой» нормы, дорогой гость не умолкал: — Нынче «мессер» кувыркнулся, — перекрывал он всех. — На маленькой высоте через голову — кувырк. — Он показал на пальцах. — И — на кусочки. А волной «горбатого» поддал. Так наш «горбатый» хоть бы хны! — Капитан шлепнул себя по колену. — Задок вскинул, как двухлетка на выгоне, и к себе домой. «Мессеру» же конец. Его свои подсекли. Он на свою зенитку напоролся, на «эрликон»… «Не мой ли это „мессер“?» подумал Борис. Очень возможно, что «горбатый», восхитивший Епифанцева, был самолетом Силаева, подброшенным взрывной волной так, что свет и тень пошли у летчика перед глазами… Но связать взбрыкнувшую «двухлетку» с «семнадцатой», понять их как одно Силаеву в голову не приходило: нетерпеливые сигналы подавались ему Конон-Рыжим от двери. Он жестами отвечал, чтобы его ждали. Дело в том, что Комлев, сидя у всех на виду, как будто за столом отсутствовал, в чем была большая неловкость. Ведь пехотный капитан, марафонским гонцом влетевший в поселок, награды, засиявшие на их гимнастерках, не опровергали Комлева, напротив, подтверждали, по мнению Бориса, его правоту в споре с командиром полка!
Но этого никто не желал замечать.
Никто об этом даже не заикался.
Держа на весу свою кружку, Борис перебрался к Комлеву:
— Разрешите, товарищ капитан?
Командир нехотя подвинулся.
Силаев помолчал, собираясь с мыслями.
— Товарищ капитан, я летаю с бьющимся сердцем.
— Уже! — отозвался Комлев. — Хорош… Силаеву, как видно, не много надо.
— Я летаю с бьющимся сердцем, — очень серьезно повторял Борис, глядя в кружку. — Другие, возможно, невозмутимы, а мое сердце колотится громко. Потом, правда, успокаивается…
— Когда внизу родная крыша…
— Примерно… Дело не в этом. Другие помалкивают, а я не таюсь, говорю. Зачем-то! Да. И хочу сказать, что вы правы, товарищ капитан. Насчет вчерашнего — правы. Какая, к черту, слетанность? Какая внезапность?.. Высота подхода пристреляна, встретили залпом, как еще ноги унесли… Сейчас я встану и всем это объявлю.
— Идите отдыхать, младший лейтенант.
— Да?
— Да.
— Я считаю, так несправедливо. Вообще-то.
— Отдыхать.
Борис просительно поднял свою кружку.
— Давай, — ответил Комлев. — За Индию, — повторил он шутливый тост истребителей.
— Есть отдыхать, товарищ капитан…
Той осенью ордена в полку имели немногие.
Топавшие за Борисом ребята, в основном из молодых, находились в том неопределенном положении представленных к награде, в каком он сам пребывал до нынешнего дня: как будто заслужил и соответственно представлен, да неизвестно, как рассудит о сделанном представлении вышестоящий штаб. И дождешься ли…
Красно-белая орденская подвеска не столько отличала, сколько сближала Бориса с этими ребятами, гуськом топавшими за Конон-Рыжим. Сближала в общем для всех понимании пропасти, бездны, отделявшей будни от стихийных, как сегодня, торжеств по случаю награждения. Его миусские купели — Саур-Могила, Донецко-Амвросиевская, Кутейниково — оставили память по себе в рубцах, шрамах. И вот подвернулась высотка… Он судил о вылете, вспоминая другие, более трудные, более опасные. Высотка перед ними блекла. Но для всех, кроме него, они прошли бесследно… Хорошо бы, в самом деле, он как-то отличился, выделился, ведь на третий-то заход тянулся с мукой, с мукой… Кроме бомб по цели и «эрэсов», шуганул «мессера»… и, стало быть, гуляет где-то парень с того ИЛа, не зная, что висел в прицеле, одной ногой был там…
Так обстояло дело, а на груди — знак из металла, обработанного штампом и эмалью.
Орден, о котором мечтал.
«Кому повезет — свое получит», — думал Силаев под чавканье сапог за спиной, не вслушиваясь в жаркую речь Степана: «под банкой» Степан заходится, не остановить — либо о жене своей Ниночке и дочке, пропадающих в Старом Крыму, либо о Херсонесе, о Херсонесском мысе, последних днях севастопольской обороны…
…Забота Бориса Силаева о том, чтобы не застрять в тылу, не закиснуть в обозе, быть вровень с другими — отпала. Он думал теперь о другом, о том, как пойдет у них с Раисой; надежда на что-то неясное, беспредельное, захватывающее, поднявшаяся в нем при их знакомстве, разгоралась. В общежитии девчат трофбата сейчас звучит гитара… Если Аня-гитаристка не в наряде, если не тоскует по своему танкисту, не глотает слез… Слабый каганец на столе. Обсуждают новости, какие есть на рубеже Молочной, — трофбатчицы всегда все знают — за разговором не заметишь, как провернут для гостя постирушку, прогладят, что надо, подошьют воротничок… Ее родственный шрамчик, запах ее волос. «Боевик» скажет ей сегодня, как он воюет. Как рискует. Изо дня в день. И завтра, и послезавтра, с горькой ясностью думалось Борису. ЕВТИР помогает? Можно на это смотреть и так, и этак, но с того дня, как мистические знаки появились на «семнадцатой», его не сбивали… Он уносился мыслями в тихое утро после дождя с белой мороженщицей на углу, яркими красками детских колясок в тенистых уголках солнечного парка… а в поздний час, — огней не видать, дом уже спит, — где-то над головой, на четвертом, шестом этаже, несмело звучит пиааино… воспоминание, детская мечта. Возвращался к Раисе. Ведь сколько еще впереди!
Где брать силы? Она поймет его. Его желание, неопытность в игре борьбе; как он ее страшится, мечтает о понимании… Поймет?
…Перед знакомым флигельком новоявленный кавалер боевого ордена Силаев замялся: входить ли… Входить? И демонстрировать себя, свои заслуги?
Попутчики поднавалили сзади, внесли его в прихожую.
— Здесь раздеваются? — спросил Борис.
— Обязательно, — пятилась перед ним Раиса, округляя глаза.
— Или не обязательно? — тянул Борис, не одобряя ее нарочито распахнутых ресниц. «Все-таки — манерна».
— Мерзляка! — тряхнула она чубчиком. — Поддерживается комнатная температура.
— Комнатная?
— Да, да, да…
— Была не была, рискнем…
Перо жар-птицы озарило коридор!
Сам Борис с трудом удерживался, чтобы не косить па левый карман гимнастерки, на свой сияющий, обмытый «боевик», но вера в его чары почему-то поубавилась. Он взялся за гребень. Парикмахер, наезжавший в полк, его не заставал, — то он на вынужденной посадке, то на излечении, и после месяцев дикого, не укрощенного ножницами роста, его гриве впору был скребок из конюшни племсовхоза. Конон-Рыжий раздобыл ему «царев гребень», как он сказал. Под напором «царевых» зубцов чуприна Бориса трещала и посверкивала, лицо было сосредоточенно-мученическим. Увы, предчувствия его не обманули: Раиса скользнула по его подвеске безучастно; скользнула, направилась к дальнему гвоздочку, повесила его куртку. Не сводя с нее глаз, он упорно прочесывал свои лохмы. Тесного пространства, трех-четырех шагов по щелястому полу хватило Раисе, чтобы выявилась ее схваченная офицерским ремнем фигура. При таком умении, при такой поступи — обо что же она споткнулась? Споткнулась, стройность ее утратилась. На одной ноге она была студенточка, сбившая каблук, и балансировала… могла ухватить его руку, опереться о его плечо… не сделала этого.
Ей помогла стена.
Она подняла на Бориса виноватое лицо.
Дар Конон-Рыжего хрустнул в его волосах.
…Каганец на столе не горел, комнату освещала луна. По углам, на скамье вдоль окон мерцали самокрутки.
— Инициатива из Силаева так и прет, — услыхал Борис. — Смотри, Силаев, кто проявляет инициативу, от нее же страдает.
— По себе судите, товарищ лейтенант? — ответил он в темноту, узнав Тертышного.
— А как же! — Тертышный помолчал. — Раечка пообещала мне трофейный плексиглас. Остатки «месса», которого сегодня завалили. — Он говорил громко. Борис представил, как высматривает Тертышный в темноте и находит, угадывает слушателей, принимающих все это за чистую монету, как будто Тертышный в самом деле решал сегодня плачевную участь «мессера» («мэсса», говорил Тертышный).
«Я чего-то недопонял, — подумал Борис. — Или, может быть, не в курсе?»
— Давай без званий: «Виктор — Боря», понял? — в свойском тоне предложил ему Тертышный. Борис, открывший было рот, смолчал.
— Вы не знаете нашего старшего лейтенанта, — сказала Раиса, — Скряга. Кащей. Запру, говорит, всех на замок, а не поможет, так сам под дверью растянусь… Да, правда, он такой, — глянула она на Тертышного, его посвящая в трудности своего положения, с ним делясь.
— А я и рукоятки из плексика сам набираю, — продолжал лейтенант разговор с Раисой, прерванный приходом Силаева, и нацеживая из фляги свекольный самогон. — По капле на нос… За кавалеров…
— Каких кавалеров?
Борису послышалась игривость в голосе Раисы.
— За новых. За новых кавалеров. «Ну, нет», — обмер от наглости Тертышного Силаев, отказываясь от своей доли спиртного.
— Нам с Раечкой больше достанется, — охотно принял его жертву Виктор.
— Не много ли будет? — Не осевшая еще досада дневных мытарств с Тертышным так и подмывала Силаева сказать лейтенанту, что он думает о его способности походя жениться и без зазрения совести закатываться в общежитие трофбатчиц в качестве «нового кавалера» — Раисы, разумеется.
Вместо этого Силаев заявил:
— Таганрогскую баржу записал на свой счет, теперь «мессера»?..
— Идите! — придвинулся к нему Тертышный, широкой, жаркой, как в капонире, грудью. — Идите отсюда, младший лейтенант!
— Почему это я — «идите»?
— Он непокорный, Витя, — предостерегающе сказала Раиса.
Ее заступничество было успокоительным, но в сравнении с его ожиданиями, — таким осторожным, таким нерешительным. «Лучше бы ты не вмешивалась, подумал Борис, сдерживаясь. — Лучше бы ты молчала…»
Он медленно поднялся, хлопнул дверью.
Ранний холод, дохнув Силаеву на сердце, вызвал боль; он понимал, что мягкий, утренний свет, грезившийся ему, покой и солнце после дождя несбыточны, с новой силой охватила его тоска по теплу и участию — так тягостно без них, что можно задохнуться.
Мимо крыльца хлюпали по грязи солдаты; стены домика поскрипывали, звенели оконные стекла — в брешь, пробитую днем, входили танки, сокращая километры до Крыма, до Севастополя, стоявшего над морем еще под знаком свастики.
Держат ли войска оборону, идут ли вперед, обязательно откроется населенный пункт-твердыня, высотка-бастион, какой-нибудь разъезд, в названии которого сольется столько, что уже нет нужды называть весь фронт, а достаточно, к примеру, сказать: Абганерово (Питомник, Рынок, Гумрак), чтобы тот же Комлев представил себе весь Сталинград. Миус в памяти Силаева остался Саур-Могилой, Донбасс для Братухи — высота 43,1… Такие деревеньки, станции, высотки — за спиной, на пути, который пройден.
Но вот 4-й Украинский фронт, развернув свои армии к югу, изготовляясь к удару, навис над Крымом. Как бы приняв сторону капитана Комлева в его споре с командиром полка, командующий 8-й воздушной армией генерал-лейтенант Хрюкин организовал выезд ведущих групп, их заместителей на передний край для изучения немецкой обороны, для выбора путей подхода и атаки целей. Комлев повстречал при этом командира пехотного полка майора Епифанцева. «Наш боевой друг, — представил Епифанцев летчика своим комбатам. — Помогал освобождать высотку на Молочной, когда вас еще не было… А вообще-то мы с ним со Сталинграда. Теперь хорошо бы встретиться уже на курортах», — пошутил Епифанцев, тихий, несуетливый, сосредоточенный на том, что ожидало полк, его молодых комбатов. Летчик-истребитель капитан Аликин, возвратившись из поездки, рассказывал товарищам о странном, вращавшемся на высотке вблизи передовой засекреченном фургоне, куда он был допущен в порядке исключения («Пусть летчик повертится вместе с оператором, голова небось привычная, не закружится») — таким-то образом получил Аликин представление о первом экземпляре радиолокационной установки «Редут», поступившей в распоряжение командующего 8-й воздушной армии. Антенны «Редута» нацеливались па яйлу, чтобы с началом фронтовой операции блокировать бомбардировщиков противника, заблаговременно оповещая о них и наводя наших истребителей…
Под прикрытием снежных зарядов, налетавших той зимой на Таврию, воздушная разведка зондировала аэродромную сеть, средства ПВО, вражеские укрепления в глубине полуострова, отмечая попутно, как быстро возводятся на нашей размытой дождями и снегом стороне транспортные магистрали для подвоза горючего и боеприпасов, понтонные мосты — предвестники наступления. Сведенное к одному масштабу и склеенные воздушные снимки сложились в наглядный лист, карту, которой пожелал воспользоваться, планируя операцию, командующий фронтом генерал Толбухин, для чего карта была перенесена в столовую и разложена на полу, поскольку в хатке разведотдела она не умещалась.
При всем старании разведок, усиленных средствами радиолокации, будущее крымского театра, то есть ход, развитие близкого наступления, пребывало в неизвестности; но для тех, кто, подобно Конон-Рыжему, защищал в сорок втором году Севастополь и теперь с боями снова шел к нему, драма последних дней обороны навсегда связалась с крутыми обрывами херсонесского маяка, и они наперед знали: где грянет бой, где будет сеча, так это под Херсонесом.
Свежим апрельским утром среди канистр и козелков авиационного табора, возникшего в двадцати минутах лета от узкого перешейка, ведущего в Крым, обсуждался вопрос: кому поручат разведать цели боем? Комлеву? Кравцову? Карачуну?
Удачное начало полдела откачало.
Под станицей Акимовкой, на железнодорожном перегоне, где зениток, казалось бы, не густо, Комлев в один вылет потерял три экипажа, шесть человек. Полк воспринял ЧП болезненно, парторг Урпалов, поднял вопрос о привлечении капитана к ответственности, майор Крупенин его не поддержал. «Не пороть горячку, — сказал он. — Случай сложный, надо разобраться…» По сигналу снизу рядить о трудном деле взялась дивизионная парткомиссия. «Скажите прямо, почему вы безграмотно управляетесь с группой? — навалился на Комлева подполковник, председатель комиссии. — Возомнили о себе? Все превзошли?» Комлев, понятно, закусил удила, разговор пошел круто.
Короче, кандидатура капитана — под сомнением.
Из штабной землянки, где все решается, первым выходит Комлев.
Поднимается по дощатым, врезанным в грунт ступеням, как на эшафот, ни на кого не смотрит.
Все тот же реглан на нем, некогда черепичного цвета, а сейчас белесый. Так же сдвинута на немецкий манер, к пупку, кобура с пистолетом, перекроенная Комлевым вручную после прыжка с парашютом над Ятранью и с той поры, — без малого три года, — летчика не отвлекавшая.
Ветрено.
Сквозь холодные просветы в облаках проглядывает солнце.
«А там?»
Там, в Крыму, над целью?
Комлев щурится. При ясном небе поутру левый разворот не выгоден: солнце ослепит, прикроет «фоккеров». В сухих, жестковатых морщинах возле глаз капитана — сомнения выбора. На первый случай кончить все одним ударом? Отбомбиться с разворота?
Пустынное поле обнесено капонирами. Далекий грейдер за ними, телеграфные столбы без проводки — все, от чего он в этот момент отрешился, и что, скользнув под крылом, останется на земле, как три года назад…
Собравшиеся возле КП смотрят Комлеву вслед: вернется?
Кто знает.
Ни о ком нельзя сказать наверняка: вернется.
Двести вылетов на боевом счету Дмитрия Сергеевича.
В день этого редчайшего для штурмовой авиации события на хвост его ИЛа с помощью заготовленной трафаретки легла неправдоподобная цифра «200», а на коническом борту усилиями тех же полковых живописцев воспарила, раскинув черные крылья, когтистая птица с мощным клювом, и второй, после «Ивана Грозного», самолет получил персональное имя: «Орлица».
«Орлица» Героя Советского Союза капитана Комлева. И о таком летчике, как он, нельзя сказать определенно: вернется. Сказать-то, собственно, нетрудно, — сам капитан этого не знает. Смерть его пониманию не поддается; у него чутье на опасность, он ее осязает, в мгновение ока схватывая, что, например, небо по курсу, загодя, до появления штурмовиков насыщенное темными разрывами крупнокалиберных снарядов — это, чаще всего, мера устрашения. В черные купы зенитных разрывов действительно входить жутковато, на то и расчет, на слабонервных расчет, процент же попаданий невелик, а, напротив, немота, молчание «эрликонов» в момент, когда ИЛы сваливаются в атаку, крайне опасно, пауза выдает предварительную пристреленность стволов по высоте. Зенитчики, припав к прицелам, ждут, чтобы открыть огонь на поражение ИЛов, тут своевременно «нужна нога»… Смерть жадна, ненасытна, витает над головой, и нет от нее защиты, но смерть — это то, что бывает с другими. Ее обиталище на войне — неизвестность. И ухищрения, к которым прибегает Дмитрий Сергеевич, давая повод видеть в нем командира-новатора, сводятся, в сущности, к одному: к настойчивой попытке предугадать первый залп зенитки, первый удар немецкого истребителя. Сорвать покров неизвестности, обнажить врага, его умысел, самому напасть. Три года ведет он эту борьбу. Мерцают вспышки высшего подъема, безграничной веры в себя, восторженного сознания торжества, превосходства над вражеской силой, — мерцают, и вновь он унижен безбрежной тьмой ожидания, ничего в запас, кроме вещего «вынесет», не оставляющий. Напряжение сил предельно, борьба идет не на равных, исход ее каждый раз — неизвестность.
Южный ветер задувает над степью, катит прошлогодние сухие травы, взметает пыль. Ветер порывист, сух, ни близости моря в нем, ни ароматов весеннего цветения. Вернулся, думает Комлев, подставляя ветру лицо. Крым, вспоминает он свой уход из лесопосадки, свежие, тонкие, без примеси тавота, запахи «кандиль-синапа». В Куделиху за три года ни разу не занесло, в Крым же явился вторично, — война, у войны свои дороги. Во тьме теряются, горем дымятся фронтовые дороги, а все-таки не поддаются, выправляют свои судьбы люди. Вчера уполномоченный особого отдела напомнил записку, еще летом пересланную в полк: «Передайте нашим, Столяров жив». Теперь другая весточка: среди бойцов, удравших из плена и действующих в отряде крымских партизан, находится летчик по фамилии Столяров… Не наш ли, не Женя?
Выспаться бы. Вымыть голову, сменить белье, растянуться на свежей простыне, как в доме парня, погибшего под Акимовкой, когда гоняли машины, и мать парня, усталая, добрая женщина, сбилась с ног, только бы угодить командиру ее сыночка. Все тепло, какое выпало Комлеву, — по чужим домам. Вернулся.
На его пути к «двухсотке» — капонир Тертышного.
Оберегая малиновый рубец на выстриженном темени, Тертышный осторожно натягивает шелковый подшлемник. («Тертышный — чей? Вашей эскадрильи? Как в воду глядел! — допекал Комлева председатель комиссии, все припоминая. Нерадивый летчик. Получил высокое выравнивание, в результате авария, поломка, шаромыжник угодил в санчасть. Сколько он там будет валандаться?»)
Сегодня в первый раз после этой неудачи Тертышпый летит на задание.
— Силаева поставил замом я, — вносит Комлев ясность во избежание кривотолков. — Пора Силаеву, пора. Сколько можно проезжать за дядюшкин счет? А ты не переживай. Не надо. Сходишь разок-другой по району, восстановишь навыки, получишь группу. К строю не жмись, — напоминает Комлев, — целью не увлекайся. Выспался?
— Пришел по распорядку.
— Не задержался? — сомневается Комлев.
Тертышный молчит.
— На выруливании дам по рации отсчет, проверь настройку. Чувствуешь себя нормально? Виктор утвердительно кивает.
— Сегодня никого не убьешь, да вернешься, так завтра война не кончится, наверстаешь. Понял? — Прикидывая в мыслях вариант с одним заходом, Комлев смотрит в карту. — Не зная броду, не суйся в воду, — рассуждает он вслух. Зачем нам огонь? Лезть в него не будем. В другой раз больше наворочаем. Предупрежден насчет моста. Саперы навели и притопили в этом месте мост, с высоты он просматривается слабо. А «семерка», которую ты получил, летучая. Чемпионка по легкости. Для тебя выцыганил, учти, на посадке поаккуратней, не разгоняй…
…Шестерка Комлева прогревает моторы.
Моторы ревут, как слоны, вздымая комья глины, обрезки жести.
Летчиков и стрелков, ожидающих возле КП, сдувает с насиженных мест, они сбиваются в кучу, поднимают воротники своих курток. Спотыкаясь, рысью-рысыо спешит к ним парторг полка, старший техник-лейтенант Урпалов: беда на стоянке, затор, боеготовность группы не обеспечена. С вечера самолеты заправлены ПТАБами, а сейчас Комлеву поставлена задача проштурмовать вражескую пехоту. ПТАБы следует срочно выгрузить, фугаски подвесить.
— В порядке добровольности, конечно. — Урпалов напирает на сознательность: свободных рук нет, а приказывать нельзя, стрелки и летчики находятся в готовности. — Перегрузим по-быстрому, и — в сторону, а, братцы?
— Что мелочь эта, ПТАБы, что чушки, один черт, товарищ старший техник, — отвечают ему. — Была бы цель накрыта.
— Бомба, главное, чтобы не зависла…
Экипажи маются с раннего утра: когда? по какой цели? кто поведет?
Можно бы, впрочем, и отвлечься, размять молодецкие косточки, но что-то противится этому в летчиках, настроенных на другую работу. Пусть более тяжелую, но свою.
Ведомые Комлева, выбравшись из кабин, помогают своим вооруженцам. Урпалов, ободренный их примером, усиливает нажим, и резервные экипажи уходят за старшим техником.
В перекур Конон-Рыжий забрасывает удочку.
— Товарищ старший техник, — обращается он к Урпалову, — у меня в Старом Крыму жинка и дочка малая…
— Знаю.
— На пару бы деньков… как считаете?
— Сначала бомбы перегрузим.
— О чем речь!.. С сорок первого года, товарищ старший техник.
— Один, что ли? Я тоже с сорок первого. Тоже в Крыму воевал.
— Освободим Крым, поедешь. Или на самолете слетаешь. На ПО-2. Капитан Комлев старину вспомнит, сам тебя и отвезет. Он здесь в сорок первом на ПО-2 резвился…
Подоспела свежая почта.
— Товарищ капитан, Елена письмами бомбит, — просит у Комлева совета Силаев. — Опять два письма.
Елена — подружка летчика, павшего под Акимовкой, с ней познакомились в доме этого парня, когда гоняли самолеты с завода на фронт. Гостеприимный дом, трехкомнатная — всем на удивление — квартира. Худенькая Лена робела их громогласной, по-хозяйски державшейся компании, ее блестящие глаза под короткими ресницами светились то простодушием, то тоской.
— Еще не знает? — спрашивает Комлев.
— Нет.
— Сообщи. — Тонкая кожа под глазницами капитана светлеет. — По всей форме, тактично… Так, мол, и так, дорогая Лена, — набрасывает капитан примерный текст ответа. — Такого-то числа, в бою, геройски…
Вслушался в себя, сделал выбор Комлев.
— Атакуем с одного захода, — говорит он летчикам, собрав их в кружок. Силаев, привыкай выруливать с запасом. Все продумал — по газам, в такой последовательности, не наоборот, понятно? На скорости через Арабатскую стрелку в море и — бреющим…
По машинам.
…Запасаясь для обманного маневра высотой, ИЛы гудели к Сивашам, к узкой гряде Арабатской отмели, выступавшей из воды вдоль восточного края полуострова. Веретенообразный нос летучей «семерки» Тертышного закрывал все впереди, кроме этой островной цепочки, Арабатской стрелки, и водной глади залива, — зеркальный бассейн парил, белесые клубы испарений прокатывались по нему волнами; залив и отрезанный ломтик Крыма ждали Тертышного, туда они скроются после удара. Взбираясь вместе с шестеркой повыше, он оттягивал, отдалял встречу, гадая, что произойдет раньше: залп вражеской зенитки или же разворот Комлева, увлекающий их вниз, за песчаный барьер, в безопасность.
С набором высоты, как обычно в солнечное утро, по кабине, по крыльям время от времени проскальзывали тени высоких облаков, не отвлекавшие Виктора. Вопреки напоминанию капитана, он жался к соседнему крылу, споря и смиряясь с Комлевым, воткнувшим его в середку строя, где тесновато, да не хлопотно, сомневаясь, потянет ли Силаев как зам. ведущего.
Два года на войне Тертышный, все ведомый. Начал ведомым, погорел ведомый, поднялся, наладилось, пошло — опять ведомый. Арабатская стрелка, приближаясь, несла какое-то ему успокоение.
«Хай тебе грец!» — перекрестил себя на местный лад Тертышный, силясь покончить с прошлым, зная, что это невозможно, Наверно, я нетерпелив, думал он. Слишком нетерпелив. Порвать, поставить на прошлом крест — разом; жениться — разом; вознестись, все получить — разом… Но ведь обещано, обещано, и есть примеры… «Хай тебе грец, махновец!» — петушилась старуха хозяйка в селе Веселом, стегая хворостиной борова, залезшего к ней в огород. Она восклицала «махновец!» точь-в-точь, как отец в подобных случаях. Из Веселого отец со своим эскадроном двинулся на Крым, Фрунзе поднял их на Сиваш… Отец прошел, и я пройду, думал Тертышный. Пройду, — повторял он, представляя семейную эстафету со стороны, но так, как будто не отец и не он ее участники, а другие люди, о которых он прежде читал или слышал — Впрочем, это столь же мало его задевало, как тени высоких облаков, скользившие по крыльям и кабине. Пройдя Пологи, переваливая через Сиваш, устремляясь в отцовском направлении дальше, он постигал тяжесть собственных, самостоятельных шагов как неизбежность, находя в неторопливом, упорном их совершении незнакомую, скрытую доселе горькую отраду. Все стоящее требует терпеливого усилия, кропотливости, накопления, — все, вплоть до противоборства манящей, сверкающей внизу морской глади, — противоборства, которое, наконец, получало разрядку, выход…
Бросив бомбы, Тертышный в чистом, не замаранном разрывами небе мчался навстречу гряде, зная, что зенитка обманута, веруя, что все позади, отдаваясь радости желанного сближения с товарищами…
— Повнимательней, море скрадывает высоту, — подал по рации голос Комлев.
«Мин, наверно, полно», — решил Силаев, замечая на волнах одинокую шлюпку. В ней сушила весла парочка: голый по пояс белотелый парень и девушка в глухом свитерке. Сидя рядком, они не рыбачили, нет: «Мы на лодочке катались…» Настигнутые ревом моторов, они, похоже, не понимали, чьи это самолеты, чего от них ждать.
«Не гребли, а целовались!» — по-джентльменски, чтобы струя за хвостом не перевернула лодку, взмыл над ними Борис.
… - Идут!..
Моторов еще не слышно, но кто-то нетерпеливо высмотрел своих на горизонте.
— Два… четыре… шесть, — считают голоса вперебой. — Вся шестерочка, порядок.
Комлев? Кравцов? Братский полк? — уходили почти одновременно.
Яснеют очертания строя.
В полнозвучном гудении — спокойствие, на крыльях — отблеск сражения.
Строгий рисунок, которого держатся в воздухе ИЛы, восстановлен после боя, что признается и практикуется не всеми ведущими, поскольку возвращение с задания вольным порядком позволяет летчикам расслабиться, передохнуть. В плотном строю — престиж командира, унявшего свои и чужие нервы.
Собранные воедино, в одном сильном звуковом регистре выходят ИЛы на линию посадочных знаков.
Если бы не крайний левый ведомый.
Оттянулся, ломая симметрию, не старается сократить разрыв.
Крутым нырком ведущий разрушает свое творение — строй, позволяя каждому из летчиков на виду аэродрома блеснуть личным умением. Довоенная школа, закалка воздушных парадов по случаю Дня авиации — и дух фронтовой вольницы, не уставная, своеобычная манера роспуска ведомых… Комлев!
Летчики вторят ему, состязаясь в искусстве вписываться в круг, только крайний левый выпадает из общей молодецкой игры.
— Телепается, — говорят о нем на земле. — Совсем не может.
— Опыта нет, новичок. Гузора, наверно. В конечном-то счете рохля-новичок оттеняет образцовую выучку комлевского ядра.
— Как увел капитан шестерку, так и привел. Без сучка без задоринки. В целости и сохранности.
Вот что важно после Акимовки!
Есть люди, перед войной не гнутся, — колебнувшаяся было уверенность в этом восстановлена.
Первое проявление чувств — сразу после посадки.
Каждый полон собой. Своей завершившейся работой, своей усталостью, своим восторгом, своим ожесточением, своим переживанием, бесконечным и неизъяснимым, как сами жизнь и смерть, жернова которых обминают летчика.
— Ну, «эрликоны» дали! Вначале ничего, а потом стучат, стучат, не захлебнутся.
— Против зенитки Иван выделялся?
— Я бил! — заверяет Иван.
— А они вдогон! В бок вмазали, во пробоина!
— Не будь бронедверки, Колька бы сейчас не лыбился.
— Ты с разворота аварийно бросил?
— Прицельно!
— Я следом шел, видел, как все добро посыпалось.
— Прицельно, что ты! — Как всегда, под сильным впечатлением уверения безаппеляционны.
— Прицельно — не прицельно, рядить не будем, а взрыв и три факела есть.
— Правая пушка опять отказала!.. Пусть инженер сам слетает, если совести нет… Все обратно привез, все!
— Склад горючки у них?
— На переднем-то крае? Снаряды, наверно. Как ахнуло!
— Мне телега подвернулась…
— Те-ле-га… Кухонная двуколка. Кофе с бутербродами. На завтрак.
— Ты видел?
— Кофе с бутербродами?
«Три факела», то есть три пожара, и мощный взрыв подтверждены единодушно, во всем слышна радость успеха.
Молодой летчик Гузора, приплясывая, скидывает парашют. Левый сапог его разодран, губы спеклись, крупные, навыкате глаза блуждают. Он как бы ошарашен, верит себе и не верит, мажорный гомон стоянки не воспринимает, ждет, когда выберется из своей кабины его стрелок, краснолицый увалень старшина. Стрелок едва ли не годится летчику в батьки, ему аж за тридцать, и боевым опытом он побогаче Гузоры.
— Но ты видел? — несмело подступается Гузора к старшине.
В пылающих глазах летчика и торжество, и ужас, и сомнение…
— Парашютиста? — отзывается старшина.
— «Фоккера»! Рыло тупое, круглое…
— Справа?
— Да слева же, слева!
Впервые «фокке-вульф» пронесся в такой близи, что Гузора увидел грязь, присохшую на клепаном его хвосте, облупившийся «фонарь» кабины, чуть ли не буковки на тусклом эбоните шлемофона. Он поражен этим зрелищем, жутким и необъяснимым: ведь «фоккер» молнией пронесся слева, внутри боевого порядка их шестерки… а стрелок в ответ мычит. А земля, стоянка обступают Гузору обыденным: механик интересуется наддувом, звеньевой торопит куда-то перерулить… И не сводит с Гузоры глаз прибывший в полк накануне, совсем еще молоденький летчик, которому все это предстоит. Лицо его от ожидания и нетерпения бледно.
Да был ли «фоккер»?
Все собираются под крыло «Орлицы», Комлев, воодушевившись, делится увиденным.
— Знакомого повстречал, — говорит он зло и весело, наслаждаясь эффектом своего сообщения, выдерживая паузу. — Здорово, говорю, фон Пупке, давно не виделись. С Абганерова. Ты в меня еще под Абганеровом метил, хотел убить, не получилось, теперь здесь гоняешься. Узрел тебя, субчик. Я пикирую, все стволы бьют заградительным, а он занял командное орудие и не стреляет, развернул свой ствол в сторону моего выхода из атаки, ждет, чтобы я ему спину подставил, в спину привык всаживать… Нема дурных, фон Пупке. Силаев! — обращается к заму капитан, подводя итог вылету, своим отношениям с фон Пупке, со злосчастной Акимовкой. — В письме Елене вставь, что отомстим. От общего имени, понял? Не забудь. Чтобы знала.
Может, еще кому ни то улыбнется из своего угла, покажется загадкой, не исключено, что будущее печальной Елены при этом мечтательно, таинственно, неясно, сплетается с будущим самого Комлева, склонного к неожиданным решениям, как, например, июньским мирным днем на дебаркадере, в ожидании «Дмитрия Фурманова» со студенткой речного техникума Симой, местной знаменитостью, катившей на каникулы в Куделиху… но, с другой стороны, столько с той поры легло на душу Дмитрия Сергеевича, что он вполне мог изменить своей привычке, навсегда от нее отказаться.
— Правильно, Гузора? — встречает Комлев молодого летчика.
Обращение капитана непонятно Гузоре, и не может быть понятно, потому что Комлев вопрошает, скорее, себя.
— Я, товарищ командир, вас на развороте потерял, — отвечает честный Гузора.
— Разглядывали, как немец портянки сушит?
Гузора озадаченно хлопает пышными ресницами.
— Я говорю, целью увлеклись?
— Было, — выдавливает из себя Гузора, что-то припоминая. О главном, о «фоккере», никто не заикается. — Немного…
— А много противнику не надо! — подхватывает Комлев. — Раз — и в сумку! И нет отщепенца. Самый лакомый кусок — отщепенец, потерявший строй, великодушно поучает капитан новичка.
Каждый вылет особенный, по-своему неповторим, это доклады о них сводятся на КП к стереотипам. Штаб требует, торопит, штабу нужна сводка, и в политдонесение надо что-то вставить, Урпалов в рот глядит, Христом богом молит фактик, эпизод… Нынешний результат — чистый: отбомбились метко. Взрыв, три очага пожара. Председатель парткомиссии может успокоиться. Не почили на лаврах. Не зазнались.
— Товарищ капитан, вы видели? — Гузора, ободренный командиром, решается открыть свои сомнения. — Как черт за бортом… А ты раззявил варежку, корит он своего стрелка. — Хоть бы очередь дал…
— И снял бы «ла-пятого», — в тон ему продолжает Комлев. — Такого трофея у нас еще не было. Таких побед мы пока не одерживали.
Гузора не понимает капитана.
— Сбил бы «Лавочкина», который старался нас прикрыть, — вразумляет его командир.
Щеки Гузоры — как маков цвет.
Летчик, прибывший накануне, стоит с ним рядом, глаза его полны сочувствия Гузоре.
— Кому еще привиделся «фоккер»? — командир усиленно сводит брови.
— Вообще-то «фоккер» был, — говорит Силаев.
— Борис, как черт, правда? — ухватывается за него растерянный Гузора, манипуляцией руки и пальцев показывая, откуда взялся подлый «фоккер».
— Был, товарищ командир, — повторяет Силаев.
— На вашем фланге?.. Но я по рации с Аликиным работал. И земля с ним работала. Слышал землю? Аликин месяца два как летает на «ла-пятом»…
Силаев, слова не говоря, сильно сощуривает глаз: был «фоккер». Был.
Капитан в затруднении.
Взирает на механика за капониром, успевшего раскинуть от промасленной кудельки костерок, прокалить на нем паяльник, что-то изготовить.
— Где Тертышный? — спрашивает Комлев.
Летчики переглядываются — Тертышного нет среди них.
Гузора рад, что разговор переменился.
— Тертышный где? — кричит он инженеру. — Не слышит… Я сбегаю, товарищ командир?
— Морской свежести дохнул, Херсонес вспомнил, — вставил Конон-Рыжий, заполняя паузу. — А как лодочку качнуло, он ее и обнял.
— Хороша рыбачка?
— Рыбачка ли?
Мимолетный эпизод в море ни для кого не прошел бесследно.
Урпалов, спеша издалека, удрученно крутит головой:
— Нет Тертышного! Не садился!
— Как — не садился? — без всякого почтения вскидывается на него Силаев. — Мы шестеркой пришли!
— Шестой — «чужак». Сел, не знает, куда рулить. Покатил на ту сторону. А лейтенанта пока нет… «Чужак» из братской дивизии, две белые полосы на хвосте. — Учащенно дыша с плотно сомкнутым ртом, Урпалов взглядывает на Силаева вопросительно и строго. Тронуть самого Комлева он не решается.
Летчики сбиты с толку, ничего определенного никто сказать не может.
— Вроде как всех видел, — бубнит Конон-Рыжий, флагманский стрелок. — Из атаки все вышли, товарищ командир.
Начинаются припоминания вслух, догадки.
— Слева чей-то мотор запарил…
— Парашютист спускался…
— Я не понял, что там грохнуло? Взорвалось-то что?
— Дымка еще, черт ее дери… такая плохая видимость…
— Гузора, я замечаю, переживает из-за перчатки, у него перчатку в форточку выдуло, а где посеял Тертышного — не знает. Лейтенант Силаев, обращается Комлев к своему заму, — доложите!..
Борис обескуражен.
— Доложите обстоятельства потери экипажа, — требовательно повторяет Комлев.
— Тертышный атаковал… в условиях дымки… сильного огня ЗА… Не видел я, товарищ командир. Падения экипажа не наблюдал.
— В стратосферу дунул лейтенант Тертышный, — фыркает Комлев, слабые улыбки тут же тают, — Летчик показной смелости! — распаляется он против лейтенанта. — Один штурмует всю Германию, море по колено. И пожалуйста, результат.
Осуждая предполагаемое сумасбродство Тертышного, Комлев не жалеет красок, но, кажется, сам плохо верит в свою версию.
— А «чужак»? Приблудок этот? Почему не засекли? Какой ты, старшина, к черту, флагманский стрелок, щит героя?..
Конон-Рыжий подавленно сопит. Старый Крым от него уплывает…
— А ты, заместитель? Хорош, нечего сказать! — Капитан взялся за Силаева, чья бесспорная вина может послужить теперь Комлеву единственным слабым, конечно, — оправданием. — Командир направляет группу, руководит обработкой цели, ведет ориентировку, а заместитель? Спит? Ворон считает? Потерял Тертышного, привел на аэродром вместо Тертышного какого-то приблудка… За должность надо отвечать, лейтенант! — Капитан сдвигает к пряжке свою кобуру. — Осмотрительность в группе низкая, взаимной подстраховки нет — а чему удивляться? Заместитель-то в группе, оказывается, отсутствует! Заместитель — пустое место!..
Силаев угрюмо молчит.
«Фоккера» он видел. «Фоккер» был. Наверно, в «фоккере», пропоровшем строй, когда шестерка пошла пикировать на цель, — разгадка судьбы Тертышного, думает Силаев.
Его опыта, его самостоятельности хватает, чтобы трезво судить о бое, но еще недостаточно, чтобы отстаивать свое мнение вслух. В конце-то концов дело не в том, видел он или не видел «фоккера». Глубже, серьезней разочарование, вызванное его новым, более зрелым пониманием места и роли ведущего, командира группы. Заместитель он, как выясняется, никудышный, о том, чтобы получить, возглавить группу, и речи быть не может. Звено, скажем, четверку ИЛов, как ему мечтается с осени… Никому другому подобная идея в голову не приходит, и очень хорошо. Не зря Кузя всю войну ведомый, теперь-то Силаев это понимает. Не зря, не случайно, груз ответственности не каждому по плечу.
Майским днем полк продвинулся к Евпатории. Море открывалось тотчас по отрыву, влево и вправо бежала пенная полоса прибоя. — Все, товарищ капитан, уперлись, — оценил новое место Урпалов.
— Как рассуждает наземный человек: уперлись, — возразил Комлев. — Это они, немцы — уперлись. Их прижали, они уперлись, держатся за Херсонес.
— Хочу сказать, последняя точка базирования.
— Урпалов дал лозунг: конец войне.
— Не конец. Не все сделано. Кое-что осталось.
— Провести собрание?
— И собрание.
— Кто же против?
— А сейчас узнаем: доклад поручить капитану Комлеву.
— Есть мнение?
— Да.
— Твердое? А время на подготовку? Тезисы? Конспекты, цитаты?
— Кто против — установлено.
— Над целью с КП потребуют: «Комлев, повторите заход!», а я скажу: «Не могу! У меня доклад на партийном собрании!»
— Вопрос не слишком сложный: о боевых традициях. Поскольку поступает молодежь… Вы все знаете.
— Ох, Урпалов, опасный человек, дай тебе палец, руку оттяпаешь.
— Дмитрий Сергеевич, о чем должен известить: наградной материал на вас вернули.
— Дожил.
— С разносом вернули. Вот такая телега из армии.
— Не за то воюем. Не за железки.
— «Капитан Комлев по общему итогу боевой работы справедливо заслуживает представления к званию дважды Героя…» — процитировал Урпалов. — Вот как вернули.
Помолчали.
— Война, в людях большая нехватка, понятно, — издалека начал Комлев, сильно щурясь. — Но помяни мое слово, Урпалов: победим, так лучшие люди, какие поднялись в авиации из летного состава, будут поставлены на политработу. А ты, товарищ Урпалов, займешься своей специальностью. Каковую ты понимаешь и любишь.
— С удовольствием.
— С удовольствием или как, не знаю, но готовься. Другого не будет. Вплоть до того, что лично выскажу перед ЦК такое пожелание… Гузора, каковы впечатления с птичьего полета?
— Нравится, — улыбнулся Гузора. — Морем полюбовался. Окунуться бы…
— С кем ни то из трофбатчиц. Видел, трофбатчица Муся загорает? Мягкая Муся…
— Скупнуться охота, товарищ капитан. Я в море не окунался.
— И я… Скупнемся, если не потопят. С Крымом покончим, бока погреем, и на завод, пополняться техникой.
— А что, товарищ капитан, насчет нового ИЛа?
— Нового — взамен разбитого? Взамен разбитого — шиш. Взамен разбитого штрафбат. На это ориентируйтесь, не шучу.
— Будто бы два мотора, и скорость шестьсот, — с сомнением выговаривает Гузора.
— Я эту байку сколько слышу!
— Двухместный. В кабине и летчик, и штурман — рядом… Но кто же командир экипажа, товарищ капитан?
— Смешно: летчик.
— Сейчас бы его сюда, «мессеров» погонять, — мечтательно произносит Гузора. — Да и против зенитки неплохо…
— А также заострить насчет воинской дисциплины, — возвращается к вопросу о собрании Урпалов. — Дисциплина в эскадрилье последнее время ослабла.
— Конон-Рыжему отпуск оформлен?
— Нет.
— Надо оформить. Я поддерживаю.
— В самоволке Конон-Рыжий. Посвоевольничать надумал. Я понимаю: жена, дочка… Понять можно. Но дисциплину ослаблять нельзя. Это тоже понимать нужно.
…Холодной лунной ночью Степан Конон-Рыжий возвращался в полк с пустым парашютным чехлом в руках, метался по шпалам узловой станции. Его оглушали свистки, пыхтенье маневренных паровозов. Он нырял под вагоны, шастал среди теплушек с табуном пугливых теток, в одиночку пристроился на платформу, груженную сеном, и в конце концов состав вывез его на евпаторийскую ветку. Черное небо плыло, кружилось над ним, раскаленные патрубки прочерчивали небесный свод. Откуда-то издалека, с Большой земли, высоко, близ звезд, проходили ночники-бомбардировщики, пониже тянулись «Бостоны», а над головой мужественно тарахтели ПО-2. С рассветом пошли «пешки», эскадрилья за эскадрильей стартовавшие с той лесопосадки, где в сорок первом году так тяжко мыкался Комлев, спасая единственную в центральном Крыме разведчицу «девятку», и где Степан впервые после Ятрани повстречал летчика. Тогда старшину Конон-Рыжего торопила Одесса, теперь его ждал Севастополь, звал Херсонес, а селение Старый Крым, где были жена и дочка, — рядом. С продвижением в глубь полуострова заиграла под крыльями «горбатых» светлая полоса прибоя… не берег, не граница, а заветная черта, за которую отступит смерть, лютующая в каждом вылете, за которой — покой и жизнь… Не утерпел Конон-Рыжий. Не выдержал, не дождался обещанного ему самолета ПО-2, кинулся в Старый Крым на перекладных… И — опоздал: угнали оккупанты жену и дочку в Германию. Морем увезли, через тот же мыс Херсонес.
Чем ближе фронт, тем меньше была для беглого старшины опасность комендатуры. Он дремал и пробуждался, пораженный: как он может спать? К утру состав вошел в район, где за стуком колес то возрастал, то падал привычный его слуху резковатый тембр «ам-тридцатьвосьмых», — здесь базировалась авиация поля боя, штурмовики. Рев моторов сопровождал товарный состав, спешивший в сторону моря, ИЛы появлялись то справа от полотна, то слева, и Степан вертел головой, опасаясь, как бы ему не промахнуть мимо своих.
Вот над эшелоном загремели белополосные ИЛы. Иззябший Конон-Рыжий вскочил, неуклюже взмахивал руками, радостно узнавая по хвостовым номерам своих: Крупенин, Комлев, Кузя. Упрятывая в крыльевые гондолы вращавшиеся после взлета колеса ИЛов, командиры уводили группы в сторону Чатыр-Дага, Шатер-горы, еще не свободной от снега. В глубине полуострова ИЛы собирались, подравнивались на широком кругу; в боевых порядках шестерок и восьмерок, сравнительно неторопливых, была собранность, непреклонность: на Херсонес, на Херсонес. Степан не сомневался, что туда, на Херсонес. Провожая волнами проходившие над ним самолеты, он то забывался в горестном, возвышавшем его чувстве единства, слитности с теми, кто вел эти ИЛы и ЯКи на последние в Крыму бастионы противника, проговаривая про себя нечто вроде напутствия или даже благословения им, то безжалостно судил себя за то, что сам-то он здесь, на земле. «Ax, — думал он в порыве такого сожаления и бессилия, — лучше бы мне там погибнуть, на Херсонесе, в сорок втором!»
Лучше бы прикончил его тот морячок в бухте Казачьей. «Вперед! — кричал морячок, взмахивая длинноствольным пистолетом. — В Ялте наш десант, корабли придут, в землю не лезть, землей нас другие укроют! Немец рядом, в камышах, кто изменит Родине — застрелю, вперед!» — А он размяк в воронке, не веря в десант, ни во что не веря…
Товарняк тянул, сбавив ход.
Степан прыгнул под откос, не зашибся.
Вдоль садочка, вдоль садочка, обходя овраг…
Как в Старом Крыму, так и здесь, вблизи побережья, картина одна: сведены сады, сведены вчистую. Аккуратно взяты стволы, не под корень, торчат над землей на вершок или два, весна гонит по ним сок, омывает снаружи. Чтобы, значит, увидел хозяин былую свою красу. Чтобы, значит, больней ему стало. Загодя, загодя, не второпях… ах, гады, скрипел зубами Степан, соображая, как ему перескочить посадочную, каков кратчайший путь на КП полка.
Из капониров, разбросанных в шахматном порядке, выкатывалась, подстраивалась к кореннику-командиру очередная группа. Возможно, братского полка. Или комбинированная, сразу из трех полков, здесь расположившихся. Не задерживаются, скученность рискованна, время выхода на цель строгое… Пыль до неба, понеслись попарно…
До своих, до эскадрильи Комлева, оставалось рукой подать, когда низко-низко, вровень с придорожными топольками, замаячил самолет, — ни высоты у него, ни скорости, — и Степан узнал, чей это ИЛ: «тринадцатый»! Кузя! Покачивается, зависает, упрямо целит на полосу. Конвейер действует, взлет групп продолжается.
Захваченный жизнью, с которой свыкся, Степан шел, не останавливаясь. Грязный, едкий воздух, задубевшие на турели ладони и ударяющие в сердце картины кровавой тяжбы смерти и жизни (дневальный в общежитии вскинет, скатает па лежанке чей-то матрац), — он принимал все это, терпел, тянул, ожидая встречи со Старым Крымом, с женой и дочкой…
— Куда!.. Стой! — криком исходил только что вернувшийся с задания Борис Силаев. Финишер рядом с ним пулял из ракеты, не надеясь на пиротехнику, размахивал вовсю красным флагом, сам лейтенант, негодуя, приплясывал и свистел, заложив пальцы в рот, как голубятник. Было с чего: летчик Гузора садился, выпустив вместо шасси, вместо колес, — щитки-закрылки. Неистовство стартовой команды, должно быть, привлекло внимание Гузоры, и он неохотно, озадаченно, как бы через силу потянул на второй круг…
Степан стремительно пересек посадочную.
— Не спугни лупоглазого! — накинулся на него разгоряченный Силаев. — С Херсонеса притопал, так здесь грохнется, глаза-то квадратные. Не упускай его, слышишь? — говорил лейтенант финишеру. — Меня на КП ждут.
— Вот же он, товарищ лейтенант, ваш ведомый! — Финишер, «махала», не хотел оставаться один на один с неразумным Гузорой. — В третий раз заходит.
— Выпустил? — громко спрашивал Борис, отлично видя, что шасси ИЛа — в убранном положении.
— Выпустил.
— Что выпустил? Где?
— Щитки выпустил.
— Ракету!.. Еще!.. Конон, маши! Работай! О, господи, стрелок-то у него кто? Видит, командир ополоумел… Ну, дает прикурить Херсонес! Я такого огня вообще не встречал, из каждой палки садят… Ты где пропадал, старшина?
— Недалеко. В Старом Крыму.
— Домой махнул?
— Домой.
— То-то не видать… Дошло-таки до Гузоры, вспомнил про колеса, выпустил. Теперь аэроплан подвесит. Обязательно подвесит. Такой летчик, не одно, так другое… И сколько же ты гостил?
— Не гостил я, Борис Максимович, приехал, уехал. Быстро обернулся. Ни доченьки, ни жены…
— Убили?
— Нету. Ни доченьки, ни жены.
— Повнимательней, Гузора, повнимательней… сел! Сел, не катится. Выдохся. Обессилел… И на том спасибо… И что, никаких следов? Ничего не узнал?
— Товарищ лейтенант, вас на КП зовут…
— Есть на КП!..
Командир полка на ходу «тасовал колоду», меняя составы групп и отбиваясь от требований ненасытного штаба дивизии. «Еще две группы?! Не могу, товарищ полковник!»
— «Почему?» — «Нет самолетов, нет ведущих». — «Что значит — нет!» — «То и значит: нет! У других есть, у меня — нет. Хорошо бы одну собрать». — «Кто поведет?» — Командира полка ловили на слове. «Миннибаев». — «Позывной?» «Стрела-девятъ». — «Давайте Миннибаева!..»
— На сегодня у нас полковой лидер Силаев, — сказал Крупенин. — Больше всех вылетов на Севастополь — у него. Шестнадцать, Силаев?
— Так точно.
— Без единой пробоины?
— Пока…
— Отдыхайте, лейтенант Силаев.
— Слушаю… Одна пробоина отмечена, товарищ командир. Осколок. Как бы в следующий раз немцы поправку не внесли.
— Отдыхайте…
— Слушаю…
— Самолет под номером «семнадцать» даем Гузоре.
— Нельзя, — возразил Силаев.
— Что — нельзя? Херсонес от вас не уйдет.
— Уйдет, не заплачу, а Гузоре «семнадцатую» — нельзя…
— Она как раз Гузоре подходит. Легка, удачлива.
— Товарищ командир, возьмут немцы поправку, я не зря сказал…
— Отставить! — цыкнул на лидера Крупенин. — Что за настроения? Что за Ваганьково?.. Отставить!
— Товарищ командир, машину жалко, — пошел в открытую Борис.
— Машины на потоке, на конвейере, комплект получим… Отдыхать! — распорядился командир.
Непривычный для слуха, такой лестный эпитет «лидер» сел Братухе на язык.
— Лидер, просвети, — обратился он к Силаеву. — За этой войной все книжки из головы вон: в прошлом-то веке, в первую оборону, — наши брали Севастополь? Или только обороняли?
— Не брали.
— Сестра Даша, матрос Кошка, да?.. Точно, что не брали?
— Хотя, да, вспомнил. Толстой писал, потом наш, Сергеев-Ценский… И откуда же вступил в город неприятель?
— По-моему, через Сапун-гору…
— Через эту? Которую мы долбим? А кто напишет, как мы входили?
— Сами не забудем. Детям расскажем.
— У кого будут.
— Это правильно.
Собрание переносилось с часу на час, сдвигалось — подстраивались под докладчика Комлева, с утра не вылезавшего из кабины…
Летчики и стрелки, свободные от работы, поджидали капитана возле брезентовой палатки, приспособленной для ночевки техсостава. Таких палаток поднялось несколько, они придают аэродрому бивачный вид… стан русских воинов в степном Крыму.
Разгульный ветер, запахи просохшей земли, бензиновой гари, пороховой окалины. Вернувшиеся с задания и те, кто на очереди, — в куртках, ветер свеж.
Урпалов, терпеливо карауливший капитана, уловил беду на глаз — по строю возвращавшихся ИЛов, — строй растянулся, как гармонь. «Где Комлев?» — кинулся он к первому, кто зарулил. «Сбили», — коротко, удручающе просто сказал летчик, быстро проглядывая номера садившихся машин. «Сбили над целью», — добавил он, в лице ни кровинки, губы непослушны. «Казнов?» — спросил Урпалов. «И Казнова нет?» — «Нет». — «Блуданул…» — «Казнов?!» «„Мессера“ откуда-то взялись, я даже не понял. Стрелки отбивались… Петя, живой?» — «Еще не очухался…» — «У тебя хоть что в ленте осталось?» — «Ни одного снаряда…» — «Я говорю, лупили…»
Связной картины, как водится, нет, каждый выдвигает свою версию. «Капитан пошел на цель с разворота, накренился и — бах!» Третий припоминает трассу с «двухсотки», как бы упреждающую пулеметную очередь, направленную куда-то вниз, в дымы, в сумрак лощины, где ни черта не разобрать. «И там же загорелся факел». Это подхватили, стали повторять: да, да, факел. Для большей убедительности, может быть, из желания подкрепить общую надежду, в ход пошли сравнения: «Парашют повис, как одуванчик», и даже: «Хризантема парашюта»…
Ссылка на парашют приподымала настроение.
Дело не так уж безнадежно.
Тем более что летчик — Комлев.
— Меня под Сталинградом три дня ждали, пока добрался, — вспомнил Кузин. — А Кочеткова и вовсе полгода не было, все в голос: сгорел над целью… Придет Митя, куда ему деться.
Урпалов, поколебавшись, решил собрание проводить.
Повестку дня он скорректировал.
Первым пунктом — вопрос о воинской дисциплине (проступок старшины Конон-Рыжего), вторым — о боевых традициях.
— Поскольку докладчик… задерживается, я думаю, по второму пункту выступят товарищи из старослужащих…
Возражений не было.
Он же докладывал о воинской дисциплине.
Его речь на ветру, под солнцем, обещавшем жару, но не гревшим, лица тех, кто слушал, и то, как они слушали, — это тоже было его, Степана, жизнью. И какими глазами смотрели на него и в сторону КП, ожидая известий о Комлеве, думая о нем, о капитане; Урпалов говорил с паузами, привычно и нетерпеливо умолкая, чтобы переждать нараставшее с очередным взлетом гудение моторов. Степан слушал его, зябко передергивая плечами, ему было холодно: бегство с поля боя… позор… пятно.
Все было ясно Степану.
— В то время, как лучшие товарищи… почти четыре дня…
— Три или четыре?
— Не имеет значения, — голосом, более громким, чем необходимо для ответа одному человеку, сказал Урпалов. — В условиях военного времени…
— Пусть сам скажет.
Поднявшись, Степан косил глазами в сторону моря, откуда приходили штурмовики и откуда должен был появиться, да задерживался, не показывался капитан. Поверить в то, что Дмитрий Сергеевич не вернется, Степан не мог, как но было на свете силы, которая заставила бы его сейчас поверить, что он никогда, никогда в жизни не увидит больше свою Нину, свою маленькую дочь, угнанных в Германию…
— Виновен, — сказал Степан, чтобы не тянуть. Но признание его не облегчило, мука жгла его, не отпускала.
— Вопросы? — спросил председательствующий Кузин.
— Ясно!
— Сам же говорит: виновен.
— Так тоже нельзя, пусть кровью искупит!
— Кончай, чего волынить, если осознал!
— К порядку, товарищи, к порядку! С наветренной стороны неслышно выкатил и визгнул тормозами возле палатки «додж».
— Братуха! Братуху привезли!
Все кинулись к машине.
Осторожно и неловко нащупывая суковатой палкой опору, а свободной рукой держа сапог и шлемофон, из высокой кабины союзнического грузовика выбирался Алексей Казной. Лицо, поцарапанное осколками, в желтых пятнах йода и без румянца. Палка его не слушалась, он от натуги потел и плюхался, но все-таки сошел, присел на рифленую подножку, перевел дух. Приторачивая сапог к палке и снизу, беркутом поглядывая на сбегавшихся товарищей, Братуха тихим голосом, как бы сострадая себе, отвечал на поздравления, принимался рассказывать, снова отвечал. Немцам ничего не остается, немцам каюк, говорил он, поливают огнем, пока есть снаряды. «Мессеры» меняют тактику — хитрят. Рискуя угодить под наш и свой наземный огонь, с верой в удачу, — напропалую, была не была, — с фланга, бреющим врываются на поле боя до появления ИЛов. Врываются, встречают штурмовиков внизу, бьют по ним навскидку, уматывают к себе на Херсонес…
Сквозь толпу протиснулся к «доджу» Урпалов. На худом лице — улыбка, такая у него редкая.
— Пришел, значит, — несмело тискает он Казнова.
— Приковылял, товарищ старший техник-лейтенант. На ПО-2 подбросили.
— Собрание у нас, Алеха. Как раз насчет традиций. Надо молодым кой про что напомнить… А ты отдыхай. Поправляйся.
— Хотелось прежде сюда заглянуть.
— Рассчитываешь в полку остаться? Казнов пошевелил перебинтованной ногой.
— Дома, все не у чужих.
Вокруг да около, главного не касаются.
— Мы с тобой еще споем, Алеха. И «Дядю Сему», и другое. Ты давай к палатке ближе. Шофер, подбрось старшого… Сам не скажешь? Пару слов, как сталинградец? Ведь мало нас, сталинградцев, а, Братуха? — Он как бы извинялся перед раненым и не мог не высказать своей просьбы, а ждал, как все, другого…
— «Мессера» на бреющем встретили, — повторил для Урпалова Казнов. Спасибо капитану, он их первым прищучил. Уж не знаю как, нюхом, но выявил, раскрыл, врезал очередь. Хорошую очередь. Дал-дал, пригвоздил, всем показал: вон они, по балкам, по лощине шьются, гробокопатели, мать их… И завалился.
Алексей рукавом утер лицо.
— Вошел в разворот и не вышел.
— Кто прыгал?
— Следил. До того следил, что не знаю, как свой самолет выхватил… Никто не выбросился.
На втором заходе Казнову ударили в мотор, притерся дуриком по склону высоты, не взорвался, не обгорел, только ногу перешиб.
— Подъезжай к палатке, — повторил Урпалов водителю.
— Старшего лейтенанта Казнова — в госпиталь, — распорядился врач. — Без разговоров. Он свое сказал…
…Силаев, отправленный командиром отдыхать и сладко уснувший в чехлах, был, наконец, найден, разбужен, спроважен к палатке. Издали он увидел Степана, сидевшего несколько особняком, с непокрытой, давно не стриженной головой, и понял, что произошло. Смущенно, с виноватым видом опустившись в задних рядах, Борис вглядывался в исхудавшее лицо старшины, замкнутое и страдальческое.
… - Традиции пишутся кровью, причем кровью лучших, как летчиков, так и воздушных стрелков, — говорил Кузя. Ни слова о Степане, — отметил Борис, вспоминая Саур-Могилу, как сиганул Степан от настырных «фоккеров», его рассказы о Херсонесе, раздражаясь собственной черствостью, неспособностью на сочувствие, на сердечный отклик.
… - Может быть, я уже надоел старшим товарищам со своими расспросами, — выступал от имени молодых Гузора, — я пока не замечаю, что надоел, напротив…
… - моторесурсы кончились, матчасть на пределе, ответственность за выпуск такой техники вот где, — шлепал себя по загривку инженер, а позади Бориса вполголоса: «Таких рубак, таких орлов снимают, Комлев, а?» — «Держись меня. Будешь держаться, будешь жить, понял?» — «Как, Коля? Ведь я хочу…» Явственно слыша каждое слово и не понимая их, Борис спросил: «Где Комлев?» и обмер — не увидел, почувствовал, два сильных сердечных толчка сказали ему: капитана на земле нет. Гнездо «Орлицы» опустело.
И встретил поднятые на него полные страдания и боли глаза новичка.
А вокруг ничего не изменилось.
Вздувался, ходил ходуном на шальном ветру брезент палатки, катила по грейдеру к Севастополю техника.
Очередной оратор пенял молодым за невнимание, «по причине чего случился взлет с чехлом на трубке Пито», призывал быть на земле и в воздухе настороже, поскольку весь резерв техники — «Иван Грозный», и тот после капремонта не опробован. Председательствующий Кузин грыз былинку, Урпалов, потупившись, сворачивал цигарку.
Собрание, фронтовой аэродромный быт своим несокрушимым ходом врачевал их, оставшихся без капитана, убаюкивал словоговорением…
Но это невозможно — Силаев вскинул руку:
— В порядке ведения!
Кузин, председательствующий, его не расслышал.
Борис ждал, тянул руку, не зная, что скажет, понимая: так продолжаться не должно. И Кузе это передалось:
— Ты что хочешь сказать? — Нетерпеливо: — Говори!
— Подвести черту, — сказал Силаев. — Принять решение: в ответ на гибель капитана Комлева ударить по Херсонесу группой ИЛов, составленной из добровольцев.
— А на бомбах написать: «Подарок фрицу!» — пылко внес свою лепту Гузора.
…Как повисает с началом стендовых испытаний долгая, тягучая нота над городом, где есть авиамоторный завод, так и над пепельно-желтой весенней яйлой не смолкал небесный гул; в горах он мешался с эхом артиллерийской канонады, направленной на Херсонес, выкатывался в море и там пропадал; генерал Хрюкин, не обходясь силами своей армии, через головы высокого начальства вовлек в наступательную операцию соединение бомбардировщиков АДД, за что ему кратко и недобро выговорил Верховный: «Вы упрямы, генерал, и нетерпеливы. Хорошего военного от плохого военного отличает исполнительность». (А в своем кремлевском кабинете, уже июньским днем, по случаю совпавшим с днем рождения Хрюкина, сказал: «Тридцать три года возраст Иисуса Христа. Говорят, в этом возрасте человек все может. Советую вам никогда не забывать уроков Сталинграда», — и перебросил генерал-полковника авиации Хрюкина на 3-й Белорусский фронт, где назревали главные события военного года.
Полевые аэродромы Таврии прохватывала всегдашняя спутница боя лихорадка, обдавшая Степана в момент его появления на взлетно-посадочной полосе своего полка, — тот же отзвук нараставшего воздушного удара во имя скорейшей победы в Крыму.
Ради этого собирались на Херсонес и летчики-добровольцы во главе с лейтенантом Силаевым.
В сжатые сроки Борису столько предстояло проверить, что его всегдашняя мука, что ему никогда не удавалось проявить своих возможностей в полную меру, становилась невыносимой; отчаявшись, он в конце концов положился па выучку товарищей по строю, и эта невольная мудрость внутренне его раскрепостила. «„Семнадцатую“ Гузора у меня не получит», — сосредоточился Силаев на важном для него обстоятельстве. Сам он вынужден был от «семнадцатой» отказаться: на «семнадцатой» не стоял радиопередатчик и служить теперь лейтенанту, занявшему командный пост, обеспечивать управление боем она, увы, не могла. «На откуп слабоватому Гузоре я ее не отдам», рассудил Борис. Утрясая состав, он доверил свою родимую Бороде, светлобородому летчику, появившемуся в полку на Молочной и подкупавшему умением делать все, что ему поручалось, с какой-то заразительной истовостью. К «семнадцатой» новый владелец подвалил, как завзятый лошадник к племенной кобыле: «Но, милая, балуй!» — дружески потряс он ее за лопасть винта. «С ней так не надо», — огорчился Силаев, усомнившись в Бороде. Как всегда в минуты возбуждения, глаза Бориса не косили, но теснее сдвигались к переносице, поверх голов он выискивал Конон-Рыжего. Искупать свою вину Конон-Рыжему предстояло в экипаже Бороды. Развести Степана и Гузору, а главное, оставить стрелка под покровительством мистических знаков, оберегавших уязвимые узлы «семнадцатой» и таких успокоительных для них обоих, — в этом состоял смысл единственного, по сути, решения, проведенного в жизнь молодым ведущим Силаевым.
Конон-Рыжий, остановленный на полпути Урпаловым, стоял к Борису спиной. Урпалова он слушал нехотя. В его слегка наклоненном в сторону «семнадцатой» туловище, сохранявшем инерцию движения, в его опущенной голове, в крутом, тронутом сединой затылке заметна была принужденность. «Батогом?» — доверчиво спрашивал Степана старший техник-лейтенант Григорий Урпалов, собираясь по старой памяти занять место воздушного стрелка в экипаже лейтенанта Силаева. «Батогом», — хмуро, глядя вбок, ответил ему Степан.
Борис первым запустил мотор («Выруливай с запасом, — учил Комлев. — Все продумал — по газам»), первым покатил к стартеру, сомневаясь, чтобы его «четверка» своим бегом мимо капониров, палаток, бензозаправщиков напомнила кому-то безоглядность «двухсотки» Комлева. Заменить другого, лучшего, нельзя. Встать на место другого — значит понять, что его отличает, оставаясь самим собой. «Верность себе, инстинкту самоутверждения», — думал Борис как и на школьной скамье, но не в молчаливой дуэли с завучем, подогреваемой самолюбием и мальчишеской обидой, а поднимая в бой доверившихся ему людей.
Подпрыгивая на кочках, на рытвинах, он развернулся против ветра так, чтобы его товарищи, выстраиваясь справа в линию, фронтом, не теснились, могли бы разбегаться и взлетать компактно и свободно. Кузя, его заместитель, заняв свое место, кивнул ему коротко: «Хорош!», что не было похвалой, что не было и оценкой. Борис принял его кивок как признание, которым старший лейтенант хотел бы навсегда закрепить за собой желанную возможность оставаться в строю вторым, ведомым.
И только нажал Силаев кнопку своей командной рации, чтобы дать отсчет, как его «четверка», припав на ногу, охромела.
Механик на земле сейчас же ему прожестикулировал: «Села стойка шасси, выключай мотор!»
До старта — четыре минуты.
Времени раздумывать, чесать в затылке — нет, но время («Выруливай с запасом») — есть.
Борис выжался на руках, выбросил ноги на крыло, крикнул Урпалову:
— За мной!
Придерживая руками парашюты, они вдвоем неуклюже, как каракатицы, засеменили к самолету Кузи.
Видя странный, агрессивный по смыслу марш-бросок в его сторону, Кузя затянул газ и прокричал им навстречу нечто протестующее. «Куда? Отваливай! Не позволю!» — было написано на его шафрановом лице, свирепом и растерянном.
Ответный взмах руки Силаева, энергичный и повелительный, двух значений не имел: «Вылазь!» — Он двигался вперед неукротимо. «И ты!» — подхлестнул Урпалов Аполлонова стрелка. Укрываясь от жаркой моторной струи, обдувавшей кабину, Борис вскарабкивался по левому крылу на коленях, как если бы брал самолет Кузи на абордаж. Кузя, уступая его напору, скатывался вниз по правому. Расстегнув ножные обхваты парашюта, чтобы выиграть в скорости, Кузя ринулся со своим стрелком к соседнему ИЛу — Гузоры. Гузора проявил и находчивость, и прыть; он помчался со стрелком к светлобородому, стоявшему с ним рядом, и по праву старшего выставил Бороду из кабины. Но полной замены экипажа здесь не произошло: Степан своего места в «скворешне» не уступил. Он получал то, что заслужил, так он считал. Он должен был остаться за турелью, и остался; перечеркнув намерения предусмотрительного Силаева, судьба свела все-таки на борту «семнадцатой» младшего лейтенанта Гузору и старшину Конон-Рыжего.
Оказавшись за бортом, Борода готов был высадить черта, и тут, ему в спасение, выкатил самый юный в группе бледнолицый летчик-новичок, появившийся в полку с началом крымской операции — выкатил на пятнистом, в дюралевых лишаях «Иване Грозном»!
Должно быть, принадлежавшие павшему вещи, предметы что-то перенимают от своего хозяина. Какая-то печать ложится на них.
Гибель капитана как бы преобразила «Грозного».
Предшественник комлевской «двухсотки», комлевской «Орлицы», сталинградец «Грозный» был неотделим от капитана. Быстрый, на пределе дозволенного, бег одноместного ИЛа отвечал духу Комлева, вторил его повадке, всем знакомой, а сидел в кабине «Грозного» юнец. Он был напряжен, но не скован, — человек, которого сейчас ничто не отвлечет. Так, с ветерком, проследовал он на старт, никем но остановленный, и в небе, во время сбора на большом кругу, занял свое место, вписался в боевой порядок со сноровкой, пришедшей к Силаеву лишь после Миуса.
С появлением прикрытия, пары легкохвостых ЯКов, резво заигравших над шестеркой, предстартовая лихорадка окончательно сошла, отпустила Силаева, то, что ставило его в тупик, отвлекало, повергало в сомнения, потеряло свою важность, им завладевала возбужденная сосредоточенность, когда голова холодна и ясна, внимание направлено не внутрь, не в себя, но обращено к движению, к жизни строя, легшего на курс, оценивает происходящее вокруг трезво, быстро. Способ удара был еще не решен, не выбран: штурмовать ли цель с хода, ограничившись одной атакой, или встать над Херсонесом в круг? Вражеская зенитка, стянутая со всего полуострова и без умолку стучавшая над каменистым мысочком, «мессеры», в одиночку и парами поднимавшиеся с херсонесского аэродрома ИЛам наперехват, чтобы прикрыть эвакуацию своих транспортов, наконец, издалека видные, густые, затруднявшие рассмотрение земли дымы подсказывали, что одна быстрая атака будет оправдана. Порыв, подхлестнувший Бориса на собрании, развеялся, внизу под крыльями «горбатых» светлела полоса прибоя, — заветная черта, за которую отступит смерть… вот он, близок, рядом, конец великого сражения. ЯКи прикрытия, сторонясь бушевавшей зенитки, отклонялись от шестерки вбок, ближе к городу, и Борис понимал, что «маленьких» ему но удержать, не подтянуть к себе, сколько бы он ни старался по рации; и того достаточно, что оба — в поле его зрения, под рукой, настороже.
На какие-то секунды — впервые в этом вылете — он осел в кабине, замер; забирая вбок и на высоту, «маленькие» напоминали ему его удел, удел и обязанность штурмовика. «Пр-ротивозевитный маневр-рр Дмитр-рия Комлева», — с вызовом осторожным ЯКам пошел он раскачивать, швырять и вздымать свою машину. Он предпочел бы один заход, как сделал это Комлев утром первого налета на Сиваш, но заградительный огонь, сжигавший минутные порывы, обострил боль, усилил горечь. «Вас понял!» — сейчас же отозвался Кузя. Эта готовность Кузи, его дисциплинированное «Вы» подарило Борису — осознанное позже, на земле — чувство власти, упоительное, дразнящее, тревожное; плотный, без разрывов «круг», с ритмическим мельканием белополосных фюзеляжей и непрерывным посверкиванием направленных вниз стволов усиливали впечатление, что «точильный круг», запущенный им, как и «маленькие», выжидавшие в стороне — в полном его повиновении.
«А я же тебя батогом!» — расслышал Силаев в одно из мгновений штурмовки. Это не мог быть Степан, это не был Гузора, но, схватив боковым зрением, как замедленно, будто бы замедленно переваливает «семнадцатая» в атаку на баржу, Силаев связал этот клич возмездия с Гузорой и Степаном, с их решимостью пригвоздить баржу, отчалившую от черной земли Херсонеса… Не началась их атака. Вздрогнув, неуклюже вздернув тяжелый нос, «семнадцатая» сделала в небе собачью стойку, карабкаясь наперекор закону тяготения вверх, и — рухнула отвесно. Ни хвоста, ни носа, ни кабины: все объял мощный огненный столб, протянувшийся от седого зенита к земле и собственно тверди так и не достигший — оба бака «семнадцатой» взорвались одновременно; огонь обратил во прах, испепелил все, что только что жило, боролось, страдало, было Василием Гузорой, Степаном Конон-Рыжим, ИЛом…
…Собранность, поглощенность всем, что, подчиняясь ему, творилось на его глазах, достигли такого предела, что после посадки должно было пройти несколько минут, прежде чем потрясенный, опустошенный Силаев сумел открыть рот, выговорить первое слово…
В этот день, девятого мая сорок четвертого года, наши войска вошли в Севастополь.
За новым своим самолетом Борис оставил прежний хвостовой номер «семнадцать».
И только.
Магия охранной грамоты себя изжила, вера в нее развеялась, как едкий дым над Херсонесом.
Впереди был год войны.
Силаев вступал в него с единственной верой — в себя…
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ, СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ В СЕВАСТОПОЛЕ (ВМЕСТО ЭПИЛОГА)
…Съехавшиеся в город ветераны под вечер стягивались к веранде «Волна» — кто по старой памяти, а кто доверившись чутью, нюху на верные места, который, слава богу, пока не изменяет. Сходились не торопясь, с готовностью продолжить и принять все, чем пренебречь в такой день грешно.
Поутру Борис Силаев удивленно слушал, как несется отовсюду: «Сапун-гора», «Сапун-гора». Юбилейные значки, буклеты, брошюры, открытки славили Сапун-гору. Заказные автобусы, описывая виражи вокруг памятника Нахимову, подхватывали и уносили гостей и хозяев с Графской пристани по центральной улице вверх, за город, к Сапун-горе, белой косточкой обелиска мелькнувшей накануне в окне московского вагона… В те давние дни она такой значительности не имела. В его памяти остались другие названия. Его севастопольские концы и начала — полевая площадка под Евпаторией. Будь его воля, он бы первым делом отправился туда. И, конечно, на Херсонес. На мыс Херсонес. «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам…»
Как сказано, к веранде «Волна» с видом на памятник затопленным кораблям, на его тронутые вековой плесенью литые крылья, на поветшавшие от времени пепельные стены Константиновского равелина гости сходились не спеша: давали знать о себе солнцепек и впечатления дня.
Разомлев, порядком притомившись, освежались в парках и на уголках бочковым пивом — горторг расстарался, пиво в продаже было весь день.
Под желто-синим тентом выносной палатки рядом с Борисом оказался щуплый, беспокойного вида мужчина. Он переминался, морщась, как в тесной обуви, водил свою кружку по мраморной стойке, его заметные скулы, подбородок и линия рта неожиданно заострялись, выражая готовность по любому поводу идти напропалую. Цепко глянув на юбилейный жетончик Бориса, спросил:
— Значок — куплен?
— Выдали.
— Только гостям?
— Почему… Всем участникам освобождения.
— Красивый значок. Надо бы получить. Поскольку освобождал.
— Дадут.
— Времени нет. Хотел ордена надеть, не стал возиться. Их теперь никто не носит, почему — не знаю. Я — авиатор, — веско сказал сосед. Истребитель, — уточнил он, повысив тон, скулы его напряглись. У Силаева шевельнулось, — смотри, живучее, — ревнивое чувство, а способ уличить петушка, рядящегося в павлиньи перья, многократно проверен.
— Какое училище кончили? — спросил Борис.
— Ейское.
— На чем?
— На ЭМБрах.
— Налет большой?
— По кругу брать, так часов около тысячи. Пожалуй, да. Меня пятого мая сбили, в день большевистской печати. Накануне для замполита заметку составил. Пятого мая, на Херсонесе.
«На Херсонесе», — ожгло, устыдило Бориса.
— Угодил в бухту Казачью, представь. «Конон-Рыжий», — вспомнил Борис.
— Парашют расстегнул, и вода. Купол на воде, как парус, его поддует, меня подтащит. К берегу, к берегу. Из воды, когда барахтаешься, одежда набухает, тянет, не многое увидишь, я одно увидел: немцы на берегу. Не стреляют, ждут, пока меня к ним прибьет. Хотел утопиться, вода горькая, противно. Дно нащупал, за пистолет, а не достану, в стропах запутался, он меня за шиворот, все. Я вспомнил, в газетке про нашего офицера писали, как он не давался, и тоже… Солдат прикладом как огреет. Пятого мая, да. Паники не было. На землянке флаг, красный, между прочим, я подумал, что спятил… на красном фоне — свастика. Сейчас, говорят, тебя на барже повезут в Констанцу. И другие туда собираются, спор между ними: где взять гражданское платье? Это для Констанцы, чтобы там сойти за штатского. Вот ведь какие коленца война выплясывает: в сорок первом году я на Южном фронте немца на «мессере» посадил и в плен взял, а под конец они со мной посчитались. На баржу меня не упекли, но все равно, три дня в плену… Хорошо, Хрюкин вмешался, в кадрах оставили, а покоя не было, все интересовались: почему себя не убил? Почему остался живой? Я сам не знаю почему, когда прямое попадание, хвост в одну сторону, я — в другую, и в бухту Казачью, а там немцы. Э, что говорить. Немец, которого я сбил в сорок первом, нос-то драл выше неба, дескать, мы вас научим воевать. А командир дивизии Потокин ему еще тогда сказал: вы научите, а мы вас отучим. Правильно сказал. Вот когда они на Херсонесе насчет гражданской одежды заворошились, воины, я Потокина вспомнил… Что, понимаешь, говорить, живы, слава богу, верно? Бывай!..
…На веранде «Волна» шелестел ветерок самых первых приготовлений к застолью, и многие места еще пустовали, когда через просторный зал в сторону отдельной пристройки прошествовала матрона с лицом властным и обеспокоенным. Она была здесь правительница, что, возможно, ее тяготило. Основой ее впечатляющей представительности служил бюст. Высокий, необъятный, ветераны приняли его одобрительно. Держа над головой свежий букет гладиолусов, она как бы пролагала путь пестрой кавалькаде своих ассистентов, участников семейного торжества, затевавшегося рядом, в отдельном павильоне. Свиту ее составляли девицы с шарами-колбасами, какие трепещут на радиаторах свадебных «Волг», юноши, одетые строго, в вечернее платье, с бобинами пленки, магнитофоном, мотками проводки и, конечно, гитарой — туристской, заслуженной, ее светлое днище пестрело росписью, выжженной с помощью увеличительного стекла. «Чавелла!» — приветствовал гитару белозубый подполковник-русак, округлив над головой руки и мелко подрагивая рыхлыми плечами. Металл на груди пехотинца колыхался. При такой улыбке фронтовая служба с ним, надо думать, была не скучной.
Замыкали шествие баянист и умученный фотограф, перепоясанный разнокалиберной оптикой крест-накрест, с тяжелым блицем в опущенной руке…
Вот-вот появится невеста.
Ожидание белого платья до пят, которое озарит веранду, вместе с обычным любопытством отозвалось в Борисе какой-то стесненностью. Не сами молодые, приурочившие свою свадьбу к празднику Победы, — нет. Что молодые: отцы семейств восседали на веранде. Деды, слава тебе, кой-чего повидавшие. И дома, и на Эльбе, а потом уже туристами и на Сене, и на Тибре, и у подножья Фудзи… Не собственно молодые, — белоснежное платье до пят, кисейная фата, вот что встревожило воображение.
Какую-то рассеянность среди седоголовых отметил Борис, нечто вроде раскаянья и стыда… словно бы вдруг осознало притихшее воинство, собравшись вместе, как обокрало оно себя в безвозвратной юности, изгнав из своего обихода подвенечный белый цвет. По убеждению его отвергнув. Отвергнув, но все-таки не полностью, не дотла искоренив, все-таки храня, как Миша Клюев, в тех тайниках души, где остается место неподсудному… Кажется, ни одно другое поколение не тянулось так к чистоте, не исповедовало ее с таким жаром и страстью, как поколение сверстников революции.
Это горестное прозрение — из тех, что приходят на людях в общении, обостряющем память, хотя в толчее праздничных площадей и скверов, в жаре и давке торжественных процессий чувства не рвались наружу. На Сапун-горе, куда Силаева увлекло-таки утром, он вместо угора, некогда пустынной высотки, увидел молодой, расчлененный аллеями парк, какие высаживают на субботниках в городах-новостройках.
Побеленные стволы вдоль просек, залитых асфальтом, миндаль, серебристый лох, японская софора… шарканье тысяч ног по слабеющему от жары гудрону — к белому обелиску, отовсюду видному: гробы отечески разметаны в округе, Сапун-гора — место народного им поклонения.
Как и других, его вела к обелиску память по товарищам, сложившим головы на этой земле.
Комлев, Конон-Рыжий, Гузора, Тертышный. Не только фамилий — гранит не сохранил и номера полка, с которым он через Миус, через Молочную, через Сиваш пробивался к Севастополю: в предпоследней строке перечислений воинских соединений, освобождавших город, уместился лишь номер их дивизии.
Авиационной дивизии трехполкового состава. Долго стоял он, опечаленный, на открывшейся в новом своем значении Сапун-горе, напомнившей, какое множество народа полегло здесь тридцать лет назад…
На возвышении эстрады, блистая инструментом, которого больше, чем исполнителей, и модными рубашками под куртками с вырезом, приготовляется молодежный джаз из городских любителей, в основном — студентов. Ребята, польщенные приглашением в «Волну» на такой вечер, держатся с достоинством. Микрофон продувает, подгоняет по росту паренек, постриженный коротко и элегантно. Петь будет он. Солистки — нет.
Желательней было бы видеть солистку. Ибо памятны певицы, которые не столько словами, сколько даром исполнения, таланта подводили к тому, о чем не умели с таким проникновением сказать ригористам любимые песни, настольные книги. Сила пробудившегося сердца, власть, которую оно обретает в стремлении быть услышанным, понятным, — вот что обнажили их песни. Три женщины на поколение: Клавдия Шульженко, Изабелла Юрьева, Лидия Русланова. И сумели они немало.
Великие женщины.
Нет солистки. Будут слушать паренька.
— Что же Фищенко Федя не явился?
— Жен меняет. Говорят, третью взял, и от нее бегает.
— Я бы кастрировал мужиков, которые наделают ребятишек, а потом их же и бросают.
— Поль, семья?
— Ну.
— С Люськой?
— Помнишь ее? Нет. С Люсей я не живу. От нее у меня дочь Вика. Семью создал с Верой. Живем хорошо. Семнадцать лет. А Вике летом будет двадцать три. Развалюха сгнила, горсовет предоставил отдельное жилье. Мы довольны.
— Я тоже: кабинет, детская, спальня. Солнце как пойдет с утра гулять по всей квартире… Урпалов-то — помер.
— Царство небесное.
— Да, инфаркт. Мог еще пожить.
— Царство небесное.
— Надо бы родным высказать сочувствие. Все-таки жена, дети.
— О покойниках не говорят, ладво. Смущенная невеста об руку с худеньким женишком прошли через веранду. Застолье разгорается.
— Возьмите поджарку, советую.
— Вы — хороший человек. Рыба?
— Рыбы нет. Никакой. Да, морской порт, правильно, что поделать.
— Воды-то хватает?
— А воду возьмите, воду только что привезли. Она вам понравится.
— Вы — хороший человек, внимательный. Хорошо нас обслуживаете.
— Кого же обслуживать, если не вас!
— Не все так считают. Берем поджарку, решено.
— Чубаров — у вас был?
— Толя? У меня. В моей эскадрилье.
— Не повезло парню.
— Почему? Живой.
— Обгорел. Зверски обгорел.
— В этом отношении — да.
— Теперь этот, высокий, помнишь, конечно, из училища и сразу отличился, губастый, черт… Карташов!
— Карташов Юра, как же. На Херсонесе срубили. Двенадцатого мая, все кончилось, последний вылет. Следом за ними еще шестерка поднялась, ее вернули, все, отбой, Херсонес накрылся. Амба. Бобик сдох.
…Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не вернувшихся полей… —проникновенно, сильно начал паренек с эстрады. Клонятся седые, меняются в лицах, звякают вилки.
— Фищенко, значит, не приехал, кто еще из наших, Коля? Кого встретил?
— Крайне мало: ты, я… А из других полков по пять-шесть человек. Как-то мы не сорганизовались.
— Да, поразметало. Хрюкина нет, вот что. Хрюкин Тимофей Тимофеевич тоже войну хлебал с первого дня до последнего, до самого донышка, семь годков еще потянул, в сорок лет помер. Собрать ветеранов армии некому. Он бы развернулся… Пискунов где Вася? Свекольников? Жена Свекольникова всегда моей семьей интересовалась.
— Я тоже писал.
— В какой адрес? Ты когда демобилизовался? В пятьдесят девятом, по миллиону двести, видишь. А а я в сорок восьмом.
— По здоровью?
— Здоров… Серегу, выходит, не вызвали. Не пригласили. Хотелось бы свидеться с Серегой. Я к вам, помнишь, когда пришел? Митя Комлев под Сталинградом вроде как почин проявил, ну, я с ним, из одной шеренги — шаг вперед, на ИЛы. А привык ходить ведомым. И в истребиловке, и на ПЕ-2. Один пожалуйста: на разведку, на охоту. А водить душа не лежала. Кто с этим считался? Война. Дают группу, веди. Сколько мне в хвост ставили, а Серега уцелел. Память дырявая, лица помню. Лица стоят отчетливо. Отборные ребята, глядят на тебя, ждут, все младше моей Вики… а, Коля? Всех вижу, с каждым говорю, интересуюсь. Я бы из армии не ушел, врачи пропускали без ограничений, Люся меня подвела. Так задурила, такой выдавала карлахан…
— Изменяла?
— Без всякого стыда. Ты, говорит, мнительный. Оставь свои глупые мысли, ничего такого нет… пока я ее на живом факте не застукал… А, думаю, пропадай она пропадом, ее жилая площадь, выпишусь, уеду к старикам. Черта!.. Паспорт упрячет, две недели глаз не поднимет, тише травы, в белой наколке все мечет на стол, виснет на шее… потом опять за свое. Детей же не хотела. Вику бы не родила, если бы я ее силой от повитухи не утащил. Силой и буквально под замок. И сторожил, как пес. Да, Коля, так… Какие тут письма? Кому? О чем? Все-таки отрубил. Отрубил, подался к старикам, в развалюху. Вера, правда, меня поняла. Первенца нашего назвали Вовкой. Ему в марте шестнадцать стукнуло. Просился со мной сюда на праздник, я ведь им про вас рассказываю. Вовку Берковского помнишь? Ходил со мной на хутор Беловатый. Выбросился с парашютом аккурат на хутор, там они его и расстреляли, слова не сказал. Второй сын Михаил, ему пятнадцатый, ростом, пожалуй, поздоровше Володьки, а фигура, знаешь, легкая, стройная, в мать. Тоже учится, причем спортсмен, гирями играет, в зеркало глядится, все мышцы смотрит, напруживает… кто другой, возможно, не согласится, но он на Малахова Михаила смахивает… помнишь, каланча, под нынешних, в кабину не влезал, его на пятом вылете… Миша. Потом три девочки. Подряд. Четвертый пацан Анатолий.
— Помыканов?
— Он. Толя Помыканов. На Вассерау. Вернее, там два селения: Вассерау и Нейнасау. Днем ничего, к вечеру подтянули зенитку, мы ее, понятно, не ждали… Лягушками забавляется. Змеи, ужи, жабы — всех в дом тащит, спит с ними… Короче, сколько я потерял, столько она мне родила. Девять человек, три девочки в зачет, у нас же девчата были. Нынешних штатов не знаю, из армии давно, по довоенным штатам, когда меня авиация с пути истинного совратила, девять человек — эскадрилья, полный комплект. Да, Коля, так. Вере весной исполнилось сорок, я четыре года как пятый десяток разменял. Как живем… На полу никто не спит. Я с Верой отдельно, шестимесячный малышка Ваня с нами. Ссор, болезней в доме нет. Все здоровы. За стол садимся, ложки стучат, как барабанные палочки. Никаких ясель, у самих дома детский сад: то один подбросит своего, то другой, где девять, там и двенадцать. Юры Свекольникова жена, больная женщина, но, знаешь, отзывчивая, то тряпки пришлет, то ботиночки, своих-то у них один, а нам все сгодится. Вера на машинке перешьет, я набоечки поставлю…
— Давай адрес, пока не разбежались… Слушай: летать хочется?
— Сколько прошло, Коля. Теперь уже не хочется. Расхотелось.
— А снится?
— Теперь уже не снится.
По рукам ходят фотографии; групповые, поблекшие от времени снимки вызывают споры:
— Это — Ефанов? Ничего подобного. Ефанов вообще когда прибыл, в сорок четвертом, это Миша Плотников. Скончался в госпитале от ран. А справа Боркунов, вот кто. Борис Никитич Боркунов. Он и Помыканов, их вместе сбили.
— Еще Козлов был.
— Знакомая фамилия.
— Был, был. Командир звена. Его на Сапун-горе сняли…
— Ранили?
— Когда от цели уходил. Отлично сработали, поддержали пехоту, Хрюкин открытым текстом благодарность…
— Так-так-так…
— А в догон очередь, он тут и упал. Хрюкин приказал по рации вывезти самолетом… Козлов, командир звена.
— Имя?
— Имени не помню.
— Казнов!
— Я — Казнов.
— Сюда!
— Выбираться неохота.
— Иди, иди, не пожалеешь.
Опираясь на тяжелую трость, подходит Казнов.
— Узнаешь? Знакомы?
Улыбки вежливости, пауза узнавания.
— Казнов! — раздается вопль, от удара по столу гремит посуда, — Казнов, а не Козлов! Братуха, ведь он тебя, подбитого, из-под Сапун-горы вывез, теперь-то узнаешь?!
Кто со слуховым аппаратом, кто наставляет ладошку рупором. Едят, пьют, вспоминают, оценивают.
— Дети были. «Товарищ командир, а чего Гузора щиплется?..» Ну? Детский сад.
— С этой демократией далеко не уйдем. С какой — не знаю, с этой — нет. Фабрике понадобился негабаритный рельс. Привезти не на чем: простая машина не возьмет, нужна с прицепом. Директор заявляет: без рельса перекрытие рухнет, проявите инициативу. И пожалуйста: на коленях, вручную распиливают рельс, везут на фабрику, здесь снова сваривают.
— При чем тут демократия? Головотяпство это, вот что.
Все пушки, пушки грохотали, Трещал наш пулемет… —это подполковник, запевала и танцор, сдвинув столы, образовал сводный хор всех родов войск, заполняющий паузы в программе джаза, построенной с подкупающим знанием аудитории.
— Жена Тертышного с письмом статью прислала. Спрашивает, правда или нет.
— Какую статью?
— Пишет, жизнь сложилась нелегко. Потеряла мужа, сумела воспитать сына, офицера Советской Армии… С жильем трудно, здоровье подорвано…
— Статья-то какая? О чем?
— Да тиснул кто-то, еще в войну, будто Тертышный повторил подвиг Гастелло. Кто трепанул, не знаю. Помнишь, взрыв наблюдали? Три пожара и взрыв? Митя Комлев водил… Короче, напечатали. А Тертышного «фоккер» снял над водой, над морем, никто не видел, как он нырнул. Теперь жена спрашивает… Что писать?
— Надо не ей, а в райисполком. Чтобы учли по возможности. Проявили внимание.
— Про Тертышного-то что писать? Она ждет…
За свадебным столом — своя стихия.
Старшее поколение, родители пересказали друг дружке вчерашний телефильм, родственнички — перезнакомились («Мои разлюбезные… папа, мама и я, прораб-бездарность…» «У нас свой такой дурак!» «А это — племянники Ивановы!» «А это — племянницы Смирновы!» «Поздоровались наперекрест — к свадьбе!»). Молодежь дождалась своего, провозгласила: «Горько!» Томно поднялась невеста. Тонкогрудый женишок охватил ее и, прикрывая от бесцеремонных, под дружный счет: «Три!.. Семнадцать!.. Двадцать!..» целует.
Затем все берет в свои уверенные, натруженные руки баянист.
Песня — и никаких проблем.
Востроглазая невеста счастливо царствует над преданным ей окружением, ее подружки не столько веселы, сколько приметливы, терпеливы, затаенное ожидание по-своему их красит. «А свадьба, свадьба пела и плясала, — ведет баянист довольно дружный хор, — широкой этой свадьбе было места мало, было мало неба и земли…»
На свадебное веселье в павильоне отозвалась веранда.
— Ничего подобного мы, конечно, не переживали. И не могли.
— Наша свадебка под ракитным кустом.
— Командир приказом провел: считать мужем и женой. Все.
— А мы без всякой официальности. Потом в декрет уехала, сейчас на пенсии. Я взялся сторожить дачу.
С гитарой, обслуживавшей павильон, между столиков веранды кочует бравый подполковник. Себе в напарники он взял Силаева, никуда его от себя не отпускает. Оба радушно приветствуют джазистов. Джазисты отвечают им, не роняя достоинства.
— Ребята, спасибо. Отлично поете. Как раз то, что нужно.
— А стихи?
— Какие стихи?
— Саша, выдай…
— Такие. — Солист отодвигает в сторонку микрофон. — «Вдруг оживает прошлое на миг, и вас своим дыханием опьяняет…»
— Что-то есть… Сам?
— Бодлер… «И кровь людей то славы, то свободы, то гордости багрили алтари…»
— Славно, Саша, спасибо… «Меж нами речь не так игриво льется, просторнее, грустнее мы сидим…» Хороший подобрал репертуар.
— Спелись.
— В походах учимся, в походах.
— Ребята, у нас одна надежда на вас.
— В чем?
— Во всем.
…Еще одна фотография, газетная вырезка за 1942 год: дочь матроса, участника затопления кораблей в дни первой обороны Севастополя, — гладкие седины прибраны темным платком, — среди краснофлотцев с «Червонной Украины», защитников города. Возможно, кто-то из них сегодня — здесь.
…Победа — это застолье на веранде «Волна» под «Катюшу», «Землянку», «Соловьев» в сопровождении джаз-оркестра из парней, ничего этого не видевших и не знавших.
Да минует их чаша сия.
Примечания
1
Звание генерал-майора авиации было присвоено Тимофею Тимофеевичу Хрюкину — впоследствии дважды Герою Советского Союза, генерал-полковнику авиации — постановлением СНК СССР от 4 июня 1940 года.
(обратно)2
Посты ВНОС — служба воздушного наблюдения, оповещения, связи.
(обратно)3
ЗАП — запасной авиационный полк.
(обратно)4
БС — боевое соприкосновение.
(обратно)5
Звание Героя Советского Союза майору Клещеву Ивану Ивановичу было присвоево Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 года.
(обратно)6
ШМАС — Школа младших авиаспециалистов.
(обратно)7
Звание Героя Советского Союза капитану Глинке Борису Борисовичу было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1943 года.
(обратно)


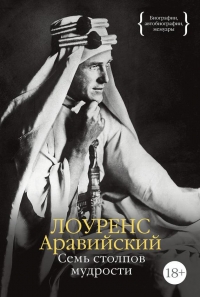

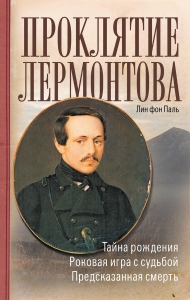

Комментарии к книге «А внизу была земля», Артём Захарович Анфиногенов
Всего 0 комментариев