Бегельдинов Талгат Якубекович Пике в бессмертие
Принимай меня, жизнь!
Консультировавшие меня при создании этой повести писатели, в один голос советовали: «Начинай обязательно с самого захватывающего эпизода из своей фронтовой биографии, ты же летчик-штурмовик. Только так можно увлечь читателя, вызывать интерес к книге». По-своему они, профессиональные литераторы, наверно, были правы. Так в литературе зачастую и делается — начинают с самого интересного. Но возникает вопрос, а что оно, это самое интересное, для кого, с какой позиции?
Если с позиции самого главного в жизни, то война, даже и всенародная, освободительная, Великая и Победная — это все-таки не самое главное, это лишь эпизод, большой, значительный для нас, для человечества, но только лишь эпизод истории, жизни нашего поколения. А вот сама жизнь вся, в глобальном понятии и есть самое главное для каждого человека и человечества в целом, и есть все охватывающее, а в ней основной момент — ее начало, рождение, появление человека, вступление его в жизнь...
И все-таки начать придется с более позднего момента, но тоже имевшего огромное, решающее значение в биографии будущего летчика Бегельдинова. Это день заседания военной Комиссии ВВС по набору курсантов в Саратовскую военно-авиационную школу. У меня, отличника авиашколы ДОСААФ, уже общественного инструктора, казалось, были все основания исполнить свою заветную мечту, поступить в военную авиацию, стать военным, именно военным, летчиком.
Комиссия занималась предоставленными ей личными делами курсантов. Мой инструктор аэроклуба Бухарбаев доверительно сообщил:
— Твое личное дело отложено. Пригласят на беседу. Ты уже инструктор, шансы есть.
День, когда я предстал перед комиссией военно-воздушных сил, на всю жизнь врезался в память.
Робко вхожу в комнату, вижу большой стол, за ним — военных с голубыми петлицами. Не успеваю раскрыть рот, чтобы отрапортовать о том, что явился по вызову, как слышу вопрос:
— Тебе что, паренек?
Оборачиваюсь, думая, что кто-то стоит за спиной. Никого.
— Мы тебя спрашиваем.
Стараясь придать голосу солидность, рапортую:
— Летчик инструктор-общественник Бегельдинов явился по вашему приказанию.
Все смотрят на меня с изумлением. Авиатор с тремя «шпалами» на петлицах выходит из-за стола, подходит почти вплотную. На лице искреннее удивление — я много ниже его плеча.
— Инструктор, говоришь? — с украинским акцентом произносит он. — Аи да хлопчик! Молодец! Ладно, иди. У нас времени для шуток нет.
— Дяденька... — невольно вырывается у меня.
Все смеются. Я окончательно растерян. Начлет клуба Цуранов что-то шепчет военным. Те рассматривают меня уже без смеха.
— Мал уж больно, — слышу я. — Ноги до педалей не достанут.
— Достают же!.. — вмешиваюсь я.
Опять хохот. Теперь смеюсь и я. Вдруг тот же авиатор с тремя «шпалами» делает свирепое лицо и, в упор глядя на меня, спрашивает:
— Сколько скота имел раньше твой отец? Я растерянно молчу.
— Что замолк? Наверно, байский сын?
Я растерялся вовсе. Стою, хлопаю глазами и не знаю, что сказать.
— Могу справку показать, могу доказать, могу принести, -бессвязно бормочу я.
— Неси! Посмотрим на твою справку.
Опрометью бросаюсь вон из кабинета. Лечу домой. Мать пугается моего вида. Никак не могу толком объяснить ей, какой документ нужен. Вместе роемся в бумагах отца. Нашел! Вот она, справка, подписанная самим Михаилом Васильевичем Фрунзе. Стремглав кидаюсь в аэроклуб. Поздно. Никого уже нет.
Едва дождался утра. Во дворе жду прихода членов комиссии. Наконец они пришли, вошли в кабинет. Вхожу следом и протягиваю справку. Тот самый авиатор, что строго смотрел на меня, вначале никак не может понять, какой документ я принес и зачем. Потом вспоминает, смеется.
— Вы прочитайте, — с обидой говорю я, — прочитайте.
— Хорошо, малыш, — сквозь смех говорит он. — Давай сюда свою документину.
Он берет справку в руки, лицо его становится серьезным.
— Что ж, партизанский сын, — произносит он. — Ты зачислен в Саратовскую военную школу пилотов. Это было решено еще вчера. Поздравляю, — и он протянул мне большую сильную руку.
Радости, просто моему ликованию не было конца, я захлебываясь рассказывал о произошедшем отцу, набежавшим соседям, друзьям. А вечером, когда все улеглись, отец как никогда обстоятельно и полно рассказал мне о моем рождении и детстве. Теперь оно представлялось вполне четко и ясно.
Произошло это событие, в условиях, как говорится, близких к фронтовым. Родился я отнюдь не в каком-то там роддоме, в окружении врачей, акушерок, даже не в доме с повивальной бабкой. Произвела меня мать на свет божий в высокой двухколесной арбе, запряженной верблюдом, в общем, в обычной кочевке, которую, по необходимости казахского образа жизни, мои родичи, как и большинство казахов-скотоводов, совершали по степи от одного пастбища к другому.
В данном случае, кочевка была вызвана и другой причиной. Известный на всю Акмолинскую округу бай Галибай, спасая от конфискации скот, поручил моему отцу Тусупбеку и некоторым его близким из рода моего прадеда Бигельды, среди которых была и моя мать Хадия, перегнать его к Алатауским горам. Кочевка была не малой. Только скота бая Галибая в ней шло до пятнадцати тысяч голов, в том числе более тысячи коней.
Мать беременная, до последнего момента ехала верхом на верблюде, как и все женщины в кочевке, — на нем и удобнее и мягче. Только когда подошли роды, ее перенесли в двухколесную арбу, запряженную тем же верблюдом. Тут она и родила под открытым небом будущего летчика-штурмовика. Случилось это на второй или третий день кочевки, еще совсем недалеко от нашего аула, под Акмолой у озера Майбалык.
Как у нас положено, в честь рождения сына кочевка остановилась. Во все концы, в близлежащие аулы от кочевки поскакали гонцы созывать людей. Отец, родичи резали скот, готовили той. А потом, в ходе празднества, собравшиеся аксакалы, после длительной дискуссии, как это и положено, определили мне имя — Талгат.
Все это я передаю по рассказам отца и моих участвовавших в кочевке, присутствовавших при этом событии, однородцев. Однако я совершенно четко представляю себе всю эту историю так, как будто присутствовал в ней уже вполне сознательным. И степь та самая перед моими глазами. Я ее вижу, ощущаю как живую, так она врезалась в память, моя родная Сарыарка, которую я уже взрослым, уже после войны, изъездил в седле на конях, а больше на машинах, вдоль и поперек. Удалось мне побывать и на том самом историческом для меня месте, в каком-то урочище — казахи знают его название — с обильным, бьющем из-под сопки, из-под камней ключом, название которого, насколько мне не изменяет память, Акбулак.
Урочище замечательное, как будто бы мать выбрала его в кочевке, глядя вокруг с высокого верблюда, специально для своего торжественного действа. Впервые я поднялся на эту сопку рано утром. Мы с нашей машиной, заночевали под ней у ручья Акбулак.
Больше полусотни лет прошло, пролетело с того момента, как здесь, у подножья сопки, у самого клокочущего между камней ключа, стояла та самая кочевка и двухколесная арба, в которой я и появился на свет. Следов стана той отцовской кочевки, конечно, не осталось, все здесь стало другим, другие выросли травы, кустарники, даже камни за это время изменились. Дожди, морозы, ветры источили, измельчили их. А вот сама степь, она осталась, наверно, той же, на какую с высоты верблюжьих горбов смотрела мать. Только едва ли она тогда смотрела, занятая другим, — готовилась рожать, предоставив смотреть, наслаждаться красотой моей родной степи мне, ее сыну.
А степь отсюда, с вершины сопки в то раннее золотистое утро, разбегалась, растекалась волнистым ковыльным морем во все стороны, окаймляясь тоже позолоченными, пока еще не слепящими лучами утреннего солнца. Они, нежно обтекая, ласкали пологие подъемы и спуски всхолмленного простора и, словно ощущая их прикосновение, ковыльное море чуть колыхалось, перекатываясь мелкими кудрявыми волнами.
По косогорам сопок, в просматривающихся низинках темные, почти неподвижные пятна пасущихся табунов коней, коров и совсем белые крапинки неизменно взбирающихся наверх овец. Да, наверно, именно так все здесь выглядело и тогда, в день моего рождения.
Потом все пошло кувырком, не так, как задумали бай Галибай и мои родичи аргынцы. Скот уже под Пишпеком у нас отобрали — конфисковали, оставив буквально ни с чем. Спасибо тогдашнему Пишпекскому красному комиссару Фрунзе, выдавшему отцу справку, гласившую: «Я, командующий округом, принял 13000 голов овец, 560 голов коней и крупного рогатого скота от пастухов Якубека и Тусупбека Бегельдиновых, захваченных ими у бая Гали-бая». И подпись — «Комендант М. В. Фрунзе».
С этой справкой или без нее — она уже была не нужна — я и пришел к своей заветной цели.
Я так шел, карабкался к ней. Пожалуй, я даже и не знаю, когда цель эта зародилась. Сколько помню себя, я почему-то всегда мечтал о самолетах. Еще там, в той татарской школе, в городе Фрунзе, в которую меня отвел отец. Собственно, это был уже не родной отец, отчим. Родного отца, тем более матери — она умерла раньше отца, — у меня не было, наверное, уже с пяти-шести лет. Дело в том что там, в Пишпеке, мой родной отец Тусупбек «подарил» меня своему младшему брату Якубеку. Ничего особенного в этом не было: у нас, казахов, это обычно — брат делится с братом не только своим скотом, другой собственностью, но, в случае необходимости, и детьми, если брат просит. Младший брат просил, уговаривал отца отдать ему меня, мотивируя это тем, что у отца я — четвертый, а он не имеет ни одного, бездетный. Тем более, что содержать такую большую семью в городе отцу было трудно, просто не под силу. Заработок был мизерный. В то время он занимался кожами, скупал их, что-то с ними делал и продавал. В общем, отец согласился с доводами брата и отдал своего сына.
Катастрофы для меня в этом, вроде трагическом акте, не случилось, новый отец любил меня, но беда в том, что меня почему-то сразу невзлюбила бездетная мачеха. Может быть, за эту самую привязанность ко мне ее мужа, моего нового отца. Кто знает, может и так. Не любила она меня и все. Хотя потом постепенно смирилась с моим присутствием.
Я вспоминаю об этом для того, чтобы стало ясно: маменькиным сынком я не рос. Отсюда и ранняя самостоятельность, умение заботиться о себе, строить свою жизнь. И я ее строил. Сам, самостоятельно перешел из татарской школы в русскую, совершенно не владея русским языком.
С этого и начались мои страдания. В татарской школе я был лучшим, отличником, здесь же казался каким-то дикарем. По-русски не только писать, даже читать толком не умел. А это был уже пятый класс.
И все это время учебы ни на один день не забывал, не расставался с мечтой об авиации. Началось это там, в татарской школе.
В этой школе и случилось то, что определило судьбу, главную линию моей жизни.
Соседский мальчишка Мишка, с которым я сдружился, увлекался конструированием летающих моделей самолетиков с пропеллерами. Назывались «схематичками». Заинтересовался этим и я. Какое-то время помогал другу, потом взялся и собрал — «схематичку» сам. Да еще какую! Она оказалась лучше всех, какие делал до этого друг Мишка и все ребята школы. На городском соревновании модель отметили премией — четыре рубля.
Радости моей не было конца. Увлечение моделизмом вошло в жизнь.
С пятого класса, с переводом в русскую школу, учеба продвигалась туго. Тяжело, с огромным трудом, усваивал предметы. Мешало слабое знание русского языка. Только с помощью старших друзей, русских соклассников, одолевал программу, переходил из класса в класс. Были и обиды, и слезы. Выручала учительница, имя которой — Надежда Николаевна, — я храню его до сих по не только в памяти, но и в сердце, — тоже по-всякому помогала мне. Видя мои старания, сопереживая мне, она, не довольствуясь уроками в школе, приглашала к себе домой, занималась дополнительно. Заодно и подкармливала. Дома было не сытно.
С таким же доброжелательством относились ко мне и остальные учителя, вплоть до выпускного — десятого класса.
Они, учителя, эти замечательные, душевные люди, учили нас не только грамоте, но через свое мировоззрение, через книги, которые рекомендовали нам, через литературных героев, учили жизни, воспитали в нас силу воли, умение ставить перед собой правильные, благородные цели и добиваться их. Это они участвовали в нашем становлении и подготовили нас к той жесткой и героической битве с врагом, к бесстрашным лобовым атакам на противника, которыми прославились наши воины.
И все это время, все годы учебы я не забывал о своем увлечении, конструировал летающие модели самолетов. Однако со временем это занятие перестало меня удовлетворять. Маленькие мои самолетики летали отлично, их отмечали на соревнованиях, но мне уже хотелось большего. Окончательно сформировалось это стремление, когда я попал во Фрунзенский аэроклуб, куда меня как-то привел друг и сосед по парте Михаил.
Казавшиеся огромными четырехкрылые «У-2» поразили своей стрекозьей легкостью, безупречной подчиненностью воле пилота.
— Хочу летать. Помоги записаться в аэроклуб, — ухватил я за грудки друга.
Теперь эта мысль, непреодолимое желание, захватило меня целиком. Оно было выше даже никогда не покидавшего меня в школе жадного стремления к учебе. Теперь только и думал, говорил исключительно о клубе, о самолетах. И принял решение. Написал заявление и сам отнес в клуб.
Через несколько дней меня вызвали.
Члены комиссии за столом задают вопросы, вопросы, а я волнуюсь, жмусь, оттого выгляжу еще тоньше и ниже ростом.
— Лет-то тебе сколько? — спрашивает председательствующий начальник клуба.
— Шест-шестнадцать, — еле слышно выдыхаю я.
— Врешь же, по виду тебе — четырнадцать.
— Нет, нет, не четырнадцать, я уже в восьмом.
— Ну ладно, ладно, — успокаивает председательствующий. — Летать почему решил?
— Летчиком хочу стать. Отец хочет, чтобы доктором, а я хочу летчиком. И буду, — оправившись от смущения уже твердо заявляю я.
— Так уж и будешь? — усмехнулся кто-то из членов комиссии. — Уверенный парень.
— А что, — разводит руками начальник. — Нам такие, уверенные, нужны. — И ко мне:
— Ладно, иди. Решение сообщат.
С моими школьными друзьями Петькой Расторгуевым и Таней Хлыновой — они уже давно записались в аэроклуб ДОСААФ — стоим у калитки моего маленького одноэтажного дома, они пытаются успокоить и обнадежить меня.
— Ты не мучайся, — говорит Петька, — все устроится.
— Конечно, устроится, — убеждает Таня.
А я стою, опустив голову, носком ботинка ковыряю песок и молчу. Хорошо им рассуждать, а каково мне? Вчера на комиссии чуть до слез не довели вопросами. Так ничего и не сказали, велели явиться завтра.
— Пойдем, Талгат, — прерывает мои думы Петька.
Все два дня, до вызова я ходил как шальной. Друг Петька успокаивал.
— Не страдай, может и примут. Не посмотрят, что низенький да худой. Ты же еще подрастешь, потолстеешь, если подкормиться хорошо.
Я вздыхал, мотал головой. Хорошо кормиться, чтобы потолстеть я как раз и не мог, в доме недостаток. Время тяжелое. Отчим (я называл его отцом) вкалывает один, и что он, сторож, приносит, копейки. Ладно еще что-то на выделке овчин подрабатывает. Тусупбек их закупает, приносит отчиму, тот выделывает. Оттого хоть какие-то рублики остаются.
«Ничего, — успокаиваю я себя, — в аэроклуб поступлю, работать буду, помогу семье».
Где-то в глубине души, несмотря на одолевавшие сомнения, я все-таки верил, что комиссия не откажет, я буду зачислен. Верил, может быть потому, что увидел в глазах начальника что-то вроде сочувствия или одобрения.
И вот оно, приглашение. Его принесла мне Таня, которая занималась в клубе второй год.
— Талгат! Талгатик! Тебя вызывают, — кричала она, увидев меня в коридоре. — Прибежала специально.
В клуб примчался рано утром. Секретарша порылась в бумагах, велела ждать начальника летной службы аэроклуба Цуранова.
Человека с этой фамилией я запомнил. Он сидел за столом в приемной комиссии, задавал разные вопросы об учебе, о здоровье. Медкомиссия никаких противопоказаний для поступления в аэроклуб у меня не нашла.
— Троек у тебя много, — покачал головой Цуранов. Я объяснил причину — слабое знание русского.
— Ничего. Это поправимое. Выучишь, лучше меня говорить будешь, — успокоил Цуранов.
Появился он вскоре. Пригласил в кабинет.
— В общем так, Бегельдинов. Комиссия решила... — и улыбнулся. — Да, значит, решила, зачислили тебя. — Поднялся, пожал руку, похлопал по плечу. — Теперь учись, старайся, может, и впрямь летчиком настоящим будешь.
Не помню, как я вышел, как дошел до дома. Я курсант! Я буду летчиком!
В этот день я был сам не свой и на уроках в школе получил несколько замечаний. Мой сосед по парте Петька Расторгуев радовался вместе со мной, и кончилось тем, что учительница выставила нас обоих за дверь.
И я учился, с первого дня постигал сложные премудрости вождения самолета, рвался, а то и карабкался к своей, ставшей главной в жизни, цели — летать. Доверие Цуранова оправдывал. За несколько месяцев изучил русский язык. Экзамены по теории полета, по матчасти самолета сдал на «хорошо».
Зима прошла в трудах и хлопотах. Школа — аэроклуб, аэроклуб — школа... И так изо дня в день. Близилась весна, а вместе с ней — первые полеты. Близились и экзамены в школе — я заканчивал девятый класс.
Тяжело жилось нашей семье. Зарплата отца давала возможность более или менее сносно питаться. Посещение кино было для меня настоящим радостным событием. Одет же я был более чем скромно: разбитые башмаки уже не поддавались ремонту, а многочисленные заплаты украшали мои единственные штаны. Надо работать, решил я, и поделился своими мыслями с отцом. Куда там, он и слушать не хотел.
— Учись, пока я жив.
Что же делать? Посоветовался в школьном комитете комсомола. Оттуда позвонили в районный отдел народного образования. Через несколько дней у меня в руках было направление на работу. «Массовик Дома пионеров» — значилось в моем первом в жизни рабочем документе. Тридцать рублей в месяц казались суммой просто-таки сказочной.
Отец не знал, что я ослушался и начал работать. Мать же, когда я принес первую зарплату, даже всплакнула.
— Что ты сделал? — шептала она, — отец узнает — беда будет, ругать будет. Что делать станем?
— А ты не говори ему. Он не узнает. Мне так хочется купить костюм и ботинки...
— Ладно, — сдалась мать. — Будем молчать. Копи себе на костюм.
Начались полевые занятия в аэроклубе. Чуть свет собирались мы и ехали на аэродром. Как мы пели, проезжая по пустынным улицам города! Сердца наши были переполнены счастьем!
Первый полет. Когда самолет оторвался от земли, я закричат от радости. Инструктор обернулся, что-то произнес одними губами. Я присмирел.
Приземлились. — Что видели? — строго обратился ко мне инструктор.
— Ничего! — вырвалось у меня.
— Болван! — Инструктор круто повернулся и зашагал по полю. А я стоял в полнейшей растерянности. За что? Неужели он не понимает? Неужели забыл свой первый полет?
С того дня начались сплошные неприятности. Инструктор почему-то невзлюбил меня, без конца ругал, ругал грубо, как бы нарочно подбирая самые оскорбительные слова. Это убивало. В семье у нас никто никогда не бранился, а тут...
Полеты превратились в пытку. С трепетом ждал я момента, когда начинал вращаться винт, и машина выруливала на взлетную полосу. Едва колеса отрывались от земли, в наушниках слышался резкий визгливый голос:
— Не лови ворон, чурка. Где аэродром? Ты что, заснул?
Я действительно ничего не видел. Слезы обиды, горькой и незаслуженной, застилали глаза. А инструктор продолжал изощряться. Он наслаждался своей безнаказанностью.
* * *
— Что с тобой? — поинтересовался как-то мой верный друг Петька Расторгуев. — Похудел, мрачный какой-то. Болен, что ли?
— Да нет, ничего.
— Может, дома что? — не отставал Петька. — Ты скажи, самому легче будет.
— Да чего ты пристал!
— Чумной, — обиделся друг. — К нему с добром, а он...
После очередного полета, едва мы приземлились, к самолету подошел Цуранов.
— Товарищ начлет, — обратился к нему инструктор, — считаю Бегельдинова неспособным к полетам. Предлагаю отчислить.
Стою рядом, мну в руках шлем и чувствую, как комок слез предательски подкатывается к горлу. Только бы удержаться, думаю, только бы удержаться...
— Отчислить, говорите? — пробасил Цуранов. Он наморщил лоб, отошел.
Минут тридцать его не было. Потом появился, у летного поля. Позвал меня, кивнул головой.
— Садись в кабину, полетишь.
Сам сел в кабину для курсанта. Приказал:
— Полет по кругу. Пошли.
Поборов волнение, я сделал все как надо, по команде взлетел, замкнул круг над аэродромом, посадил самолет. Хотел было вылезти из кабины, но услышал:
— Куда? Взлетай. Полет по кругу.
Вновь взревел мотор. Вырулил на старт, получил разрешение на взлет. Вот уже под крылом аэродром. Делаю первый разворот -в наушниках тишина. Второй, третий... Молчит Цуранов. Наконец, захожу на посадку. До земли семь метров. Плавно беру ручку на себя и сажаю машину на три точки.
Полет окончен. Цуранов молча вылезает из кабины и, не сказав ни слова, уходит. Что ждет меня? Уже перед самым отъездом домой начлет вызвал меня и сказал, что переводит в группу инструктора Карповича. Ура! Значит, я не исключен! Значит, буду летать!
Карпович невозмутим. Кажется, ничто на свете не может вывести из равновесия этого человека. Сделали с ним пять полетов, и в один прекрасный день он передал меня командиру звена Бухарбаеву. Еще три полета, и Бухарбаев заявил:
— Хорошо. Лети самостоятельно.
— Как?!
— Лети, малыш. Ты же хорошо летаешь!
Смотрю, самолет уже готовят — на переднее сиденье кладут мешок с грузом, равным весу инструктора. Это для того, чтобы не нарушать центровку.
Взлетел, сделал круг, сел. Еще раз то же самое и, наконец, третий раз. Подбежали ребята, не спеша подошел Цуранов. Все поздравляют, а я стою и слова не могу сказать. Начлет строго посмотрел на меня, потом вдруг улыбнулся и произнес всего одно слово:
— Молодец!
А вскоре был праздничный первомайский вечер. Вечер в аэроклубе. Пришел я на него в новом костюме. Помню, боялся сесть — брюки помнутся, боялся прислониться к стене, боялся подойти к буфету. Казалось, что непременно испачкаю костюм, посажу пятно.
Рядом стоял Петька — высокий, веселый, раскрасневшийся. Я ему как раз по плечо. Вдруг слышу:
— Вот так малыш! Смотрите, девочки, какой сегодня Талгат красивый!
Это Таня Хлынова с подругами!
— Пойдем танцевать, — тормошит Таня.
— Не умею, — покраснел я.
— Не может быть, — искренне изумилась она. — Как же так? Не знает Таня, что сегодня — первый праздничный вечер в моей жизни. Не знает она и того, что пришлось мне претерпеть, прежде чем нарядиться в новый костюм.
Ежемесячно я приносил домой тайком от отца заработанные деньги. Каждую получку мать давала мне двадцать пять рублей, и я прятал их в свой чемодан. Уже накопилось двести рублей. И тут произошла беда.
Вечером возле дома меня встретила мать. По ее лицу я понял, что стряслось нечто страшное.
— Отец про деньги узнал, — быстро заговорила она.
— Как?
— Я сказала.
— Зачем?
Она пожала плечами.
Что делать? Если бы я знал, что можно и нужно делать.
Вошли в дом. Отец мрачнее тучи.
— Садись, — кивнул он.
Я присел на краешек стула, готовый к неприятному разговору.
— Где ты взял деньги, Талгат? — строго спросил отец. — Я не могу думать, что мой сын вор. Но он не зарабатывает их. Где же он взял двести рублей?
— Отец...
— Подожди, Талгат. Я хочу рассказать тебе то, чего ты не знаешь. После ты мне скажешь все. У нас в роду не было нечестных людей.
А род у тебя был знатный, известный на всю Сарыарку. Ты должен его знать. У нас, у казахов, говорят: человек, не помнящий, не знающий рода — подобен дереву без корней. Наш род от знатного корня — Агыс, тайпы — Аргын называется. На весь Средний жуз славный. Мы пошли от нашего предка Бигельди.
У него было три сына — старший Игенай, средний Нуржан и младший Курман. От него, от Курмана, и пошла твоя, Талгат, родовая ветка: дед Мусабек, твой отец Тусупбек. От него пошли вы, сыновья, Карим и ты, Талгат.
Все родичи твои в роду люди серьезные, обстоятельные, работали честно, вели себя достойно. Потому, сын, и с тебя мой строгий спрос о честности и достойности, потому ответь , где взял деньги. Мать не отвечает. Отвечай ты!
Я дождался, когда он закончит, затем стал рассказывать. Он слушал, укоризненно качал головой.
Однако все обошлось. Отец принял все произошедшее со мной в порядке свершившегося факта.
Также безропотно, уже без возражений принял отец и сообщение о зачислении меня в Саратовскую школу военных летчиков. Провожали нас, будущих курсантов, всем клубом, среди провожающих и моя семья. Были объятия, напутствия и даже, у некоторых, слезы.
Трудные годы
Апрель. В горах еще лежит снег. И вечерами легкий весенний ветер приносит в город его запах. Степь после зимней спячки начинает дышать все глубже и глубже. Красными и желтыми тюльпанами расцвела степь. Красиво...
Я думал об этом, стоя у окна вагона. Поезд все шел и шел на север. Давно уже нет гор, а куда ни кинешь взгляд — безбрежная степь. Там, впереди, ждет летная школа, ждут новые друзья. Поэтому неприветливые приаральские пески казались близкими и родными...
Саратов. По величественной волжской глади деловито снуют катера, лодки. У причалов стоят пароходы. Я впервые попал за пределы казахской степи, впервые вижу реку шире Чу, и пароходы кажутся мне гигантскими, чуть ли не сказочными. Смотрю во все глаза, впитываю новые впечатления. Прежде всего вижу реку Волгу. Ту самую, о которой восторженно рассказывала учительница Надежда Николаевна, приехавшая во Фрунзе — тогда еще Пишпек — откуда-то из России. Смотрю растерянно и, конечно же, восторженно: эти гиганты пароходы, подъемные краны, здание речного вокзала. И кругом на набережной бесконечно двигающиеся толпы людей. Откуда, куда они все идут, идут... У меня кружится голова, к горлу от удивления или восторга подкатывает какой-то ком.
Настроение самое праздничное, хочется петь, с кем-то говорить. Рядом со мной Сергей Чехов — товарищ по аэроклубу. Заговариваю с ним, толкаю его локтем в бок, но Сергей почему-то угрюм и не хочет разделить моих восторгов.
Идем строем через город. Он намного больше нашего Фрунзе и, как мне кажется, красивее. Опять заговариваю с Сергеем.
— Зелени маловато, — угрюмо ворчит он в ответ.
— Зато Волга! — не сдаюсь я.
— Наш Иссык-Куль куда шире.
Нет, Сергей просто несносный человек.
Приходим на территорию школы. Для начала всех нас стригут под нулевку. Признаться, до слез жалко было расставаться с чубом. Но ничего не попишешь, дисциплина есть дисциплина.
Начинаются трудовые будни. Осваиваем самолет «Р-5». Это сложнее «У-2», с которым приходилось иметь дело до сих пор. Не без гордости узнаем, что на машинах этой марки Герои Советского Союза Водопьянов, Молоков и Каманин спасали челюскинцев.
Первые полеты — и сразу же неприятность. Невольно вспоминаю авиатора с тремя «шпалами», который с сомнением смотрел на мой рост. Действительно, сантиметров пятнадцать не были бы лишними. Это я понимаю, сажусь в самолет: из кабины едва торчит нос. Как быть? Инструктор Титов не то в шутку, не то всерьез предлагает брать с собой подушку. Я принимаю это всерьез и в первый же полет отправляюсь, восседая на кожаной подушечке, изготовленной с помощью Сергея Чехова. Инструктор покачал головой, но не сказал ни слова. Совершили полет по кругу, еще и еще. Подруливаю к месту стоянки, выключаю мотор и вопрошающе смотрю на инструктора. Титов не спеша отстегивает ремни, поворачивается ко мне:
— Чувствуется твердая рука. Летчиком будете. Довольный похвалой, выпрыгиваю из кабины и, держа под мышкой подушечку, иду с аэродрома.
В неделю — четыре дня полетов и один — изучение материальной части. Мы уже настоящие курсанты — одеты по форме, подтянуты, стараемся держаться солидно и лихо козыряем при встрече старшим по званию.
Все хорошо, если бы не командир взвода лейтенант Андреев. Этот немолодой уже человек все время служил в пехоте и буквально влюблен в строевую подготовку. Помню, стоит взвод по стойке «смирно», Андреев не спеша прохаживается, придирчиво осматривает каждого. Неожиданно дает команду: «Кру-гом!» На какое-то мгновение я замешкался и, как любил говорить командир взвода, «нарушил усю симхвонию».
Тут же опять:
— Кру-гом! Бегельдинов, два шага вперед!
Чеканю два шага и застываю, впиваясь глазами в лейтенанта.
— Службу не знаете! — резко выкрикивает он. — До учебного корпуса бегом туда обратно — шагом марш!
Я еще не успеваю сообразить, что следует делать, как исполнить эту непонятную команду, как за спиной слышу смех. Смеется весь взвод.
— Отставить! — кричит Андреев. — Кто смеется в строю?
Строй молчит. Стою впереди всех и вижу только разъяренного лейтенанта.
— Кто смеялся! Два шага вперед!
Слышится дружный топот сапог, и я вновь оказываюсь в строю. Командир взвода ошалелыми глазами смотрит на строй, резко поворачивается и идет к корпусу. Буквально через минуту он возвращается с подполковником — начальником школы. Тот строго смотрит на нас, в тишине раздается его глуховатый голос:
— Разойдись!
В тот же день взвод собрал политрук. Долго выяснял, что произошло, отчитал нас. Вскоре взводом уже командовал новый офицер. Андреева перевели в хозчасть.
А мне с ним довелось еще раз столкнуться.
Как-то днем ребята решили полакомиться кислым молоком. Летная школа была в летних лагерях, километрах в двух от небольшой деревни. Собрали деньги, раздобыли десятилитровую флягу. Но кто пойдет за молоком?
— Тебе, Талгат, придется сходить, — решили друзья. — Ты самый маленький, незаметно прошмыгнешь.
Дело в том, что мы решили не спрашивать разрешения у командира взвода, и поход за молоком превращался, таким образом, в «самоволку».
Взял я флягу, зажал в кулаке деньги и отправился в деревню.
Купил молоко, без приключений вернулся обратно. Сидим, пьем. Все уже управились, а я еще лакомлюсь. Вспомнил почему-то домашний айран и загрустил. Вдруг слышу:
— Ребята, морской закон!
Все засмеялись и отскочили в сторону. Смотрю на них и ничего не могу понять.
— Какой это морской закон?
А такой, объясняют мне, что последний за столом и со стола убирает. Дескать, стола у нас нет, а есть пустая фляга, стало быть, тебе ее мыть и отнести на место.
Делать нечего. Закон есть закон. Беру флягу, спускаюсь к речке. Гляжу, пробирается по кустам лейтенант Андреев с ружьем, видно, возвращается с охоты. До сих пор не знаю, чего я вдруг испугался. Бросил флягу и кинулся бежать.
— Стой! — кричит сзади Андреев.
Я бегу быстрее.
— Стой, стрелять буду!
Куда там, только свист в ушах. Добежал до огорода и пополз по-пластунски по картошке. А лейтенант бежит, кричит. Дополз я до кустов, вскочил на ноги, думаю: «Куда же дальше бежать?» Андреев уже совсем близко. Кинулся я в самую гущу кустов, а там несколько свиней, собственность лейтенанта Андреева. Он их помоями с кухни откармливал.
Свиньи кинулись в разные стороны, ломятся сквозь кусты, трещат ветки. Я забился, залег. Слышу, Андреев бежит уже в другую сторону. Это он по шуму за свиньями ринулся. Кричит, ругается.
Когда все стихло, незаметно пробрался я в овраг к ручейку, вымыл флягу, отнес ее и вернулся на территорию школы. Уже к вечеру пошли разговоры о том, что лейтенант Андреев принял свинью за курсанта в «самоволке» и целый час гонялся за ней с ружьем. Кто начал эти разговоры, не знаю. Но смеялся я вместе со всеми.
День сменялся днем. Мы хорошо освоили «Р-5». Вскоре начали летать на специальные задания. Вечерами, утомленные, собирались в красном уголке и мечтали о дне, когда получим звания и разъедемся по частям, получим самолеты.
Так же прошел и очередной вечер двадцать первого июня. А рано утром узнали о том, что гитлеровская Германия вероломно напала на нашу Родину. Фашистские стервятники уже бомбили Минск, Львов, Одессу. Десятки, сотни заявлений легли на стол начальника школы, подполковника Уткина. Мы не просили, нет, мы требовали, чтобы нас немедленно отправили в действующую армию. Именно немедленно, на любой участок, если нужно, то и в пехоту.
Подполковник собрал всех курсантов.
— Я понимаю ваш благородный порыв, — сказал он, — и сам я всеми своими мыслями сейчас там. Но армии нужны хорошие летчики. Это ясно? Нужно учиться, учиться, с тем, чтобы вскоре принести Родине максимальную пользу.
Начались занятия по уплотненной программе. До поздней ночи возились с самолетами, изучали материальную часть. Затаив дыхание, слушали сводки Совинформбюро. А они становились все тревожнее и тревожнее. Враг кованым сапогом топтал нашу землю, превращал в руины цветущие города и села. Его самолеты господствовали в воздухе, его танки вспарывали нашу оборону.
На фронт, на фронт! Эта мысль не давала всем нам покоя.
Подошел день выпуска. Но что это? Мне не дают направления! Оставляют в школе инструктором.
— Нет! — твердо заявил я подполковнику Уткину. — Ни за что! Тот вначале пытался говорить мягко, убеждал, что не всем же быть на фронте, что нужно думать и о завтрашнем дне.
— Нет, нет и нет, — упрямо твердил я.
— Отставить разговоры! — вспылил подполковник. — Вы находитесь в армии в военное время. Ясно?
Да, все было ясно. Друзья едут на фронт, будут бить врага, а я... Горю моему не было предела. Но времени для печали оставалось не так уж много. В школу непрерывно поступало пополнение, и приходилось долгие часы проводить в воздухе. Так прошло около полутора месяцев.
Неожиданно в школу пришло распоряжение — откомандировать несколько человек в бомбардировочное авиационное училище. Через несколько дней я уже был курсантом Оренбургского училища. Тяжелые дни переживала страна. Это чувствовали и мы, курсанты. И голодно, и холодно. Тем сильнее было у нас желание скорее попасть на фронт. Начались полеты на «СБ» — скоростном двухмоторном бомбардировщике. Видно, подготовка у меня была достаточно основательной, потому что вскоре мне присвоили звание ефрейтора и назначили старшиной группы.
В группу вошли курсанты, уже имевшие звания пилотов, и мы в рекордный срок — за полтора месяца — освоили технику пилотирования, сдав экзамены на «отлично». «Ну, уж теперь-то наверняка пошлют на фронт», — радостно думал я. Ликовали и мои друзья.
Но...
Опять это злосчастное «но»! Другие группы еще учились, и нас задержали. Ребята работали на огороде, помогали колхозникам убирать хлеб. Я же получил «назначение» на кухню. Закрепили за мной лохматую лошаденку, подводу с бочкой, изо дня в день с утра до вечера возил я воду.
Однажды, восседая на бочке, я увидел, как на территорию училища входит группа новых курсантов. Что это? Знакомое лицо! Да это же Коля Павличенко, мой школьный товарищ!
Кубарем скатился с бочки, бросил вожжи и подбежал к другу. Оказалось, что он недавно из Фрунзе, видел моих стариков, говорил с ними. Эта группа — вовсе не курсанты. Их привезли всего на несколько дней. Обмундируют — и на фронт, в пехоту. «Счастливый Николай», — думал я, с ненавистью глядя на апатичного коня, неуклюжую телегу с бочкой.
Мы распрощались, пожелали друг другу счастья. Встретиться пришлось через семнадцать лет в Алма-Ате. Николай Павличенко прошел через фронты Отечественной войны, закончил авиационное училище и стал гражданским летчиком.
Настал, наконец, день выпуска. Стоим в строю, и один за другим курсанты получают назначения в части. Я, уже сержант, жду не дождусь своей очереди. Нет, не дождался...
С группой сержантов меня откомандировали в истребительное училище. «Ничего не попишешь, — думал я, — такова уж служба: все люди воюют, а я так до дня победы и проучусь».
Вновь полеты, полеты, полеты и теоретические занятия.
Случилось так, что я захворал и несколько дней провел в комнате. Ребята принесли интересную новость: на летном поле стоит новый самолет — «Ильюшин-2». «Какая красота, картинка, — восхищались они, — такого еще не видели».
Да, такого самолета не знала история авиации. Помню, как я осматривал его бронированную кабину, пушки и пулеметы, как ощупывал каждую заклепку в корпусе.
Это было мое первое знакомство со ставшим затем мне родным «ИЛом». Тут же я узнал его — самолета — биографию.
Еще в годы гражданской войны появилась мысль о применении штурмовой авиации против наземных войск противника. И вот в годы Отечественной талантливейший конструктор Сергей Владимирович Ильюшин построил новый штурмовик — уникальную машину, равной которой по боевым качествам не было ни в одной армии мира.
В декабре 1941 года, когда страна узнала о разгроме немцев под Москвой, в газетах замелькали сообщения о советских штурмовиках, прозванных гитлеровцами «черной смертью».
Полжизни можно отдать, лишь бы сесть за штурвал этого дивного самолета. И настал счастливый день: мы начали изучать «ИЛы». Да, это действительно замечательная машина! Быстрая, послушная и грозная. Теоретическую подготовку прошли основательно.
Как нам объяснили инструкторы, самолет «ИЛ-2» — многоцелевая боевая машина, с мощным вооружением. В его арсенале — бомбы, в том числе специальные противотанковые (ПТАБЫ), реактивные ракеты, две пушки, пулеметы. Назначение — выполнять задания, главное — подавлять и уничтожать противника, вражеские стационарные и подвижные крупные и малые цели. И второе, тоже не менее важное — воздушная разведка, установление связи с передовыми наступающими частями, сбрасывание листовок и даже, при необходимости, переброска грузов.
И вот уже Ижевск, запасной авиационный полк, где мы должны специализироваться на штурмовиков. Несколько сот пилотов ждут назначений. Нет самолетов и инструкторов. Не сидеть же сложа руки! Создаем бригады и принимаемся огородничать. Сажаем картошку, морковь, свеклу!
Проходит лето. Созрели овощи, пожухла картофельная ботва, а назначения все нет. Между собой поругиваем начальство, обвиняем его во всех смертных грехах.
Подошла осень, а вместе с ней и пора уборки урожая. Бригада, которой я руковожу, заняла первое место. В качестве премий замполит полка вручает нам по пачке махорки.
Дождались! В полк прибыли машины, так полюбившиеся мне «ИЛ-2». Начинается проверка техники пилотирования. Давно уже не чувствовал в руках штурвала, лечу с наслаждением.
И снова выпуск, подготовленные, обученные курсанты тут же отправляются на фронт. Меня опять же, как лучшего отличника (я уже клял себя за это, работал бы как все, не высовывался, давно бы на фронте был) послали на переподготовку, теперь уже в Чкаловское училище летчиков истребительной авиации.
На всю учебу ушло полтора месяца. Зачеты — и вот теперь уже верный шаг к фронту — запасной полк.
Здесь, до поступления требования, тоже учеба. Я опять инструктор. И еще сельскохозяйственные работы. Тут и состоялось то самое, мое первое знакомство с девушкой.
Произошло это важное, перевернувшее мою душу событие в казалось бы, совсем не подходящем для этого месте. Хотя, кто знает, кто определил, где они, удобные места для первой встречи восемнадцати-девятнадцатилетних паренька и девушки? Здесь это произошло, на соседнем с подхозом, колхозном поле.
Зачем-то меня туда послали? Кажется за какой-то деталью к трактору. Тут я и увидел ее. Она стояла на дорожке у рощи, в розовом, с цветочками, платьице, в босоножках. На голове пестрая шапочка, из-под которой выбивались блестевшие на солнце вьющиеся черные локоны. В одной руке у нее была лопатка, в другой — букетик полевых цветов. Я глянул на нее и замер. Передо мной стояла казашка. Девушка была не смуглая, не скуластая, совсем не типичная, но все равно казашка. Я определил это каким-то внутренним чувством, интуитивно, что ли. Не раздумывая спросил:
— Сiз казак, кызы емессiз бе? — Вы не казашка?
Она удивленно глянула, улыбнулась, выговорила по-казахски же, старательно, четко произнося слова.
— Мен казактын кызымын. — И сорвалась на русский. — А вы казах?
— Да, да, я казах. Но вы откуда? Как здесь?
— Я уже давно, с папой и мамой. Папа на завод кожевенный приехал. Он инженер, специалист. Когда здесь завод строили, машины ставил. Приехал из Уральска на время и остался. Так и живем.
Я закончила школу десятилетку и вот, всем классом, на посевную. Картошку сажаем. А вы?
Мы разговорились. Я забыл куда, зачем шел. Стояли, и рассказывали друг другу, мешая казахские и русские слова, о себе, о своих родичах, будто старые знакомые. Я сказал, что летчик, готовлюсь отбыть на фронт.
Потом мы спохватились, вспомнили каждый о своем деле. Я проводил ее до стана.
— Ой, как это интересно! Летчик! Фронт! — восклицала она. Сообщила. — Я тоже на фронт поеду. Учусь на курсах медсестер. У нас почти все девчонки из класса на этих курсах.
Опомнились, представились друг другу уже при расставании.
— Меня зовут Талгат, — отрекомендовался я, — Бегельдинов.
— А меня — Аня, то есть Айнагуль.
«Какое красивое имя!» — восхитился я.
Мы договорились встретиться в условном месте вечером.
Встреча состоялась. Потом были встречи еще и еще. И вот уже я стал ими, этими встречами, жить. Считать часы, минуты до назначенного времени свидания.
Встречались здесь, в лесу, на полянках, до самого ее отъезда. Потом встречались в городе. Вообще, увольнительные в запасном полку давали неохотно и редко. Вырвавшись за ворота, истомленные ожиданием отправки на фронт, молодые летчики шалили: попивали, ввязывались в драки, были и всякие другие ЧП. Однако мне, объявившему командирам, что у меня здесь родственники-казахи, — учитывалась моя выдержанность, дисциплинированность, — увольнительные выдавали.
Мы ходили в кино, в театр, а то и просто сидели где-нибудь в парке, скверике, и говорили, говорили. О чем? Наверное, о том, о чем говорят все влюбленные.
На какое-то время встречи пришлось прервать. В полк, наконец, поступили долгожданные машины. Да не какие-нибудь, штурмовики-бомбардировщики «ИЛы».
Уже достаточно опытный — за два-то года учебы — я чувствовал и мог оценить их скорость — свыше трехсот километров в час, — маневренность, послушность в управлении, мощность доселе невиданного на самолетах, вооружения. Летал на этом самолете с огромным желанием. Готов был не вылезать из его удобной кабины многими часами. Летал но, увы, опять по кругу, в крайнем случае, по маршруту, над мирными полями, селами, поселками, вдали от фронта. А тем временем многие мои сверстники, друзья по пройденным мною авиационным школам, сражались с врагом, били, уничтожали немецко-фашистских захватчиков на земле и в воздухе. Многие — это было известно из писем выпускников школ, уже сложили в тех боях свои головы.
Айнагуль при встречах успокаивала:
— Ты ведь тоже не бездельничаешь, для фронта же работаешь, сам готовишься. — Утешение было слабое, но хоть немного поднимало настроение.
Забывался я во все растущем чувстве привязанности к девушке, конечно, понимал, — это любовь, но почему-то боялся, или же стеснялся признаться самому себе и тем более ей. Хотя где-то в глубине души был уверен во взаимности, видел, читал это в ее глазах, улавливал в словах... в общем, во всем.
И вот настал день — был выходной, — когда я обнял ее, поцеловал, сказал:
— Я люблю тебя, Айнагуль. Я сильно тебя люблю.
Мы сидели в парке одни, на скамейке. Кругом тишина, будто все замерло. Мне казалось, что я слышу стук своего сердца.
Она тоже на какое-то время, мгновение замерла и вдруг припала ко мне, обвила шею руками:
— Я тоже тебя люблю. Полюбила с первой встречи. А ты не говорил, мучил меня. Ведь я готова была признаться первой. Я, девушка, первой! Это стыдно, но я была готова.
И мы опять обнимались, целовались.
С того момента наши встречи приносили мне и ей несказанное блаженство. А ожидание свидания превращалось в сплошное мучение. Я вырывался к ней при каждом удобном и каком угодно случае.
Встречались часто. Сидели, обнявшись где-нибудь в уголке сада или на берегу речки, и опять говорили обо всем, о разных дорогих нам пустяках. Только войне в разговорах места не было, словно и не гремела она где-то, и я не боевой летчик, ждущий отправки на фронт. Может быть, потому, что знали: именно она, война разлучит нас. Боялись этого и обходили в разговорах.
Не говорили и о женитьбе, наверное, по той же причине. Но в тот день, по-обычному проснувшись с мыслью о ней, я вдруг решил:
«А при чем тут война? Я люблю ее, она — меня, почему мы не можем соединить наши судьбы? Ведь даже в разлуке, вдали друг от друга, мы будем любить, будем вместе нашими сердцами».
С этой мыслью я собрался пойти в штаб за увольнительной. Завтра выходной. И именно в этот момент меня вызвали в дежурку, к телефону.
— Срочно вызывает невеста, — сообщил дежурный по части. Вообще летчиков, да и командиров, для частных разговоров к телефону не звали, а тут «невеста!» И просила, как она объяснила, по чрезвычайной необходимости.
Я вбежал в дежурку, напуганный. Звонит Айнагуль, это ясно, но почему срочно? При последней встрече мы обо всем договорились, назначили время и место следующей. В чем же дело? И почему сразу «невеста»? Просто так она назваться не смогла бы.
Она была взволнована. Я определил это, как только услышал ее голос.
— Талгатик, дорогой, милый мой, приезжай, сейчас же, немедленно! Отпросись, убеги, но приезжай! Я должна тебя видеть. Мне нужно сказать, обязательно сказать.
— Хорошо, хорошо, — пытался успокоить ее, — но в чем дело? Мы договорились, я приеду и мы увидимся.
— Нет, мой дорогой, — перебила она, — не увидимся. Я уезжаю, сегодня в двенадцать ночи. На фронт, в санчасть. Нас, пятерых девочек, мобилизовали, ты понял? Уезжаю! — выкрикнула она.
Я все понял. Ноги подкосились. Но взял себя в руки. Через минуту был в кабинете заместителя командира полка, выскочил от него с увольнительной. Через час был у нее, у Айнагуль.
Она ждала. В доме одна. Родителей не было. Встретила в дверях, кинулась на грудь, припала ко мне, заплакала.
Я обнял, подвел ее к дивану, усадил, стал успокаивать, хотя и сам готов был разрыдаться, так меня ошарашило неожиданное сообщение о предстоящей разлуке. Что она ходила на курсы медсестер — мне было известно, но я не придавал этому никакого значения. В те дни такие курсы кончали многие девушки. Большинство оставалось работать в местных госпиталях, которых было немало в самом городе и окрестностях. Так что ни я, ни она к такому не были готовы.
Знал я и то, что разлука в конечном итоге неизбежна, я готовился к ней каждодневно. Но то — я! При этом роль провожающей, как и должно, отводилась ей. Она должна была проводить меня на вокзал, поплакать и ждать, как это делали все девушки, матери, жены. Я так и думал, а тут вышло совсем по-другому. Голова шла кругом, сердце стискивала боль. Я сжимал ее маленькие, нежные руки, прижимал к лицу розовые ладошки.
Она успокоилась, вытерла слезы и, отстранив меня, заявила:
— Слушай и знай — я люблю тебя и хочу стать твоей женой. Ты слышишь?! Я сама тебе говорю, сама невестой назвалась. — И потупилась, покраснела до корней волос. — И буду твоей женой. После победы, после возвращения с фронта. А до тех пор — ждать, ждать. И любить... А ты как? — и впилась в меня глазами.
Я опять схватил ее, покрывая лицо поцелуями, бормотал:
— Моя дорогая, любимая, прости, что не сказал первый. Проклятый трус, я боялся, что откажешь. Я люблю тебя и первый, слышишь, первый! — кричал я, — прошу тебя стать моей невестой, женой! Прошу!
Мы обнялись. Что-то говорили, перебивая друг друга.
Потом она накрыла на стол, принесла бутылку вина, закуску. Выставляла на стол, наверное, все, что было в доме. Сама наполнила бокалы.
Я поднялся, провозгласил тост:
— За скорую встречу после войны!
Мы выпили, а потом сидели на диване, плотно прижавшись друг к другу, сцепившись руками.
Вернулись из гостей родители. Поплакали, поохали, огорошенные горестной вестью об отъезде дочери. Айнагуль обнимала их и уверяла, что ничего страшного с ней не будет. Поработает в каком-нибудь прифронтовом госпитале и вернется. Война долгой не будет, наши соберутся с силой и разобьют немцев. И вдруг заявила:
— Ата, апа, вы знаете Талгата. Так вот, сообщаю: мы любим друг друга и поженимся, как только вернемся с фронта. — И уже при них обняла, приникла ко мне.
И опять слезы, слезы горя и радости.
В сборах, в слезах не заметили, как наступила ночь. Отправились провожать ее на вокзал. Шли, ехали и опять обнимались, плакали. Плакали не одни мы, плакал весь город, отправляя на фронт целый эшелон мобилизованных, в их числе и девушек-медсестер.
На вокзале я стоял около Айнагуль, совсем молоденькой, как девочка, с длинными черными косами и блестевшими то ли от счастья, то ли от слез, как уголечки, темными глазами и никак не мог прийти в себя от вдруг так внезапно обрушившихся на меня счастья и такого же внезапного горя. Я опять же понимал, что так и должно было быть — война, и все-таки не мог осознать, смириться с жестокой необходимостью разлуки. В душе все перемешалось. Озарившая мою жизнь любовь к этому нежному, безгранично близкому созданию, и тут же — немедленное расставание. И, может быть, может быть, навсегда. Это же вполне вероятно, она отправляется на фронт, не в гости, не в командировку... На фронт! А там не танцы, там убивают...
От этой мысли заходилось сердце, я весь леденел, по спине, по всему телу бежали мурашки. Я снова и снова кидался к ней, обнимал, прижимал к себе, словно стараясь защитить, плакал, мешая свои слезы с ее.
Прозвенел колокол отправления, отъезжавшие прыгали в вагоны, махали руками провожавшим, а я все держал ее, не в силах расстаться со своей первой любовью, и все говорил, говорил, давал какие-то наставления, просил, молил, приказывал беречь себя, писать.
Потом я долго бежал за уходившим вагоном, в дверях которого стояла она, махал руками, кричал:
— Береги себя! Пиши! Пиши!
На фронт я уехал почти вслед за ней, через две недели. Но письмо получить успел. Вот оно, письмо от любимой, первое. Оно так быстро нашло адресат и теперь в моих руках. Писала она крупным, детским почерком. Ничего особого, тайного в нем нет. Обычное письмо влюбленной, потому я и делюсь им с читателем.
«Милый, дорогой. Как я люблю тебя! как мне тебя не хватает, хотя ты со мной, в моей душе, в сердце моем. Ты знаешь, я ведь на войне, на самом фронте, чуть не на передовой, в санбате. Отсюда слышны выстрелы пушек, совсем близко, в лесу рвутся снаряды. Мы принимаем раненых, кругом страдания, кровь, смерть. Я никак не могу к этому привыкнуть. Да и возможна ли такая привычка? Устаю страшно, работаем иногда сутками и все в крови, в криках и стонах. Вырвусь в нашу землянку, в блиндаж, упаду, а перед глазами ты. Ты, мой дорогой, и сразу отступают все ужасы войны, и я счастлива. Мне неудобно перед собой за это — кругом боль, кровь, страдания, а я со своим счастьем, но что я могу сделать, если это так. Да, я счастлива своей любовью. Молюсь, говорю: «О, Аллах, как я тебе благодарна за это чувство, которое ты мне дал, за то, что дал мне тебя! Я счастлива тем, что ты, Талгатик, есть, мой дорогой, что ты мой! Слышишь, Талгатик, милый, ты мой, навсегда, на всю жизнь. И я твоя!»
Дальше она писала снова о работе, о медсестрах — подругах, о врачах, какие они самоотверженные, не щадят себя ни в чем.
«Недавно нас обстреляли проклятые фашисты, из дальнобойных. Многих раненых убили. Погиб врач, две мои подружки-медсестры».
Я читал дорогие строки, прижимал письмо к губам и снова читал. Потом весь вечер писал ответ, подробно и тоже о своей работе, о том что готовлюсь к отправке на фронт. И конечно, о любви, о предстоящей встрече впереди, на которую я так надеялся, верил, что она состоится. Мы ведь всегда во что-нибудь верим, на что-то надеемся, потому что без веры, надежды, нет жизни, тем более любви.
Скоро в моей личной летной книжке появилась краткая характеристика: «Техника пилотирования на самолете «ИЛ-2» отличная. Летать любит. В полетах не устает. Трудолюбив. Летных происшествий не имеет. В воздухе спокоен, летает уверенно».
Через день издается приказ, в котором фигурируют одиннадцать фамилий, в их числе и моя. Нас, как наиболее подготовленных, оставляют в полку инструкторами.
«Ну, уж этому не бывать, — решаем мы. — Ни за что!» Вначале никто нас и слушать не хотел, но нежданно-негаданно в полк прибыла группа инструкторов из аэроклубов — люди в годах, с большим опытом. Мы возликовали.
Восемнадцатого декабря 1942 года мы уже были в дороге. Через несколько дней вышли из поезда на Казанском вокзале Москвы.
Москва тех трудных лет... Пустынные улицы, витрины магазинов, заставленные щитами, затемнение по ночам. Суровые лица людей, женщины в ватниках и кирзовых сапогах. Такой мне запомнилась столица на долгие военные годы.
Недолго пробыл я в Москве. Вместе со старшим сержантом Чепелюком получили назначение в одну часть. На Ленинградском вокзале уселись в поезд, который в те годы называли «пятьсот-веселым» — товарные вагоны, даже без нар, и полнейшая неизвестность, когда куда приедем. Помнится, что поезд часами стоял на разъездах, зато лихо мчал мимо станций.
Едем на северо-запад, за Калинин. В пульмановском вагоне — темнота. Стоит холодная «буржуйка».
— Сергей, — обращаюсь к Чепелюку, — надо бы дровец раздобыть, а то замерзнем.
— С ума спятил, — отвечает он. — Ночь, затемнение, а ты хочешь огонь разводить. Увидят немцы сверху — разбомбят.
Все же на первой остановке я выпрыгиваю из вагона и без труда разыскиваю какой-то поломанный штакетник. Растапливаем печурку. Из углов к нам начинают подходить люди. А мы-то думали, что вагон пустой.
Фронтовое начало
Пока все шло совсем не так, как мне представлялось: слишком уж серо и буднично. Мы рвались на фронт, а приехали, кое-как добравшись от станции на попутных, до каких-то тыловых деревень. Ехали, правда, с фронтовиками, настоящими, с самой линии обороны, с линии огня, но разговоры у них между собой были самые обыденные: молодые офицеры, сержанты — о девчонках, женщинах из соседних сел, о своих с ними похождениях, офицеры постарше, тоже бившиеся о борта грузовиков — о письмах из дома, у кого-то кто-то родился, кто-то умер, кто-то не может связаться с затерявшейся в эвакуации семьей. А о боях, подвигах в сражениях с врагом — никто ни слова, будто и не было вокруг этой самой войны, фронта, к которому мы с другом Чепелюком — ехали, на который рвались.
Штаб штурмовой авиационной дивизии расположен в засыпанной снегом деревне с громким греческим названием Андриополь. Между прочим, как мы узнали в дороге, командует дивизией Герой Советского Союза полковник Каманин. Тот самый легендарный летчик, который вел звено «Р-5» на спасение челюскинцев. Он уже был лейтенантом, когда я в трусишках бегал по пишпекским улицам. Сердце замирает от сознания, что буду воевать вместе с таким знаменитым авиатором.
Слезли с машины, идем улицей села. Холодно. Натянули пилотки на уши. Ботинки и обмотки — плохая защита от декабрьской стужи. Наконец добрались до штаба, доложили. Офицер посмотрел на нас, прочитал документы.
— Замерзли? — почему-то очень строго спросил он.
— Никак нет! — в один голос рявкнули мы с Сергеем.
— Ладно. Отогрейтесь, а потом идите в Обруб. Это недалеко, через аэродром. Спросите командира полка Митрофанова. Ясно?
— Ясно!
— Исполняйте!
Что исполнять? Греться или идти? Мы решили, что лучше всего скорее добраться до полка.
У крыльца толпились летчики. Они разъяснили, где найти штаб полка.
Подул холодный ветер, бивший в лицо колючими снежинками. Мы шли, засунув закоченевшие руки в рукава, кое-как натянув на уши пилотки. Заледеневшие ботинки гулко бухали о закаменевшую на холоде, обледеневшую дорогу.
И вдруг в морозной тишине — грохот близких взрывов.
— Обстрел! Обстрел! Ложись! — истошно заорал Сергей, рванулся в канаву, я за ним. Зарылись лицами в показавшийся горячим снег.
Грохот так же внезапно прекратился, а мы все лежали, зарылись в снег, прятали головы.
— И чего это вы тут улеглись, братцы? Отдыхаете, что ли? -раздался над нами голос.
Мы выпростали головы из снега, над нами летчик офицер.
— Или впервые здесь?
— Впервые, — с трудом выдавил из себя я, перепуганный.
— То-то я вижу, в канаву вас бросило, — усмехнулся офицер. — Только зря шарахались-то. Стреляют зенитки наши. Вон по ним, — ткнул он пальцем в небо.
— Немцы? — спросил Чепелюк.
— Они самые. Видно, возвращались откуда-то, на нас налетели, да зениток испугались. Вон и ястребки наши.
Над лесом, на бреющем серыми молниями промелькнули истребители с ярко выделявшимися на хвостовом оперении красными звездами.
— Наши! На фашистов! — воскликнул я. — Отогнали?
— А как же, обязательно отогнали. Это им, фашистам, не сорок первый, мы их теперь крепенько бьем и гоняем. Вы-то сами куда направляетесь?
Смущенно пряча глаза, мы отряхнулись от снега, объяснили, перебивая друг друга.
Офицер показал на светившийся оконцем домик за аэродромом.
— Там КП.
Штаб полка располагался на окраине тоже утонувшего в снегу села. На обшарпанном крылечке часовой.
— Чего вам? — спросил он окинув взглядом двух дрожавших от холода солдатиков в обтрепанных шинелях, ботинках с обмотками и пилотках. Так экипировал нас старшина запасного полка, знавший, что в части обмундируют как положено, а то, что поновей, понадобится для очередного пополнения.
— К командиру полка! — пересилив дрожь, как можно увереннее, рявкнул срывающимся баском Сергей Чепелюк, мой напарник по многодневному и многострадальному, в товарных вагонах, путешествию до полка.
— Чегой-то к командиру? — еще раз окинул взглядом часовой, но пропустил и проводил до двери в командирскую комнату.
Командир полка, как и часовой, глянул на нас недоумевающе:
— Это кто же такие?
Вперед, вырубив два шага, опять рванулся Чепелюк.
— Разрешите доложить, товарищ майор! Старший сержант летчик Сергей Чепелюк прибыл для дальнейшего прохождения службы!
— Сержант летчик Талгат Бегельдинов прибыл для прохождения службы! — отрапортовал за ним я.
— Ишь ты, летчики, значит. А по виду... Ну, ладно, вид исправим, — усмехнулся командир, шагнул из-за стола и обратился ко мне: — А ты чего маленький такой? Годков-то сколько?
— Девятнадцать, двадцатый пошел, — для большей весомости уточнил я.
— Ну что же, это ладно, если двадцатый, — кивнул командир. — На «ИЛах» летал?
— Летал, товарищ майор. Общий налет — одиннадцать часов двадцать шесть минут.
— М-да, не густо. Ну ничего, у нас налетаете.
Он расспросил, где учились, посмотрел документы у обоих, подумал и махнул рукой:
— В третью эскадрилью пойдете, к старшему лейтенанту Шубину. Желаю успехов!
Вышли на улицу, а куда идти — не знаем. Уже совсем стемнело. На счастье, встретили группу летчиков, спросили. Пилоты с интересом посмотрели на наши куцые шинеленки, ботинки, обмотки. Рассказали, как найти командира третьей эскадрильи старшего лейтенанта Шубина.
Нашли, вошли в дом и, едва доложили, как из угла комнаты послышался голос:
— Чепелюк! Ну, конечно, он. Серега, здорово!
Оказалось, что Сергей встретил своего друга еще по довоенным временам.
И Чепелюк остался в эскадрилье, а меня ждало разочарование.
— Иди в первую эскадрилью к капитану Малову, — напутствовал меня Шубин. — У него летчиков не хватает. Самолеты стоят, может и возьмет.
Но и капитану Малову я не приглянулся. Встретил он еще суровее. Сам-то не очень высокий, окинув взглядом меня, поморщился:
— Летчиков у меня не хватает, но именно летчиков, сынок, штурмовиков. Усек, сынок? Учить тебя, как говорится, растить, воспитывать некогда. Мне воевать, немцев бить надо. А сунуть тебя в боевую машину и сразу на верную гибель — совесть не позволит. Да и машины жалко, сынок, — помолчав, добавил он. — А с тобой... Мальчик же...
И тут я взвился:
— Что Вы говорите? Я не мальчик. Мне скоро двадцать. Я же учился. Я летчик!.. Вот мои документы, — совал я сопроводительные.
Но командир не взял, отстранил руку.
— Ну и хорошо, сынок, ну и ладно, летчик так летчик. Ты вот что, ты иди во вторую, к Пошевальникову, он таких любит, возьмет. Иди, иди, — сказал он и выпроводил за дверь.
Это был удар. Я просто растерялся. Такой ситуации даже и в мыслях себе не мог представить. Учился во всех школах от аэроклуба на «отлично», самолеты водил, инструкторы хвалили, сам был инструктором. Считал себя настоящим летчиком, а тут такое... Я присел на запорошенное снегом бревно, переживая обиду.
— Я вам докажу, какой я «сынок»! Я летчик! Слышите, вы?! Летчик! — повернулся я к землянке-блиндажу. — Я заставлю вас уважать меня! — скрипел зубами от злости.
С трудом отыскал нужный дом. Обмел веником снег с ботинок, обмоток. Открыл дверь и остановился в замешательстве: к кому обращаться? Я был полон решимости драться за свои права и достоинства.
В просторной комнате было полно летчиков. Они сидели на больших деревянных нарах, стоявших у стен скамейках. Сидевшие за столом играли в шахматы. В углу широколицый старший сержант, склонившись над баяном, пиликал, видно, разучивал, перебирая потихоньку пальцами кнопки, какую-то мелодию. Четверо сгрудились вокруг стоявшей посередине комнаты железной печурки, на которой была кастрюля с вареной в мундире картошкой. Летчики ели ее, макая в рассыпанную по тарелке соль.
На вошедшего никто не обратил внимания, а я не знал, к кому обратиться, на кого излить кипевшую в груди обиду.
— Тебе чего? К кому ты? — наконец глянул на меня сидевший у печурки старший сержант.
— Мне командира эскадрильи товарища Пошевальникова.
— Командир Пошевальников слушает, — повернувшись ко мне, спокойно проговорил старший сержант.
— Разрешите доложить! Летчик-штурмовик! — на всю комнату закричал я. — Сержант Бегельдинов, по направлению командира полка, явился для прохождения службы.
Пошевальников кивнул головой, улыбнулся.
— У нас тут тоже есть в некотором роде летчики, но зачем же так кричать? Глухих у нас, вроде, нет.
Он принял протянутые мною бумаги и кивнул:
— Раздевайся, летчик, пристраивайся к печке. Вот тебе наше угощение, — протянул картофелину. Отодвинулся, уступая место у печурки. Увидев, что парень не может застывшими деревянными пальцами справиться с картофелиной, взял ее, очистил сам. Подмигнул ободряюще. — Рассыпчатая, вкусная. Ешь!
У меня отлегло от сердца, сразу исчезла злость, растворилась обида. Летчики подсунулись ко мне, расспрашивали, откуда я, как там, в тылу, чем живут люди. Я ел горячую картошку, рассказывал.
В комнате было тепло, а картошка действительно рассыпчатая и такая вкусная. И все окружавшие меня люди уже нравились мне, особенно сам командир, с виду сильный, коренастый мужик и такой простой, приветливый, с живыми добрыми глазами.
Когда я ответил, как мог, на все вопросы летчиков, он подсел ко мне, стал расспрашивать сам. Поинтересовался, откуда я родом, кто мои родители, где живут, регулярно ли я с ними переписываюсь. Даже про девушку стал расспрашивать, успел ли обзавестись, переписываемся ли. Я покраснел, но ответил как можно тверже:
— Есть девушка. Хорошая. Пишет.
— Ну, добро! И ты ей пиши. Здесь около смерти ходим, только ими, письмами родных да любимых наших, и живем.
Потом поинтересовался, как доехал, добирался. Я рассказывал охотно. И про неласковый прием в двух эскадрильях сказал. Командир усмехнулся, похлопал по плечу.
— Это ничего, не со зла это. Так, пошутили они. У нас в полку ребята хорошие. Сам увидишь. — И опять об учебе: на каких самолетах летал и, главное, как управлялся с «ИЛом», чем силен, какие за собой чувствует слабинки. В заключение сказал:
— Вот чудаки! От такого парня отказались. Останешься у нас. Мы из тебя такого штурмовика сделаем, весь полк о тебе говорить будет. В общем, у нас останешься.
Я поблагодарил командира, расхвалил штурмовика «ИЛ». Сказал, что освоился со всеми машинами, на которых обучали от «У-2» до «СБ». Но лучше всего последний, на котором летал — «ИЛ». Об этой машине говорил, захлебываясь от восторга. Заметил — командиру это понравилось.
— Да, машина хорошая, — подтвердил он. — Один недостаток — у самолета хвост не защищен, спина летчика ничем не прикрыта. Ты себе это на носу заруби. И помни: в каждом полете изворачивайся, крутись, но хвост машины, свою спину фрицу не подставляй. Они, гады, знают, что спина у тебя не защищена, норовят с хвоста зайти... Иной раз заходят, бьют нас крепко, больно бьют. А ты не давайся, соображай, крутись по-всякому, но не подставляйся. — Это уже не только мне, а всем сгрудившимся у печурки, сидевшим на нарах. — Ты его в лоб, на вираже, как угодно, крутись и помни, ты сильней, ты его в щепки, в щепки можешь, только не подставляйся, — уже кричал он, размахивая руками.
Причину такого, необычного для командира возбуждения я узнал в тот же вечер. Увидев на нарах свободное место, хотел забраться на него. Командир остановил.
— Подожди, — на плечо легла рука Пошевальникова, — сюда нельзя. Сегодня поспишь на печи с ребятами, а завтра устроим тебя как следует.
Потом я узнал, что в тот день хозяин места не вернулся с боевого задания на базу. На его месте не полагалось спать сутки. Кто установил такое правило? Неизвестно, но оно всегда соблюдалось свято.
Утром командир приказал переодеть меня. Я облачился в меховой комбинезон, унты, получил планшет. Пошевальников снабдил литературой. Штурман выдал замызганные карты.
— Знаю, проверки, экзамены надоели в школах и училищах. У нас без них тоже не обойдешься. Без зачета не полетишь. Садись, зубри. — И добавил кучу инструкций, наставлений.
Готовиться было нетрудно. Все вызубрено в школах. Посидел над картами района боевых действий. Это было ново и интересно.
Зачет сдавал через два дня штурману же. На вопросы отвечал уверенно, без запинки, начертил карту района боевых действий, дал пояснения.
Штурман погонял по наставлениям, инструкциям. Заключил:
— Молодец. К полетам допускаю.
Возвратившиеся со штурмовок летчики были хмурые. Командир швырнул на нары шлем, планшет, плюхнулся на лавку. Сидел молча. Угрюмо молчали летчики. И сегодня не обошлось без потерь.
Вечером помянули товарища минутой молчания, выпили по глотку водки. Потом Пошевальников усадил меня рядом и подробно рассказал о сегодняшнем дне, о том, как под Торопцом погиб товарищ.
В просторном штабном блиндаже собрались все летчики. Командир полка майор Митрофанов давал новые боевые задания.
— Вторая эскадрилья — на штурмовку колонны мотопехоты, на шоссе. Атаковать артиллерию. Она вот тут, справа, здесь и здесь, — водил он пальцем по карте.
Летчики затем разошлись по самолетам. Остались новички. У них сегодня обстоятельное знакомство с аэродромом. Разместился он, растянулся взлетно-посадочными полосами в крепко скованной морозом низине. Самолеты выстроились у начала полосы, в правом углу между деревьями и замаскированными объектами. Неподалеку в пустом квадрате, плотно утоптанном снегом — «пилотская курилка» — здесь они сидели на скамейках и толклись, дежуря. В противоположной стороне летной полосы, в кустах — разбитый немецкий танк, с покосившейся башней, с полустертыми черно-белыми крестами на броне — цель для учебного бомбометания.
Сначала ознакомились с самолетами. Прозрачные лучи неяркого, затянутого морозной дымкой зимнего солнца высвечивали их четкие на чистом снежном — снег сыпал всю ночь — насте, темные силуэты. Я с восхищением оглядывал их, касался руками коротких, почти как у истребителя, но мощных крыльев — несущих плоскостей. За время короткого знакомства с «ИЛами» я не уставал восхищаться. Да и как было не восхищаться этими грозными машинами, несущими разрушение и смерть врагу?!
Я шел вдоль их ломаного строя, повторяя крепко засевшую в голове, еще в школах, характеристику «летающих танков». Так их успели окрестить в наших наземных войсках.
Знал я и то, что созданный в канун войны конструкторской группой Ильюшина, штурмовик — «ИЛ-2» с одетыми в броню мотором и кабиной летчика, сразу заявил о себе, как о принципиально новом боевом самолете, равного которому не имела ни одна армия мира.
Эвакуированные с фронта, находившиеся на излечении в госпиталях летчики, обязательно заходившие в летную школу, в запасной полк, с восторгом рассказывали об «Ильюшине».
— Машина зверь, — восклицал заявившийся из госпиталя, с рукой на перевязи, молодой летчик-фронтовик. — Вооружение и вправду как у крепости, скорость — до трехсот с лишним. А живучесть как у кошки: плоскости пробиты, изрешечены осколками, пулями, на лохмотьях держится.
Гитлер издал приказ, чтобы все находящиеся на месте танки, артиллерия и пулеметы — все должны быть нацелены и стрелять по появляющимся штурмовикам. Такие они у нас «Горбатые»! Их так называют на фронте, штурмовиков, за возвышавшуюся над фюзеляжем кабину.
Я смотрел на самолеты и не мог оторвать глаз.
На следующий день, с утра командир полка приказал новичкам тренироваться на «ПО-2» и «ЯК-12» несколько дней. Затем инспектор дивизии по технике пилотирования принял зачеты.
— Можно пускать на тренировочные полеты на боевом самолете, — заключил он.
— Полетишь? — просил меня Митрофанов.
— Хоть сейчас, товарищ майор.
— Без инструктора?
— Да.
— А самолет не разобьешь?
— Никак нет, не разобью.
— Ну, добро. Видишь, вон там стоит самолет? Иди, прими его у механика и прирули к старту.
Подошел к «Ильюшину». Весь-то он изрешеченный, весь в заплатках и латках. На стабилизаторе цифра тринадцать. Между прочим, забегая вперед, я должен отметить интересное совпадение. На тринадцатом я первый раз летал на боевое задание. На самолете с таким же номером я закончил войну, летал на Берлин и в Прагу. Чего после этого стоят разговоры о том, что «чертова дюжина» приносит несчастье?
Итак, подошел к самолету. Из кабины вылезает механик. Передаю приказ майора. Механик смеется.
— На нем никто не летает.
— Ничего, я полечу.
— А в бога веришь? Номер видал?
— Верю и в бога, и в черта.
— Смотри, сержант, его зенитки любят. Кто летит — тот новые дыры привозит.
— Ладно. От винта!
Мотор работает чисто. Молодец, механик! Значит, он не только подтрунивать умеет.
Подрулил. Командир полка приказал произвести разбег, но не взлетать. Исполнил.
— Один полет по кругу, — говорит Митрофанов и приказывает выложить «Т».
Взлетел, набрал высоту. Сердце поет. Еще бы, лечу на боевом самолете! Лечу на фронте! Лечу один! Точно рассчитал и сел на три точки у «Т». Даже сам удивился, как это здорово получилось. Смотрю, командир показывает: еще, мол, один полет. Повторил. Потом еще раз.
— Хватит на сегодня, — сказал Митрофанов, когда я в третий раз лихо произвел посадку.
Зарулил машину на место. Механик улыбается. А у меня чувство такое, что хочется громко кричать от радости. Вылез из кабины. Иду по аэродрому в комбинезоне, шлеме, унтах, планшет сбоку висит. Сам себе кажусь героем. Митрофанов выстроил всех, кто был в это время на аэродроме, и скомандовал:
— Сержант Бегельдинов, два шага вперед! Я сделал два шага и застыл.
— За отличный полет по кругу объявляю Вам благодарность. — Служу Советскому Союзу! — А у самого в душе все ликует. Вновь полеты по кругу, потом на фотобомбометание. О нем следует рассказать подробнее. Наш полк стоял в деревне на опушке леса. «Ильюшины» взлетали с замерзшего болота. Бойцы аэродромного обслуживания маскировали их еловыми ветками.
Нас с Чепелюком еще не пускали в бой. По утрам мы с завистью провожали в воздух бывалых летчиков. Днем, набрав положенную высоту, вводили свои штурмовики в крутое пике и яростно атаковали полузанесенные снегом танк и пушку. Атаковали, но не стреляли. Роль пушек и пулеметов выполняли фотокамеры. Рассматривая проявленную пленку, командиры судили о результатах наших полетов.
Через несколько дней нас начали тренировать строем в составе пары и звена. Это очень важно — уметь строго держаться в строю.
Самый памятный день
Наконец-то наступил тот самый памятный день. Он остался во всей моей жизни навсегда — семнадцатое февраля 1943 года, когда я услышал долгожданную, заветную команду:
— По самолетам!
Прозвучала она не так торжественно, как себе представлял, как она, может быть, тысячи раз звучала в моих мечтах там, в оставшихся позади, летных училищах, наверное, еще и в аэроклубе. Командир полка майор Митрофанов отдал ее, как показалось мне, уж слишком по-будничному обыденно, будто посылал нас на уборку картофеля. Нет, не так я представлял свой первый вылет за линию фронта, на штурмовку объектов и живой силы противника... Ну что же, неважно, как произнесена, важно, что отдана:
— По самолетам!
Я кивнул механику. Тот махнул рукой.
Самолет на старте. Здесь уже вся девятка. Ведущий наш комэск Пошевальников, он запрашивает разрешение на взлет. Разговор командира с дежурным у меня в наушниках.
Мотор набрал обороты, вошел в ритм. Я подвигал ручкой управления элеронами, погонял мотор на пределах. Пошевальников явно наблюдал за мной, фиксируя каждое движение машины новичка. Он-то сам, наверное, еще бы не дал мне «добро» на боевой вылет, хотя летал я вроде уверенно. Он бы потаскал меня за собой в тренировочных, заставил побросать болванки в разбитый немецкий танк. Но командир полка приказал.
В небе зеленая ракета.
— Пошли, соколики, — раздается в наушниках громкий и совсем близкий голос Пошевальникова.
Теперь по газам. Натужно, на пределе, ревет мотор. Я отпускаю тормоза, самолет бежит по взлетной, набирает скорость. Ручку на себя. Самолет легко отрывается от земли, устремляется вверх, в затянутое жиденькими облаками небо.
Ведущий уже за облаками. Он отдает команды командирам звеньев. Я занимаю свое место: строго на расстоянии двух плоскостей справа, на расстоянии двух фюзеляжей позади ведущего звена и, как приказано, лечу, будто привязанный к нему.
Внизу, почти совсем рядом, аэродром истребителей. Самолетов не видно, они в маскировке. Несколько машин: один, два, три, четыре — бегут по взлетной, отрываются от нее, ввинчиваются в высоту. Под нами линия фронта. Ломаная линия наших траншей. На противоположной стороне — немцы. И наши и те, отсюда, с высоты тысячи пятисот метров, неразличимы — цвет и форма шинелей кажутся одинаковыми, только поблескивающие на солнце каски чем-то немного отличны, у немцев они вроде темнее и блестят не так ярко.
Я смотрю на них, на немцев, и осознаю, что сейчас, в данный момент, я над ними, что их гнусные жизни зависят от меня. В моих руках, мне подвластна крылатая машина, а в ней, в бомбовом отсеке — противопехотные бомбы, реактивные снаряды авиационных катюш, две пушки и пулеметы. И достаточно в эту минуту, на секунду накренить самолет, пронестись над ними бреющим, прижать вделанные в ручки гашетки, кнопки, и вся эта разящая сила обрушится на их головы, пронесется все уничтожающим огненным смерчем. Всесильное могущество над копошащимися подо мной маленькими серыми фигурками немцев окрыляет меня, возвышает в самосознании. Я даже наклоняюсь вперед, стискиваю ручку управления так, словно и вправду готовый бросить самолет вниз, на врага. Но одергиваю себя, прогоняю наваждение. У эскадрильи, значит и у меня, четко определенная задача, цель, к которой ведет комэск.
— Тринадцатый! Тринадцатый! Отстаешь. Подтянись! «Тринадцатый!» О, Аллах! Это ведь ко мне! Я тринадцатый, догадываюсь я, вспомнив, что именно эту, будто желтком выведенную цифру, увидел на фюзеляже своего самолета. Я тут же спохватываюсь, кричу:
— Команду принял, есть подтянуться! — Забыв о том, что обратной связи с командиром у летчиков нету. Работаю ручками, прибавляю газа и занимаю свое место в треугольнике.
Эскадрилья пересекает линию фронта вполне благополучно. Зенитчики противника не успевают открыть огонь.
— Волга, Волга, я двести пятый. Цель подо мной. Разрешите атаковать, — раздается в ушах голос ведущего.
— Двести пятый, атаковать разрешаю! — Это команда с наблюдательного пункта на переднем крае, на котором находится кто-то из воздушной дивизии, либо корпуса, а может, и тот и другой. Наблюдая за действием группы штурмовиков, они и подают команды.
Впереди, по бокам самолетов эскадрильи, белыми одуванчиками вспыхивают взрывы зенитных снарядов. Два-три — целый букет. Кажется, что они уже покрывают все небо. А вот и скорострельные, автоматические немецкие пушки — эрликоны напомнили о себе. Их снаряды летят цепочкой красных шариков, рвутся рядком, пятная небо пунктиром разрывов. В небо раскаленными штыками впиваются светящиеся желтоватые трассы очередей крупнокалиберных пулеметов. Я, обо всем этом знавший пока только по рассказам летчиков, теперь вижу своими глазами.
До сих пор, думая о себе, я верил, что в бою не струшу даже в критическую минуту, столкнувшись лицом к лицу со смертью. Даже пытался примерять к себе подвиги героев-пехотинцев, танкистов, летчиков, о которых писали, кричали газеты, прикидывал и был уверен, что сумел бы повторить любой из них. При необходимости в бою не отвернул бы, идя в лобовую атаку, повел бы самолет на таран. В мыслях все вроде выходило. А на деле... Теперь мне кажется, что смертоносные красные шары — снаряды эрликонов, пулеметные трассы — все — в него, только в мой самолет. Даже не в самолет, а в меня. Я стискиваю зубы. В голове звонкими молоточками слова комэска Пошевальникова: «При обстреле зениток бросай машину в разрыв. Помни, дважды в одном месте снаряды не рвутся. Зенитчики почти после каждого выстрела, делают доводку до цели, а она движется. Когда огонь ведут эрликоны, уклоняйся от трасс, они видны». Слова эти засели в моей голове, и я делаю, как учил командир, бросаю самолет в разрывы, отвожу от огненных трасс.
Ведущий пикирует к земле. Я — тоже. Самолеты пробивают сгустившуюся облачность. Станция под нами.
Навстречу снова разрывы, светящиеся трассы. Я их уже не вижу. В ушах голос ведущего:
— Цель подо мною. Сбросить предохранители! Атакую!
Я атакую за ним. Вывожу самолет из пике. Ведущий тут же увлекает эскадрилью на второй заход, я вслед за ведущим.
И второй боевой вылет я совершил в тот же день. Помню его до мельчайших подробностей. Помню, как тщательно готовился к полету, проверял состояние материальной части, закрыв глаза, вспоминал все ориентиры местности, где придется работать. Волнение снова охватывает меня, когда звучит долгожданная команда:
— По самолетам!
Самолет ведущего на этот раз штурмана полка Степанова, описал над аэродромом круг, качнул плоскостями и лег на курс, ведя за собой девятку «ИЛов». Следя за приборами на щитке, в то же время не спускал глаз с ведущего, сверял свое место в строю. Скоро ли цель?
Шли на небольшой высоте. Быстро промелькнули знакомые ориентиры: сожженная деревушка, изгиб реки. Так же быстро миновали передовую: окопы и траншеи, позиции артиллерийских батарей — своих, а затем и противника. Молчат зенитки врага, бессильные против низко летящих штурмовиков.
И все же как медленно тянется время!.. Но вот прозвучал в наушниках шлемофона голос ведущего группы:
— Внимание! Приготовиться к атаке... Приготовиться к атаке!.. Первым отбомбился Степанов, следом освободились от бомб и остальные экипажи. Видел я, как на месте их падения мгновенно вырастали внизу столбы черно-багрового дыма. И совсем неожиданно прозвучал голос ведущего группы:
— Внимание! Правее и левее нас «Мессершмитты».
Вот досада! Самое время повторить заход, ударить по всполошившейся пехоте реактивными снарядами, сбросить на нее из кассет мелкие осколочные, обстрелять из пушек и пулеметов. Снова вывожу самолет из пике и вижу подо мной уцелевший паровоз. Не раздумывая, бросаю самолет на него. Прошил паровоз из пушек. Подо мной грохнуло, над паровозом белое облако пара.
Подняв самолет, крутнул головой. В наушниках голос командира:
— Тринадцатый, тринадцатый, где ты? Где ты? Вернись в строй! В строй, тринадцатый! — уже кричит он.
— Я тринадцатый! Я тринадцатый!. — опять забыв об отсутствии обратной связи, кричу я. — Иду... иду!
Оглянулся. Группы нигде не было. Атака на паровоз заняла секунды, но их хватило на то, чтобы командир увел группу. У меня зашлось сердце, закололо в груди. По-честному, в ту минуту я не знал, где аэродром, не соображал, в какую сторону лететь. Руки произвольно двигают ручками, и самолет все еще кружит над станцией, набирая высоту.
Снова заговорили уцелевшие зенитки. Теперь они все сосредоточили огонь по одинокому, кружившему на одном месте «ИЛу».
Опомнившись, кое-как сориентировался, развернул машину в сторону леса. В нем широкая просека и шоссе, справа речушка. Все это запечатлелось в сознании, когда летел над ними к цели. Знакомые ориентиры прибавили уверенности. Я послал самолет вниз, пошел бреющим над лесом.
Летел так, выжимая до предела газ, минуты полторы. И увидел черневшие на фоне очистившегося от облаков неба самолеты эскадрильи. Штурмовики темными крестиками обозначились на фоне морозной голубизны.
Группу догнал у аэродрома. Благополучно сел. Зарулил на стоянку. Вылез из кабины и плюхнулся на снег, так меня вымотало.
Механик ходил вокруг самолета, что-то бормотал, удивлялся:
— Ты гляди, ни одной пробоины! Или не удалась штурмовка?
— Удалась, — отдышавшись, подмигнул я. — Штурманул как надо.
— Тогда ты, старший сержант, счастливчик. В рубашке родился. Случаются и такие, — заключил механик.
На КП меня ждал разнос. Степанов ходил взад-вперед, заложив руки за спину.
— Ты что же это, лихач, мать твою!.. Ты как же это посмел? Я что говорил, что приказывал!! А ты отсебятину, на третий заход. Кто разрешил? Кто дал право?! Под арест тебя! Под трибунал! Да ты знаешь, что на нас «Мессеры» летели, а ты без приказа?! Ты знаешь?!.
Я стоял ни жив, ни мертв. Сейчас мне было страшнее, чем в моем одиночном полете.
Накричавшись, командир заключил:
— От полетов отстраняю. Снег чистить с солдатами, на волокуше будешь летать!
Потом был разбор вылета. Степанов отошел. А тут еще звонок летнаба из пехотной части: плацдарм для наступления, который расчищала эскадрилья, обеспечен.
— Командир корпуса объявляет благодарность! Спасибо, ребята! — хрипела на весь блиндаж телефонная трубка.
Наверное поэтому Степанов резко переменил тон, докладывая вошедшему командиру полка.
— Как Бегельдинов? — спросил командир.
— Хорошо. Держится уверенно. Паровоз одним заходом подбил.
— Что ж, добро. Полетите еще раз. Не устали?
Я чуть не подпрыгнул от радости. В первый день три боевых вылета! Нет, я положительно родился под счастливой звездой!
Тем временем продолжались жестокие бои за Глухую Горушку. По нескольку раз в день летали штурмовать живую силу и технику врага. Рано утром командир эскадрильи Пошевальников повел группу в составе двенадцати самолетов на уничтожение артиллерийских позиций противника. Подлетаем к линии фронта и попадаем под жестокий зенитный огонь: бьет по крайней мере полдюжины батарей. Начинаем маневрировать.
Ведущий дает команду: «Приготовиться к атаке!»
Включаю механизм бомбосбрасывателя, убираю колпачки от кнопок сбрасывания бомб, реактивных снарядов и от гашеток пушек и пулеметов. Проверяю приборы. Внимательно слежу за действиями ведущего.
Разворачиваемся для атаки, и в этот момент мой самолет сильно подбрасывает, будто кто-то ударил его снизу. Мотор начинает работать с перебоями. Ясно: попадание...
Тем не менее вхожу в атаку.
Мотор работает все хуже и хуже. Выхожу из строя и всеми силами пытаюсь дотянуть до линии фронта, благо, она недалеко. Чувствую, что машина окончательно отказывается слушаться. Но аэродром уже подо мной. Кое-как дотянул, сел — плюхнулся на посадочную и уж не помню как доплелся до КП, что там говорил. Знаю, в душе была тихая радость за эти первые дни, за первые боевые и за мои счастливые посадки.
Боевые будни
И началась моя новая, совершенно новая неизведанная, ни в каких моих еще ребяческих фантазиях не фигурировавшая жизнь, полная невероятных сложностей и, самое главное, опасностей. Можно совершенно точно сказать, что теперь я, как все тут на аэродроме и около него, ходил по самому краю гибели. Она, эта самая гибель, смерть, витала, особенно, конечно, над летчиками. А они — пока я еще не мог сказать о себе — свыкнувшись, вроде как и не замечали этого, во всяком случае, не говорили о каких-то там опасностях, тем более, о грозящей им, висевшей над ними при каждом вылете, угрозе смерти.
Возвращаясь из полета, те, кто оставался в живых — тогда, в тот период, когда летали на «ИЛах» в одиночку, без стрелка — шутили, обязательно подмечая что-то смешное в штурмовке, в воздушных схватках с фашистами, потом, вконец вымотанные, обессилевшие, кое-как добирались до землянки и валились на койку или деревянный топчан, забываясь тут же в полумертвом сне.
Я ко всему этому еще не привык, страшно переживал каждый вылет, штурмовку, тоже вымотавшись до предела кое-как выбравшись из кабины, почти всегда с помощью обязательно встречавшего у посадочной полосы механика, еле живой брел домой, тоже валился на койку-топчан. Только не сразу приучился засыпать как другие летчики, снова и снова переживал перипетии боя, бесконечные броски к земле — на цели, жуткое лавирование между взрывающимися вокруг снарядами. Снова ощущал толчки от взрывных волн, удары осколков снарядов в корпус.
Постепенно, от вылета к вылету, я ко всему этому привыкал, осваивался. А вылетов назначалось все больше и больше, до четырех-пяти раз в день. Переживать детали полета, отдельные эпизоды штурмовок, воздушных схваток с противником уже некогда, да и сил нету.
Шли бои под Старой Руссой. Особенно ожесточенное сопротивление немцы оказывали нашей армии все под той же деревней Глухая Горушка, где немцы создали мощный узел сопротивления. Наша авиация принимала в боях непосредственное участие, помогая пехоте всеми силами и средствами, штурмовали передовые линии обороны фашистов, громили их технику на подходах к фронту и на позициях.
На этот раз мы вылетели девяткой. Прикрывала нас восьмерка истребителей. Задание строгое: атаковать артиллерийские позиции противника, затем левым разворотом, через болото, пересечь реку Ловать и сесть на свой аэродром. Только так. Другой маршрут могут преградить «Мессеры».
В одиннадцать ноль-ноль командир полка Митрофанов вызвал штурмана полка и летчиков. Сказал:
— Под Старой Руссой наши пехотные войска ведут ожесточенные бои. Противник вводит в бой резервы. Пехотинцам тяжело. Командир пехотной дивизии просит помочь с воздуха, бить по подходящим танковым и пехотным колоннам. Говорит, что на станции, вот этой, — ткнул он карандашом в карту, — прибывают и разгружаются воинские составы, в них живая сила и техника.
Основная цель — деревня Глухая Горушка. В ее окрестностях немцы концентрируют силы. Задача — разгромить артиллерию противника. Горушка — крепость может и неприступная, но брать нужно, — разъяснял Митрофанов. — Только с умом штурмовать, с горячим сердцем и холодной головой, — повторил он любимое наставление.
Летчики сгрудились вокруг карты, думали, ломали головы над, казалось, неразрешимой задачей. Каждый, уже зная расположение зенитной артиллерии, позиции эрликонов, предлагал свое. Я тоже успел слетать в этот район, но молчал, мне высказываться еще рано — новичок, салага, хотя за спиной уже семь сложных боевых. Летал на Ржев, через Западную Двину, на Торопец, Великие Луки, в сторону окруженной немецкой демьянской группировки. Перелетал через реку Ловать, участвовал также в штурме укрепленных немцами деревень Семкина Горушка и других. Эскадрильи били, крушили стянутые в кольцо окружения немецкие части: живую силу, танки и артиллерию.
Вылетели тут же. Впереди, со звеном старшины Горбачева, майор Русаков, за ним звено старшины Петько, в котором ведомым шел я. Как это получилось? Может, командир полка подобрал специально, но в группе в основном новички из разных эскадрилий. Видно, потому ведущим — опытный ас.
Вскоре к нам пристроились «ЯКи». Прикрывают нас сверху и снизу.
Окруженная лесом деревня Глухая Горушка и соседние с ней села — ориентиры — были знакомы, эскадрилья уже летала сюда, штурмовали позиции противника, но недостаточно эффективно. Штурмовики натыкались на мощный заградительный огонь зенитных батарей, срывавший атаки.
Уже в полету в наушниках голос с земли: — Сокол, Сокол! — наши позывные, — Я Резеда, я Резеда. Мы на КП, на переднем крае пехотной дивизии. Будем держать с вами связь.
Над «ИЛами» проносится восьмерка краснозвездных истребителей — прикрытие.
Показалась линия фронта. И сразу предупреждение с КП:
— Горбатые, Горбатые будьте бдительны — впереди немецкие истребители, их до шестидесяти.
«Почти столько же, сколько было в том эпизоде уничтожения наших двадцати пяти «ИЛов», о котором рассказывали, — мелькнула мысль в голове.»
— Летят в трех ярусах, — продолжал докладывать наблюдатель. — Первый — три тысячи метров, второй — тысяча пятьсот, третий — на бреющем. — Это все нам. И истребителям: — «Маленькие, Маленькие, прикройте Горбатых, прикройте!»
Стремительные остроносые «ЯКи» занимают боевые позиции. Два барражируют над нашим звеном.
А перед «ИЛами» стена разрывов, огненные вспышки. Ведущий уходит вправо. Я повторяю маневр, обходя полосу заградительного огня. Срывается вниз, падает один, пораженный снарядом или пулеметной очередью, «ИЛ». Тут же за ним второй. «Кто это, кто напоролся?» — мелькает мысль. Но сейчас не до этого, сейчас главное — боевое задание, ставка в котором жизни всех остальных летчиков группы, в том числе и моей.
Русаков сбит. Оставшиеся штурмовики в самой гуще разрывов. Плотность огня нарастает. Валится на бок, падает еще один «ИЛ». «Восьмой, — успеваю ухватить глазами его номер. — Это же Петько», — соображаю я. Срываются, падают, оставляя дымный след, еще два «ИЛа».
Я осматриваюсь. Вокруг никого, оставшееся целым звено Горбачева, выйдя из атаки, ушло в сторону аэродрома. Я опять один. Нет, не один, ко мне вплотную пристраивается самолет Шишкина. Он, Шишкин, такой же новичок, как и я. Парень ничего, напролом не лезет, но когда надо, себя не пожалеет, в бою не подведет. И теперь он успевает махнуть рукой, мол, действуй, я прикрою. Значит, теперь ведущим я, старший сержант Бегельдинов, мне принимать решение.
Боезапас не израсходован, цель под нами. Я атакую, Шишкин за мной. Стреляем из пушек, на выходе из атаки, сбрасываем оставшиеся бомбы.
Взгляд вниз. Там сплошной огненно-дымовой хаос. Рвутся снаряды и вокруг моего самолета. Стреляют уцелевшие после штурмовки зенитки. Их меньше, но огонь ведут прицельно. Кренится валится на бок самолет Шишкина. Над ним, в смертельной схватке, кружат наши и фашистские истребители. Наших почему-то совсем немного, но они не давали фашистам сбить Шишкина.
В ушах голос с КП:
— Маленькие! Маленькие! Прикройте оставшихся Горбатых. Прикройте от «Мессера»! Прикройте!
Никакого «Мессера» я не вижу, может был за облаками. На всякий случай, лечу над землей, метрах в двадцати над лесом.
И тут, откуда-то сбоку, светящиеся пулеметные, а может быть, и пушечные очереди. На меня в крутом вираже заходит «Мессер». Намного превосходя в скорости, немец, не рассчитав, проскакивает мимо. Он разворачивается, пристраивается в хвост. Я, работая рулями, ушел в бок и вниз. «Мессер», послав по штурмовику пулеметную очередь, снова проскочил мимо. Опять помешала скорость.
Теперь, в непосредственной близости от «ИЛа», скоростное преимущество истребителя превращается в свою противоположность.
Меня охватил страх. Боялся не за себя, за то, что опять отстал, оторвался от группы, а может, из-за своей совершенной беспомощности, незащищенности от немецкого стервятника. Он виражил, маневрировал, но я сделать ничего не мог, истребитель летел в мертвой зоне и был недосягаем для пушек, пулеметов, эресов штурмовика, способного только к лобовой атаке.
Фашист крутится около, залетает с боков. «Собьет над своими окопами, чтобы показать себя сидящим там и, конечно, наблюдающим за воздушным боем немцам», — соображаю я. И вдруг меня охватывает злость.
«Что я бегу-то? А если самому напасть?» План атаки созревает моментально. Я посылаю самолет вверх. Немец за мной. Краем глаза замечаю, что мы уже за линией фронта, на нашей стороне. И тут же надо мной, в небе появляются «ЯКи». Это придает силы, уверенности. Вести бой над своей территорией всегда легче. Я бросаю самолет в пике. «Мессер» за мной. Рывком ухожу в сторону. Немец не улавливает этого маневра, на миг оказывается впереди «ИЛа», точно в прицеле. Давлю на гашетку, обрушивая на фашиста всю мощь лобового огня штурмовика. Цепочка отделившихся от «ИЛа» красных шаров — реактивных снарядов, протягивается к «Мессеру», впивается в него. Взрыв. Истребитель окутывается дымом, валится на крыло и летит к земле.
К падавшему куда-то на артиллерийские позиции самолету бежали наши солдаты.
Победа моя явная: отогнал или сбил немца. Но все это я сделал опять же без разрешения комэска, своего ведущего. Снова оторвался от строя и остался один. Это после строжайшего предупреждения Митрофанова. Тем более, что он предупреждал нашего ведущего — «Бой фашистских истребителей не принимать — это дело «ЯКов». Заставят меня снег с летной полосы убирать, разбитый танк в лесу чурками бомбить.
Развернув самолет в сторону аэродрома, я только тут почувствовал, что мотор барахлит. Самолет почти не слушается, приборы показывали утечку масла и воды. Был явно подбит или пробит водомаслорадиатор.
Управлял машиной с огромным трудом, кое-как дотянул до аэродрома, плюхнулся «закозлив».
Летчики вытащили меня из кабины, окружили, спрашивали, как чего. Сообщили о потерях. Из девяти самолетов на аэродром вернулось шесть. Помолчали, отдавая дань памяти невернувшимся. Потом опять заговорили. Удивлялись, каким образом остался жив. Осмотрев машину, удивился и механик — как я на ней дотянул? Сказал восхищенно:
— Ну и мастер! Вот тебе и тринадцатый!
Отдышавшись, я стал докладывать командиру полка о произведенной штурмовке, о гибели товарищей.
Прибежал посыльный, прочитал радиограмму из штаба наземной армии: «Пехота и артиллеристы горячо благодарят за оказанную помощь».
— Ты-то как? — Почему отстал, задержался? — спросил он меня. Я мялся, не знал, что ответить. Сказать правду, что ввязался в воздушный бой, не решался: что-то бормотал насчет «Мессеров», от которых уходил в сторону. Умолк.
Молчали и летчики, горевали о сбитых друзьях, клялись отомстить. Снова осматривали мой самолет, удивлялись, как я мог дотянуть, посадить машину при таких повреждениях.
— Молодец! — похвалил Пошевальников, — настоящим летчиком становишься!
Похвала не тронула, не дошла до моего сознания. На уме одно — гибель на моих глазах товарищей. Это было страшно, не укладывалось в голове.
Летчики, видя мою растерянность, сами переживая, успокаивали:
— Что делать, Толя? — так они теперь называли меня. — Мы на войне, а тут главное дело — убивать. Мы убиваем, нас убивают. Ничего, привыкнешь. После первых штурмовок каждый из нас, как ты, переживал. Притерпишься.
Я кивал головой, соглашался. Еле передвигая ноги, добрел до дома, упал на печурку, лицом вниз.
Утром появился посыльный. Вызывали меня к командиру полка.
Я понял — разнос. Придумывал какие-то оправдания насчет второй задержки при полете и этом самом бое.
Митрофанов встал из-за стола, пытливо глянул на меня и прибавил опасений.
— Что-то ты, Бегельдинов, наделал... Из дивизии звонили, вызывают тебя, лично. Сам комдив, Герой Советского Союза товарищ Каманин. Приказано явиться немедленно! — поднял он палец.
— Зачем? Что им? — Чтобы хоть что-то сказать, буркнул я, хотя отлично знал, был уверен — вызывают для ответа за самовольство.
— Зачем понадобился, не знаю, — развел руками Митрофанов.
— Про вылет девятки, штурмовку доложил, о потерях тяжелых — тоже. Ты за них не в ответе. Тут уж мне выволочка. Потерял людей, значит, плохо готовил. Да чего гадать, пойдешь, узнаешь, может, отличился чем? — И проводил.
В штабе меня ждали. Адъютант провел без доклада. За столом сам комдив, прославленный Герой, полковник Каманин. О нем мы все наслышаны, читали о его с товарищами летчиками подвиге по спасению челюскинцев, и в полку о нем говорили хорошо, хвалили как летчика, командира и человека. Правда, тогда, в тот момент, я об этом не думал, ждал разноса.
Но полковник не закричал, не заругался. Он вышел из-за стола и, к моему удивлению, протянул руку. Я заспешил, пожал ее.
— Та-а-к, значит, ты и есть тот самый старший сержант Бегельдинов Талгат, из Казахстана, — то ли спросил, то ли констатировал он. Повернулся. Я только тут заметил сидевших у стены капитана и человека в штатском. — Это он и есть, герой тот самый, о котором спрашивали. И ко мне. — Это военкоры из нашей дивизионки и из местной газеты. — Он назвал ее, но я не расслышал. — Пришли написать о тебе, о подвиге твоем. Рассказывай, как это ты его, «Мессера»-то, сбил? Это же надо! За всю войну не было такого, чтобы штурмовик «ИЛ» в воздушном бою, один на один с «Мессером», сбил его! Это же надо! — воскликнул он. — Ну молодец, ну летчик!
У меня будто гора с плеч свалилась. Я расслабился и только тут разглядел комдива. Он был невысокий, довольно плотный, но подтянутый и просто красивый. Благородное лицо, гладкая прическа и глаза чуть смеющиеся, а вообще, добрые и умные.
Он повернулся к журналистам.
— Вы представляете, что сделал этот старший сержант? Он одним разом напрочь опрокинул представление о возможностях наших «ИЛов». Мы же, да что мы, сами конструкторы, ограничивали их исключительно штурмовочно-разведывательными задачами. Во всем остальном, в отношении с вражескими истребителями, приравнивали к тяжелым бомбардировщикам. А для тех закон: появились истребители противника, беги, спасайся, на бреющем или как. Тем более, если не в строю, если в одиночку. О том, чтобы силой с ними меряться, бой принимать, не могло быть и речи. А он, видишь, принял бой. И ведь победил, сбил гада. Да какого?! Вот донесение артиллеристов, — поднял он исписанный листок. «В одиночном бою, — Вы слышите, «в бою!»- летчик на «ИЛе» № 13 сбил немецкого аса, капитана фон Дитриха, награжденного крестами за подвиги в Испании, Франции, на Балканах. На его счету около двухсот боевых вылетов, много сбитых самолетов», — прочитал он, и ко мне:
— Ну что же, герой, рассказывай, как ты его.
Тут я опомнился, зачем-то выпалил то, что должен был сказать при входе:
— Товарищ полковник, летчик Бегельдинов по Вашему приказу...
— Да ладно, — махнул рукой командир. — Ты давай о бое с истребителем. Да ты садись.
Я сел. С растаявших унтов потекла вода. Опять смутился.
— Давай рассказывай, — подбодрил комдив. — Кстати, почему из полка про это не донесли? Такое дело, можно сказать, ЧП, на всю армию, а они молчат. Может, из-за понесенных потерь?
Я замялся.
— Твой бой с «Мессером», как ты его гонял, как сбил, зафиксировали истребители, с земли — артиллеристы. Они и летчика-немца, взяли. Тут же нам в штаб донесли.
Я стал рассказывать. Говорил путано, сбивчиво, — волновался. Оба газетчика записывали, задавали вопросы.
Рассказывал и о себе, о семье, о своих восьми боевых.
— А немец-то, ас, — перебил меня комдив, — когда ему сказали, что сбит новичком, — в полку Митрофанова, считай, все новички, мальчишки, — заметил он, — даже просил показать того аса. Так и не дождался, в штаб армии его отправили. Так что ты, Бегельдинов, не обижайся за то, что не дали повидаться с ним. Мы его тут же отправили. Надеюсь еще собьешь, не одного, тогда и побеседуешь. Если выживут, — пошутил он. Все рассмеялись.
Каманин поднялся из-за стола. Я вытянулся по стойке смирно.
— За отличное ведение боя с вражеским истребителем, за то, что своими смелыми действиями в воздухе, умелое использование огневой мощи самолета, за то, что открыл новый этап в истории штурмовой авиации, представляю старшего сержанта авиации Талгата Бегельдинова к награждению орденом Отечественной войны второй степени, — торжественно проговорил он.
— Служу Советскому Союзу!! — выкрикнул я.
В заключение Каманин наполнил стаканы водкой, предложил тост за мой успешный бой, за победу над врагом.
На следующий день дивизионная, армейская и даже местная гражданская газеты вышли с крупными заголовками: «Советский штурмовик «ИЛ-2» побеждает!» «Бой штурмовика-бомбардировщика с вражеским истребителем».
Один экземпляр газеты со статьей обо мне я послал отцу, другой — своей Айнагуль.
В полку о моей победе над немцем уже знали все. Митрофанов, Пошевальников сердились, встретили недовольные.
— Чего же ты так-то, сынок? — укорял командир полка. — «Мессера» гробанул и ни слова?! — Недоуменно смотрел на меня.
Что сказать, чем оправдаться, я не знал, врать не умел. Молчал, жался.
— Ну и ладно, — махнул рукой комэск. — Сбил и хорошо. И так держать!
— Следующего собью, немедленно доложу, — выпалил я.
Все засмеялись, поздравляли, чествовали первую победу. И, как обычно, желали — не последнюю.
За этот подвиг, совершенный мною, молодым летчиком, на счету которого не было и десятка боевых вылетов, мне была вручена первая правительственная награда — орден Отечественной войны II степени.
Теперь никто в полку не считал больше Толю новичком. Я получил признание как вполне оформившийся воздушный боец. И Сергей Чепелюк, с которым вместе пришел на фронт и который тоже успел выйти из разряда новичков, как-то сказал полушутя:
— Ты никак вырос, Толя? Совсем большой стал.
— А ты как думал, — принял шутку я. — Какая бы мне была цена, если бы не вырос здесь. Фронтовым духом дышим, Серега, оттого и растем.
Не наделила природа меня богатырским сложением. Но как летчик штурмовой авиации я рос на удивление быстро. Потому что старался, как обещал после первого боевого дня командиру полка. И каждый вылет прибавлял мне опыта. Воюя, я продолжал учиться. Хорошей школой стали для меня бои под Демьянском, южнее древнего озера Ильмень, где советские войска завершили разгром стотысячной вражеской группировки врага. «Пистолетом, нацеленным в сердце России» называли свою демьянскую группировку немцы, не оставлявшие надежды на новое наступление на Москву. Напрасная надежда!
... Начались затяжные осенние дожди. Намокшие сосновые леса радовали глаз густой зеленью, что выделялась на фоне пасмурного неба. Вода быстро впитывалась в песчаную почву, и летные поля, к счастью, не раскисали, позволяя самолетам взлетать.
В дни передислокации на Калининский фронт погода также была хмурой, с невысокой облачностью. Правда, метеорологи успокаивали: ожидалось улучшение.
Эскадрильи одна за другой взлетали с небольшим интервалом и брали курс на северо-запад. Шли под невысокой сплошной облачностью. В районе Калинина действительно распогодилось. Мы сели без спешки и неприятностей.
Первые дни пребывания штурмовиков на новых, еще не обжитых аэродромах прошли непримечательно. Но с подготовкой следовало спешить; ухудшалась погода, похолодало, изредка шел снег. Полки включились в боевые действия. Предстояло нанести удары по прифронтовым объектам в районе Ржева и Великих Лук. На Великолукском и Ржевско-Вяземском направлениях наземные войска осуществляли наступательные операции, чтобы сковать противника.
«Пике в бессмертие»
«Десятый боевой» — так можно было бы назвать этот эпизод. Он действительно, всего лишь десятым значился в моей личной летной книжке. О нем свидетельствовали скупые записи командира эскадрильи: «Дата — 1943, II/18, тип самолета — «ИЛ-2», продолжительность полета 1 час 24 мин. Днем» — вот и все. Судя по этим лаконичным сведениям для боевого летчика-штурмовика день был обычным, будничным. Утром получили задание, вылетели, что-то там поковыряли снарядами из пушек, бомбами и благополучно возвратились на аэродром. Но это как бы с точки зрения боевого опытного летчика-штурмовика. А для меня?! Кто был я, в своем полку, в эскадрильи, командовал которой непревзойденный мастер пилотажа, штурмовок и воздушного боя Степан Демьянович Пошевальников... Я новичок, которому только-только доверили боевую машину, считай, еще по-настоящему, по-боевому, не облетанный, врагом не обстрелянный салага. Во всяком случае, именно так оценивал себя я, в окружении летчиков, хотя по возрасту они, без малого все, были моими одногодками — от восемнадцати до двадцати. И воинские звания почти у всех — от сержанта до старшины, не выше. Сам наш командир эскадрильи носил старшинские погоны. В составе эскадрильи были и офицеры, но их единицы.
«Старики» — опытные кадровые летчики — были фактически полностью уничтожены фашистами в первых внезапных варварских налетах на наши аэродромы, в воздушных боях с ними же на оставшихся в воздушных армиях устаревших, никак не отвечавших современным требованиям машинах, которые немцы легко сбивали в первых схватках. Однако все это никак не мешало мне гордиться, просто кичиться, своим высоким и, по-моему, не менее почетным, просто гордым званием летчика-штурмовика, летающего на тогда еще новом, но уже прославленном в боях, наводившем страх на врага, штурмовике «ИЛ-2».
Именно об этом, каждый раз садясь в кабину теперь уже официально закрепленного за мной самолета, думал я, представляя себе предстоящие, ждущие меня яростные схватки с врагом в воздушных боях, мастерских штурмовках вражеских укреплений, танковых колонн — в общем, о героических победах.
Такими мыслями была занята моя голова в тот момент, когда в просторный наш блиндаж ворвался посыльный. (Как я уже выяснил, они, посыльные, тут не входили, именно врывались с чем-то срочным, экстренным). Он выдернул откуда-то исписанный листок и, утвердившись в центре блиндажа, стал вычитывать фамилии летчиков нашей, второй, эскадрильи.
— Названных — на командный пункт полка. Немедленно! — зачитав список, заключил он.
На КП так на КП. Летчики собрались и уже через несколько минут сидели на лавках в командном пункте.
Командир эскадрильи Пошевальников был как всегда торжественно краток:
— Товарищи летчики! Мы знаем — враг готовится к прорыву, к мощному контрнаступлению, концентрирует для удара живую силу и технику. На их прифронтовую станцию заново поступают эшелоны с оружием, боеприпасами и всем остальным, что необходимо для ведения боя. Поступил приказ из штаба дивизии — разбомбить станцию со всем, что там есть. Выполнение приказа уничтожить эшелоны и склады — возложено на нашу эскадрилью. И мы его выполним. Так от вашего имени заявил я командиру полка. Прикрытие будет. Дают два звена «ястребков».
Вопросы есть? Нету... Машины подготовлены. Летим всей эскадрильей — двенадцать машин. Боевой порядок летчиков и звеньев на маршруте и в районе цели — ромбический. Вылет — в одиннадцать ноль-ноль. Сейчас, — он глянул на свои ручные, — десять сорок. На подготовку времени в обрез. Выруливать на исполнительный старт! Взлет — по зеленой ракете.
Мой механик на месте. Обмахнув ветошью замасленные руки, он вытянулся и доложил:
— Товарищ сержант, самолет к вылету готов. Механик самолета старшина Ржаной.
Как я уже знал, перед рядовыми полетами Степаныч не вытягивался, докладывал тягуче и вяло. Коль такая официальная торжественность — полет предстоит серьезный. Механики узнавали об этом быстрее нас, летчиков. У них действовал какой-то свой телеграф-осведомитель.
Окидываю взглядом самолет. Убеждаюсь — струбцины-крепления с рулей сняты, все в норме. Подхожу к механику. Он ждет с парашютом в руках. Медленно напяливаю ремни, а мысленно уже в полете, над целью, в пламени боя. И сердце, наверное, как у всех летчиков перед боевым вылетом, вроде сжимается. Это — не страх, страх подавлен уже давно, еще в училище, да и здесь, на фронте, но ведь летчики тоже люди, и в них, как во всех людях, как во всем живом мире, заложено жесткое и великое чувство самосохранения, то самое, которое старается как можно бережнее вести нас по жизни, — чуть ли не с самого рождения. А ведь я лечу не на прогулку, а в яростную схватку с вооруженным, как и я, врагом, снаряженным для разрушения и убийства, исходом которой должна быть и будет его или моя гибель. Третьего в ней, в этой схватке, не дано и быть не может. И я, как все летчики эскадрильи, думаю... Нет, не думаю, это лишь гнездится где-то в глубине моей души, в самом сердце, заставляя его трепетать. По телу пробегает зябкая дрожь. Но в памяти возникает наставление моей бабушки: «Балам, когда перед тобой возникнет опасность — может, приблудная собака, гром загремит, молнии засверкают или еще что, ты не пугайся, поминай Аллаха и прочитай коротенькую молитву-обращение к нему. — Она говорит ее, молитву, особым, нараспев, голосом. — И беда обойдет тебя стороной, внучек...»
Я хорошо помню ее, эту спасительную молитву-заклинание и, пока Степаныч крепит последние застежки парашюта, тихо, про себя, шепчу ее слова. И сразу отлегло от сердца, я обретаю спокойствие и уверенность в себе.
Парашют на мне. Благодарю механика и забираюсь в кабину. Завожу, опробываю мотор, затем вывожу самолет на старт. Получаю разрешение.
В небо, разбрасывая искры, взлетает зеленая ракета.
Механик выбивает колодки из-под колес.
— От винта! — командую я.
— Есть от винта! — выкрикивает он и отходит в сторону.
Я вывожу самолет к стартовой черте. Докладываю о готовности, получаю разрешение на взлет, даю газ, взлетаю и занимаю место в боевом порядке, за ведущим комэском Пошевальниковым. Слева — звено старшего лейтенанта Горбачева, справа — старшего лейтенанта Чернышева.
Летим четким ромбом. Под нами лес, покрытый недавно выпавшим, еще не успевшим потемнеть, снегом, рассеченный четкими линиями просек. Высота — полторы тысячи метров. До станции полсотни километров — десять минут полета. Я уверен — сейчас, тут же, появятся «Мессеры». И точно, они — четыре фашиста выныривают из облаков, за ними — еще четыре.
В наушниках — чуть осевший, но как всегда, спокойный голос Пошевальникова:
— Снять предохранители! Он атакует с пикирования.
Я, четко выполняя команду, тоже бросил самолет вниз, к земле, наводя на вытянувшийся на рельсах состав. Вокруг продолжают рваться снаряды зениток.
Груженные чем-то, может быть, ящиками, укрытые брезентом платформы, крыши вагонов прошивают трассирующие пулеметные строчки — пушечные снаряды, которыми их поливают «ИЛы».
Все так же четко соблюдая свое местоположение, определенное в ромбе, я прошил вагоны из своих двух пулеметов из обеих пушек, но вот сбросить две бомбы из-под крыльев не успел, замешкался.
Оба состава горели. Платформы, вагоны окутались дымом. Так что поставленную командованием задачу эскадрилья выполнила, можно было возвращаться.
Я поднял машину над облаками. Высоко в небе над нами по-прежнему кружили вражеские и наши истребители, продолжали бой.
«ИЛы» после атаки подтягивались к строю. Следовало занять свое место и мне. Я глянул вниз. Там горели разбитые, развороченные составы. Но вдруг из пламени и дыма вырвался паровоз с двумя большими, какими-то зелено-желтыми вагонами-пульманами. «Спасают, увозят, гады! — мелькнула мысль. — Что-то важное, ценное спасают!»
И уже не думая, не рассчитывая, я рванул ручку управления, бросил самолет в пике, на уходивший подо мной паровоз. Большой палец правой руки плотно лежал на кнопке пуска реактивных снарядов, изготовился, чтобы выпустить их.
«ИЛ» уже почти проскочил слой облаков. И... меня будто кольнуло в спину... Откинув голову, глянул через плечо и засек устремленный на меня, в падении, точно на меня вражеский истребитель. Черно-белые кресты на фюзеляже и плоскостях отпечатались в глазах. Кресты росли, увеличивались.
Грузный «немец» падал совсем не так, как мой «ИЛ» в строгом, четком пике, он вращался вокруг своей оси, мотор не работал, за машиной тянулся темный дымный шлейф. «Мессер» был подбит нашими и на значительной высоте, потому скорость его падения была значительно выше моей. Она нарастала на глазах. Темная, уже закрывавшая небо, туша падала, наваливалась, догоняя мой, тоже устремленный к земле, самолет. Это, наверное, небывалое в истории авиации, походило на дикий вымысел, собачий бред. «ИЛ» в пике штурмует наземную цель, а на него с неба валится подбитая вражеская машина?!
Все это заняло секунды. В голове скачущие мысли, ищущие выход, спасение. Были еще мгновения, можно успеть вывести «ИЛ» из пике, ускользнув из-под падающего «Мессера», но я знал: при этом, при выходе из пике «ИЛ» должен на одно мгновение, на тысячную долю секунды промедлить и как бы замереть, этого и будет достаточно, чтобы нагоняющий, падающий «Мессер» врезался в него.
Фашист настиг меня метрах в ста от земли и... пролетел мимо, не коснувшись «ИЛа». За разбитым стеклом его кабины мелькнуло белое, окровавленное лицо летчика с открытыми мертвыми глазами.
... И вся картина выпала из памяти — подо мной цель. Придавив гашетку пушек я придавил кнопку пуска РС, сбросил бомбы, одновременно рванул на себя ручку управления, выводя машину из пике.
Внизу подо мной что-то оглушительно грохнуло. Нет, это не был взрыв только моих бомб, видно, вместе с упавшим на паровоз и вагоны фашистским самолетом, взорвались сами вагоны, то, что в них было. Яростное пламя, жгучий поток раскаленного воздуха рванулись в небо, качнули, подбросили «ИЛ», но мотор работал четко, без перебоев.
Внизу на земле, творилось невероятное: развороченный паровоз, наверное, завалившийся на бок, был окутан густым паром, объятые пламенем, скомканные взрывом куски железа — все, что осталось от вагонов — валялись в стороне от насыпи.
Разглядывать все это не было времени. Подняв самолет, я осмотрелся. И тут действительно испугался. Сердце замерло. В голове одна мысль: «Опять отстал, опять из строя выбился. И будет мне, достанется!»
Эскадрилья уходила на бреющем. Последние машины скрывались за горизонтом. Я выжал из мотора предельную скорость...
Сел на аэродром с небольшим запозданием. Поставил машину, осмотрел ее.
— Так она же, вроде, обгорелая, — удивленно глянул на меня механик. — Или у черта в пекле побывал?!
— Побывал, побывал, — кивнул я.
Ко мне, явно ко мне — остальные летчики были уже на КП — шел Пошевальников.
Я было подскочил с рапортом, он махнул рукой.
— Не надо. Все, все твои фокусы видел сам, видел. Дисциплину полета с ведущим, в строю опять не признаешь. «Летаю сам, индивидуально, как хочу. На приказ чихать...»
— Товарищ командир эскадрильи, разрешите...
— Не разрешаю! Все видел. Объяснений не требуется. Наказать тебя нужно. От боевых полетов отстранить. Вон, — махнул он в сторону аэродрома, — по кругу, над лесочком, над болотцем. И каждый кружок, под команду с земли. Чтобы к дисциплине приучить, к дисциплине!..
— Я готов, товарищ командир, — шагнул к нему я... Он поднял руку:
— Сам командир дивизии Герой Советского Союза, генерал Каманин отменил наказание. Он же, было бы тебе известно, с нами лично летал, рядом с тобой, в звене Горбачева. С тобою рядом, рядовым летчиком, ведомым летел и, заметь, — поднял он палец, — ни разу из строя не вышел, свое место держал, ведущему подчинялся... Герой! А ты?! А-а, — махнул он рукой, помолчал и заключил, вдруг подобрев. — Не велел генерал наказывать, не велел. Он тоже видел пике твое сумасшедшее, во взрыв, в пламя, из-под «Мессера». — Помолчал и усмехнулся довольно. — Понравилось ему как летаешь, с пике штурмовку как провел, от «Мессера» увернувшись. Решения правильные в критический момент принимаешь. Молодец! Молодец! Большой молодец! Всю станцию разворотил, вагоны с паровозом подорвал! Красиво все сделал. Генерал так и сказал: «Блестящее боевое пике выполнил Бегельдинов твой. В учебник его занести бы, бессмертное пике!»
На том наш разговор и закончился.
Из сказанного генералом следовало: пике, совершенное мною и самолетом, рушившимся бок о бок, чуть не в обнимку с напичканным боеприпасом, но уже мертвым вражеским истребителем, так же стремившимся в грохочущий хаос взрывов — и если мы с «ИЛом», пройдя через все это остались целыми, значит пике наше можно по праву назвать «бессмертным». Вот почему я и вынес эти слова в название книги, учитывая, что такие сложные пике совершал чуть ни каждый опытный штурмовик в боевых вылетах.
Побеждаем и в небе
Наступление! О нем мечтали все советские воины в жестоких оборонительных боях, даже в самые тяжкие дни отступления. Они верили — наступит перелом, час нашего наступления, сокрушительной расправы — час наших побед. И он настал, этот час.
25 ноября 1943 года рванулся в наступление наш Калининский фронт. Активное участие в нем приняла авиация, в том числе и мой 800-й полк. Погода была скверная, мела белая пурга, но полеты не прекращались. Летали в основном успешно, с отличными результатами. Однако были и потери в дивизии, в полку и в нашей эскадрильи. Причины? Слабая подготовленность поступавшего в полк молодого пополнения, отсутствие четкости в обеспечении достаточно плотного сопровождения в полетах истребителей (нередко «ИЛы» летали и без них).
Командование дивизии, полков, даже командиры эскадрилий, учитывая все это, стали вводить в строй молодых летчиков без спешки, строго по программе. В общем, делали все, чтобы они быстрее привыкали к обстановке, набирались опыта из общения со «стариками», нагляделись, как на аэродром возвращаются с задания изрешеченные пулями и осколками снарядов боевые машины. Слушали на разборах боевых вылетов как завоевывались победы и почему, бывало, допускали промахи.
Первый боевой вылет с нового аэродрома завершился не то чтобы ЧП, но событием из ряда вон выходящим. Я подбил немецкий бомбардировщик «Ю-88».
В этот раз штурмовали вражеские танки, зажатые в том самом Демьянском котле. Притиснутые к реке Ловать окруженные немецкие войска, оказывая ожесточенное сопротивление в непрерывных боях, старались протиснуться в еще не закрытый коридор — узкую грозную горловину затягивающегося мешка окружения — свои танки, артиллерию. На них, на колонны танков, мотопехоты и обрушивали удары с воздуха штурмовики. Совершая почти в любую погоду по три-четыре вылета в день, они разрушали немецкие переправы через реку, топили фашистов.
В тот день эскадрилья Пошевальникова совершила три вылета. С утра нанесла удар по зенитной артиллерии, затем по артиллерийским позициям противника.
Эскадрилья Пошевальникова была в полку в числе самых активных, ее самолеты были в воздухе, что называется, от зари до зари. Несмотря на усталость, летчики снова и снова заводили моторы и врывались в небесную голубизну. В отдельные дни приходилось совершать до пяти-шести боевых вылетов. На моем счету были уже десятки разбитых, сожженных танков, орудий, разбомбленные вражеские укрепления: доты, дзоты, разрушенные станции, взорванные паровозы, сожженные вагоны, целые воинские эшелоны с живой силой, техникой и боеприпасами. Теперь и комэск говорил новичкам: — Берите пример с Бегельдинова, как он маневрирует при штурмовке: зенитки бьют, от взрывов густо, как в котелке с кашей, а он будто шарик мыльный или наверху или между ними, между одуванчиками белыми, ныряет, и — тьфу, тьфу, — сплевывает на сторону, от сглазу, — ничто его не берет, потому что управляет самолетом с умом, головой холодной, скользит, маневрирует, изворачивается.
Я, конечно, старался оправдывать эти лестные отзывы, похвалы командира. Именно так пришлось изворачиваться в той, запомнившейся, штурмовке.
Фронт жил боями. У штурмовиков одно боевое задание сменялось другим. Авиационная дивизия Каманина вместе с пехотой решала сложную задачу по ликвидации крупной группировки немецких войск, окруженной в районе Старой Руссы, у города Демьянска. Все «ИЛы» эскадрильи были уже с двумя кабинами. В задней — стрелок с турельным пулеметом. Он надежно прикрывал хвост штурмовика, спину пилота. Летчики шли на штурмовку еще стремительнее, выполняя боевые задания с еще большим эффектом.
Очередной мой полет был разведочным. Нужно было разведать подходы к прифронтовой железнодорожной станции, на стороне противника. Разведка наземных войск доносила: «На станцию прибыли составы с какими-то важными военными грузами. Вокруг них в охране эсэсовцы. К станции никого не подпускают и близко. Вдвое увеличено количество зенитных батарей.
— Нужно разобраться, что там за составы, что за грузы, — сказал Пошевальников, вызвал меня. — Разведчики доносят, сейчас там идет разгрузка. Попробуй, пройдись пониже. Ты это умеешь. Две машины тебе в помощь. Будут делать отвлекающие маневры.
Я полетел. За мной пара «ИЛов», с ведущим старшиной Горбачевым. Прошлись над станцией. Я запоминал все, что было подо мной, зафиксировал фотоаппаратом. Завершив фотографирование, обрушил на цель весь боевой запас бомб, расстреливал станцию. Последней серией бомб поджег какой-то склад. В общем, как у нас говорили: отметился, долбанул.
Уставшие летчики собрались было на отдых. Но команды не было. Командир полка Митрофанов поднял руку.
— Товарищи пилоты, вы отлично поработали, вывели из строя, — он стал перечислять уничтоженные эскадрильей пушки, доты и дзоты, сожженные автомашины и танки. — Все эти данные подтверждаются фотопленкой. А теперь, мои дорогие, не приказ, просьба. Знаю, устали, вымотались, но необходимо слетать еще разок. Пехота просит помощи. — Он сделал паузу, чтобы летчики прочувствовали значимость сказанного, продолжал. — Стоящий против нас полк, отбивая непрерывные контратаки рвущегося из котла противника, вымотался до предела. А разведка доносит — противник готовит новую мощную контратаку, теперь уже танками. Они концентрируются вот здесь, в этом леске, — он развернул карту, указал карандашом в обведенный красной линией район. — Нужно ударить по ним. Тем более, что наступают сумерки. Сейчас штурмовка будет успешной. Требуется шесть машин. Что думаете?
Что тут думать? Просьба командира — тот же приказ, только отданный не по уставу.
Вылетели двумя звеньями. Ведущим — Пошевальников.
Я, как всегда, ведомый, на два крыла справа, на два корпуса самолета сзади. За спиной, у пулемета, стрелок — теперь он там был — Коля Мещеряков. В звене — Борис Шапов и Петр Скурыгин. На цель выскочили внезапно. Немцы начали стрелять с большим опозданием. Танки были точно в указанном командиром месте, в лесочке. Готовясь к атаке, они даже ничем не прикрылись, были видны как на ладони.
Штурмовики построились в круг, падали на них, обрушивая противотанковые бомбы, расстреливая бронебойными снарядами. Выходя из атаки, я отлично видел, как сброшенные бомбы угодили точно под башню танка, как грохнули взрывы, и башня съехала набок. Точное свое попадание зафиксировал и при втором заходе.
Креня самолет в левом развороте, я засек глазами: на ведущего нападали два «Мессера», прорвавшие боевой строй «ИЛов», и тут же увидел «Мессера», устремившегося на меня самого. Истребитель шел справа и целился точно в бок машине. Рванул ручку от себя, самолет, не завершив разворота, круто пошел вниз, «Мессер» пронесся надо мной, рассекая уже густевшие сумерки разноцветными пулеметными строчками. Заложив крутой вираж, он снова устремился на меня.
Какие-то секунды я оказался над противником, это крайне невыгодная, опасная позиция. Спасение было в одном — прижаться к земле, уходить на бреющем... Но путь к отходу пересек, можно сказать, перекрыл второй «Мессер». Он свалился сверху или из-за леса. Я дал по нему очередь из пушек и пулеметов, не прицельно, наугад. Оглянулся. Эскадрильи не было. Она уходила, скрылась.
Я соображал: «от двух «Мессеров» не убежать, собьют играючи. Значит, принять бой, как тогда, при восьмом своем вылете, когда так удачно сбил «Мессера». Главное — продать жизнь как можно дороже. В голове слова комдива Каманина, сказанные при недавней с летчиками встрече:
«Любой воздушный бой складывается из трех компонентов: осмотрительность, маневровка и огонь. И главное — нападать. В том ключ к победе. Оборона в воздушном бою немыслима. Оборона — гибель. Так что самолет любой конструкции в бою должен нападать. В этом его спасение!»
Я сосредоточился, приготовился к бою. «Мессер» нацелился для атаки, пронесся в хвост «ИЛа», но стрелок за моей спиной отогнал его, заставил отвернуть. Второй немец справа — наперерез штурмовику.
И тут появился наш истребитель. Он вынырнул откуда-то сверху и сразу на противника, немец отвернул, не принял атаку. У меня отлегло от сердца. Но фашисты и с появлением «ЯКа» не отказались от своего намерения сбить штурмовика, видно, были опытные, уверены в своем превосходстве. Они продолжали охотиться за мной, отстреливаясь от нападавшего истребителя.
Разобраться в бешеной карусели четырех мечущихся боевых машин, поймать противника в перекрестие прицела было невероятно трудно, но я продолжал бой. Страха не было. Были только огромная ярость, азарт схватки. Грудь жгло неуемное стремление победить, сбить немца.
Я крутился на своем тяжелом самолете почти наравне с истребителями, изворачивался, бил из пушек, пулеметов. Палил из своего турельного и стрелок. В какой-то миг показалось, что посланные мной эресы угодили в цель. «Мессер» свалился на крыло. Но он тут же выпрямился и снова вышел на позицию.
Я глянул на приборы, горючее на исходе. И самое неприятное, кончается боезапас: снарядов несколько, пулеметные ленты почти пусты. В ушах голос стрелка.
— Командир, командир, патроны кончились, кончились патроны!
Теперь у меня снова голая спина, разве что стрелок прикрывает своим телом. «Ладно, ничего, мы еще посмотрим кто кого», -успокил я себя.
А «Мессеры» метались вокруг. Если бы не прикрывавший «ястребок», они бы, наверное, уже расстреляли меня вдвоем-то. Метавшийся вокруг «ЯК» отгонял их своим огнем, не давал приблизиться к «ИЛу», занять нужную им позицию.
Рисковать немцы не хотели. Они выжидали, ловили момент. И дождались. «Ястребок» затянул разворот. Воспользовавшись этим, «Мессеры» зажали мой «ИЛ» в клещи. Пулеметная очередь левого немца задела фюзеляж или плоскость штурмовика. Немец справа сделал крутой разворот, пошел прямо на меня, стреляя из пушек и пулемета.
Этот момент застыл, запечатлелся в моем сознании так четко, будто отпечатанный на фотопленке. Весь эпизод занял секунды, один миг, но я совершенно четко видел, как разворачивается «Мессер», как он идет на меня в упор, будто на таран, цветные пулеметные трассы бьют по незащищенному фюзеляжу «ИЛа». Я жму ручку от себя, ныряю вниз.
И тут происходит невероятное, такое бывает, наверное, только в сказке или кино. Проскочив над ускользнувшим штурмовиком, увлеченный атакой, немец врезался в тоже развернувшегося с другой стороны для атаки напарника. А может быть, какого-то из них именно в этот момент настигла пулеметная очередь устремившегося за ним «ЯКа». Раздался треск, грохот. Я оглянулся. Оба «Мессера», крутясь и разваливаясь, падали вниз, перечеркивали яркую полосу алого заката черной дымной полосой.
...Докладывая о произведенном воздушном бое и двух уничтоженных самолетах противника, я отнес их на счет истребителя. Это было справедливо. Я сам в тот момент даже не успел выстрелить по «Мессерам».
В этот день в моей летной книжке появилась запись об отлично проведенном бое с двумя истребителями противника.
Командир Пошевальников доложил о еще сбитых в этот день «ИЛами» четырех «Мессерах». Эскадрилья урона не понесла.
Прошла неделя. Обычная фронтовая неделя с ежедневными вылетами. Как-то утром после завтрака командир полка вызвал меня и дал задание — слетать на разведку.
— Боюсь не справиться, — ответил я.
— Почему?
— Никогда без ведущего не летал. Я объект, да и свой аэродром не найду.
— Ерунда. Раненого стрелка один доставил, после боя один прилетел. Найдешь.
Вылетел, разведал продвижение вражеских войск и без происшествий вернулся. Едва доложил, как приземлился еще один самолет, и его летчик слово в слово повторил мой рапорт. В чем дело? Оказалось, что Митрофанов для страховки пустил по моим следам опытного разведчика.
После этого меня назначили ведущим, а вскоре и командиром звена. Сам стал водить тройку «ильюшиных» на вражеские объекты.
Сажусь на мины
Наступление войск Северо-Западного фронта началось не одновременно. Одни соединения перешли к боевым действиям 15 февраля, другие были еще не готовы к ним. Но командование противника уже представляло ту угрозу, которая нависла над его группировкой. Учитывая печальный опыт разгромленной под Сталинградом 6-й армии, оно начало поспешно выводить войска из Демьянского выступа на восточный берег реки Ловать. А ведь не так давно командир 2-го армейского корпуса генерал фон Брокдорф хвастливо утверждал в приказах: «Никогда не удастся русским проникнуть на наши позиции. Мы продержимся. Русский натиск будет отражен».
Накануне ликвидации Демьянского языка комкор нашего авиакорпуса генерал В. Г. Рязанов собрал на совещание всех командиров полков и эскадрилий.
— Одобряю, — сказал он, — что при выполнении боевых заданий все чаще и больше используется радиосвязь. Теперь пришло время переходить на следующую, более высокую ступень управления в бою — корректировку работы штурмовиков с земли, с передового командного пункта. Пункт наведения будет располагаться у переднего края наших войск. Уже установлены две радиостанции — одна для связи с самолетами в воздухе, другая для связи со штабом и аэродромами. Приближаясь к линии фронта, каждая группа «ИЛов» должна устанавливать связь с КП. Обязательно докладывать, кто летит и с каким заданием. Наблюдения за вашими действиями с земли будут способствовать выполнению заданий, мы сможем выводить вас на более важные цели, а если потребует обстановка, то и менять задачу...
Несмотря на неустойчивую, порой очень скверную погоду, экипажи в составах групп и одиночно летали с максимальным напряжением сил. Как и раньше, штурмовиков «опекали» истребители.
Теперь генерал Рязанов находился в непосредственной близости к линии фронта, в деревне Слугино.
Тем временем продолжается жестокое сражение, не стихающие бои. По нескольку раз в день вылетали на задания.
В тот раз комполка назначил вылет на раннее утро. Пока немцы глаза не продрали. Задача — уничтожить артиллерию противника, сконцентрированную у линии фронта в мощную огневую группу.
Перед этим я перешагнул в своей жизни через еще одну черту, поднялся на один порожек. Командир полка в присутствии летчиков эскадрильи сообщил о присвоении мне первого офицерского звания младшего лейтенанта и, вручив золотые погоны, сказал:
— Носи эти символы офицерского звания и береги честь офицера, как в бою, так и в мирной жизни, всегда помни о ней.
Поздравил, пожал руку и оказавшийся в полку сам командующий корпусом генерал Рязанов.
На вечер следующего дня, по традиции, назначил обмывку лейтенантской звездочки. Кое-что для этого обещал выделить старшина. После полета нужно было сбегать в деревню, прикупить кой-чего для стола. И, самое главное, успеть сегодня — опять же по возвращении из полета — написать письма родителям и, конечно, любимой. У меня же такое событие!
Но, как говорится, человек предполагает, а Аллах располагает. В начале вылета все шло как надо. Как было задумано командиром, обговорено с летчиками. Летели полным составом эскадрильи, впереди — Пошевальников. Задача предстояла сложная. За последние дни оставшиеся части противника, зажатые все там же, в Демьянском котле, оказывая отчаянное сопротивление наступавшим советским войскам, окружили себя мощными оборонительными сооружениями, дотами, дзотами, минными полями, ощетинились проволочными заграждениями, каменными надолбами, противотанковыми рвами и ежами. Командование наземных войск просило оказать содействие в штурме укреплений, взломать, порушить оборонительные сооружения, особенно в районе все тех же сел Глухая Горушка и Семкина Горушка, на реке Ловать.
Штурмовики помогали. Почти при любых погодных условиях, под огнем зениток немецких истребителей, ломали, крушили доты и дзоты.
Именно с этой целью, помочь нашей пехотной части в очередном рывке на укрепленную линию обороны противника, вылетели мы и в тот памятный для меня день.
Подлетаем к линии фронта и попадаем под жестокий зенитный огонь: бьет по крайней мере полдюжины батарей. Начинаем маневрировать.
Ведущий дает команду: «Приготовиться к атаке!»
Включаю механизм бомбосбрасывателя, убираю колпачки от кнопок сбрасывания бомб, реактивных снарядов и от гашеток пушек и пулеметов. Проверяю приборы. Внимательно слежу за действиями ведущего.
Разворачиваемся для атаки, и в этот момент мой самолет сильно подбрасывает, будто кто-то ударил его снизу. Мотор начинает работать с перебоями. Ясно: попадание...
Тем не менее вхожу в атаку. Прошиваю пулеметными очередями, поражаю цели пушечными снарядами и с огромным трудом вывожу машину из пике, поднимаю над облаками и чувствую — не тянет. Лечу минуту, две и все, мотор замолкает. И сразу тишина, нестерпимая, режущая ухо гробовая тишина.
— Командир! Командир! Мотор заглох! Мотор!.. — испуганно кричит мне стрелок. Голос его в гробовой этой тишине, невероятно громкий, просто грохочущий.
Я как можно спокойней отвечаю:
— Подбили, эрликоны броню просадили, — удивляясь такому свободному, без рева мотора, и такому слышному разговору. — Ты не пугайся, сядем и без мотора, — попытался я успокоить стрелка, хотя сам не был уверен в такой возможности.
Удержать самолет без мотора на крыльях, посадить — дело не простое. А куда сажать? Мы же над вражеской территорией.
«Может, перетяну через линию фронта, — мелькает надежда. — До нее километра три, не больше. Главное — удержать машину на крыльях, не потерять скорость».
Не осознав в горячке боя весь трагизм положения, я был еще спокоен. Как обычно хладнокровно работал ручками управления. Самолет, еще не потеряв скорости, летит какое-то время по прямой, потом кренится носом книзу. Что же, можно лететь и так, поддерживая скорость плавным скольжением по наклонной. Важно, что самолет все еще на плоскостях, не валится, не кувыркается, им еще можно кое-как управлять.
Внизу, подо мной, мелькают окопы: одна линия обороны — это немецкая, вторая — наша. Значит, я уже на своей территории, можно сказать, дома. Теперь задача — посадить машину, конечно, не выпуская шасси.
Под крыльями впереди длинная заснеженная, вроде ровная, рассекающая лес, полоса — поляна. Времени на раздумья, расчеты нет.
И вдруг в уши врывается голос, знакомый голос комкора, генерала Рязанова. Знаю, он — на КП, оборудованном где-то чуть ли не у самой линии фронта на высоком дереве, и ему, конечно, как на ладони, виден весь воздушный бой и наш вышедший из строя, подбитый самолет, явно стремящийся к поляне, лесной низине, четко обозначенной на фронтовой карте как минированная.
— Горбатый, не садитесь! Поляна заминирована!!! Там мины! Мины!!!
Я слышу слова предупреждения, но смысл их доходит до моего сознания с трудом. Самолет летит без мотора по крутой наклонной, летит к земле. Я, несмотря ни на что, стараюсь удержать его на заданном ранее курсе, чтобы хоть как-то, с убранными шасси, посадить именно на эту поляну, теперь уже после принятого предупреждения, проклятую, убийственную для самолета, для меня и стрелка, за моей спиной, пока еще более или менее уверенного в мою способность посадить самолет, спасти наши жизни. Он не знает о грозном предупреждении с КП. У меня оно в ушах: «Не садись на поляну, там мины! Мины!». И все-таки я лечу как могу, держу заданное направление полета, на поляну, на мины, в ожидании жертвы напрягшие свои смертельные растяжки, взрыватели. Если бы я мог связаться с генералом, я бы прокричал ему, заорал на всю мощь:
— Другого у меня нет! Нету выбора!.. Сажусь на мины!.. На мины!!!
Но обратной связи нет. Мой радиоузел не действует. И я лечу молча, стиснув зубы. Не сажать же самолет на верхушки деревьев! Тут уж гибель стопроцентная. Но дело даже в не этом, не в гибели. Поступить так — посадить машину на верхушки деревьев — не сможет заставить себя ни один летчик. О таком случае, чтобы летчик сознательно сел на лес, нет, я не слышал.
И я продолжаю из последних сил тянуть на себя ручку управления, чтобы хоть как, хоть на метры продолжить полет. И, наконец, не выпуская шасси, сажаю, плюхаю самолет в снег. Снежный вихрь, плотной стеной застилает свет, рушится на меня. Самолет, пропахивая в снегу туннель, рвется через поляну-болотину вперед, разбрасывая снежные наносы.
Теперь, когда сознание освобождается от напряжения посадки, мысли снова возвращаются к предупреждению: «На поляне мины! На поляне мины!!!» И сразу сердце сжимают ледяные тиски страха, тело покрывается холодным потом. Самолет продолжает ползти, разбрасывая снег, а я, сжавшись, жду.
С того момента, когда машина коснулась брюхом-фюзеляжем снега, прошли секунды, но мысли мелькают быстрее, они выдают одно: вот, сейчас, сейчас. Грохот! Огонь! Грохот! Огонь!! Я даже успеваю мысленно представить эти лежащие в снегу и под ним небольшие, но увесистые, круглые чугунные, железные штуки, начиненные гремучей взрывчаткой.
Наконец машина замедляет бег и, уткнувшись носом в сугроб, замирает. Я разжимаю застывшие в судороге руки, выпускаю ручки управления и, наверное, на какой-то миг, от пережитого нечеловеческого напряжения, теряю сознание, валюсь на борт кабины. Но тут же прихожу в себя.
В уши врываются автоматные очереди. Стреляют слева, из леса.
Кругом густой сосновый лес. Тишина. Что же теперь делать? Куда идти? С воздуха я ориентировался прекрасно, а сейчас, убей, не знаю, где свои, а где немцы.
Откидываю фонарь. Но едва пытаюсь вылезти из кабины, как начинается обстрел. Стреляют с двух сторон. Мы со стрелком засели в кабинах под прикрытием брони. А стрельба все интенсивнее. Есть уже несколько попаданий в самолет.
Попадут в бензобаки — не миновать взрыва. Одно утешает: стреляют автоматы и винтовки, баки же защищены броней, которую можно пробить лишь из крупнокалиберного пулемета.
Постепенно бой стихает, выстрелы все реже и реже.
— Пойдем в лес, — говорит стрелок. — Пересидим.
— Кого пересидим? — не понимаю я.
— Посмотрим, кто подойдет к самолету. Если немцы, то тронемся в другую сторону, а если свои...
— Ясно. Мысль правильная.
Слышатся крики. «Там немцы, — определяю я. — Но почему они стреляют издалека? Почему не бегут к самолету?! А мины, о которых так настойчиво, с такой тревогой предупреждал генерал? Они не взорвались? Что же, самолет объехал их, обошел? Ладно, не взорвались и хорошо. Но что теперь?»
Немцы продолжают огонь. Теперь стреляют прицельно. Пули цокают о фюзеляж.
Поворачиваюсь к стрелку. Он белый, как покойник, видно, от страха. Приказываю:
— Разверни пулемет, будем отстреливаться. У тебя в кабине две гранаты, изготовь их к броску. — Сам выдергиваю из кобуры свой «ТТ» и снова к стрелку. — Помни, Коля, последняя пуля — для себя. Живыми они нас взять не должны. И не возьмут!
Немцы постреляли и прекратили. Над поляной повисла сторожкая гнетущая тишина. Принимаю решение. Приказываю стрелку чуть что — прикрывать меня огнем пулемета и, махнув рукой на предупреждение, откидываю фонарь, выбираюсь на плоскость, спускаюсь на землю. И сразу крик:
— Ни с места, ни шагу, летун! Ни шагу! Погибнешь! Мины, смерть под ногами! Мать твою!!! Жди темноты, мы вызволим, жди, если жить хочешь!
— Наши! Наши! — обрадовался стрелок.
— Наши, — подтвердил я.
Рассуждения прервала длинная пулеметная очередь, протарахтевшая по самолету. Ухнули разорвавшиеся где-то в лесу мины. Гулко дружно забили, залаяли автоматы.
Я заскочил в кабину, плюхнулся на сиденье, поднял бронещитки, сидел, соображал, в какой стороне наши, где немцы. Не мог ничего понять. Линию фронта перелетел, почему же стрельба?
— Будем сидеть, раз велят, — решил я.
Время тянулось, как резиновое. Стрельба то возобновлялась, то затихала.
Наконец стемнело. Из-под плоскости высунулась голова, и фигура маленького, в каске, солдата. Я выхватил пистолет. Послышался шепот.
— Слышь, летчик? Ты один?
— Двое нас. Там стрелок.
— Вылазьте, по-тихому. Вы на ничейную плюхнулись. Там немцы.
— Как это они, я же фронт перелетел, — удивился я.
— Перелетел, да не шибко. Тут же кругом болото. И фронт не по ниточке, по всему лесу. Вы на минном поле. Как не трахнуло вас, не знаю, в рубашках родились. Мины кругом как картошка. Мы-то знаем где они, обходим.
Мы со стрелком вылезли из кабин. Солдатик тихо свистнул. Из кустов высунулись еще трое. С ними сержант. Подползли, поздоровались, поздравили с благополучной посадкой.
— Вас проведем, а птичке вашей тут и лежать, — сказал сержант. — Если немцы за ночь не отойдут, завтра расстреляют. Да чего там машина, сами живы и ладно. Надо же, на мины плюхнулись. Всю поляну пропахали и не взорвались! Объезжали что ли их, мины-то? — покачал он головой.
Они ползли со щупами — миноискателями в руках. Метрах в пяти перед самолетом, обнаружили и извлекли из снега здоровенную, с большую сковородку, противотанковую мину, вынули взрыватель, отложили в сторону, за ней — вторую.
Да, это были смерти, верные гибели, предназначенные самолету и летчикам, стоило продвинуться еще немного.
«Может меня и вправду Аллах охраняет, — подумал я, — потому и счастливчиком в эскадрильи называют».
По поляне — застывшему болоту, продвигались так же ползком. Немцы стреляли в темноте наугад, но пули свистели над головами.
Наконец болото осталось позади. Прошли по лесу, выбрались в село. Несколько домиков светились окнами.
Ночевали у командира пехотного батальона, на глазах у которого произошла вынужденная посадка.
Майор притащил бутылку водки, нужно было выпить за чудесное спасение, за благополучно завершившуюся вынужденную посадку на минном поле. И выпили.
Утром нас провожали в штаб дивизии.
Я и Мещеряков вышли за околицу села, навстречу — офицеры, целая группа. Всматриваюсь в их лица и замираю: «Это же Бухарбаев, — узнаю я. — Ну да, он, Махмут, мой инструктор, первым предрекавший мне успех в летном деле, сказавший те самые, заветные слова: «Летчик из тебя выйдет! Будешь летать!»
Узнал своего бывшего курсанта и Махмут, рванулся ко мне.
— Талгат! Талгат!
Группа остановилась. Мы обнялись, стояли на дороге, хлопали друг друга по плечам:
— Ты как?
— А ты как?
Я кинулся к старшему в группе офицеру, капитану, представился, объяснил, что встретил земляка, просил разрешения поговорить.
— А мы вон туда, — кивнул капитан на видневшуюся в стороне деревню. — Пошли, там посидите, поговорите.
Так и сделали. Я повел Бухарбаева в штаб, к командиру расположенного в деревне пехотного полка. Молодой подполковник встретил с радостью, обнял нас, благодарил за каждодневную помощь штурмовиков, сказал, что последнюю их штурмовку, все их атаки наблюдал лично. И опять горячо благодарил, восторгался.
— Какую немецкую батарею раздолбали! Сколько дней нам не давала голову поднять, все наши блиндажи порушила, по окопам била. А вы ее разом! Умолкла же! Крепко вы ее накрыли! С твоей частью, летчик, связался, как мне доложили, что ты у нас сел, так и сообщил. Утром хотели отправить, а ты ушел.
На столе появились консервы, капуста и за встречу по стопке.
Бухарбаев рассказал, что по состоянию здоровья из авиации отчислен, и вот, в пехоте.
— Что же, — не унывал он, — повоюем и на земле. — Потом он рассказал о Фрунзе, как живет народ, как и что. Я — поведал о своем житье. Похвалился уже полученными наградами. Прощаясь, обнялись.
— До новой встречи!
— До новой, — кивнул Бухарбаев.
Оба были уверены, что так и будет, мы встретимся вновь. Встретились же в этот раз так неожиданно, где-то на затерявшейся в лесах дороге. Почему такой же встрече не повториться? Мир хоть и велик, но людям в нем все равно тесно. Так при расставании думали оба. Но не сбылась наша надежда. Вражеская пуля сразила Бухарбаева. Как говорилось в присланной родным похоронке: «Погиб смертью храбрых».
Дома, в родной эскадрилье, меня приняли с объятиями. Обнимали, целовали, расспрашивали как и что? Тут же вызвали в штаб полка. Здесь пришлось докладывать уже официально об отказе мотора, о вынужденной посадке и про все остальное.
К вечеру последовал вызов в штаб корпуса. Вызывал сам генерал Рязанов.
Генерал был занят, пришлось подождать — меня окружили штабисты, расспрашивали, как садился на минную поляну, как уцелел. Находившиеся в тот момент на КП при генерале рассказали, как он кричал в микрофон, как нервничал, повторяя:
— Он же садится! Садится! На мины, на гибель! — И мотал головой в отчаянии.
Узнав, что летчик возвратился живой, приказал:
— Немедленно доставить ко мне этого «минера»! Наконец я предстал перед комкором, полный уверенности, что он обязательно меня отругает.
Так оно и получилось. Генерал, поднявшись из-за стола, долго поливал меня всяческой руганью. За что, я так и не понял. Потом умолк, подошел ко мне, смотрел, нет, осматривал меня, щуплого паренька с почерневшим от холода лицом в измызганном меховом комбинезоне, почему-то покачал головой, махнул рукой:
— Ладно, езжай, воюй, только в следующий раз на мины не смей! Тяни, тяни, но не садись!
Все за одного
Наши войска на подступах к Белгороду. Немецкое командование стремилось остановить наступление советских войск. Особенно ожесточенное сопротивление они оказывали на Белгородском направлении. Как всегда, основная ставка делалась на танковые соединения и мотопехоту. Как правило, танки у них ходили в контратаки впереди пехоты, устремляясь на прорыв нашей обороны, совершая разведку боем.
Однако все их усилия, мощные, массированные контрудары, как о каменную стену, разбивались о наши рвавшиеся вперед части. Бои шли ожесточенные, немалую роль играли в них авиационные части, в том числе, и наш полк.
Каждый день с раннего утра в штаб дивизии, а то и непосредственно на КП полка, поступали приказы на штурмовку колонн танков и бронетехники. Просьбы о помощи поступали от наших соседних пехотных частей. Телефоны, рации, то и дело доносили голоса командиров полков, дивизий, а то и самого командующего армией.
«Фашисты танковым клином прорывают нашу оборону. Помогите, друзья, ударьте, штурманите их и мы продержимся!» Или разведка доносит: «На подходе к линии фронта колонна немецкой мотопехоты, танков». И командиры наших авиадивизий, полков, эскадрилий почти никогда, даже и в самую немыслимую для полетов погоду, не отказывали в помощи, тут же запрашивали разрешения вышестоящих старших командиров, и если на аэродроме стояла хоть пара машин, их посылали на штурмовку. Перед штурмовиками ставилась задача — прорывать немецкие воздушные заслоны, громить технику, уничтожать артиллерию и живую силу противника. Штурмовики прилагали все силы для того, чтобы выполнить ее. Самолеты находились в воздухе от зари до зари.
Все эти дни погода стояла отвратительная, в понятии летчиков, совершенно нелетная. Каждый взлет с раскисшего летного поля -сплошное мучение. На колесах самолетов, при взлете налипали комки грязи настолько вязкой, плотной, что летчик, прикладывая все усилия, не мог в воздухе убрать шасси. Взлетая или садясь, самолет поднимал фонтаны воды и грязи, покрывавшие машину от хвоста до фонарей.
На разгром танковых частей все последние дни декабря 1943 года и был, в основном, нацелен и наш полк, а в нем эскадрилья Пошевальникова. Мне с моим звеном (к тому времени я уже им командовал), приходилось участвовать почти в каждом вылете.
В один из дней группа в двенадцать самолетов получила приказ вылететь на штурмовку немецких танков, которые вели бой с нашей моторизованной пехотой. По предварительным данным, в этом районе противник сосредоточил до тридцати танков.
Ведущим Пошевальников, его заместителем — Александр Грединский.
Без всяких происшествий миновали линию фронта, вышли к цели. И тут убедились в том, что данные наземной разведки были, мягко говоря, не совсем точными. По крайней мере, пятьдесят машин с крестами на башнях вели бой с нашими войсками. Им противостояли несколько орудий и не более дюжины танков «Т-34». Что и говорить, силы неравные. Наши артиллеристы и танкисты из последних сил сдерживали напор врага. Помощь с воздуха оказалась весьма кстати. Однако выполнить задачу оказалось не просто. В яростной схватке, противники сблизились чуть не вплотную. Местами их разделяли считанные десятки метров. В рядах пехоты несколько танков.
«Значит, придется бомбить, расстреливать немецкие машины не только в непосредственной близости, но чуть не в рядах наших», — соображаю я. Такое мне еще не приходилось делать.
Опустились метров до пятисот. Мне отлично видно, как укрытые в окопах наши пехотинцы отбиваются от танков. Несколько машин уже замерли, две подбитые, горят.
Отсюда, с высоты, танки кажутся совсем маленькими железными коробками. Видны прильнувшие к стенкам окопов, серые фигурки солдат и еще ведущие непрерывный огонь по танкам орудия. Из перелеска выскочило два наших «Т-34». Но что они, два, против целой армады?
Комэск переговаривается с КП и командует в шлемофон.
— Атакуем! Противотанковыми.
Я веду за собой звено. Летчики стреляют из пушек противотанковыми снарядами по танкам и только по ним. Сбросить бомбы не решаются. Сам комэск тоже ограничивается пушечным обстрелом и эресами.
Несколько танков подбиты, крутятся на месте, горят, остальные покидают поле, уходят в лесок. Но это для них не укрытие, за тоненькими березками не спасешься. Цель отличная, теперь их можно бить на выбор, как на полигоне.
Должен заметить, что штурмовка танков дело очень хитрое, связанное с большим риском. Ни в коем случае нельзя опускаться ниже четырехсот метров, ибо танковое орудие обладает завидной точностью попадания, и не раз опрометчивые летчики платили жизнью за просчет. Кому как, а Пошевальникову это известно. Он предупреждает нас перед каждым вылетом:
— В атаке на танки, помните, в лоб на танк не ходить, бить только со спины, с высоты не менее пятиста метров.
А танкисты уже огрызаются, забыв об атаке, открыли ураганный заградительный огонь по штурмовикам. В небе густо от разрывов снарядов.
Мы пошли в атаку, сбросили бомбы и вновь атаковали танки. Тут-то наш ведущий и допустил непоправимую ошибку: он забыл в горячке боя о высоте. Один из танков задрал вверх хобот орудия и открыл бешеную стрельбу по самолету.
Мы увидели, как машина ведущего неуклюже отвалила в сторону. Мотор ее не работал. Невдалеке было обширное ровное поле. Туда и решил планировать Пошевальников.
— Беру командование на себя, — услышали мы в шлемофонах четкий голос Грединского.
Самолет Пошевальникова тем временем дотянул до поля и, не выпуская шасси, пошел на посадку. Машина коснулась земли, подпрыгнула и застыла.
Сверху нам было видно, что летчик не откидывает фонарь. «Неужели ранен?» — пронеслась тревожная мысль. И тут все мы увидели, как несколько немецких танков направились к безжизненно стоящему среди поля «Ильюшину». Как быть? Как помочь товарищу? Эти тревожные мысли владели каждым. Резкий голос Грединского заставил нас всех вздрогнуть.
— Передаю команду группой Потехину. С круга прикройте. Иду на посадку.
Нет, это было немыслимо — садиться на каком-то поле в расположении вражеских войск. Он что, с ума сошел? Ведь достаточно небольшой канавы — и повреждение шасси неизбежно. Это значит, что будет потерян второй самолет. Черт с ним, с самолетом, но ведь летчик и стрелок окажутся в той же, что и комэск, смертельной опасности — одни среди врагов.
Тем временем Грединский вышел из строя и пошел, снижаясь, к полю. Мы встали в круг и пушечным огнем преградили путь танкам, которые упорно пробирались к самолету нашего ведущего.
Грединский зашел на посадку и приземлился в нескольких метрах от Пошевальникова. Что происходило на земле — мы не видели. Не до того было. Все внимание сосредоточили на немецких танках.
Через несколько минут Грединский взлетел. Он занял место в строю, и мы пошли домой.
Едва самолеты приземлились, мы выключили моторы и кинулись к машине Грединского. Первый, кого увидели, был Пошевальников. Он вылез из задней кабины и тяжело опустился на землю. Подошла санитарная машина. Из кабины мы извлекли труп стрелка.
Что же произошло на пшеничном поле?
Пошевальников, видя, что до линии фронта не дотянуть, решил приземляться. Кое-как посадил израненную машину. И тут убедился в том, что его стрелок убит. Он попытался было вылезти из самолета, но тотчас по нему открыли огонь.
Наш командир попал в тяжелую обстановку. Выпрыгнуть из самолета? Наверняка убьют. Сидеть и ждать? Чего ждать! Могут подползти и еще, чего доброго, взять в плен. При этой мысли мурашки пробежали по телу. Рука сжала пистолет. Все пули врагу, кроме последней. Ее он решил приберечь для себя.
И тут случилось то, чего Пошевальников не ожидал. На посадку, на спасение пошел Грединский.
Ошарашенные немцы не успели ничего сообразить, как отважный летчик и его стрелок выпрыгнули из кабины и кинулись к самолету командира. Втроем они вытащили из задней кабины мертвого стрелка, быстро забрались в самолет. «ИЛ» взревел и, оставляя хвост пыли, ушел в воздух.
Так был вырван из рук смерти боевой товарищ.
Это событие горячо обсуждалось в полку. Молодые летчики спрашивали, имел ли право Грединский рисковать, не будучи уверенным в благополучном исходе задуманного им дела? Ведь шансов на то, что он успешно приземлится и, забрав Пошевальникова со стрелком, взлетит, почти не было.
Каждый из нас спрашивал самого себя: а как ты поступил бы на его месте? Ответ был один: точно так же. Разве можно иначе, когда друг в беде?
Один за всех и все за одного. Этого железного правила мы придерживались всегда, в любой обстановке.
Пять «лапотников»
Шли напряженные жестокие бои на Орловско-Курской дуге. Немцы ввели в дело огромное количество танков. В эти дни на штурмовую авиацию легла двойная задача; мы непрерывно совершали налеты на танковые колонны врага, а кроме того, вели разведку, непосредственно с воздуха докладывали командованию о передвижении гитлеровцев, не давали им возможности скрытно сосредоточиться и для контратаки.
Однажды утром я получил задание вылететь на разведку в район Белгорода. В прикрытие мне был дан истребитель, который вел Герой Советского Союза Николай Шут из эскадрильи Сергея Луганского, «усатый» — так мы его прозвали на пышные холеные усы.
Интересным, очень своеобразным человеком был Николай. И на земле, и в воздухе он ни единой секунды не оставался спокойным. Но если на земле его шутки веселили ребят и делали его общим любимцем, то в воздухе «беспокойство» Шута доставляло массу неприятностей гитлеровцам.
Он первым в эскадрилье такого аса, как Сергей, был удостоен звания Героя и имел на счету сбитых самолетов, пожалуй, не меньше, чем прославленный летчик Александр Покрышкин. Была у Николая одна странность, но о ней я расскажу немного позже.
Итак, мы вылетели на разведку парой. Без всяких приключений миновали линию фронта, вышли к объектам. Выполнили задание, сфотографировали объекты и полетели домой, израсходовав весь боезапас на какие-то вражеские пехотные части.
— Окончен день забав, — угрюмо сказал по радио Шут.
— Похоже на то, — ответил я.
На свою территорию мы вышли неподалеку от поселка Шляхово. Шли над облачностью на высоте около полутора тысяч метров. В редкие окна хорошо была видна земля.
Вдруг я услышал взволнованный голос Николая.
— Талгат, смотри: «лапотники!» Ишь, гады, что творят.
И я увидел несколько бомбардировщиков «Ю-87», прозванных на фронте «лапотниками» за то, что летали с выпущенными шасси, издали похожими на обутые в лапти ноги. Гитлеровцы в боевом порядке «круг» один за другим пикировали на наши войска возле села Шляхово. Отбомбившись, они уходили под облачностью.
— Иди домой, — резко сказал Шут, — я им сейчас подзаймусь. — Смотри, Николай...
— Порядок, — крикнул он...
Я, конечно, задержался, кружил на месте, наблюдал за действиями Шута. Николай набрал высоту, выпустил шасси и нырнул в облака. Едва «Ю-87» вывалился из облаков в пике, он пристроился к нему сзади и короткой очередью сбил фашистский самолет. Тут же вновь ушел в облака. Повторил такой же маневр и вогнал в землю второй фашистский самолет, затем третий, четвертый... Пять «лапотников» сбил Шут в течение нескольких минут.
Я не успел приблизиться к своему аэродрому, а Николай уже догнал меня. На земле он скромно доложил, что, выполняя задание по прикрытию разведчиков, попутно сбил пять самолетов.
А теперь относительно странности, которая была у него.
В годы войны газеты часто писали, что немецкие летчики любили размалевывать свои самолеты разными бубновыми тузами, пиковыми дамами и так далее, брали с собой в полеты всяческую чертовщину в качестве амулетов. Мы тоже украшали фюзеляжи своих самолетов. Украшали их звездами, каждая из которых означала сбитый самолет врага. Что же касается амулетов, то, дело прошлое, были они и у нас. В эскадрилье Луганского летчики поочередно брали с собой в воздух небольшую собачонку — общую любимицу, а у нас в полку один летчик-штурмовик все время летал с котенком. Некоторые летчики ни за что не брились перед боевым вылетом, некоторые обязательно садились на землю, прежде чем сесть в кабину самолета.
А вот Николай Шут перед вылетом непременно ломал тарелку. Да, да, самую обыкновенную тарелку. Не сломает — не полетит. Официантки в столовой вначале сердились, а потом привыкли. Да и каждый из нас старался припасти для друга одну-две тарелочки.
Ломал он их очень ловко. Возьмет в руки, трах — и пополам, потом еще и еще. Смотришь, одни осколки. Пытались было интенданты воздействовать на Николая рублем. За каждую тарелку взыскивали в двенадцатикратном размере. Если учесть, что боевых вылетов бывало до пяти-шести в день, то станет ясным: от оклада у Николая ничего не оставалось.
Уже в Германии незадолго до окончания войны Шут обнаружил неподалеку от аэродрома склад посуды. Он отыскал лошадь с телегой, нагрузил полный воз тарелок и торжественно подъехал к столовой. Получайте, мол, авансом. Смеялись мы, конечно, от души.
А вот случай, когда «амулет» спас жизнь летчика и стрелка.
В нашем соединении был летчик-штурмовик Николай Опрышко. На земле он не расставался с гитарой и обязательно брал ее с собой в полеты. Однажды самолет Опрышко получил повреждение и совершил вынужденную посадку на территории врага. Летчик и стрелок стали пробираться к своим. К ночи они подошли к берегу реки, за которой находились наши войска. Гитару Николай нес с собой.
Едва экипаж начал спускаться к берегу, как стрелок в темноте разглядел немецкий патруль. Два солдата с автоматами двигались прямо на них. Что делать? Стрелять? Нельзя. Кругом враги, и выстрелы взбудоражат их. И лежать нельзя — сейчас наскочат и убьют.
Когда немцы подошли совсем близко, были уже в нескольких шагах, Опрышко вдруг всеми пятью пальцами ударил по струнам. В абсолютной тишине этот аккорд был подобен артиллерийскому залпу. Немцы кинулись в разные стороны. А летчик и стрелок кубарем скатились к реке и поплыли. Когда враги опомнились, пришли в себя, было уже поздно — попробуй попади из автоматов по двум плывущим в темноте.
Гитару все же пришлось бросить. Об этом страшно горевал Опрышко. Но вскоре обзавелся новой и не расставался с ней.
Или еще одно увлечение — усы. Были вначале и бороды, но их органически не переваривал наш начальник штаба полка Евгений Иванов, приказывал сбривать. С усами же он ничего поделать не мог. И мне припоминается забавный случай, связанный с усами.
Один наш работник штаба, имея преклонный возраст, носил солидные особенные усы. Гордился он ими чрезмерно. И действительно, усы у него были на зависть всему полку — густые, черные, всегда немного закрученные вверх.
Однажды он в чем-то проштрафился перед начальником штаба. То ли карты не подготовил, то ли донесение переврал — не знаю. Я случайно оказался в штабе, когда там уже бушевал ураган.
— За такие вещи в военное время знаешь, что положено? — шумел Иванов.
— Так точно, — отвечал перепуганный владелец усов.
— Расстрелять тебя мало!
— Так точно.
— Что зарядил свои «так точно», как попугай?
— Прошу извинения... виноват.
— Я тебе покажу кузькину мать!..
Начштаба выскочил в другую комнату и через секунду вернулся с ножницами. Чик! От усов осталась ровно одна половина.
— Кругом марш! — скомандовал Иванов.
Горю штабиста не было предела. Этакая красота пропала!
— Ничего, — утешали мы его, — до конца войны отрастут. Он лишь досадливо махал рукой.
В тылу врага
Мы вылетали на штурмовку по несколько раз в день. Командир полка Митрофанов вызвал командиров эскадрилий, сообщил:
— Есть приказ командования нанести удар по вражескому аэродрому в районе Харькова. Командир истребителей извещен. Вылетаем немедленно. Об этом задании сообщил нам, летчикам, комэск Пошевальников.
На задание вылетел полк почти в полном составе. Прикрывали его около трех десятков истребителей.
Как это получилось, никто не понял, но немцы, несмотря на все предосторожности, прозевали подход «ИЛов». Во всяком случае, истребителей в небе на этот момент не оказалось, зенитки открыли огонь с опозданием и поплатились. Их тут же накрыли сброшенные штурмовиками бомбы и пушечные снаряды.
Я следом за комэском вел звено на стоявшие на краю аэродрома вражеские самолеты, «Мессеры» и «Фокке-Вульфы». Штурмовики звена снизились, прошлись над ними. Между самолетов метались летчики, заводили моторы, некоторые выруливали, пытались взлететь. Я бросил самолет в пике, выжал гашетки, прошил самолеты снарядами из пушек, ударил эресами. Мой ведомый, Коптев, поджег «Мессера» уже на взлете. Штурмовали, сбрасывали бомбы, корежа, пятная воронками взлетные полосы.
Расправившись с истребителями, штурмовики обрушились на выстроенные в ряд «Юнкерсы». Восьмидесятикилограммовые бомбы, снаряды, эресы прошивали, разворачивали, рвали на куски распростертые, беспомощные на земле, тяжелые машины. Дымными кострами занимались, пылали залитые горючим искореженные и целые бомбардировщики.
Вскоре после этого генерал Рязанов перед строем вручил мне, как он сказал — «двадцатилетнему комсомольцу», орден «Красного Знамени».
Как и все последние, этот день был пасмурный, шел дождь. Свинцовые тучи ползли, клубились, чуть не задевая узкую полоску летного поля аэродрома. Уверенные в том, что в такую темную, облачную кашу, при нулевой видимости, полетов не будет, летчики натопили в землянке железную печурку, сидели, лежали, впитывали всем телом блаженное безделие. Отдыхали.
Но вот в землянку врывается посыльный.
— Эскадрилью Пошевальникова на КП! — коротко передает он приказ.
На КП замкомандира полка майор Кузнецов. Дождавшись, когда эскадрилья собралась, сообщил:
— Результат штурмовки аэродрома отличный. Но немцы сумели восстановить его. Как доносит разведка, он уже действует. Командование фронта требует убрать эту язву. Ставлю задачу уничтожить аэродром окончательно. Сделать это будет не так уж трудно, немцы уверены, что мы, довольные результатами штурмовки, конечно же, не будем штурмовать вторично уже уничтоженный аэродром. Погода благоприятная. Этим мы и должны воспользоваться.
Летчики переглянулись. Ничего себе благоприятная! В таком молочном месиве крыла самолета не увидишь. Но приказ есть приказ.
На этот раз летели шестеркой. Ведущим — я. Туман сплошной стеной от самой земли и конца ему не видно. Штурмовик с трудом рассекает лопастями бешено вращающегося винта молочное месиво, расталкивает, раздвигает его плоскостями, а оно, густое, вязкое будто тянется за ним, и машина никак не может из него выбраться. Земли, конечно, не видно, перед глазами никаких ориентиров. Но я хорошо ориентируюсь на местности, маршрут знакомый, веду группу точно к цели.
Еще на дальних подходах к аэродрому шестерку встретили «Мессеры». Их было вдвое больше. Штурмовики не отступили, не ударились в бега, как рекомендовалось еще в наставлении. Да и «ЯКи» подоспели. Завязался воздушный бой, завертелась смертельная карусель. Один из «Мессеров» устремился на чуть высунувшегося из круга штурмовика. Чья машина, я определить не успел, «Мессер» устремился на нее. Я рванулся вперед, встретил немца шквальным огнем своего оружия, нырнул вниз, увернулся от пулеметных трасс, тут же развернулся и сошелся с «Мессером» чуть ли не в лоб. Он шел на меня вроде как на таран. В прицеле — острый нос истребителя. Я выжал гашетку. Цепочка снарядов впилась куда-то в нос или фонарь «Мессера».
Все это заняло сотые доли секунды. Я успел отвернуть самолет от летевшего вниз истребителя. Увидел, как он падал, оставляя в небе дымный шлейф. Рядом с ним падали еще два «Мессера», сбитые кем-то из летчиков моей группы или «ЯКами». Обескураженные таким мощным отпором, немецкие летчики отвернули, скрылись за горизонтом. Эскадрилья следовала своим маршрутом.
До цели недалеко: немцы на земле, извещенные о приближении штурмовиков, открывают ураганный огонь из всех видов оружия, стреляют уже восстановленные или установленные за ночь зенитные батареи. В воздухе густо от разрывов. И, как назло, развиднелось, может здесь, в этом районе, густых туч вообще не было. Теперь самолеты, группы в почти чистом небе, в его голубизне, как на блюде, теперь они — отличные мишени и можно стрелять по ним, как в тире.
«Ввязываться в драку с зенитчиками уже ни к чему, — соображаю я, — лучше сманеврировать, обойти их». Делаю маневр, увожу «ИЛы» за появившееся одинокое облачко. Выныриваем из молочной пелены у самой цели, почти над аэродромом. Немцы успели прибраться. Воронки от бомб на взлетной полосе уже не зияют, их засыпали, заровняли. В стороне, огромной кучей, разбитые, сожженные машины. На линейке новые бомбардировщики. А истребителей нету. Соображаю: «Куда-то перебазировались. Это хорошо, значит, похозяйничаем здесь, устроим шумок».
Окидываю взглядом самолеты группы. Они все в сборе, в четком построении. Докладываю на КП:
— Выхожу на цель.
И тут появились «Юнкерсы». Как видно, немецкие бомбардировщики возвращались с задания на свой аэродром. Горючее у них, конечно, на исходе, отвернуться от аэродрома нельзя. «Что же, долбанем их и в воздухе, тем более, что идут они без прикрытия». Истребители уже ушли на свой аэродром. Сосредоточиваюсь, командую:
— Атакуем «Юнкерсы»! Атакуем! — и устремляюсь на медленно, по моим меркам, — летящий тяжелый бомбардировщик, с лету всаживаю в него очереди снарядов и эресов.
«Юнкере» окутывается дымом, сваливается на крыло, падает. За ним падают еще два сбитых кем-то из наших фашиста.
Бомбардировщики разворачиваются и уходят, бегут, оставляя поле боя за штурмовиками. Они, видно, так ни в чем и не разобрались. Гнаться за ними некогда и не с чем. Боекомплект нужно беречь для штурмовки аэродрома.
Снова заговорили зенитки, летят красные шары-снаряды эрликонов, небо снова в клубах разрывов. Срывается, падает штурмовик. Чей? Кто в нем? Номера не засек.
Не время переживать потерю, бой есть бой. Хотя и жалко, до слез, до боли в сердце жалко, но потери не напрасны, фашисты потеряли больше. И еще потеряют.
— Потеряют! — корчась от злости, кричу в шлемофон.
На аэродроме, под нами, паника. Немецкие летчики как вчера те, заводят моторы машин, наверное, стараются увести самолеты, хоть куда, в сторону, но огромные машины на земле вовсе неповоротливы, налезают друг на друга, валятся, загромождая взлетные полосы.
— Атакуем, атакуем! — командую я и снова пикирую на самолеты. За мной — остальные.
Бомбы сброшены. Немецкие самолеты на земли горят. Группа следом за мной делает второй, третий заходы. И тут я улавливаю перебои в работе мотора своего самолета. Кое-как выравниваю его, левым пеленгом выхожу на обратный курс. Мотор явно не тянет. Вывожу машину из строя, уступая место ведомому. Приказываю Коптеву следовать на аэродром. Самолет валится на левое крыло.
Группа кружит. Я кричу Коптеву. Командую:
— Веди группу домой! Домой!
У моего штурмовика мотор срывается, но все-таки работает. Я еще лечу.
До аэродрома уже рукой подать, минут восемь-десять лету. Но вырвавшиеся откуда-то из-за леса «Мессеры» не дали этих минут. Их всего два. С ними было бы можно и подраться, но мотор моего штурмовика еле тянет. Я скриплю зубами, гнусно, — что не делал никогда — ругаюсь. Если бы машина была исправлена, я бы им дал, показал. Кое-как поднимаю самолет вверх, уклоняюсь в сторону, пытаюсь поймать «Мессера» в прицел, но это невозможно, скорость мала, самолет почти не слушается рулей...
Умолк пулемет. У стрелка и у меня самого кончился боезапас. Фашисты разворачиваются и с боков, спокойно расстреливают штурмовика. «Попадание в фюзеляж», — засекаю я. — Второе еще раз в мотор. Он глохнет окончательно. Теперь все, конец».
— Прыгай! Прыгай! — приказываю стрелку.
Тот пытается что-то возразить, но я опять зло ругаюсь.
— Прыгай, твою мать! Прыгай! Приказываю!
Стрелок откидывает фонарь, вываливается из кабины. Немцы всаживают в почти уже падающий самолет еще пару снарядов. Чувствую, как меня ударило в ногу, в плечо.
— Теперь все, теперь пора, — решил я и вываливаюсь из самолета.
Сколько-то лечу затяжным. Раскрываю парашют чуть ни у самой земли.
Осматриваюсь. Кругом лес. Озерцо, на берег которого приземлился.
Тут же подбегает следивший за моим полетом уже приземлившийся стрелок. Спрашиваю:
— Как приземлился, Яковенко, ничего? — Стрелок совсем молоденький парнишка, страшно боялся прыгать с парашютом на тренировках.
— Ничего, товарищ лейтенант, прыгнул как надо. Теперь-то чего. Где мы?
— Мы на земле. Главная наша задача — бежать. Немцы, наверное, засекли наше падение. Мы на их территории. И словно в подтверждение над нами проносятся оба «Мессера».
Пытаюсь встать и падаю. Боль пронизывает ногу, плечо горит, рукой не пошевельнешь. Раздеваюсь, осматриваю себя. Действительно, ранен. Одна ранка на левом плече, вторая — почти касательное неглубокое попадание — в левую же икру. Боль невероятная. Кажется, что ею наполнено все тело. Раны, хотя и не серьезные, горят, жгут огнем. И еще кровоточат.
Яковенко мотает головой.
— Санпакет не захватил. Ах балда, балда! — бьет себя по лбу.
— Ладно тебе — злюсь я. — Рви на мне рубашку, нижнюю, на бинты рви.
Он быстро справляется с задачей. Полосует рубашку, туго обматывает раны. Становится вроде легче. Встаю. Опять дикая боль пронизывает тело. Но идти надо, забраться хотя бы за это озерко, которое засек краем глаза сверху. Здесь сейчас появятся немцы. Летчики, конечно, сообщили о двух сбитых ими советских пилотах.
— Да вы на меня валитесь. Я сильный, выдержу, — уговаривает Яковенко.
Превозмогая боль, обхватываю парня и иду, скачу, ковыляю на одной ноге, вторая приволакивается за мной.
Утопив парашюты в озере, по лесу обогнули его, забились в густые камыши по мелкому болоту и тут же услышали погоню. Немцы прочесывали лес. Хорошо, что с ними не было собак. Походили около озера и почему-то побежали в сторону, даже не заглянув в камыши.
Мы отлежались. Парень снова осмотрел меня и подправил бинты. Кровь уже не шла. И вообще, раны были не опасные. Кости-то целы.
Нужно было сориентироваться. Планшет у меня сохранился. Сверился по ручному компасу — он был у стрелка — с картой. Для нашего хода мы были в глубоком тылу у противника. До линии фронта не близко, добраться до него будет нелегко, но возможно. Оружие — два пистолета и пара обойм к ним, еще два ножа. Есть нечего. Пока можно терпеть и без еды. Главное — не сидеть, двигаться, идти.
Определив по карте район нашего приземления, отметив выход к линии фронта, пришлось вырезать этот участок, а карту — уничтожить, на ней наши аэродромы. Вырезали палку и пошли.
Боль постепенно притуплялась. Мы прибавили хода.
Солнце садилось. Начало темнеть. Выбрались к какому-то поселку. Обошли, опасаясь встречи с немцами. Залегли, в кустах. Заснули как убитые.
К рассвету на пути — снова небольшое село.
— Зайдемте, товарищ лейтенант, — предложил Яковенко. — Чего бояться, тут же наши, русские. Неужели выдадут? Отдохнем. Может, подкрепимся. Жрать охота.
Ход был рискованный, но я так вымучился, что было все равно. Соображал, наверно, от потери крови, от боли, плохо, иначе не согласился бы на такую легкомысленную небрежность. Однако пистолет вынул.
Пробирались задами, через огороды, к домику на отшибе. В окне огонек. Перебрались через поваленный плетень. И сразу из полутьмы:
— Хальт! — щелкнули затворы автоматов.
— Хальт! — из-за сарая вынырнули две смутно различимые в темноте фигуры.
Я выстрелил, выстрелил и Яковенко. И сразу лай собак, крики.
Яковенко рванул меня, почти взвалил на себя. По кустам, по каким-то зарослям по крутому откосу скатились вниз к речушке, по горло в воде, перебрались через нее и опять в лес. За спиной за нами крики, стрельба. Вспыхнули прожекторы.
Пробежав по лесу, опять уперлись в болото. Перебираясь с кочки на кочку, проваливаясь по пояс, перешли его, углубились в лес. И на этот раз оторвались от преследователей. Выстрелы, крики затихли, остались позади.
От бега боли в ноге, в плече усилились, перед глазами — круги. Мучительно хочется пить. Вода кругом, но вонючая, болотная. А жажда жжет, и я пью эту гнусную, но приятно охлаждающую жижу.
День пролежали в кустарнике, зарывшись в сухие листья, ночью опять пошли. Появилась луна, при ее свете можно было сверяться с компасом.
Но случилось совершенно непредвиденное, в нашем положении — просто нелепое. Яковенко поразила куриная слепота. Как оказалось, он был ей подвержен. При отправке на курсы воздушных стрелков скрыл это. Теперь мы шли — один считай без ноги и руки, другой почти совершенно слепой.
Я тоже ничего не видел, плохо соображал. Сколько мы брели по лесу, уже не помнил, во времени не ориентировался, с направления, определенного по компасу, сбился. Мучительно хотелось одного, плюхнуться на землю, прижаться, притиснуться к ней, прохладной, унять боль в ранах, раздиравшую тело.
Не замечая ничего, свалились, рухнули в какой-то овраг. От дикой боли потерял сознание. Наверное, быстро очнулся. Пошарил руками — Яковенко рядом. Полежали молча. Боль утихла. Я заставил окончательно упавшего духом стрелка идти. На парня уже не опирался. Он еле шел... Притерпевшись к боли, я сам шагал как можно бодрее.
Из оврага выбрались затемно, сразу наткнулись на избушку-полуземлянку. В предрассветной мгле проступала дверь. Страх у меня пропал, растворился.
— Схожу, разведаю, — шепнул я стрелку, шагнул. Дверь распахнулась. В освещенном проеме — фигура немца. Ну да, немца. Он в нижнем белье, на плечи накинут френч, на голове пилотка. Я за деревом, немец меня не видит. Но подает голос слепой Яковенко:
— Талгат, Талгат, где ты?
Немец почему-то не прячется в избушке, наверное, ошеломленный русской речью, кидается в сторону, скрывается в лесу. Дверь снова распахивается, в ней еще один немец. Я стреляю в упор, на одной ноге отскакиваю в сторону, как могу ковыляю к оставленному стрелку, тащу его за собой. Сколько так тащил — не знаю. Пересекаем поляны, пробегаем через перелески.
Останавливаемся в реденьком лесу. Валимся от усталости замертво.
— Брось меня, — отдышавшись, шепчет Яковенко. — Иди сам. Я может прозрею, видеть буду, доберусь.
Я ругаюсь:
— Не смей говорить. И думать о таком не должен. Позорить меня не смей! Если товарища в беде брошу, Аллахом проклятый буду, мучиться и на том свете буду.
Опять спрятались в какой-то низине.
Наступила еще одна ночь. Дождались темноты. Вышли из леса и опять на изубшку. Нужно было уходить. Немцы могли быть и тут. Но мучил голод, да и не пили целый день. Про то, что не ели, стараюсь не думать. «Черт с ним, пойду!» — опять решаюсь я.
— А если немцы? — шепчет Яковенко.
— Ну и что! Не рота же их там? Если отделение, перестреляю. — Забрал у него пистолет и, зажав по одному в руках, подобрался к двери, прислушался. В избушке вроде тихо. Набрался смелости, стукнул. За дверью зашевелились, раздался голос:
— Кто это?
— Свои, свои, — поспешил я.
— Что за свои? — вопрошала явно старуха.
— Летчики мы, советские летчики. Немцы тут есть?
— Нету. Только ушли. Ищут. Говорили, летчиков. Не вас ли?
— Может и нас. А ты помоги. Водички бы, хлеба по куску. Вдвоем мы, двое суток не евши.
Дверь приоткрылась, в светлом прямоугольнике двери четко обозначилась фигура действительно старухи. Осмотрела меня, мою заскорузлую от крови одежду, всплеснула руками.
— Боже ж мой, ты, сынок, вон и раненый. Так заходи, перевязать, может.
— Ой, бабушка, не до перевязки нам. Хлебушка бы!
— Так нету же хлеба. Немцы, да старостовы бандюги все забрали. Картоха вареная есть. Могу дать.
— Давай картошку, бабуся, — обрадовался я.
Бабуся сходила в избу, принесла большой ковш воды, напоила, сыпнула мне в полу картошки, в тряпочке — соль. И еще небольшой кусок сала.
— Ешьте, милые, больше у меня ничего нет. Капусту и ту забрали, оглашенные.
Я поблагодарил бабку, даже расцеловал ее.
В избушку мы так и не вошли: боялись, что нагрянут шарящие по лесу, нас ищущие немцы. Ушли в лес, забились в кустарники, поели картошку. Немного насытились. Измученные уснули.
Проснулись вскоре. Нужно было идти. Фронт где-то рядом. Уже слышатся канонады. Но лес кончился, дальше — поле. Рассвело. Слева поселок или деревня — строения. По открытой местности идти опасно. Мы ползем. Заваливаемся в яму-воронку от авиационной бомбы. Впереди — лесок, искореженный бомбежкой. Видно, что-то тут поблизости есть, на что-то налетали самолеты наши, или немецкие.
Лежали в воронке до темноты, потом снова ползли тем же порядком — я впереди, Яковенко за мной, на ремне. И снова воронка. Мы летим вниз. Лежим в жидкой грязи. Кругом тихо, небо то и дело освещают ракеты. Значит, фронт рядом. Потихоньку выкарабкиваемся наверх. Вспыхивает ракета. Мы на бугре, как на ладони. Еще ракета, за ней еще. Светло как днем. Немцы засекают нас, трещат пулеметы, автоматы. Грохот взрыва и я теряю сознание.
Когда пришел в себя, было тихо и темно. Обстрел кончился. «Из миномета нас», — соображаю я. Но где стрелок? Выбираюсь из воронки и сразу натыкаюсь на тело. Это он, Яковенко, неподвижный. Ощупываю. Рука попадает во что-то липкое, голова, раздробленная, в крови. Парень мертв.
С трудом волоча тяжелое, будто свинцом налитое тело, снова ползу, припадая к земле в полубеспамятстве, на уже совсем отчетливо доносящиеся отзвуки канонады, к линии огня. Кое-как перебираюсь по кустам, через болото, ползу по канавке, сознавая, что каждую минуту могу подорваться на мине, взлететь на воздух, либо опять накроют, освещенного ракетами, минометчики. Ползу долго, как кажется, целую вечность, хотя каким-то шестым чувством определяю, что преодолел не более сотни метров. Опять срываюсь в темноте, скатываюсь с обрыва, плюхаюсь в воду. «Река! Северный Донец, — догадываюсь я. — На той стороне наши».
Я перелетал эту водную преграду десятки раз. Перелетал всего за одну, за пару секунд. А теперь она встала на моем пути к своим непреодолимой преградой.
Немцы, что-то услышав, может быть, увидев сверху, с обрыва, открывают автоматный огонь. В воду плюхаются, вздымают водяные, столбы, мины. Меня не задевают. Но лежать без движения нельзя. Пока я под обрывом, в мертвой зоне, а уже светает, развиднеется совсем, немцы расстреляют прицельно, как в тире или еще хуже, возьмут в плен. Такого я допустить не могу. Значит, плыть и все...
Я стаскиваю сапоги, прямо в одежде отталкиваюсь от берега, плыву, с трудом почти на спине, загребая одной рукой.
Немцы улавливают в предутренней тишине плеск воды и снова открывают огонь. Пули смачно шлепаются в воду, между рук, около головы, впереди и с боков. Я зарываюсь в воду, словно она может прикрыть, защитить от пуль. Но она не защищает, что-то бьет по руке. Боли в ледяной воде почти не чувствую. Рука немеет, но я все-таки плыву, уговариваю себя:
— Дотяну, дотяну!
А сил уже нету, руки наливаются непреодолимой тяжестью. Ноги немеют. Я выбился из сил окончательно. Намокшая одежда, да и все тело, наполненное свинцовой тяжестью, усталостью, тянут ко дну. И это уже не пугает. Вялое безразличие сменяет все стремления, вытесняет мысли. Я опускаю руки, бессильно вытягиваюсь и отдаюсь течению реки...
Но ноги тут же стукаются о твердое. Подо мною дно, берег.
Я бреду по воде, выбираюсь на сушу и падаю без сознания.
...Очнулся в санбате. Врачи копались в ранах, делали перевязку. А я жил. Прошел через строй смертей и выжил.
Снова в строю
Очнулся я от пронизывающей все тело боли. Открыл глаза. Землянка. Надо мной — незнакомые лица в белых пилотках или колпаках. «Врачи, наши», — догадался я. И сразу: «Пить, хочу пить!» И снова теряю сознание.
Утром я уже пришел в себя окончательно. Меня отвезли в санбат, какой уже не помню, какой-то пехотной дивизии. Оттуда в полевой передвижной госпиталь.
Здесь я пролежал долго, наверное, недели две. Вообще там больше десяти дней раненых не держали, отправляли на лечение в тыл, а я задержался, упрашивая врачей, медсестер, чтобы они не эвакуировали, подержали меня здесь хотя бы до следующей эвакуации. Я хитрил, надеялся, что сумею продержаться в прифронтовой полосе до выздоровления. Ранения-то не тяжелые. И удерживался. Врачи, весь медперсонал госпиталя относились ко мне хорошо, со всей душевной теплотой.
Вначале все шло как надо, раны затягивались, только вот связаться со штабом полка не удавалось. До него не близко, а прямой связи не было. Меня это, конечно, волновало. «Дня через два-три вырвусь, сам в полк заявлюсь», — соображал я. Но случилось непредвиденное. В госпиталь прибыла комиссия и — меня в эшелон.
— У человека три ранения, контузия, человек тонул, переохлаждался, его лечить да лечить, а он чуть ни на фронте! — возмутился приехавший старик врач. — Эвакуация немедленно!
И вот уже мерно постукивают колеса вагона, за окнами какие-то пейзажи. Я не смотрю, не до того: оторвали от полка, эскадрильи, от родного аэродрома. Прошу санитаров помочь убежать. Те вздыхали, разводили руками:
— Друг ты наш, летун, ты пойми, из-под ареста, даже из тюрьмы бежать помогли бы, с койки больничной не можем. Везут не зря: ранения, шок у тебя был. Последствия возможны. Так что не проси. Отлежишься, вернешься в свой полк, еще налетаешься.
А я мучился, переживал, так мне не хотелось отрываться от своего аэродрома, тем более, что чувствовал себя почти здоровым.
Как объяснили сестры, эшелон направляется в глубь страны, может и в Москву. Радуются за нас медсестры: в городе поживете, в человеческих условиях, от блиндажей, землянок отдохнете. Так они говорили. Я знаю — так и будет, только мне все же это ни к чему, мне бы самолет боевой, небо. За мой сбитый тринадцатый, за стрелка-мальчишку Яковенко, за всех погибших товарищей и за Родину с фашистами рассчитаться. А раны — пустяк, заживут, затянутся. И я мечусь на койке, чуть не плачу от досады.
Гудок паровоза. Поезд останавливается.
— Станция, — выглянув в окно, сообщает сосед по койке. Медленно движется эшелон, лениво постукивая колесами. Лежу на верхней полке лицом к стене. И вдруг слышу шум авиационных моторов. Поворачиваюсь.
Поезд замедляет ход. Останавливается.
— Новый Оскол! Новый Оскол!
«Станция Новый Оскол, — соображаю я. — Так ведь здесь наш полк, аэродром наш был!» Смотрю и не верю своим глазам.
— На посадку на не видный отсюда аэродром идут штурмовики, два моих родных «ИЛа». Оба самолета над моей головой.
Соскакиваю с койки, забыв о боли, бегу по вагону, что-то кричу. И оказываюсь в руках санитаров.
Мучаюсь. Там, на моем аэродроме, работа, полеты, штурмовки, там жизнь. А я на койке кисну и, если бы уж совсем плох был, а то пара, тройка дырок, так их уже затянуло, вон и рукой своей свободно двигаю и боли почти никакой, поднимаю я руку и чуть не кричу от боли.
Поезд трогается, снова стучат колеса. Я откидываюсь на подушку.
— Станция Уразово! — объявляет, проходя по вагону сестра. -Ходячие могут выйти из вагона, подышать, размяться, что-то купить. Далеко не отходить, следить за отправлением!
И снова в уши врывается шум мотора. Вдалеке, в низинке — аэродром.
В небе истребители, они делают круги над станцией, над эшелоном.
Решение приходит само. Я хватаю обмундирование, напяливаю на себя, сую ноги в сапоги и выскакиваю из вагона. Дежурный санитар что-то покупает в стороне, у старушки, увлечен спором с ней, на меня не обращает внимания.
Рывок — и я за станцией, за строениями.
У какого-то склада бензовоз с нарисованными на баке крылышками. «Аэродромный», — догадываюсь я и бегу к водителю.
— Ты с аэродрома?
— Ну да. А ты чего тут? — окинув взглядом меня, спрашивает он.
— Да вот, из санбата. Доехал сюда в эшелоне, теперь до аэродрома бы добраться, — не моргнув глазом, врал я.
— Так чего же, поедем. Документы оформлю и тронемся. Садись в кабину.
Он скрылся в дверях строения.
Из-за домов выскочил тоже, как я, запыхавшийся летчик же, лейтенант с белыми бинтами на голове, рука как у меня, на перевязи. Подскочил к бензовозу.
— На аэродром?
— Ну да.
— Захватите меня? — А сам пугливо оглядывается, будто погони боится.
— Удрал?
— Как и ты, — кивает лейтенант на мою в перевязи руку.
— Ну и ладно, — соглашаюсь я. — Нам только до аэродрома, а там — у своих. Пробьемся!
— У своих не пропадем!
К вечеру были на аэродроме. Сразу к командиру дивизии, генералу. Первым докладывал я. Был краток. Фамилия, имя, часть.
— Был подбит в воздушном бою, находился на излечении в санбате. Следую в часть. О том, что был сбит над территорией врага, как добирался — умолчал, расскажу дома.
— Справку из санчасти, — с подозрением глянул генерал. Никакой справки у нас обоих, конечно, не было.
— Ладно, созвонимся, разберемся, — кивнул генерал и занялся вошедшими летчиками. Мы быстренько смылись, с глаз долой. Не дай Аллах, начнут разбираться, могут и в госпиталь вернуть, а то и похуже, в трибунал. За побег из мест излечения в последнее время вот так наказывали.
Ночь провели в закутке. Держали нас не то чтобы под арестом, но отдельно. Покормили.
Рано утром я вышел из помещения. Перед глазами — аэродром. В леске замаскированные истребители. В правом углу, на отшибе, под елями — одинокий «ПО-2» — «Кукурузник». И сразу у меня шальная мысль: «Машина исправная, иначе бы ее тут, у взлетной, не держали. А что если на ней к своим?! Если здесь сидеть, ждать, когда разберутся — высохнешь. Ну да, рвануть, а там свои, они разберутся, в случае чего и защитят. Зашел в помещение, позвал напарника, поделился идеей. Тот было заколебался... Угнать самолет — дело не шуточное, но и ему очень хотелось на свой аэродром истребителей, а он почти рядом с аэродромом штурмовиков. Подумал, махнул рукой, согласился.
Да и чего было бояться? Угон самолета? Если прилетим к своим, не будет ничего. В том я уверен. Кто станет поднимать шум, кричать, что у него самолет соседи угнали? Это же позор, разгильдяйство! Ему же за это нагоняй. Нашим шуметь тоже ни к чему — отгонят самолет хозяевам и все. Попадет мне. Ну, это другое дело.
Как только стемнело, мы приступили к осуществлению плана. К машине добирались по опушке леса. Подошли вплотную. Увидели копавшегося в моторе «Кукурузника», видно, механика. Присели за кустом, наблюдали. А он крутнул винт, видно проверяя. Спрыгнул на землю. Забрал стоявшее на земле ведро, скрылся за деревьями.
Я не выдержал, заполз в кабину. Осмотрел пульт, потрогал ручку управления. Элероны слушались.
— Утром махнем.
Тем же путем, по опушке леса, обходя караулы, возвратились в определенное нам помещение. На столе ждал ужин. Перекусили и легли на койки.
Спали кое-как, урывками. Поднялись затемно. Сторожко оглядываясь, крались по опушке к стоявшему на отшибе, между деревьями «Кукурузнику». Добрались. Я выбил из-под колес тормозные колодки, заскочил в кабину. Шепнул напарнику:
Он крутнул винт. Мотор заработал.
Через летное поле кто-то прямо шел к нам, махал руками и что-то кричал.
Я дал газ, вырулив на взлетную, не останавливаясь, разогнался и взмыл в небо.
Через несколько минут мы сели на аэродроме штурмовиков. На мой родной.
Удивлению и радости друзей и летчиков, тискавших меня в объятиях, не было границ. Твердили одно:
— Мы же тебя в погибших, в погибших... Уже и вещи отправили родным и сообщение как о без вести пропавшем...
Исправлять ошибку нужно было немедленно. У меня не оставалось ни одной рубашки. Китель с наградами — орденами, медалями — был отправлен. Прозвонили по почтовым отделениям и нашли посылку уже в армейском. Слетали туда, нашли, задержали посылку и письмо. Привезли все и вручили мне.
После этого были, конечно, всяческие разборки, сердитые выговоры начальства. Снова отправка в санчасть, но уже в свою. Я промаялся там еще дней пятнадцать. А вскоре после комиссии снова в часть.
Ребята поздравляли с успешным возвращением, а я сжимался, уединялся. Стыдно мне было: «подставился» «Мессеру», он и долбанул. Расслабился, зевнул. И правильно комэск сказал, что за такое — в трибунал.
— Не за то он, про тибунал-то, Толя, — возражали мне друзья, — за побег из санпоезда он.
— И за то, но главное, за поражение мое, за потерю самолета — мой дорогой тринадцатый! — вздыхал я.
Нежданные «гости»
Наступление наших войск в районе Белгорода вынудило противника поспешно отойти на заранее приготовленный рубеж, проходивший по южному берегу Днепра. Части Советской Армии после небольшой оперативной паузы предприняли стремительный бросок с форсированием Днепра.
Все свои огневые средства обрушили немцы на наступающие войска. Одновременно на небольшом плацдарме за рекой вражеские танки и пехота непрерывно контратаковали и не давали нам возможности развить успех. Большие группы бомбардировщиков «Ю-87» и «Хе-111» наносили удары по боевым порядкам, пытаясь приостановить наступление частей Первого Украинского фронта.
В этих условиях на штурмовую авиацию ложилась очень ответственная задача. Наш гвардейский ордена Александра Невского полк вел разведку, наносил штурмовые удары по врагу. Вот лишь один из вылетов, а их приходилось делать по пять-шесть в день. Его описание сохранилось в скупых словах боевых донесений, которые непрерывно поступали по эфиру с борта моего самолета.
«11.07. В окрестностях пункта 117 группа пехоты противника около трехсот человек. Отходят на юго-запад по полю. Пехота штурмована на бреющем полете. Я продолжаю полет.
11.10. На железнодорожной станции два эшелона под парами. Паровозы головой на юг. Сброшены бомбы с замедленными взрывателями. Сильный зенитный огонь. Продолжаю полет.
11.14. На дороге от 601 до 409 двухстороннее движение сорока автомашин, двенадцати бронетранспортеров, семи танков. Колонны атакованы в два захода. Я продолжаю полет.
11.15. Атакован четырьмя «Фоккевульфами». Уклонился от боя. Продолжаю полет.
11.21. На восточной окраине 312 две зеленые, одна белая ракеты. Наши танкисты обозначили себя. На водном рубеже 805 сильный артиллерийский огонь. Я продолжаю полет. Курс 165».
Нелегко приходилось в те дни нашим наземным войскам. Немцы стояли насмерть. Нужно ли говорить о том, что мы, авиаторы, помогали пехотинцам и танкистам всем, на что только были способны. Восьмого сентября нашему полку была поставлена задача уничтожить живую силу и танки противника на юго-западной окраине Мишурина Рога.
До вылета оставалось двадцать минут. Нашей группе в составе двенадцати самолетов предстояло уничтожить танки, которые прямой наводкой били по саперам, наводившим понтонную переправу.
— Вас будет прикрывать группа Луганского в составе шестерки, — сказал подполковник Шишкин.
На душе спокойно: если в воздухе Сергей Луганский, значит, можно быть уверенным, что фашистские стервятники и близко не подойдут к «Ильюшиным».
С Сергеем нас связывала старая фронтовая дружба. Собственно говоря, ему я был обязан жизнью. Еще в июне на наш аэродром перебазировался истребительный полк. Он только что прибыл, и с его летчиками мы, штурмовики, не успели еще познакомиться.
В эти дни шли кровавые бои под Белгородом, и мы летали бомбить объекты, где немцы сконцентрировали много техники и живой силы.
Подлетая к линии фронта, заметили группу «Мессершмиттов», шедшую сбоку. Завязался бой. Мой стрелок был тяжело ранен, и, таким образом, самолет оказался беззащитным сзади. Это, видимо, поняли немцы: пулемет-то хвостовой молчит! Два истребителя атаковали мой, уже порядком пострадавший в этом бою, «ИЛ».
Слышу вдруг в шлемофоне тревожный голос:
— Горбатый! Сзади «Мессер»!
Поворачиваю голову и вижу быстро приближающийся самолет. Бросаю машину резко в сторону, немец стремительно проносится мимо, а на хвосте у него наш «ЯК-1» с цифрой 47 на стабилизаторе. Буквально через секунду «Мессершмитт» запылал и рухнул на землю, а «ЯК-1» развернулся и снова ринулся в самую гущу боя.
Вернулись на аэродром. Кто же спас мне жизнь? Кто летел на сорок седьмом? Во время ужина решил выяснить это. Раньше не мог, ибо до вечера эскадрилья еще раз слетала «в гости» к немцам.
Захожу в столовую. Летчики ужинают. Громко спрашиваю:
— Кто сегодня летал на сорок седьмом?
Все молчат. Я повторяю вопрос. Смотрю, из-за стола выходит лейтенант. Невысокий, стройный, с открытым лицом. Красавец.
— Я летал... А в чем дело?
— Ну, друг, давай знакомиться. Ты сегодня из могилы меня вынул.
Лейтенант засмущался. Мы крепко пожали друг другу руки, и он вполголоса произнес:
— Луганский Сергей.
Истребители пригласили меня за свой столик. Разговорились. Оказалось, что Сергей — казахстанец. Ну, тут сам бог велел нам выпить за дружбу, за земляков.
С тех пор фронтовая дружба наша крепла. Много раз летал я на задания под прикрытием Луганского, и не было случая, чтобы возвращался с потерями.
Вот и на этот раз мы должны лететь вместе. Можно будет спокойно работать, Сергей в обиду не даст.
А ведь бывали случаи, когда истребители прикрытия, мягко говоря, не выполняли свои функции. Еще на Степном фронте весной 1943 года вылетели на задание двенадцать штурмовиков нашего полка. В прикрытие им была выделена шестерка истребителей из подразделения, стоявшего на нашем же аэродроме.
В тот тяжелый день четыре «Ильюшина» не вернулись на базу. Мы не находили себе места — что может быть страшнее смерти друзей? Вечером в столовой начались разговоры о причинах потери четырех самолетов.
Все принимавшие участие в операции в один голос заявили, что в гибели наших друзей виноваты истребители. Во время той штурмовки на группу навалились «Мессершмитты», а наши, из прикрытия, отказались от боя, ушли, оставив товарищей в беде.
Недобрыми глазами посматривали мы на истребителей. Кто знает, может быть, этот инцидент и не привел бы к неприятной стычке, но тут один из истребителей не нашел ничего лучшего, как недовольно пробурчать:
— Герои нашлись! Вас бы в нашу шкуру. Немцев в воздухе чуть ли не в два раза больше было.
— Встань! — выкрикнул лейтенант Коптев. — Встань, говорю, шкура, чтобы все тебя видели!
В столовой поднялся шум. Мы пытались успокоить своего товарища, но Коптев вырвался и, уставившись побелевшими глазами на истребителя, двинулся в его сторону.
— Мы сегодня четырех друзей потеряли, — с каким-то клекотом заговорил он, — а ты под их смерть базу подводишь. Трус! Вон отсюда! Слышишь, вон!
Побледневший летчик не трогался с места. Я заметил, что рука Коптева тянется к пистолету. С трудом мы обезоружили лейтенанта. И тут наступила реакция. Коптев сел, опустил голову на руки и заплакал.
— Уйдите, ребята, — обратился я к истребителям. — Душой прошу.
Об инциденте стало известно командованию дивизии. Началось разбирательство. Правда, никого строго не наказали. Но с тех пор к каждой группе штурмовиков прикрепляли определенную группу истребителей. Мы вместе летали, вместе жили, знали мысли и чувства друг друга.
Теперь у нас была уверенность, что в любой обстановке ты почувствуешь локоть товарища.
Этот аэродром, на который мы перебазировались, был, пожалуй, из самых удачных. Во-первых, и самое главное — немцы передали его в полной сохранности, со всем подсобным хозяйством и жильем, во-вторых, он был в пределах десяти километров от фронта.
Близость аэродрома к фронту желательна. Чем он ближе, тем короче маршруты для штурмовиков. Тут же все рядом, взлетел, перемахнул через линию фронта, через заградогонь и цель: на все минуты и горючего капли. Но есть и отрицательная сторона. Чем ближе фронт, тем вероятней возможность обстрела аэродрома вражеской артиллерией.
Именно так вышло на этом аэродроме. Дня через два над ним, над всей этой благодатью, засвистели крупнокалиберные снаряды. Сначала они рвались с перелетом, ухали в болотце, по бокам, круша благоустроенные блиндажи. Потом артиллеристы пристрелялись — почти над аэродромом пролетел их разведчик, да, наверное, где-то в лесу, хоронился их наблюдатель с рацией, — стали бить по летному полю.
Аэродромная служба не успевала заделывать воронки от взрывов снарядов. Нужно было что-то делать.
Командир полка посылал летчиков со специальным заданием уничтожить бьющую по аэродрому батарею. Они летали, громили батареи, но не ту, которая стреляла по аэродрому. А она продолжала досаждать.
Командир вызвал меня, спросил:
— Ты говорил, что вроде заметил какую-то пушку или батарею, за высоткой.
Да, заметил, именно там, на предполагаемом, по их расчетам, месте, что-то вроде большой, тщательно замаскированной пушки. Точнее определить не мог, летел с задания, пустой, горючее на исходе.
— То место запомнил?
— Запомнил.
— Лети и поутюжь там, может, нащупаешь.
Я вылетел, определил то место, за высоткой. Никаких пушек тут не было. На сопке нагромождение камней, кусты и все. Ни ямки, ни окопчика.
Вернулся ни с чем. Стоял у самолета, разговаривал с механиком и в этот момент обстрел. За линией фронта ухнуло. Тут же свист снаряда и взрыв.
Я напряг зрение, всматриваясь в направлении доносящегося звука выстрела. Снова ухнуло. И я засек вырвавшийся из-за той самой высотки клуб дыма, четко обозначившийся на фоне светло-голубого неба.
Снова выстрел и новый клуб дыма.
Заскакиваю в кабину самолета, докладываю на КП, получаю разрешение, выжал газ и взлетаю.
На этот раз полет бы не напрасным. Пушку засек в самый последний момент, немцы тащили ее в искусно обустроенный в склоне высотки подземный капонир — укрытие. Пушка была огромная, с длинным стволом, дальнобойная. Таскали ее немцы, видно, лебедкой. Увидев штурмовик, скрылись в пещере.
Теперь оставалось полдела — уничтожить брошенную на виду пушку.
Я сделал это с первого захода, обрушив серию бомб. При втором заходе увидел ее всю, задравшую ствол к небу. Сбросил на всякий случай еще серию бомб, обстрелял из эресов, из пушек, дал несколько очередей из пулеметов по метавшимся немцам.
После этой штурмовки пушка уже не стреляла. Аэродром действовал спокойно.
Вечером летчики с интересом обсуждали эпизод. Наперебой просили меня рассказать об уничтоженной пушке, которую немцы прятали в сопке. Они с таким еще не сталкивались. Вспоминали о других необычных эпизодах войны. Заговорили о невероятной истории, произошедшей на предыдущем аэродроме.
Тот аэродром был тоже «живой». В нем было все цело: мастерские, склады, блиндажи. В отлично оборудованной столовой плиты еще теплые. Расположились, стали готовить обед и вдруг звук моторов.
Что такое? Наши не должны были лететь без сообщения о готовности аэродрома к приему, а такого никто не давал.
Ребята выглянули. Над аэродромом четыре «Юнкерса». Приземлились, вырулили на стоянку. Экипажи вылезли из кабин и шли гурьбой к столовой.
Наши успели занять оборону. Дали очереди из автоматов. Пули просвистели над головами немцев.
Ошеломленные, они подняли руки.
Как выяснилось, вражеские экипажи еще с ночи вылетели на бомбежку городов в глубоком тылу. За это время наша часть стремительным ударом опрокинула немецкую оборону, захватила аэродром. И все было сделано так молниеносно, что немцы даже не смогли предупредить о случившемся находившиеся в полете экипажи. И они спокойно возвратились на аэродром.
«Илы» над Днепром
В те дни советские воины стремительно шли на запад. Знамя освобождения взвивалось над десятками и сотнями советских городов и сел. Фашисты теряли одну за другой важные позиции, откатываясь к Днепру.
Нас ждал Днепр. В штабах изучались карты, делались расчеты, определялись направления ударов, — словом, разрабатывались новые операции. Наши летчики и стрелки после боевых вылетов садились под березами, пожелтевшими от первых осенних ночных холодов и от пламени пожарищ, дружно запевали тихую и грустную песню о Днепре, о журавлях, плывущих над могучей рекой Украины.
Под мерный рокот «ночников», уходящих на боевые задания, люди рассказывали друг другу о прекрасной и нелегкой истории Приднепровья — священной земле, колыбели русской государственности. Земля Святослава и Владимира, Хмельницкого и Наливайко, Шевченко и Гоголя, Щорса и Боженко навеки прославлена бессмертными подвигами верных сынов, защищавших свою Отчизну.
Издревле по Днепру и его притокам селились славяне — предки трех братских народов: русского, украинского и белорусского. На Днепре вырос красавец Клев. Седая, славная история Приднепровья! Дорога ты сердцу каждого советского человека, и наши солдаты, восхищаясь подвигами предков, готовились вписать в нее новые страницы боевой славы советского оружия.
Немецкое командование предпринимало все меры к тому, чтобы удержать созданную ими в кратчайшие сроки линию оборонительных сооружений, которым они, по своей традиции, дали громкое наименование «Восточный вал». В истории войны сохранилась фотография, на которой запечатлен Гитлер и фельдмаршал Манштейн, склонившиеся над картой «Восточного вала».
О значении этой линии обороны впоследствии скажет в мемуарах гитлеровский генерал Кнобельсдорф. «Днепр планировался как линия сопротивления сразу после падения Сталинграда, весной 1943 года». А он, Днепр, ждал своих освободителей. В штабах наземных частей советских войск уже говорили о предстоящих штурмах, переправах через реку. На картах запестрели красные стрелы, охватившие столицу Украины Киев, пересекавшие синюю ленту Днепра. Через Днепр нацеливались части воздушной армии в том числе и корпус генерала Рязанова. Полки перебазировались поближе к Днепру.
Но вот и приказ наземным войскам форсировать реку с ходу. В районе действия Первого Украинского фронта к Днепру одними из первых вышли части Третьей гвардейской танковой армии генерала Рыбалко и с ходу начали форсирование, затем Днепр форсировали войска 52-й армии. В ночь на 26 сентября севернее Киева, в районе Лютежа, вышла на правобережье Днепра часть 38-й армии генерала Чибисова.
Стремясь во чтобы то ни стало отстоять свой «Восточный вал», немцы вводили в сражение все новые и новые части. Кое-где теснили наши войска. Однако до двадцати плацдармов на правом берегу Днепра были нами захвачены. На этих плацдармах, за эти клочки приднепровской земли и шло ожесточенное сражение.
Авиационные соединения оказывали наземным войскам всяческое содействие, штурмовали линию обороны фашистов.
Форсировавший Днепр пехотный полк, прямо против аэродрома штурмовиков Митрофанова, сумел закрепиться на правом берегу, захватив приличный кусок земли, создал оборону. Немцы предпринимали одну атаку за другой, стремясь опрокинуть занятую подразделениями оборону, сбросить их в реку. Наши обливались кровью, но держались, стояли насмерть. Штаб пехотной дивизии связывался со штабом авиакорпуса, просил:
— Летчики, братки, помогите! Немцы на том берегу прижимают. Реку перекрыли артогнем, подкрепление перебросить не можем. Топят, гады, любое плавсредство топят. Мы мосты, понтоны наводим, они уничтожают, бьют прицельно. Долбаните их. — И давали точные квадраты, ориентиры.
Штаб корпуса дал команду на вылет.
Работа была сложная, требовала мастерства и ювелирной точности. Захваченный нашими подразделениями плацдарм с километр в длину и еще меньше в ширину, клочок заросшей кустарником земли и все, за спиной обрыв к реке. Пехотинцы кое-как закрепились, врылись в землю и теперь держались за нее зубами.
А фашисты ярились, атака следовала за атакой. На окопы десанта шли танки, самоходки, их сплошным огнем накрывала артиллерия, налетали бомбардировщики, над головами солдат вились истребители, прошивая окопы пулеметными и пушечными очередями.
В тот раз вылетели в составе восемнадцати штурмовиков. Ведущий — я, уже лейтенант, Бегельдинов.
Понесенные поражения: вынужденные посадки на мины, во вражеский тыл не прошли для меня бесследно, я извлек урок, стал еще серьезней и обстоятельней обдумывать каждый предстоящий вылет по боевому заданию. Перед вылетом старательно изучал по карте местность, указанный квадрат и подходы к нему, хотя знал эти районы наизусть, летал сюда не раз. Прежде чем вести группу, нужно было знать точно все: возвышенности, овраги, лесочки и кустарники, а также и строения, одним словом, все что может служить укрытием для батарей и особенно зенитных, да еще эрликонов. Об этом я и думал сейчас.
Перед вылетом Митрофанов связался со штабом истребителей, потом сказал мне:
— Прикрывать группу будут двенадцать истребителей Луганского.
Это обрадовало, прибавило уверенности. Я знал, если в воздухе Луганский, можно работать спокойно, фашистские стервятники не подойдут к штурмовикам и близко.
Команды с КП, и штурмовики взлетают звеньями: звено Роснецова, Коптева, Шишкина, мое Переговариваюсь с ними по радио, отдаю приказания, выстраиваемся в боевой порядок. За моей спиной сидит стрелок, татарин Абдул, с русской фамилией Сундуков.
Я оглядываю строй и, дождавшись, когда из-за туч вырываются истребители, ложусь на курс.
Днепр рядом, вот он. Река здесь очень широкая — разлив. По ту сторону, почти у самого берега, до основания разрушенные войной строения. Дальше село Успенское, в районе которого и был форсирован Днепр нашим подопечным пехотным полком. На реке, между берегами, оживленно. Несмотря на непрерывный огонь вражеской артиллерии, саперы волокут по воде понтоны, наводят разрушенный немцами мост. Контуры его уже вполне различимы. Понтоны протянулись через всю реку. А пехота, не дожидаясь, когда он будет наведен окончательно, рвется вперед, переправляется через Днепр на любых подручных средствах — плотиках, лодках, просто на бревнах.
А вокруг плывущих — фонтаны взрывов. Снаряды крушат плотики, лодки, сбрасывают в воду, топят солдат.
— Ничего, ничего, мои дорогие, — вслух думаю я, — потерпите, сейчас мы их причешем. Они, гады, фашистские, попляшут у нас, повоют.
Руки мои на ручках управления — правая на ручке рулей, а левая — на ручке газа. Ноги тоже на педалях управления, теперь я отключаюсь от всего, что не касается штурмовки. Главное, провести группу к цели, по возможности без потерь или хотя бы с минимальными. Пока машины налицо, все в строю.
Но вот и передний край противника. Тут окопы не линией, в основном одиночные, на двоих-троих — временные. Фашисты не думают в них отсиживаться, они рвутся вперед, на десант. Их задача — опрокинуть его, столкнуть в реку.
— Я над целью, я над целью! — передаю на КП.
— Предохранители снять! Разрешаю работать! Разрешаю работать! — доносится голос замкомандира корпуса генерала Донченко. — Ориентир — село Бородаевка. Ударьте по высокому утесу. Артиллерия на нем. Работайте аккуратно! Рядом свои, — предупреждает он.
«Рядом свои!» — я вижу, определяю это и без подсказки. Линия обороны противника черным пунктиром окопов пересекает пологую вершину господствующей над местностью высоты.
«Устроились гады неплохо. Нависли над нашими, — соображаю я. Отсюда, с высотки, обе линии огня кажутся совсем рядом. Как же тут работать? — задаю себе вопрос и сам же отвечаю. — Точно работать, аккуратно, каждую бомбу, снаряд, пулю по врагу, иначе в своих, и гроб с музыкой. Ничего, мы умеем, — успокаиваю себя, — нам не впервой». Отыскиваю глазами ту самую горку, на которой батареи, оглядываюсь на группу, ввожу самолет в круг и командую.
— Атака! Атака! — Бросаю самолет вниз, к земле. За мной повторяют маневр самолеты моего звена и все остальные. Я вижу замаскированные пушки, немцев, засекаю торчащие стволы.
Предохранитель на ручке управления откинут, палец жмет на гашетку пушек, сразу же на гашетку пулемета и уже на выходе из пике, придавливаю кнопку бомбосбрасывателя.
Действия ведущего — мои действия, выходя по очереди на цель в смертельной карусели, повторяют остальные штурмовики.
В наушниках голос самого комкора Рязанова. Я узнаю его сразу. Генерал, конечно, наблюдает за действиями группы, находясь, как всегда, на высотке, в прифронтовой полосе, поди где-то над Днепром.
— Молния! Молния! — называет он мои позывные и уже открытым текстом, — Бегельдинов, атаку отставить! Отставить! Летят «Юнкерсы». К переправе допустить нельзя. Идите навстречу. Маленьким — значит «ястребкам» — команда дана. Навязывайте бой, атакуйте! Фашисты не должны подойти к переправе. Грудью прикройте, но не допустите к переправе!
Приказ необычный, для штурмовиков просто невероятный -атаковать противника, пускай даже бомбардировщиков, в воздухе?! Не наше это дело. Но я понимаю, другого у комкора нет выхода. Наводя переправу, саперы, пехота и так понесли немалые потери. Разобьют немцы понтоны, потери увеличатся вдвое и главное, потеря времени, а сейчас, в ходе наступления, фактор времени — все. Потому и приказ.
— Что же, бой так бой, — киваю я головой и докладываю генералу: — Вас понял. Иду на сближение с бомбардировщиками.
Передаю приказ по самолетам, разворачиваюсь, набираю высоту и ловлю глазами приближающуюся группу «Юнкерсов».
Их много, до трех десятков. Над ними с флангов истребители прикрытия.
— Атакуем «Юнкерсы»! — командую я. — Будьте внимательней! Строй плотнее! — Это с таким расчетом, чтобы каждый штурмовик мог наметить свою жертву. «Мессеров» в первый момент опасаться нечего, их отвлекут наши «маленькие».
Темные на фоне ясного неба, длинные фюзеляжи тяжелых, неповоротливых немецких бомбардировщиков отлично видны. Они уже рядом. Заметив приближающихся штурмовиков, ломают строй, перемешиваются. В моем прицеле быстро увеличивающаяся туша ведущего. Вжимаю гашетку пушек, вдавливаю кнопку пуска эре-сов. Бомбардировщик вздрагивает, будто наткнувшись на препятствие, валится на крыло и вдруг сразу срывается вниз, падает, кувыркаясь и разваливаясь на куски.
Падают сбитые штурмовиками еще два «Юнкерса». Теперь они пытаются перестроиться, занять какую-то оборону, отстреливаются. Но это им не удается. Один за другим падают еще два. Остальные разворачиваются и, сбрасывая в панике бомбовый запас на свои порядки, на головы своих солдат (спасибо за помощь, за вклад в нашу победу), бегут, оставляя поле (небо) боя за штурмовиками.
Большего мне и не нужно. Атака бомбардировщиков сорвана, переправа защищена, можно лететь домой. Я собираю разлетевшихся штурмовиков, поворачиваю к аэродрому, но наперерез, сбоку, вырываются «Мессеры», не те, что продолжают кружить в небе, захваченные боем с нашими «ЯКами», это уже видно, новая группа, поднятая с аэродрома только сейчас, для дополнительного прикрытия «Юнкерсов».
Это неожиданно. И помощи, прикрытия, от «ЯКов» ждать не приходится, им дай бог сейчас отбиться от наседавшей на них группы.
— Горбатые! Горбатые, над вами «Мессеры», «Мессеры»! — запоздало сообщают с КП.
И тут же голос комкора Рязанова:
— Бегельдинов! замкните строй, замкните! Не подпускайте их! Посылаю «ястребков».
— Вас понял. Вас понял! — отвечает ведущий, то есть я. — И своим — В круг! Всем в круг! Боевой порядок!
«Мессеры» мечутся вокруг, пытаются достать штурмовиков огнем своих пушек, пулеметов, но издали и безрезультатно. Ближе им подойти невозможно — в лоб штурмовика с его мощным лобовым вооружением не возьмешь. «Мессеры» пытаются достать «ИЛов» снизу, сверху и опять напарываются на огонь пушек, пулеметов, на грозные трассы самолетных «Катюш» — эресов. А тут уж и огонь наших зениток. Штурмовики над своей территорией, атаковать их в таких условиях бессмысленно. «Мессеры» отворачивают.
С земли голос наблюдателя с передовой.
— Горбатые! Горбатые! Молодцы, вам благодарность от Большого хозяина. Он очень доволен вашей работой, помощью наземным. Большой хозяин благодарит!
Получать благодарность всегда хорошо и приятно, от командующего фронтом — особенно.
Я передаю сообщение пилотам.
Осмыслить проведенный эскадрильей воздушный бой, весь боевой вылет, мне не удалось. Летчики не успели отдышаться, а нас снова в воздух.
Накопив под ураганным огнем противника кое-какие силы, десантные группы решили нанести противнику контрудар, атаковать его передовые части с тем, чтобы расширить и углубить плацдарм. И опять требовалась помощь авиации. Командир пехотной дивизии, горячо благодаря за разгром артиллерии и танков противника, вынудивший немцев сократить артобстрел наполовину, просил нанести удар по передовой линии врага, по их живой силе, дезорганизовать действия, нарушить связь, коммуникации, подавить дзоты.
На подготовку ушли считанные минуты. Машины заправлены и снова в небе.
— Ромашка, Ромашка! Цель подо мной, атакую! — докладываю я на КП, делая разворот над другим участком фронта.
— Атаку разрешаю, — доносит радио команду.
Первая цель — зенитки. Я вижу их отлично. Вывожу самолет на исходную, командую:
— Атакую! — и пикирую опять с левого разворота. За мной ведомые.
Выжаты гашетка пушек эресов, сброшены бомбы. На позициях зениток — столбы дыма, огонь. Они уже не стреляют. Теперь можно заняться и пехотой противника. Теперь она не прикрыта ничем. Пока-то прилетят «Мессеры». И опять главное — не тронуть своих. Они здесь совсем рядом.
Я поморщился, но пересилил опасение, обрушиваю самолет вниз.
Поражения точные, бомбы, снаряды рвутся в окопах противника, круша, перемалывая живую силу, огневые точки. Группа делает еще заход, потом еще и еще. Боеприпас иссякает, можно и домой.
Штурмовики бреющим проносятся над разрушенными, разваленными окопами, поливают уцелевших, мечущихся по развороченной земле немцев, пулеметными очередями.
Отлично выполнив задание, группа возвратилась на аэродром без потерь.
Приземлились, отрулили на стоянку. К самолету спешит начальник штаба полка майор Иванов, кричит:
— Бегельдинов!
— Слушаю Вас!
— Ты что же там натворил, за эти вылеты? Что наделал! — и качает головой.
По спине побежали мурашки. «Неужели все-таки задели своих?!» А начальник штаба грозно так:
— Ну, Бегельдинов! Ну казах! — хотя глаза вроде смеются. — А ну докладывай, что там у вас было?
Я стою и не знаю, что говорить, рта раскрыть не могу. В голове одно: «А ну как по своим...»
— Ладно, ладно, Бегельдинов, — смеется начальник штаба. Похлопал по плечу. — Не буду пугать. Делал все как надо. Отлично атаковал, разнес батарею противника, дал воздушный бой. Сбили трех «Юнкерсов», один лично на твоем счету. И еще отличная штурмовка передовой линии противника. О больших потерях, которые нанесли противнику в живой силе пехотинцы донесут отдельно. Но и за сделанное всему личному составу эскадрильи благодарность комдива и лично от командующего фронтом. Тебя, Талгат Якубекович, представляют к званию Героя. Приказано материал и наградную оформить немедленно.
Вечером мне вручили сразу два письма: из дома, от отца и от Айнагуль. От нее письма приходили регулярно, но все равно, каждое было событием. Я, как всегда, забился в угол дома, в котором квартировали летчики эскадрильи, чтобы уединиться с дорогими мне людьми, с тем, о чем они говорили в письмах.
Отец рассказывал о родне, о матери, что стареет, стала прибаливать. Подробно рассказал в письме о том, как ездил по приглашению в родной аул.
Потом красноречивый, через слова письма, разговор с любимой. Айнагуль писала о работе в санбате, о врачах, своих подругах, и, конечно же, о своей любви ко мне, к дорогому и желанному. О том, как это больно любить и не иметь возможности быть рядом, не ощущать теплоты прикосновения любимого. Это же страдание! «Талгат, дорогой, — восклицала она, — не знаю, переживешь ли ты это, мужчины, наверное, терпеливей, а я иной раз, когда не на работе — там в крови, в страданиях других, о своих переживаниях забываешь — я просто реву от безысходности.
А тут еще к нам летчика принесли, немца. Ты себе представляешь — немецкого летчика! Может же такое случиться! Он только что обстреливал нашу передовую, потом решил обстрелять тылы. Пролетел и над санбатом, обстрелял палатки из пулеметов. Видел кресты на палатках, знал, что санчасть, и стрелял. Какая подлость! И видно бог его наказал. Летел он низко и кто-то, сказали, что танкисты, в лесу они стояли, подбили его. Он тут же и рухнул в лес. Самолет загорелся. А летчика не убили, спасли. Санитары принесли обгоревшего, со сломанными ногами.
Ты представляешь: он только что нас убивал и теперь вот мы должны были спасать его жизнь?!
И мы спасали. Обработали ожоги, врачи собрали, сложили кости его перебитые, на койку положили. Между прочим, рядом с двумя нашими солдатами, ранеными в окопах при воздушном налете. Может быть, им же, этим летчиком.
Положили мы его, а сами боимся, как бы эти ребята раненые чего с ним не сделали. Злые ведь на них, на фашистов, еще на летчиков. Или потребуют, чтобы его из палаты убрали. Только они ничего. Сказали — раненый не враг.
Вот ведь как, вот они какие, люди наши. На передовой, в боях на смерть идут и врага уничтожают беспощадно, а тут, на койке больничной — и враг уже не враг.
А я, как его, летчика этого притащили, так о тебе, думаю. Смотрю на него, обгорелого, изломанного, а перед глазами ты. И на сердце холод. «О господи! — думаю. — Ведь и с тобой такое же может быть. Ты еще и штурмовик». Насмотрелись мы тут на них, на «ИЛов» этих, как они над позициями немецкими летают, бомбы что ли или чего бросают. А по ним зенитки, зенитки и немецкие истребители... Страшно это. Я всю ночь проплакала от страха за тебя.
Ой, Талгатик! Мой дорогой, береги себя. Молю тебя, береги! Я люблю тебя. И если что с тобой случится, не вынесу, не переживу.
Господи! И зачем оно все это, война, убийства? Зачем?! Ведь даже звери: волки, тигры не убивают друг друга, а мы?! неужели хуже зверей?!»
И опять о любви, об ожидании встречи.
Я перечитал письмо раз пять, прижал к губам. Сидел молча, а в голове мысли, от письма, от ее вопросов: «Действительно, зачем эта война, убийства? Зачем? Если вдуматься, я тоже убийца. Может быть, и под моими бомбами оказываются какие-то санчасти. Разве в стремительном полете, в огне зениток, что разберешь? И вообще, кто я, в кого превратился? В придаток машины, созданной конструкторами, предназначенной для разрушения и для убийства!
Да, может быть и так! А как в моем положении может быть иначе? Если не буду убивать я, убьют меня и еще тысячи, миллионы. Убьют и ее, любимую!»
Я даже представил себе, как здоровенные фашистские парни хватают, ломают ее хрупкую, нежную. Ярость душит меня, подступает к горлу. Я вскакиваю с койки, начинаю метаться по комнате. Говорю, почти кричу вслух: «Виноваты фашисты, гитлеровцы. Они набросились на нас, жгли и жгут наши села, города, уничтожают людей. Но ведь звери тоже защищают свое жилье, детенышей, себя. И я должен драться, убивать!»
В эту ночь я заснул с мыслью драться еще яростней, бить, крушить фашистов, чтобы обезвредить их, очистить от них родную землю.
На следующий день пришло сообщение из штаба истребительного полка о том, что к званию Героя представлен Сергей Луганский.
В те, последние дни ушедшего в историю поистине героического для советского народа 1943 года, из полка ушел командир Анатолий Иванович Митрофанов. «Наш Суворов», таким он был в глазах летчиков и не только за внешнее сходство, за небольшой рост, хохолок на голове, но и за мудрость принимаемых решений на КП и лично в воздушном бою, за хладнокровие и отвагу в самых сложных ситуациях. Его переводили на должность начальника какой-то авиационной школы. До этого был переведен в штаб корпуса комэск Анисимов. А через несколько дней горестное ЧП, над целью, прямым попаданием был сбит штурман полка Петр Горбачев. Так быстро рассеивалась и таяла в полку группа «стариков». На их место приходили молодые. Командиром полка был назначен Шишкин Павел Михайлович. Сменилось и командование дивизией. На место переведенного с повышением Каманина, пришел генерал Агальцов.
Новый 1944 год наша эскадрилья встречала в селе Вольный посад. Разжились в каптерке немножко водкой. В столовой, у старшины нашлась закуска. Выпили. Первый тост за отсутствующих, за тех, кто отдал свою жизнь за общее дело, освобождение Родины.
Настроение приподнятое, особенно радостно на душе у меня. Истекший год принес немало. На груди ордена «Отечественной войны II степени», «Красного Знамени», «Орден Славы III степени». Я, недавно незаметный, зачуханный мальчишка... Ведь это мне тогда, в аэроклубе, тот самый инструктор, скорчив презрительную гримасу, сказал, нет — выплюнул в лицо: «Летчика из тебя не будет. — И начлету. — Списать его надо. Зачем средства, усилия на него тратить...»
Ошибся инструктор. Родина вон как оценила мое летное боевое мастерство!
И еще одно, радовавшее, заставлявшее так громко биться сердце, — очередное письмо Айнагуль, врученное сегодня. Оно совсем необычное, не такое как все солдатские треугольники, которые она шлет каждую неделю, а то и через два-три дня. Иногда они где-то задерживаются и почтальон вручает их разом, пачкой. Сегодня пришел аккуратненький конвертик с букетиком голубых незабудок в уголке. Где она разжилась таким, с незабудками? Теперь конверты, открытки только с войной: солдатом, с автоматом, самолетом. — Все это с ними, с воинами каждый день, на глазах, и уже опостылело. А тут цветочки. В конверте, кроме письма, открытка и тоже не военная, с рождественской елкой и Дедом Морозом.
А в письме ее слова, вся она милая, дорогая, полная любви и надежды на скорую встречу. Ой бой, что бы я не сделал, чтобы приблизить ее, эту встречу, которая бы обозначала конец войны. Во имя этого, для приближения встречи, я и воюю, не жалея себя, всей мощью своего «ИЛа» обрушиваюсь на врага. А ее образ, она, черноглазая, нежная, передо мной.
Конец письма был посвящен ее планам на будущее, на нашу мирную счастливую жизнь.
Я перечитал письмо несколько раз, выучил его наизусть и чувствовал, что она тоже со мной, сейчас, здесь, за праздничным столом.
Ребята рассадили между собой девушек, своих, аэродромных, связисток из разместившегося в селе батальона связи. Перемигиваются, шутят с ними, жмут руки, а мне это ни к чему, у меня Айнагуль.
Был у меня такой случай. После очередного переезда на новый аэродром, летчики не вместились в два, оставшиеся целыми от всей деревушки, домика, я и еще двое ребят остались без крова. Кругом ни сарая, ни землянки. Зашли в один из домов. Там разместились наши же девушки. Расположились на дощатых нарах.
Мы посмотрели, нам места нет, пошли к двери. А девчонки сжалились.
— Идите на нары, переспим.
Оба летчика тут же разделись и на нары, между девчонками. Осмелел и я. Устроился в углу, прижался к стене. А соседка смеется:
— Что же ты меня боишься, дурачок, я не укушу, поцелую разве. — Бывалая, видно. — И я сам себя убеждаю, что, мол, тут такого? Подумаешь, у меня девушка!.. У всех летчиков девушки, а не жмутся, которые, и к девчонкам, не к своим, так в деревни бегают. И тут же обрываю мыслишки гнусненькие. «Похаживает тот, у кого не любовь, а так, знакомство где-то осталось. У меня же все по-настоящему, единственная, на всю жизнь. Ей я буду верен, как и она. И люблю ее, как и она меня, или еще больше. С тем и уснул, в углу, отгородившись от соседки курткой.
И все-таки праздновали всю эту ночь весело, Новый год встретили на улице, дали залп из ракетниц. Веселились, танцевали под баян.
А утром опять полеты, разведки, штурмовка, схватки с противником в воздухе.
К тому времени я, уже замкомандира эскадрильи, по приказу комкора Рязанова, водил тройки, шестерки, девятки «ИЛов», ведущим возглавлял боевые вылеты групп до двадцати и больше штурмовиков. Теперь у меня, опытного летчика, кавалера многих орденов, молодые летчики учились противозенитному маневру, меткости огня, внезапности и изобретательности в атаке, а главное, хладнокровию и расчетливости в бою — всему тому, что позволяло выживать, перекрывая всякие «допустимые для боевого летчика нормы выживания».
В моем личном деле появилась запись: «Располагает всеми качествами храброго и вместе с тем осмотрительного летчика. В бою проявляет смелость, настойчивость в достижении цели. Пилот высокого класса. Вместе с тем, скромен, отличается высокой требовательностью к себе. Совершил 130 боевых вылетов, сбил два «М-109», два бомбардировщика. Можно поручать боевые задания любой сложности, способен водить группы машин, вплоть до эскадрильи и больше».
Меня часто спрашивали потом, после окончания войны, как это все могло случиться: совершить более трехсот боевых вылетов под огнем вражеских зениток, эрликонов, пулеметов, при почти обязательных атаках вражеских истребителей, при этом лично, огнем своих пушек, пулеметов, ракет, сбить более десяти самолетов противника — что вообще не входит в задачу штурмовика-разведчика. Как же я при всем этом сумел уцелеть?
В общем, если подумать, это, конечно, удивительно! На фронте, в первый год-полтора, летчики на «ИЛах», тогда еще одиночках, без стрелка, в среднем успевали совершить не более десятка боевых вылетов. Выполнив пятнадцать, шестнадцать боевых, уже ходили в «везунчиках», летающих под опекой самого господа бога. По приказу Верховного командования за шестнадцать успешных, боевых вылетов летчик представлялся к ордену, за шестьдесят — к званию Героя Советского Союза.
Как же со мной, с нами, дважды Героями, совершившими более двухсот и трехсот вылетов?
Что тут ответишь? Сказать, что секрет в совершенном владении машиной, техникой полета, смелости, смекалке и разворотливости в бою, значит, не сказать ничего. Секрет этот разгадывали журналисты, писатели, писавшие о летчиках, и все по-разному. И сами Герои и дважды Герои тоже говорят, пишут об этом по-разному. Я скажу, пожалуй, все теми же словами генерала Каманина: «Чтобы выжить в бою, нужно первое и основное — быть сильнее противника во всем: в технике, в степени личной подготовки и, как следствие этого, быть твердо уверенным в победе. И если ты веришь в свой самолет, в себя, в свое превосходство, что же тебе остается? Конечно, только побеждать и возвращаться на аэродром живым».
Так, с такими убеждениями я и воевал.
Над Корсунь-Шевченковским котлом
Завершено форсирование Днепра. Наши войска успешно развивали наступление на южном его побережье. В ночь на шестое ноября 1943 года завершено освобождение Киева. Это был великий подарок Родине.
Окружение немецко-фашистских войск в Корсунь-Шевченковской операции намечалось в конце января 1944 года. Осуществлялось оно войсками Первого и Второго Украинских фронтов. Их части одновременно наносили мощные удары по врагу, сокрушая его сконцентрированные здесь мощные военные силы. Признаться, я в то время даже не представлял себе всей грандиозности происходивших здесь сражений. Лишь позже, уже будучи слушателем Военной академии, изучая материалы, отражающие ход этой битвы, я сумел оценить всю ее величину и значимость в борьбе за победу над врагом. Тогда я понял, что принимал непосредственное участие в операции, которая золотыми строками доблести наших войск вписана в историю Великой Отечественной войны.
Гитлеровское командование никак не ожидало активных действий советских войск именно на этом направлении. Прежде всего, этому препятствовала совершенно неблагоприятная погода. Зима на Украине выдалась совершенно необычная. Были и холода, но главное — неестественные холодные оттепели, мокрые снегопады сменялись дождями. Немногие сохранившиеся дороги — шоссейные и проселочные, покрылись вязкой, липкой, непролазной, по колено, грязью. Для немцев это было непреодолимое препятствие. Но войска Советской Армии, хотя и не без трудностей, преодолевали их. Командование двух армий, несмотря ни на что, сумело сконцентрировать в районе небольшого украинского городка мощный кулак, нанести внезапный удар, в ходе ожесточенных боев сломить сопротивление противника, развить продвижение вперед, сметая оборонительные сооружения.
Сняв с соседних участков фронта воинские части, в том числе и танковые, немецко-фашистское командование предпринимало отчаянные попытки прорвать кольцо окружения. Большую надежду гитлеровское командование возлагало на транспортную авиацию. С ее помощью предполагалось снабжать окруженные войска боеприпасами и продовольствием. Однако все попытки противника вызволить из «котла» свои войска оказались безуспешными.
В этих условиях на штурмовую авиацию ложилась большая нагрузка. Мы вели разведку, наносили штурмовые удары по танковым соединениям, пытавшимся прорваться на помощь окруженным войскам.
Продвижение наших войск вперед продолжалось. 28 января 1944 года по врагу ударили сразу два фронта. Первый Украинский нанес удар юго-восточнее Белой Церкви, прорвал сильно укрепленные позиции противника и, успешно развивая наступление, в его глубоком тылу, в районе Звенигорода, соединился с частями соседнего фронта. В Корсунь-Шевченсковском «котле» оказалось около десяти дивизий немцев.
В течение первой недели противник предпринимал отчаянные контратаки, попытки прорвать кольцо с внешней стороны и натыкался на жесткую оборону, главным образом, на удары штурмовиков с воздуха.
А гитлеровское командование никак не хотело терять надежды на прорыв, на выход войск из «котла». Гитлер прислал телеграмму генералу Штеммлеру: «Можете положиться на меня, как на каменную стену. Вы будете освобождены из котла. А пока — держитесь до последнего патрона».
Противник принимает все меры, чтобы не дать советским войскам сконцентрировать силы для контрудара под основание левого и правого флангов наступавших войск Второго Украинского фронта. Требовались срочные меры, чтобы сорвать планы противника. Основная задача возлагалась опять-таки на авиацию. В воздух поднялись экипажи штурмовиков. Двадцать минут штурмовки. Горят железнодорожные составы с боеприпасами и танки. Затем очередь экипажей моей группы. Она и завершает разгром сконцентрированных у Шполы немецких войск. Контрнаступление было сорвано окончательно и бесповоротно, кольцо окружения сомкнулось еще плотнее.
... Пасмурным утром наша эскадрилья вылетела на штурмовку танковой колонны. Оказалось, что немцы сделали за ночь стремительный бросок, и в момент, когда мы прилетели в заданный квадрат, они уже вступили в бой с нашими танкистами.
Сверху картина танкового боя была отчетливо видна. Около сотни машин с белыми крестами на башнях двигались по полю, текли по оврагам и балкам. На их пути встали несколько десятков наших танков.
Мы развернули самолеты и пошли в атаку. Немцы настолько увлеклись, что заметили «Черную смерть», когда она уже обрушилась на их головы. Как тараканы, поползли в разные стороны вражеские танки. Но разве можно уйти, скрыться от «Ильюшина-2»?
Атакуем еще и еще раз. Уже не меньше дюжины машин пылает. Наши танкисты довершают разгром.
Возвращаемся на свой аэродром, чтобы пополнить запас бомб и тут же вновь подняться в воздух. Но что это? Вижу внизу большой овраг, буквально до краев наполненный вражеской пехотой. Докладываю об этом на КП.
— Разрешите атаковать?
— Атакуйте!
Бреющим полетом идем над оврагом и поливаем гитлеровцев из пушек и пулеметов. Оставив сотни трупов, солдаты кидаются в поле. Мы разворачиваемся, заходим со стороны поля и, как цыплят, вновь загоняем немцев в овраг. И опять атакуем. В овраге творится что-то невообразимое. «Утюжим» пехоту до тех пор, пока у нас не иссякают боеприпасы.
Тут следует оговориться. Еще несколько месяцев назад штурмовики ни за что не осмелились бы атаковать наземные цели до последнего снаряда, до последнего патрона. Сделать это — означало остаться беззащитными в случае встречи с истребителями противника. Но в районе Корсунь-Шевченковского направления наша авиация безраздельно господствовала в воздухе. Бывали не дни, а целые недели, когда фашистские самолеты не смели подняться со своих аэродромов. А если поднимались, то немедленно становились добычей наших летчиков. Воздух, как мы говорили, был чист.
Все дни, пока наземные войска все туже и туже затягивали узел вокруг Корсунь-Шевченковского, мы с воздуха разили врага. Близилась развязка. Немцы предпринимали бешеные попытки разорвать кольцо. Тщетно. Тогда с помощью транспортных самолетов они начали вывозить из «котла» высший офицерский состав и документы.
Как-то под вечер наша эскадрилья возвращалась домой после штурмовки танков. Летим над Корсунь-Шевченковским. И вдруг на аэродроме замечаю пятерку «Юнкерсов-52». Самолеты стоят около взлетной полосы. Ясно, что они готовятся ночью вылететь в свои тылы.
— На аэродроме вижу пять «Ю-52»! — Разрешите атаковать? — докладываю на КП.
Тут же с КП поступила команда уничтожить самолеты.
Мне не верилось, что в самолетах нет людей. Где-то в глубине души была мысль о том, что они забрались в машины, едва «Ильюшины» появились над аэродромом. Правда, закон войны и простая логика подсказывали, что в случае налета авиации нужно немедленно бежать возможно дальше от предмета атаки, но какая уж тут логика, если бьют со всех сторон, не дают дышать.
Мы вошли в пике. С первого же захода подожгли два «Юнкерса». Из самолетов стали выпрыгивать немецкие офицеры; бросая портфели, чемоданы, они кидались в разные стороны. Значит, не обмануло меня предчувствие!
Делаем второй заход, поджигаем три оставшихся самолета и «гладим» аэродром, по которому рассыпались немцы. Довершая разгром, мы всей огневой мощью эскадрильи обрушились на склады и сооружения, уцелевшие после предыдущих налетов.
О панике, царившей в окруженных войсках, свидетельствует такой факт. Однажды после выполнения задания наша эскадрилья возвращалась домой. По дороге от Городища к Корсунь-Шевченковскому я увидел, что на шоссе стоят два ряда грузовиков. В колонне не меньше двухсот машин. Удивило то, что автомашины с грузом стоят среди поля и не видно ни шоферов, ни охраны.
Запросил по радио разрешения атаковать колонну. С КП предложили от атаки воздержаться. Мы набрали высоту, построились в круг с тем, чтобы сразу после получения приказа обрушиться на колонну.
Через несколько минут слышу в шлемофоне взволнованный голос генерала Рязанова: «Отставить атаку! Отставить атаку!»
Что ж, приказ есть приказ. Пошли на аэродром. Лишь через несколько дней узнали, что колонна эта была брошена шоферами. За ней следили разведчики наземных частей. Атакуй я грузовики, погибла бы масса боеприпасов и обмундирования, которые в конце концов целехонькими попали в наши руки.
С операцией в районе Корсунь-Шевченковского связано у меня еще одно интересное воспоминание. Собственно, интересным оно кажется сейчас, а в те дни причинило немало забот и волнений.
Отступая, фашисты оставляли страшные следы варварских разрушений: сожженные города и села, разрушенные фабрики и заводы. Особенно старательно, с немецкой педантичностью, разрушались железнодорожные станции, разъезды. Чтобы замедлить продвижение стремительно наступавших им на пятки советских войск, отступая, они взрывали, уничтожали за собой мосты и даже корежили пути, сконструировав для этого специальную технику, в частности, нечто подобное огромному двухлемешному плугу. Мне уже довелось этот агрегат видеть в действии. Пролетая между поселками, я засекал стальные нити рельсов. Когда возвращались, они уже не блестели на солнце, их не было. Исчезали. Удивившись, я пролетел еще раз и увидел паровоз, за которым тянулось что-то вроде здорового плуга, который и корежил пути. Рельсы свивались в кольца. Я прикинул скорость продвижения паровоза и подсчитал, что за час он может вывести из строя до трех километров пути.
Пролетая над тем же квадратом на следующий день, я того самого паровоза не увидел. Не обнаружил до следующего разъезда. Пролетел над разрушенной линией еще раз и опять безрезультатно. На оставшихся целыми участках путей стояли вагоны, паровозы, а того, с «плугом», не было.
Между тем, о губительных действиях агрегата-разрушителя уже знали и говорили в штабах. Дошли донесения и до командующего нашим фронтом. А ему вести наступление, перебрасывать при этом надо и боепитание и все, что нужно на войне. На чем же перебрасывать, если пути разворочены?!
— Уничтожить агрегат немедленно! — последовал приказ.
Я снова и снова вылетаю на разведку, ищу паровоз на всех полустанках, разъездах, между вагонами. В полетах, попутно, собрал данные о позициях немцев, сфотографировал расположение артиллерийских батарей, врытых в землю танков. Паровоза не было...
Я уже возвращался из последнего в этот день полета, когда неожиданно заметил внизу странную движущуюся тень. Именно тень. В лучах заходящего солнца двигалось что-то непонятное, большое, уродливое. Рядом — такая же огромная и уродливая тень, отчетливо обозначавшаяся на снегу. Резко снизился, и только тут увидел, догадался — движущееся сооружение и есть тот самый паровоз-разрушитель. Агрегат был хитро закамуфлирован. Сверху на нем была смонтирована площадка-макет, на ней — снег, комья земли и кусты, благодаря чему он сливался со снежным ландшафтом.
Доложил на КП об обнаруженном агрегате, получил «добро» на атаку.
— Теперь ты от меня не уйдешь! — кричу я. — Захожу сбоку, беру паровоз в прицел, атакую. Впустую. Машинист резко дает ход — и мои снаряды идут мимо. Атакую вновь, и вновь безрезультатно. Чувствую, что в будке паровоза сидит опытный человек, следящий за каждым моим движением.
Необычайный поединок паровоза с самолетом длился около пятнадцати минут. Наконец, снаряд попал в котел. Облако пара поднялось метров на двадцать, паровоз остановился. Я зашел сбоку, прошил его очередями из пушек и пулеметов. Развернулся и, зайдя с другой стороны, в упор выпустил реактивные снаряды. Паровоз превратился в груду металла. Делаю круг, убеждаюсь, что я сработал чисто, фотографирую и лечу домой.
Нашей эскадрилье была поставлена задача разрушить входные и выходные стрелки на железнодорожной станции Клодно — не дать возможности немцам при отступлении увести составы с награбленным. «На каждый самолет было загружено по шесть стокилограммовых бомб, — пишет в своих воспоминаниях летчик Коптев. — Приближается время вылета. Расходимся по самолетам.
Взвилась зеленая ракета. Пора. Мотор запущен. Выруливаем и взлетаем. Самолет бежит дольше обычного. Бомбовая нагрузка максимальная. Летим на высоте 1200 метров над нижней кромкой плывущих под нами облаков самых причудливых форм. Внизу знакомая картина — к фронту движутся колонны наших автомашин. Взрывы снарядов, дым пожаров. Начинают постреливать зенитки. Идем с противозенитным маневром.
Впереди станция, над нею крутятся «Мессеры». Что предпримет ведущий? А комэск Пошевальников решение уже принял, в наушниках его голос.
— Атакуем сходу. Помните про «Мессеров», они над нами.
Лечу спокойно, я уверен в себе, еще в четырех «ЯКах», нас сопровождающих, они тоже над нами.
Мы над целью, но зенитки молчат. Что это? Ловушка? Или принимают за своих? «Мессеры» тоже нас не видят, в облаках.
Под нами, на путях, эшелоны, с паровозами, обращенными к линии фронта. Значит составы из тыла, с грузами. Я с левого разворота перевожу свое звено в пикирование. И сразу затявкали зенитки. Разрывы кругом. Звено ведет огонь по эшелонам. За ним звено Мити Кузнецова. Я вывожу самолет из пикирования и сбрасываю бомбы. Звено тоже пикирует, сбрасывая бомбы.
И вдруг зенитки умолкли. В голове молнией мысль: «Значит будут атаковать «Мессеры». Только бы «ЯКи» не прозевали, отбили атаку».
А сами продолжаем штурмовку. Пускаем эресы, прошиваем эшелоны снарядами. Рвутся бомбы, сброшенные моим звеном в голове эшелона.
В шлемофоне чей-то голос.
— Наши сбили «Мессера». — Это отлично.
Дело сделано, теперь нам уходить. Снижаемся, идем на бреющем. И в этот момент на нас наваливаются «Мессеры». Все оставшиеся после схватки с нашими «ЯКами». Теперь их одиннадцать. Для шести штурмовиков многовато. Сердце замирает, — жить-то охота. Но наши воздушные стрелки бьют по стервятникам, не подпускают их с хвоста. Спереди они нам не страшны.
Покрутившись около, проведя несколько атак, они уходят.
После приземления, выясняется что «Мессера» сбил наш летчик, Токаренко. Очевидно это был ведущий у немцев, потому так неуверенно стали они нас атаковать».
Ликвидация окруженной Корсунь-Шевченковской группировки продолжалась. Немцев били, уничтожали наши наземные части, летчики громили их живую силу и технику с воздуха. Штурмовики работали весь световой день.
В штаб полка поступило сообщение, что к линии фронта, из немецкого тыла, движется танковая колонна. Командир полка приказал мне вылететь эскадрильей, разведать что и как.
Летели как всегда, треугольником. Ведущим я. Рассчитывали лететь в тыл, километров на полсотни, а танки оказались уже около линии фронта. Разведданные пехоты запоздали. Полсотни немецких машин уже вошли в соприкосновение с нашими частями, шли на нашу линию обороны. Их нужно было остановить, уничтожить.
И опять эта проблема: не задеть при атаках своих. Летчик не машина, сбрасывая бомбы, стреляя в основном, при пикировании и на выходе из пике, на скоростях свыше трехсот километров, по движущейся цели (если по танкам), может и не рассчитать, промахнуться. Ведь вся атака — доли секунды. К тому же ему нужно помнить о стреляющих зенитках, о том, что у танков тоже пушки. И все это при условии, что еще не появились истребители противника, как правило, прикрывавшие передвижения и действия танков.
Но я уверен в себе и в своих ведомых, знаю — они не подведут. Оцениваю обстановку, докладываю на КП. Прошу разрешить атаковать.
— Разрешаю! — гремит в наушниках голос Шишкина. — Предохранители снять. Атакуйте!
Черные коробки с белыми крестами на броне прекращают атаку, мечутся по полю, ища укрытия. Некоторые танкисты, чтобы уйти от огня штурмовиков, бросаются вперед, на нашу оборону, и замирают, подбитые не то артиллерией, а может быть и гранатами. Пять, десять, а может и больше машин выведены из строя. Большинство из подбитых горят дымными кострами.
Из балки вырываются наши танки, сходу, в упор расстреливают оставшиеся немецкие, довершая разгром всей группы.
Штурмовики возвращаются на аэродром. Заправка самолетов и снова в воздух. Теперь летят три эскадрильи. В первой ведущим опять я. Пошевальников ведет вторую, Виктор Чернышев — третью. Линию фронта пересекли, обойдя зенитные батареи справа. Я слышу в наушниках голос командира полка.
— Цель под нами. Делаем четыре захода.
Внизу длинная колонна автомашин. Впереди танки. Дорога пересекает всхолмленное поле. Укрытий для вражеских машин никаких. Значит, все будут добычей «ИЛов».
— Атакуем, — получив приказ, командую я и перевожу самолет в пике.
Мое звено штурмует танки сначала реактивными, тут же обстреливает противотанковыми снарядами. От самолета отделяются черные чурки бомб, опорожняет по одному люку противотанковых на заход. Тоже делают остальные летчики эскадрильи. Два или три танка заволокло дымом. Горят опрокинутые автомашины, рвутся снаряды в горящих железных ящиках с крестами.
Эскадрилья выполняет последний заход. Я со своей эскадрильей доколачиваю оставшиеся танки и машины. Два танка пытаются удрать через поле, к леску, кричу в шлемофон ведомым.
— Аллюр три креста! Догоним, добьем гадов! Эскадрилья уничтожает колонну до последнего танка и благополучно, без потерь возвращается на аэродром.
Успех этой и всех остальных штурмовок обеспечивали истребители прикрытия. Они, как и вся наша авиация, теперь господствовали.
Февраль нового, 1944 года, как и положено этому месяцу, предлагал авиаторам попеременно то снегопад, то жгучий мороз, или, на выбор, буран, метель. Но война не останавливается, она ведется в любую погоду и с каждым днем все ожесточеннее. Немцы, чувствуя приближение полного разгрома, яростно сопротивляются. Но день ото дня крепнут удары и нашей пехоты, артиллерии, танков и авиации.
Много боевых вылетов совершили в эти дни молодые летчики нашей эскадрильи Сергей Чепелюк, Михаил Махотин, Иван Скуридин, Валентин Кочергин, Михаил Коптев, досталось и мне.
В один из дней на штурмовку станции Долинской и крупного железнодорожного узла Шевченково, вылетела шестерка, вел которую штурман эскадрильи старший лейтенант Петр Горбачев. Справа — самолет лейтенанта Коптева, слева я.
Перед вылетом летчиков предупредили о том, что Шевченковский узел сильно укреплен, располагает мошной противовоздушной зенитной обороной. Будьте начеку.
Летчики были готовы. Но то, что началось сразу, на подлете к этому узлу, не только превзошло все ожидания, но просто не вписывалось в наше представление. После первых залпов зениток небо буквально закрылось светлыми клубами разрывов.
Можно было бы развернуться и уйти, убраться восвояси, тем более, что первая половина задания была выполнена, штурмовка Долинской проведена была на «отлично». Но, во-первых, наличие заградительного огня, какой бы силы он ни был, не может служить оправданием неисполнения боевого задания, — на то оно и боевое, — а во-вторых, у штурмовиков еще почти полные ящики бомб, снарядов, патронов, по паре эресов. Их куда? В лес, в озеро? За такое не похвалят.
И группа идет в атаку. Штурмовики сделали один заход, второй. Внизу от взрывов дыбится земля, горят, рвутся вагоны, набитые боеприпасами, закручиваются развороченные рельсы.
Но несут потери и штурмовики. Из второго захода не выходит самолет самого ведущего, Горбачева. Снаряд рвется у самолета Коптева, но он продолжает атаки.
Постояли у самолетов, погоревали и снова за дело.
Вечером штурман полка майор Степанов расспрашивал Коптева:
— Осмотрел твою машину. Она же и по земле не поползет — вся перекалечена. Рули поворота разбиты, фюзеляж в лохмотьях, плоскости разбиты, как ты держался в воздухе? А ты на этой развалине еще и атаковал, заходы делал. Шибануло же тебя, как все говорят, еще в первом заходе.
— Машину нужно было облегчить, и я штурмовал. Сбросил, расстрелял весь боезапас разом, аварийно. Да и за гибель старшего лейтенанта Горбачева, за Веселова рассчитаться следовало, -объяснил Коптев. — Только еще не полный расчет мой. Я еще повоюю, я им покажу! — погрозил он кулаком.
И он держал слово, в моем звене, потом в эскадрилье проявлял чудеса отваги, служил примером для новичков.
Уже в следующем вылете Коптев с ведомым Журавлевым успешно бомбили артиллерийские позиции, уничтожали пехоту врага. На выходе из атаки на них обрушился вынырнувший из облаков «Мессер». Он сразу ловко заскочил в хвост штурмовику Коптева. В хвостовое оперение, в фюзеляж штурмовика впились пулеметные трассы. А молодой новичок стрелок испугался, растерялся, не стрелял. Немец мог расстрелять «ИЛа» спокойно, в упор, его-то машина была для штурмовика в мертвой зоне.
Зато сам Коптев не растерялся, он заорал на стрелка, перекрывая вой мотора, привел его в чувство.
— Бей! Атакуй! Атакуй! Бей! — выкрикивал он.
Стрелок дал длинную очередь по «Мессеру» и, нужно же было такому случиться, угодил в него. Фашист отвалил, пошел в сторону, оставляя дымный след.
В непрерывных боях подстерегали и неудачи, были невосполнимые потери. Большой утратой стала гибель опытного летчика Юрия Гусева, причем прямо на аэродроме.
В первом развороте после взлета у Гусева отказал мотор и он, доложив об этом на КП, пошел на вынужденную посадку, на тянувшееся рядом с аэродромом ровное поле. Наблюдавший за взлетом сменивший Митрофанова командир полка Шишкин приказал:
— Гусев, разворачивайся на аэродром! Садись на аэродром! Разворачиваться на стометровой высоте тяжелому самолету практически невозможно. Он, как и должно было случиться, свалился при повороте на крыло и рухнул.
Не возвратились с боевого задания летчик Кирилов и его стрелок Приходько.
Прошло какое-то время и, после того, как полк обосновался на освобожденном нашими частями аэродроме, там был обнаружен в ангаре самолет пропавших летчиков, он был цел и невредим. Недоумению летчиков не было конца. Гадали по-всякому, сходились в одном — у летчиков кончилось горючее.
И это оказалось точным. Оба пропавших возвратились. Вид у них был ужасный: оборванные, исхудавшие. Объяснили: «После боевой штурмовки отбились от группы, потеряли ориентировку. Кончилось горючее, пошли на вынужденную посадку. Сели как надо, но тут же были окружены и захвачены немцами. Из плена бежали».
Нашелся и явился любимец полка Иван Бокута и стрелок Тхаржевский. Их самолет был подбит в бою и упал за линией фронта, на немецкой стороне. Все считали, что экипаж погиб. Но на другой день их привезли из пехотной части, на машине. Оба перебинтованные, у летчика ранение в голову, у стрелка разбита нога. Но, несмотря ни на что, они и все летчики эскадрильи ликовали, как же — воскресли из мертвых! У летчиков, на фронте, такое случается не часто, обычно, не вернулся из полета — считай, пропал, погиб. Их счастье, что упали в лес, на деревья, в непосредственной близости от линии фронта. Стали пробираться по кустам и вышли на своих. И еще счастье, что не затаскали к себе на допросы «смершники».
В те дни в моей фронтовой биографии произошло важное событие. Поступил приказ о назначении меня командиром эскадрильи.
Как я потом убедился, летчики эскадрильи были рады этому назначению. Вот как отзывался обо мне однополчанин, ставший теперь подчиненным, Михаил Коптев, в своей книге «Крылатый ветер».
«По национальности он, Бегельдинов, казах, среднего роста, худенький, казавшийся подростком. Тип лица — характерный восточный. Хотя и неплохо владеет русским языком, но с падежными окончаниями не в ладах. 21 год. На фронте с 1942 года. Прошел хорошую школу Степана Демьяновича Пошевальникова. Смел до безрассудства. Во второй эскадрильи был командиром звена, много летал на разведку.
В один из погожих дней вызвали на КП шесть экипажей нашей эскадрильи. Начальник штаба майор Иванов поставил задачу:
— Произвести атаку по живой силе противника в районе Новомир, город Лозоватка. Оказать помощь нашей пехоте. Ведущим Талгат Бегельдинов. Второе звено ведет Николай Шишкин. Я у Талгата левым ведомым. Высота облачности — шестьсот метров.
В назначенное время взлетели с аэродрома и, построившись клином, взяли курс на запад. При подходе к линии фронта встретились с нашими истребителями прикрытия. Полет проходил нормально. Зенитчики пока молчат. В наушниках голос Талгата: «Впереди цель. — И через пару минут, — атакуем!»
Звено командира с левым разворотом переходит в пикирование. Замечаю, как к ведущему потянулись трассы эрликонов. Огонь ведут две счетверенные установки скорострельных пушек. Коля Шишкин и Миша Махотин открыли ответный огонь из пушек и пулеметов по одной установке, я по другой. Фрицы, увидев наши трассы или почувствовав разрывы снарядов вокруг, переводят огонь по нашим самолетам. И несутся навстречу, пересекаясь, смертоносные, светящиеся шарики.
Талгат ведет свое звено на второй заход, мы за ним. Зенитки замолкли. Значит, наши бомбочки сделали свое дело. Делаем еще три захода, затем набор высоты, сбрасываем бомбы, опорожняя по одному люку при каждом заходе. Пехота в панике.
Но нашему ведущему все мало. Делаем еще по три захода, стреляем из пушек, пулеметов с высоты двадцать метров.
— Теперь аллюр три креста! — кричит ликующий Толя, окрыленный еще одной одержанной победой.
И что важно, весь этот бой был проведен опять-таки, максимум в двухстах метрах от нашей линии обороны. Тут требовалась особая точность, которой достиг наш ведущий Талгат Бегельдинов, наш Толя».
Штурмуем своего генерала
Теперь на пути наступающих войск Кировоград, также превращенный немцами в мощный оборонительный узел. Командование наземных войск сообщает в штаб штурмовой дивизии: противник в этом районе концентрирует бронетехнику и живую силу. Необходимо провести разведку с воздуха.
Задача сложная и вообще, полет одиночкой, без прикрытия, можно сказать, «свободным охотником». Кого послать? Командир думает об этом, не может принять решения. Основное препятствие не в сложности полета, а в погоде. Дня три льют дожди. Моросит он и сейчас. Аэродром будто шапкой накрыт толстым слоем иссиня-черных туч, взлетная расползлась, превратилась в кисель. Самолеты на стоянке утонули в грязи по осям. Поднять штурмовик по такой взлетной невозможно.
Помогает комкор.
Утром у КП остановился заляпанный грязью газик. Распахнулись дверцы, в землянку, пригнувшись, вошел командир корпуса генерал-майор Василий Георгиевич Рязанов. Мы, собравшиеся здесь летчики, вскочили, поприветствовали его.
Генерал приветливо поздоровался, поговорил с одним, другим, пошутил. Прошел к командиру полка. Говорили они вполголоса, но нам был слышен почти весь их разговор. Речь шла именно о том, что наземным войскам необходимы разведданные, которые может и должна дать только воздушная разведка.
— Нужно лететь, — заключил генерал.
— М-да, нужно, — согласился наш командир полка. — Только самолет от земли не оторвать. Машины по оси в грязи.
— И все-таки лететь! — Это уже приказ.
— Приказ есть приказ, — вздохнул командир полка.
— Все понимаю, — продолжал генерал. — Лететь, может, и на верную гибель, но ясно то, что не напрасно это. Жертвуем одним человеком, спасаем тысячи. Сам понимаешь, что это такое воевать вслепую. Кого пошлем?
— Младший лейтенант Бегельдинов! — негромко зовет командир полка.
Вхожу, докладываюсь.
— Что за маскарад? — окинув меня недоуменным взглядом, вопрошает генерал.
И действительно, «маскарад». На мне большие для меня кожаные брюки, такая же куртка.
— Почему не в форме?
Даю объяснение, мол, находился у самолета, с механиком. Так удобней и не холодно.
Генерал махнул рукой.
— Ладно. Есть задание. В этом районе, — подошел он к карте, — километрах в двадцати за линией фронта две дороги. Одна уходит в глубокий овраг. По ней интенсивное движение. Что там, в овраге, никто не знает. Нужна разведка с фотографированием. Сможешь?
— Смогу, если самолет от взлетной оторву.
— Так в том и дело, чтобы оторвать, — вмешивается Шишкин. — Потому и посылаем тебя, младший лейтенант. — Ты же у нас самый легонький, со взлетной бабочкой вспархиваешь, — улыбнулся он. — Полетишь налегке, без бомбового.
— Нет, на пустом не полечу. Не в гости же. Попробую, может, оторву машину.
— Ты оторви ее, сынок, — уже не приказывает, вроде даже просит генерал. Видно, данные крепко нужны.
«Если и подниму самолет, что потом, что потом? — соображаю я. — Туман, дождь, видимость ноль. Какая тут разведка? Где она, та дорога, овраг? Что их на ощупь? А как садиться, в кисель-то?
Но рассуждать нечего, задание получено, теперь исполнять».
К вылету на летное поле вышли летчики, обслуживающий персонал.
— Это же настоящий цирк будет, с такого аэродрома взлететь, — сказал кто-то.
У самолета механик. Тут же инженер нашего полка. Колдуют с механиком над машиной. Механик то и дело окидывает взглядом покрытую грязью, залитую водой взлетную полосу, качает головой.
— Как же он, бедный, побежит-то по ней, по каше этой?!
— Нагрузку: бомбы, снаряды сбросить, — настаивает начальник по вооружению Лободенко. — У истребителей был вчера, они свою легонькую поднять пытались, не вышло. Кувыркнулся на взлете и все.
Я никого не слушаю, спокоен, соображаю, то ли уже переволновался, там на КП, то ли как. Сосредоточившись, в деталях обдумываю весь процесс взлета. Соображаю: «Главное — рвануть с места, колеса из грязи выдернуть и по газам, на скорость, чтобы сразу всю тяжесть на плоскости, поднять машину на цыпочки, чтобы земли касалась чуть-чуть, не цепляясь за нее, не вязла. И поднимать».
— Садись, Абдул, — говорю я своему стрелку. — Поехали.
До исполнительного старта машину волокут трактором. Трактор отходит. Я делаю все как положено: запрашиваю разрешение и только после этого даю полный газ с форсажем.
Мотор ревет надсадно, колеса разбрасывают грязь, воду, машина трясется, дергается, но бежит медленно, очень медленно, набирая скорость. До конца взлетной полосы тридцать, двадцать метров. Двигаю ручками управления, педалями, а она как привязанная, еле тащится по грязи. Еще десяток метров и все, гроб. Прилагаю еще какие-то усилия, чуть ни сам, на своих плечах, своими руками отрываю самолет от земли, поднимаю вверх. И он сразу врывается в густое месиво, которое, как опять же кажется мне, винт рассекает с огромным трудом.
Какое-то время лечу будто ночью, в слепом полете, но там помогают приборы, тут не видно и их, туман и в кабине битком, как вата.
Линию фронта определяю по глухо доносящимся одиночным орудийным выстрелам и залпам, в просвет между тучами, и сразу засекаю, врываюсь в мелькнувшего впереди «Мессера». Такая встреча мне совсем ни к чему. Снова зарываюсь в тучи, круто меняю курс. «Мессер» не появляется, значит, потерял меня из виду.
Где-то здесь квадрат, который я должен найти, овраг, о котором говорил генерал. «Как же это сделать, когда облака сплошные и чуть ни до земли. Спуститься ниже, но там могут быть зенитки. Если в овраге техника, склады, противовоздушное прикрытие обязательно. Это и ребенку ясно. Придется рвануть на них, на зенитки, в огонь разрывов. Это не так страшно, не впервой, важно поточнее, с одного захода на овраг выйти».
Поднимаю машину над тучами, всматриваюсь, ищу в них просвет и нахожу, впиваюсь глазами. Подо мной что-то темнеет. Вроде овраг. Проверим, — решаю я и посылаю самолет в пике.
Штурмовик пробивает облака, вырывается из них над самой землей.
Угадал точно, подо мной глубокий и широкий овраг. В нем груженные ящиками, мешками машины, подводы. Полно солдат. В стороне длинные палатки без окон — полевые склады, около них штабеля ящиков. Выше, на выезде, что-то под брезентовым навесом. Может, танки?
Пролетаю над оврагом с включенным фотоаппаратом. Взмываю вверх. И тут, с опозданием, открывают огонь зенитки. Прозрев, они стреляют наугад, куда попало. Снаряды рвутся в тучах и над ними, далеко от штурмовика.
«А если их бомбануть? В такое скопление складов, штабелей пару тройку бомбочек уложить — это же здорово! Тем более, что вон зенитки стрельбу прекратили. Они же полные уверенности, что я улетел, убрался. Штурмануть надо. После моих полетов и они сразу примут все меры к усилению противовоздушной обороны, перекроют овраг сплошной цепью зениток. А лететь на них нам же».
Докладываю об увиденном на КП. Прошу разрешение на штурмовку.
Отвечает генерал. Он следит за моим полетом. Минуту колеблется, спрашивает:
— Как сам? Не собьют?
— Не собьют! — кричу я.
— Атаку разрешаю.
Я разворачиваю машину, возвращаюсь и снова пробиваю тучи, вынырнув из них, стреляю из пушек, рушу позиции зениток, сбрасываю бомбы на штабеля ящиков, мешков, поджигаю автомашины, груженные подводы, эресами поджигаю склады. И невредимый, ухожу в тучи, теряюсь в них. Внизу — перекрывающий рев мотора грохот взрывов. Взмывающее вверх пламя пожаров просвечивает багровыми сполохами тучи.
Я веду наблюдение за противником и на обратном пути. Фиксирую глазами и фотоаппаратом тянущуюся через перелески, поля дорогу. На ней танковая колонна, в автомашинах пехота.
Словно по заказу для меня облачность поднялась, туман рассеялся. Боезапас еще был. Не раздумывая, я снижаюсь над дорогой, выпускаю оставшийся реактивный снаряд. Вижу, как красненький огонек впивается в броню танка. Два танка в огне. Второй заход и очередь из пулеметов, пушек по машинам, по плотно сидящим в них немцам.
Машины сходят с шоссе, рыскают по кустам, переворачиваются, горят, вспыхивают крытые брезентом кузова. Немцы мечутся у дороги, бегут в поле. Пулеметные очереди настигают их, сбивают. Уйти, спастись от огня штурмовика трудно.
Израсходовав боезапас, устремляюсь по знакомому маршруту на свой аэродром. О трудностях предстоящий посадки стараюсь не думать. Иду на нее со сжатыми зубами. Знаю, под лужами на посадочной образовались колдобины, кое-где грязь по осям. Колесо засядет, машина кувыркнется, скапотит. Как в такой ситуации сажать? На малой скорости? Но при этом грязью как раз и прихватит колеса, и кувырок обеспечен. Значит, на большой сажать? Но при этом риск двойной. Скапотирует самолет, будет кувыркаться через всю полосу. И от летчика — клочки.
Я посадил машину. Как, толком не понял сам. Посадил и все.
В штабе ждали с нетерпением. Непрерывно звонят из штабов армии, пехотных дивизий, ждут результат разведки.
Отдышавшись, докладываю обстоятельно, обо всем по порядку, подтверждая предположение командования наземных войск о намерении немцев нанести контрудар по наступающим нашим частям. Доклад хорошо иллюстрирует, подтверждает проявленная фотопленка.
Генерал обнимает меня, горячо благодарит.
— Поздравляю с успешным выполнением боевого задания, старший лейтенант Бегельдинов!
— Лейтенант, товарищ генерал, — пытаюсь поправить.
— Лейтенант! — с нажимом повторил генерал. — Я не оговорился. И еще поздравляю с награждением орденом Славы. Это — за воинскую отвагу и отлично проведенную разведку.
— В этом ему и совершенствоваться, — поворачивается он к командиру полка. — Опытные разведчики нам вот как нужны! — проводит он рукой по горлу. И опять ко мне:
— А ты летай, сынок, бей немцев!
— Есть, товарищ генерал, бить немцев! — Как можно громче, поняв намек, отозвался я.
Указание генерала было учтено в штабе полка и на КП дивизии. Теперь, наряду со штурмовками я систематически отправлялся в разведывательные полеты одиночкой, звеном, иной раз ведущим всей эскадрильи. Я был уже опытным пилотом, за плечами которого была добрая сотня боевых вылетов. Сто вылетов — сто схваток со смертью...
Кировоград был освобожден. Нечеловеческое напряжение в период наступления сменил кратковременный отдых. Авиаторы обживали новые аэродромы, получали новые самолеты, ремонтировали старую технику, пополняли боезапасы горючего, продовольствия. И вот радостная весть! Первый штурмовой корпус генерала Рязанова отмечен в приказе Верховного командования. Ему присвоено почетное наименование «Кировоградский».
А вскоре штурмовики Пошевальникова «отметили» это событие, чуть не разбомбив своего генерала, при вроде как до смешного нелепых и вместе с тем, вполне трагических обстоятельствах.
Произошло это так. Эскадрилья возвращалась после выполнения трудного боевого задания. Вражеские истребители будто предупрежденные, плотной стеной встали на пути штурмовиков, но «Илы» при содействии пятерки наших истребителей все-таки прорвались к цели. И, как положено, устроили шумок. Шестерка без потерь возвращалась на аэродром. Ведущим — комэск Пошевальников, за ним со своей тройкой — я.
Поглядывая по сторонам, я напряженно всматривался в горизонт, не появятся ли «Мессеры». Бывало и такое, что немцы перехватывали штурмовиков у самого аэродрома, дождавшись, когда от них отделятся истребители прикрытия. На этот раз небо было чистое, беспокоиться нечего. Я, как всегда, возвращаясь со штурмовки, стал мысленно анализировать малейшие ее детали.
Атаковали «Илы» крупную железнодорожную станцию. В начале все шло как надо, штурмовики в строгом порядке, в круге, вслед за ведущими срывались в пике, главное, на стоявший в тупике длинный состав с боеприпасами, для уничтожения которого, по наводке пехотной разведки, и вылетали. Навстречу «ИЛам» понеслись снаряды зениток. По вспыхивавшим дымкам я определил — стреляют с железнодорожной платформы, в составе же. Я было сделал заход, но опередил комэск. Спикировал на зенитки и уложил бомбы точно в платформу. Грохнули взрывы, в воздух полетели щепки, железки и даже сами зенитки. Я прошелся над искореженной платформой, прошил пушечной очередью, добивая метавшихся между путей артиллеристов. И тут я увидел паровоз. Машинист торопливо уводив его в сторону от разбомбленного состава, от рвавшихся взлетавших к небу вагонов.
«Опять паровоз», — мелькнула мысль. Я оглянулся. На этот раз эскадрилья была тут, ведомые следовали за мной.
Паровоз подо мной — спикировал — и удачно, с одного захода влепил в него очередь эресов. Внизу грохнуло, паровоз взорвался.
Снова налетели «Мессеры». Теперь уходить, у штурмовиков минимум боеприпасов, да и ни к чему это, рисковать. Строй немецких истребителей разорвали, перепутали появившиеся наши «ЯКи». Завязали воздушный бой, отвлекли на себя противника.
«ИЛы» спокойно пересекли линию фронта.
Но что это? Внизу на бугре, среди кустарников, явно маскирующийся танк. Не наш, нет, не наш, — догадываюсь я. Обратной связи с Пошевальниковым у меня нет. Как же ему сказать? Качаю самолет с крыла на крыло, привлекая его внимание.
Тогда тот поворачивает голову, смотрит вопрошающе, спрашивает:
— Тринадцатый, тринадцатый, в чем дело? Я показываю рукой вниз.
Командир смотрит, кивает головой, давая понять, что видит и знает, о чем речь.
Я снова смотрю вниз, сомнения нет, в лесу вражеский танк, причем на нашей стороне.
«Танковая разведка, — соображаю я, — конечно, не один. На разведку их посылают по два, по три. Замаскировались и сидят. Штурмануть бы».
И словно отвечая моим мыслям, в наушниках голос командира.
— Вижу цель. В лесу вражеские танки. Атакуем.
Самолет Пошевальникова сделал разворот и пошел в атаку за ним. Дал очередь из пушек, не поймав цель в прицел, поднял самолет. Внизу рвались бомбы, снаряды. Танк стоял целехонек. Пошевальников пошел на второй заход, остальные — за ним.
И все, «ИЛы» были пустые, бомбовые запасы иссякли, кончились снаряды, горючее. А танк стоял невредимым.
— Черт с ним, — гуднул командир в наушники. — Всем на аэродром!
А вечером Пошевальникова вызвал сам командир корпуса генерал Рязанов.
Возвратился комэск от генерала угрюмый. Утром собрал участников вчерашнего полета, объявил:
— Натворили мы делов, твою мать! Танк атаковали, а он наш. То есть английский, по лендлизу получен. «Валя-Таня», его танкисты почему-то называют. Говорят, дерьмо и гроб с музыкой. Но дело не в том. Главное, был в нем, «Вале-Тане», сам наш комкор, генерал Рязанов. На наблюдательный на этом танке выехал. За нашим же боем следил. А мы его...
— Как же так, почему с нами не говорил? — закричал кто-то.
— В том-то и дело, что в тот момент рация у них отказала, — пожал плечами Пошевальников. — В общем, наказаны мы. И не за то, что на свой танк накинулись, знаки на нем опознавательные не разглядев, а за то, что — к счастью — один танк разбить не смогли. За этот позор и взыскание. Приказано всем тренироваться в бомбометании.
Побег из тыла
Восстанавливая в памяти боевой путь нашего 144-го Гвардейского полка, я вижу лица моих славных однополчан, особенно совсем близких, я бы сказал, по-настоящему родных летчиков, механиков, стрелков моей эскадрильи, числившихся моими подчиненными и в нужный момент воспринимавшие себя таковыми, в действительности, в общем и целом, являвшимися моими близкими друзьями-товарищами, спаянными в нечто единое монолитное целое, способное сформироваться только в огне сражений. Наверное, не зря на фронте утвердилось общее определение «фронтовая дружба». Эта дружба для меня — самое важное, самое главное из всего, что я вынес из пламени боев, из воздушных схваток с фашистскими истребителями, зенитчиками, из яростных штурмовок, атак. Я несу ее, эту самую задушевную, искреннюю дружбу через всю свою жизнь в самом сердце, в моей душе.
В эскадрильи до батальона летчиков, техников, стрелков, обслуги, и все они со своими лицами передо мной. Я знал всех и каждого в отдельности, знал не только по деловым и боевым качествам, но и как человека, склад характера, привычки, потому что с каждым меня, кроме всего прочего, так или иначе роднили сложные боевые случаи и обстоятельства. Или он в воздушном бою прикрыл меня от пулеметной трассы врага, подставив самолет, как говорится, «своим телом», или вовремя бросил машину на зенитчиков, впившихся в меня огненными трассами пулеметов, или я, не считаясь ни с чем, прикрыл его, бросившись в самое пекло боя.
О многих из этих славных ребят можно писать отдельные очерки, целые повести. Многое уже написано ими самими или о них. Их имена вошли в историю в повестях, мемуарах, в том числе в воспоминаниях нашего замечательного комдива первого Героя Советского Союза генерала Н. П. Каманина и других.
Я попытаюсь сказать хоть что-то о моем боевом товарище летчике Михаиле Коптеве.
Бок о бок с Коптевым мы прошли весь путь от Волги до Вислы и до самого Берлина. И весь этот путь кроме боевых подвигов отмечен этакими вешками — мелкими и крупными ЧП, которые происходили с Мишей Коптевым на земле и в воздухе. Причем все происшествия случались отнюдь не из-за какого-то там ошибочного действия героя, неумелого вождения, управления машиной, оружием, неправильного тактического маневра. Нет, такого не было. Причину этих ЧП четко определил бывший командир эскадрильи, наш отец — как мы его звали, Степан Демьянович Пошевальников, в беседе с Михаилом после очередного случившегося с ним события.
«Строптивый он, Коптев, как стригунок-однолетка. Его и путами железными не сдержишь, и ремнем не стреножишь, все равно взбрыкивает. Не будь его высокого летного мастерства, не будь ярости, успехов в бою, глядишь, и под трибунал бы попал давно. Так ведь мастер, отважен невероятно, разведчик классный, ему все прощалось. Командование за него горой, летчик он действительно первоклассный».
Как я имел возможность определить в десятках боевых вылетов и в повседневных моих командирских наблюдениях, Коптев действительно умел выжать из своей машины максимум того, что она имела. Тоже самое из всего арсенала вооружения «ИЛа». Его готовность лететь в бой, в штурмовку в любую нелетную погоду: туман, дождь, грязь — в общем, когда нужно. Получено задание, инструктаж, он в самолете, на старте. И будьте уверены, через определенное ему время явится на КП с докладом:
— Задание выполнено. Произведено... Уничтожено... — и так далее. Или — установлено разведкой то-то и то-то...
И все тут же подтверждается фотоснимками, сообщениями наблюдателей в штабах пехоты. «На него, Коптева, в любом серьезном деле можно положиться, — заявлял тот же Пошевальников. — И добавлял. — Хотя и сорванец, и инструкциям не следует, а уж штурмовка у него отличная».
Пошевальников не зря говорил о строптивости Коптева, иногда доходившей до явных нарушений дисциплины. Именно из-за этого он был не в ладах с начальством, то с одним, то с другим большим командиром, вплоть до генерала, поцапается, то отсебятину, лихачество какое-нибудь выкинет. Инструкции разные, приказы штабов для него хоть бы что.
Помню, приказом штаба корпуса было запрещено подлетать к своему аэродрому на бреющем, ниже двухсот метров. Самолет, летящий на большой скорости на такой малой высоте, зенитчики запросто могут, приняв за вражеский, обстрелять, да и посадка при этом совсем небезопасна. А он, Коптев, как летал над землей, так и продолжал летать. Как-то произвел посадку на брюхо, с полным боекомплектом, не выпустив шасси. Забыл.
За все он, конечно, получал взыскания и нагоняй. А что с ним сделаешь? Летчик-то классный.
Был с ним такой случай, на аэродроме у того самого города Ейска.
Получили задание лететь на разведку. Кругом весна и, как положено, на аэродроме грязища — она, эта слякоть, так и будет сопровождать авиацию до самой Праги.
Первым вылетаю я. У меня получается. Только немного затянул разбег, у самой кромки поля оторвался от земли. За мной летчик Кочергин: самолет его протащило по грязи метров двадцать пять. Вырулил и застрял в грязной колдобине. Посылают за трактором, чтобы вытащить самолет, освободить взлетную полосу. А Коптев на старте стоит, нервничает. И вдруг, не выдержав, без команды срывает с места самолет, кое-как по грязищи обходит застрявшую машину, идет на взлет.
И нужно же было такому случиться. Именно в этот момент на него обрушивается наш истребитель. Срезает фонарь — кабину летчика штурмовика и плюхается на живот.
Стрелок Коптева ранен, сам он контужен.
При разборе выясняется: наши истребители вели бой с большой группой «Мессеров». Израсходовав запас горючего, садились кто куда дотянул. Один из них, на последних каплях, дотянул до нашего аэродрома и плюхнулся, задев огибавшую застрявший самолет машину Коптева.
Или второй эпизод.
Грязь, слякоть были такие же, поднять самолет, вырвать из слякоти с полной боевой нагрузкой, было невозможно. Оружейникам приказано подвешивать бомбы в любом сочетании не шестьсот килограммов, как обычно, а всего двести. С таким грузом машины кое-как, с огромным трудом, некоторые летчики-мастера поднимали.
Коптев понадеялся, что оружейники на этот раз обеспечивают бомбовый запас в соответствии с приказом. Принял самолет, как всегда, положившись на авось, без проверки, вывел на предварительный старт.
«Разрешение на вылет получено, — вспоминал потом сам Михаил. — Сектор газа вперед, и самолет трогается с места, постепенно увеличивая скорость. Мотор работает на полную мощность. По расстоянию разбега колеса уже должны оторваться, а он все бежит и не отрывается. Беру ручку на себя. Самолет как привязан к дорожке, а она кончается. Мысль работает: прекращу взлет, даже убрав шасси, буду в овраге. Выход один — поднять самолет во что бы то ни стало.
Энергично беру ручку на себя.
Самолет наконец отрывается от земли — летит несколько метров и снова тяжело оседает, ударяется колесами о землю почти у самого края оврага, подскакивает и летит, опять же чуть не касаясь земли. А впереди — высоковольтная линия. Соображаю молниеносно: через провода не перетяну. Выход — проскочить под ними. Сложно невероятно. Высота самолета — три метра, размах крыльев — шесть. Как протащу самолет? Но другого пути нет, и я лечу, протискиваю машину в узкую щель между проводами, землей и опорами. Получилось похлеще, чем у Чкалова, пролетевшего под мостом через Москву-реку. Самолет летел не выше тридцати сантиметров над землей.
Только на другой день выяснилось, что виновником происшествия был оружейник, в нарушение приказа загрузивший не двести, а все четыреста килограммов бомб».
Таким характеризовался Миша Коптев в моем представлении. Между прочим, именно таким и пришел к нам, точнее появился, он. летчик Михаил Иванович Коптев, при совершенно невероятных обстоятельствах.
Прилетел он на аэродром, тогда еще восьмисотого полка, на «ИЛе» в составе группы перегонщиков машины с завода в части. Самолеты перегонщики сдали, получили акты и стали собираться в обратный путь. Но не все. Перегонщики Михаил Коптев с лейтенантом Смирновым возвращаться на завод отказались.
При таких обстоятельствах предстал перед командиром первой эскадрильи этот молодой русый парень с упрямым взглядом серых глаз, доложился:
— Перегонщик самолетов с завода лейтенант Михаил Коптев, а это лейтенант Смирнов, — кивнул на напарника. — Шестерку «ИЛов» сдали, акты получены, возвращаться обратно не намерены. Просим зачислить в эскадрилью.
Комэск смотрел удивленно.
— Вы чего, в своем уме, из тыла на фронт бежать, дезертировать вздумали?! Да кто же, кто вас тут оставит, оформит?! Тут же, между прочим, война, убивают здесь!
— Что такое война, нам известно, — пожал плечами Коптев. — Так ведь люди ее ведут, воюют. И не зря, не из-за прихоти воюют. Мы тоже люди и тоже воевать хотим. Должны! — поправился он. Комэск продолжал смотреть удивленно.
— Вы в столовой были? Видали, сколько там летчиков осталось? Остальные пали смертью храбрых.
— Видели, считали — мало. Не хватает летчиков, то есть, нет их. До зарезу нужны летчики. Машины простаивают. Потому и предлагаем себя. Мы же летчики, военные летчики, нас воевать учили. А мы в извозчиках-перевозчиках, — вступил в разговор напарник Степанов.
— На заводе нас заменят, — твердил свое Коптев. — Может, и заменять не придется. Там состав перегонщиков укомплектован. Поймите меня, товарищ майор. Война, можно сказать, на исходе, а я в тылу отсиживаюсь.
— Не отсиживаешься, а самолеты из тыла на фронт перегоняешь. Это тоже надо кому-то делать.
— Без одного обойдутся... У меня с фашистами особый счет. Мой батя — боевой фронтовик, участник первой мировой войны. В окопах Западного фронта насиделся, тяжелая контузия. Правая сторона лица изувечена. Боевой мужик был! Вижу его часто, во сне. Упрекает: «Что же ты, сынок, не воюешь?» Как же я в глаза ему буду в предстоящую встречу смотреть? Фашисты посягнули на земли отцов, я должен защищать эти земли там, наверху, так что мое место здесь, рядом с вами.
— В общем, мы его все-таки уговорили, комэск согласился отвести нас к командиру полка, — рассказывает Коптев.
Полковник, выслушав доклад комэска, был удивлен не менее. Глянул на нас.
— Из тыла на фронт бежать?! Во дела!
Я шагнул вперед, попросил у полковника разрешения, — вспоминает Коптев. — Объяснил, кто мы и чего добиваемся. — Просим зачислить нас в полк. Будем верно служить, выполнять все задания.
— Зачислить, — покачал головой подполковник. — Ладно, лейтенант, логика у тебя железная. Беру ответственность на себя... Бежишь, правда, наоборот, с тыла на фронт, это учтут. Воюй...
И вот первый боевой вылет. Шестерку «ИЛов» ведет Петр Горбачев. Самолет Коптева справа, в звене Веселова. Под крылом станция Долинская, затем Шевченково. Крупный железнодорожный узел.
Зенитки ударили внезапно, кучно. И с первого же снаряда прямое попадание в самолет Веселова. Машина буквально развалилась в воздухе. Коптев было бросился на помощь погибавшему, точнее, уже погибшему вместе с машиной товарищу, но снаряд разорвался и под его «ИЛом», разворотив хвостовое оперение. Самолет начал задирать нос, кабрировать. Но Михаил сумел справиться с управлением и, кое-как выровняв полет, еще дважды атаковал цель. Удары были меткими. Вражеские эшелоны пылали как свечи. Когда отходил от цели, зенитчики, как оно и должно быть, весь огонь перенесли на его машину. Маневрировал отчаянно, рискуя сорваться в штопор. Отстал от группы, но выжал газ, догнал ее. С трудом, с третьего захода, посадил машину, непослушную, и зарулил на стоянку.
К самолету подошел штурман полка Степанов. Посмотрел на побитые, деформированные рули глубины и поворота, пожал плечами:
— Кто же тебя заставлял на такой машине идти в атаку?
— Совесть и жажда мести за Сашу Веселова. — Михаил, сдерживая слезы, до боли прикусил губы. — Зато во втором заходе я влепил им здорово. Прямо в паровоз. Взорвался на моих глазах, лопнул как пузырь.
Штурман посмотрел на паренька, похлопал по плечу.
— Молодец! Летчик из тебя выйдет!
Михаил старался оправдать надежду командиров. В одном из очередных полетов ему пришлось снова столкнуться с «Мессерами». В строю «ИЛов» из шести самолетов шел он правым замыкающим, весь огонь истребителей ему пришлось принять на себя. Один из «Мессеров» зашел в хвост снизу. Воздушный стрелок, Коля Слепов, дал команду:
— Правую ногу!
Коптев дал. И тут же четыре снаряда пробили левую плоскость, следом две пробоины в правой.
— Что делать, командир? — кричал в шлемофон стрелок. — Он в мертвой зоне. — Не могу достать.
— Бей через стабилизатор! — приказал Коптев. — Бей!
И Николай послал очередь. Фашист отвалил, подбитый, оставляя шлейф дыма.
Стрелки и летчики отразили атаки остальных истребителей. Затем «ИЛы» накрыли группу замаскированных танков.
Шло время. Мужал в боях Михаил. Вскоре он вышел на уровень с остальными в эскадрильи. Особенно отличался в разведке, его разведданные были точными, исчерпывающими. От его проницательного глаза не мог укрыться ни один вражеский танк, ни один самолет, как бы он ни был хорошо замаскирован.
:
В полетах на разведку, в одиночку в свободной охоте и в больших группах, при штурмовках живой силы и техники противника Михаил числился одним из лучших. О нем уже говорили не только в полку, но и в дивизии, корпусе. И когда надо было выполнить особо важное задание, командир корпуса дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Рязанов звонил в полк:
— Занарядите Бегельдинова и Коптева. Они смогут...
Я высоко ценил летчика, воина Коптева. Ценю, уважаю и даже люблю. Наверное, за его решительность, за неожиданную его смелость, неунывающий боевой дух, честно признаться, даже и за его, иной раз, несдержанное ухарство. Так же к нему относилось и вышестоящее командование. Напортачит, натворит чего-нибудь Коптев, над ним тучи гнева командирского. Но слетает на задание, проведет разведку, штурмовку и все забывается. И снова говорят о Коптеве, как об отличном боевом летчике.
Из этого я и исходил по отношению к Михаилу впоследствии, доверяя ему самые сложные и ответственные задания, посылая на разведку и штурмовку. Из этого исходил, рекомендуя его ведущим.
Ведущий в группе, эскадрилье, даже в звене, при исполнении боевого задания — это фигура, решающая успех полета. Один тяжелый боевой самолет в небе — легкая добыча для истребителей противника, уже не говоря о зенитках, поэтому и летают штурмовики и даже истребители, как правило, группой, в крайнем случае -парами. А звено, эскадрилья, полк штурмовиков в полете — это боевой организм, грозный в нападении, практически, при хорошей слетанности, спайке, неприступный для истребителей противника.
По словам летчиков, строй штурмовиков, — это что-то вроде рыбьего косяка. Он так же сплочен, совершенно монолитен в каждом движении, маневре, как рыбья же стая, подчинен единому волевому центру. Волевой центр группы — ведущий. По его воле, слову, движению закрылка его самолета, группа совершает маневр, мгновенно изменяет направление, высоту полета, уходя от поражения либо атакуя. В истории полка, да не только его, были факты, когда группа отличных боевых летчиков терпела поражение, а то и полный крах, исключительно по вине оказавшегося неспособным командовать ведущего. Уже при мне один такой неумеха-ведущий, по чьему-то недоразумению возглавивший одну группу из двадцати четырех машин, мало того, что, не найдя цели, навел самолеты прямо на зенитки противника, на обратном пути стал блудить. А когда иссякло горючее, заставил летчиков сбросить весь боезапас — многие тонны бомб, снарядов, в какое-то водохранилище и посадил группу на вынужденную.
Вот почему ведущим группы штурмовиков, истребителей должен быть командир, его заместитель или некоторые отдельные командиры звеньев. Именно некоторые, самые опытные, хладнокровные, умеющие прежде всего определить наиболее безопасный и верный подход к цели, спланировать штурмовку, в экстремальных ситуациях скоротечных штурмовок, минутных, а то и секундных, воздушных схватках мгновенно принимать наиболее правильные решения. И самое главное, этот человек должен иметь способность за считанные минуты полета до цели сплотить экипажи, сколько бы их ни было, в тот самый монолитный организм, подчинить своей воле. При этом нужно учесть, что он, ведущий, всегда, в каждой схватке с зенитчиками, вражескими самолетами, обязательно главная цель, на которой сосредоточивается огонь противника. И, кроме всего этого, именно на него ложится вся фактическая — перед командованием — моральная — перед людьми, его ведомыми — ответственность за операцию в целом, за каждую потерю в отдельности, за каждого летчика. А без них бывает редко.
Получив назначение на должность командира эскадрильи, я сразу позаботился о назначении ведущих. Самому, при ежедневных четырех, пяти и даже шести боевых вылетах, вынести такую нагрузку не под силу. Да и не каждый раз я мог лететь. Комэска вызывали в штабы, приезжало начальство, и на земле хозяйство немалое. Чаще других меня подменял заместитель Анатолий Роснецов, но и этого мало, нужно было, как минимум, еще два ведущих.
В полку, в эскадрильи немало отличных штурмовиков, таких, как Михаил Мочалов, Николай Шишкин, Михаил Коптев, Юрий Балабин, способных быть ведущими, вести за собой не только эскадрильи, но и полк. Но некоторых из них пугал именно этот, последний параграф перечня обязанностей ведущего — ответственность за всех и каждого. А «каждый» — он ведь человек, со своим особым характером, способностями, возможностями, наконец, мировосприятием. Вон тот самый, потерявший от страха голову, трус, рванувшийся в тыл противника, за него ведь тоже отвечать. Ведомый в ответе только за себя, да и то за спиной ведущего, а тут — за всех. Кому надо? Конечно, можно было приказать. Но при назначении ведущих такой метод не годился и не применялся. Тут обязательно согласие, чтобы человек выполнял эту обязанность со всей душой.
Особенно противился старший лейтенант Николай Шишкин. Отличный пилот, классный штурмовик-ас в воздушных боях, он никак не хотел водить за собой кого-то.
— Сам летаю, работаю, претензий ко мне нет, и хватит, — заявлял он. — Пускай другие водят, я и в ведомых свое сделаю.
И ведь знал, что вместе с тем, ведущему всяческий почет и слава, все пенки от каждой успешной штурмовки. Ему, первому — различные поощрения, самые высокие награды, вплоть до «Золотой Звезды» — знал и не соглашался.
Коптев тоже не подходил по характеристике: нарушает дисциплину, в отдельных случаях не придерживается инструкции, самоволен. Но я-то его знал и не смотря ни на что, поручился за него головой, настоял, чтобы назначили ведущим.
Командование неохотно дало согласие на мою рекомендацию. А он опять отговаривается.
— Плохо ориентируюсь при полете. Как поведу группу, если сам путаюсь, иной раз где цель, где мой аэродром определить не могу.
— Можешь, — парировал я. — Все ты сможешь, если захочешь и потренируешься. Ты же все время в ведомых, за хвостом ведущего, ни вниз, ни по сторонам не смотришь, ориентиров наземных не засекаешь, даже и с компасом, с другими приборами не сверяешься. Твой единственный компас — ведущий. А давай уберем его, хвост этот, — предложил я. — Ведущим пойдешь ты, за тобой я, ведомым.
— Ну и все, через минут пять потеряю направление, начну шарахаться по сторонам.
— Шарахайся, я подправлю.
И полетели. «Прошли половину маршрута, в той же своей высоте, — вспоминает Коптев. — Чувствую, что начинаю уклоняться от маршрута. Комэск молчит. Уклоняюсь все больше, иду явно в тыл противника. Талгат не выдерживает, приказывает по рации:
— Иди за мной. — И выходит вперед. Потом опять уступает место ведущего.
Так, меняясь местами, и пролетели к цели и возвратились на аэродром.
Комэск заставил меня доложить об увиденном, замеченном. Я доложил.
— Видишь, все заметил, — сказал он, — значит, можешь ориентироваться, самостоятельно летать и группу вести сможешь. Учиться надо, привыкать, а тебе лень, — заключил он, помолчал и вдруг предъявил убийственное обвинение. — Ты просто симулируешь, уходишь в сторону. Пускай рискуют, гибнут другие. Ты за их спиной. — Этого я перенести не смог, вскипел:
— Я не трус, это все скажут. Не раз подставлял свой самолет, чтобы ведущего защитить. Ты, Талгат, это хорошо знаешь, — по имени назвал я комэска впервые.
— Тогда соглашайся! — отрубил он. — Потренируйся и води. Так я стал ведущим».
Летал, водил группы Коптев так же отлично, как делал все. Но и здесь не без ЧП. Об одном рассказывает он же.
«В середине августа мы полетели на штурмовку автоколонны противника. При подходе к линии фронта на моем самолете лопнул трубопровод, подводящий масло к РПД — устройству, изменяющему угол наклона лопастей винта. Масло стало выбивать. Винт стал во флюгер, то есть обороты большие, мотор и винт неимоверно ревут, а тяги почти никакой. Самолет быстро теряет высоту. Бомбы бросить не могу, так как подо мной свои войска. Летя к фронту, я заметил аэродром, с которого действовали истребители прикрытия фронта. Решил, что дотяну до него.
Вот он, спасительный аэродром. Решаю садиться с хода, выпускаю шасси и в это время замечаю, как навстречу начинают взлетать истребители. Сделать ничего иного, как заходить на посадку с другой стороны, делая маленькую коробочку, не могу. Чтобы уменьшить сопротивление и тем самым сохранить высоту, убираю шасси. Но и после этого полностью груженный самолет довольно быстро теряет высоту. Лишь бы успеть зайти на посадочную полосу! При заходе разворачиваюсь на 180 градусов. Самолет буквально сыплется к земле. Из разворота выхожу в шести метрах от земли и начинаю выравнивать самолет. В это время финишер мне навстречу стреляет красной ракетой, что означает запрещение посадки. Самолет проваливается к земле. Замечаю, что бетонная полоса чистая, самолет вот-вот должен коснуться бетонки. Но что это? Самолет парашютирует. И тут дошло, что я при заходе убрал шасси, а вновь не выпустил, думая, что оно выпущено. Вот почему была красная ракета. Но ничего предпринять уже не мог. Самолет приземлился на фюзеляж. Лопасти винта, ударяясь о бетонку, высекают сноп искр и сгибаются в бараний рог. Несильный удар, и самолет несется по бетонке, оставляя позади снопы искр. Стрелок и все, кто наблюдал это, сказали: «Страшное было зрелище. Думали, что самолет загорелся и вот-вот взорвется».
Вот ведь как получается: память сохранила, что шасси выпущено, а что убирал?! Она выдала эту информацию, когда было слишком поздно сделать что-либо.
Из кабины вылез весь мокрый, проклиная себя в душе за забывчивость, которая могла стоить и мне, и стрелку жизни. Соскочил с плоскости распластанного на бетонке «ИЛа». Дима рядом, в лице ни кровинки. Молчим. Потом он спрашивает:
— Что случилось, командир? — указывая взглядом на самолет.
— Забыл выпустить шасси, — только и успел ответить.
В это время к нам подъехали санитарная, пожарная и машина с людьми. Видят, что мы невредимы, спрашивают:
— Не ранены? Что произошло?
— Сели на вынужденную. Прошу прислать трактор. Вы можете ехать. Захватите стрелка, — ответил я, добавив: — Дима, доложи на КП, чтобы сообщили на наш аэродром, что мы сели на фюзеляж на этом аэродроме.
Все уехали. Я сел на плоскость и закурил.
Трактор подъехал. Я зацепил трос за рогульку винта и попросил тракториста осторожно оттянуть самолет от бетонки метров на десять, предупредив его, что самолет полностью снаряжен.
Тракторист — молодой паренек, хотя и побледнел от моих слов, но хороший и смелый малый, ответил:
— Будет полный порядок.
Оттянув самолет, отцепив трос и отпустив трактор, я открыл верхний лючок одного из бомболюков, приготовился выворачивать взрыватели из бомб. Тут на большой скорости подъехал «виллис». Из него вышли четыре человека. Трое в комбинезонах, четвертый в гимнастерке с погонами полковника.
— Что случилось?
— Отказал РПД. Лопнул маслопровод.
— Почему сел не на шасси? — грозно спросил полковник.
— Не успел выпустить.
— Какой же ты к... летчик, если не успеваешь выпускать шасси? — оскорбительно прозвучали его слова.
— Прошу прислать моего стрелка. А сейчас я буду выворачивать взрыватели из бомб и РСов, разряжать пушки и пулеметы, а поэтому прошу оставить меня одного, — спокойно ответил ему.
Полковника и его сопровождающих как ветром сдуло».
Вот такой он был, мой фронтовой друг — соратник Михаил Иванович Коптев. За свою беззаветную любовь и преданность Родине, за боевую храбрость и самопожертвование при выполнении боевого долга Коптев был удостоен ордена «Золотая Звезда» и звания Героя Советского Союза.
Моя эскадрилья
Принимая эскадрилью, я сознавал, какой огромный груз ответственности возлагаю на себя. Знал — теперь не будет мне покоя ни днем, ни ночью. Но тогда меня этот груз почему-то нисколько не пугал. Может быть потому, что молодость сама по себе сглаживает всякие трудности, опасности, принижает их значимость. Ведь для молодости непреодолимого ни в чем, кажется, не существует.
Главное, считал я, построить правильные взаимоотношения с личным составом, добиться взаимопонимания с каждым звеном и с каждой группой хотя и небольшого, но все-таки соединения. Именно соединения. Ведь эскадрилья тоже состоит из отдельных определенных служб, групп, наконец, звеньев, имеющих свои структуры управления и подчинения. Моя обязанность — сплотить, объединить эти части в единое целое, чтобы они органически вписались в состав эскадрильи, не дополняли ее, но создавали с ней единое, неразрывное целое.
Прежде всего, в состав эскадрильи кроме летчиков, в ее штат входят механики, главные люди, от действий которых зависит успех не только каждого полета, но и сама жизнь летчика. И хотя у них, у механиков свой командир, свое подчинение, я должен найти с ними общий язык, достигнуть взаимопонимания, конечно, уважения и, обязательно, сознательного беспрекословного подчинения моим приказам.
Нужно сказать, я добился всего этого. Механики в эскадрилье работали отлично, отсюда, по их вине, почти не было отказов моторов и вынужденных посадок. Не подводило нас и отлаженное оружейниками боевое обеспечение самолетов.
Работали люди в тяжелейших и сложнейших условиях. Война не знает ни погоды, ни времени суток, она идет круглосуточно, не принимая во внимание ничего, войне все безразлично: палящая жара, трескучий мороз, дождь, снег, град, ветер, ночь, день — война идет, она пожирает свои жертвы, свое топливо и требует нового. А люди — ее основная движущая сила, они железно верные своим, беззаветным для войны, обязанностям солдатам-пехотинцам — наступать, отступать, держать оборону, танкистам и летчикам — расчищать им путь. А вот у обслуживающего персонала эскадрильи, у оружейников задача одна — обеспечивать боевую готовность самолетов.
В эскадрильи их, обслуги, было немало — более ста двадцати человек, в том числе, одиннадцать девушек в возрасте от восемнадцати до двадцати двух. И, как это ни печально, именно на них война возложила самую ответственную и главное, самую опасную тяжелую часть работы — заправка самолетов боеприпасами. Вообще-то звучит это довольно обыденно, не стрелять же, только заправлять. Вот именно, заправлять, а это значит, привезти на себе, на какой-нибудь ручной тачке, повозке шестьсот килограммов снарядов, бомб и прочего — только для одного «ИЛа», разгрузить, затем поднять по лесенке к бомбовым люкам-отсекам, по 80 снарядов к двум пушкам, 40 противотанковых бомб, набить люки пулеметными лентами, подвесить под крылья 4 штуки эресов и 2 стокилограммовые бомбы. Правда, саму раскладку боеприпаса по люкам, отсекам производит и механик-оружейник, он же вставляет взрыватели, но все остальное — они, девушки. Они подносили, тащили вверх на руках, в обнимку, прижимая к груди, будто ребенка, обледенелую пушистую от инея тушку снаряда, лезли, карабкались с нею по липким перекладинкам лесенки, бережно передавали механику и вниз, за новой.
Я почти каждый день присутствовал при этом адском труде особенно зимой, в лютую стужу. Говорил с девушками Аней Свириденко, Надей Серебряковой, Клавой Петровой, Машей Макаровой, подбодрял их, как мог.
Нередко я видел, как, не выдержав этого адского труда, на ледяном ветру, в то и дело рвущихся об острые углы металла, варежках, с помороженными лицами (что сделаешь, лететь, штурмовать надо, война не ждет), та или иная из них, не выдержав, съеживалась в комочек и заходилась в рыданиях.
Ее быстро успокаивали. Если это случалось при мне, уговаривал, успокаивал я, и загрузка продолжалась, а я, кусая губы от бессилия что-либо изменить, как можно бодрее выговаривал разные обычные, всем известные, надоевшие слова, насчет того, что война уже на исходе, мы у самой победы и скоро отдохнем. И уходил, чтобы не разрыдаться самому.
После одного такого случая через каких-то два-три дня, — мы перебазировались на новый аэродром рядом с поселком, в котором был просторный клуб. Погода нелетная — метель, снегопады — самолеты на приколе. И мы, все летчики, идем в клуб.
Когда пришли, наши девушки уже были там. И, боже мой, я просто не узнавал их. Пытался найти что-то от тех измученных, измерзшихся, таскавших стокилограммовые — и больше — бомбы, снаряды, с обмороженными пальцами и лицами и ничего не находил. Девушки были чистенькие, розовенькие, душистые и до невероятности красивые. Вот какие они у нас!
На Львовском направлении, не успели мы переехать на новый аэродром и как следует разобраться — тут же срочное задание: на вылет всем полком.
На подходе к фронту обнаружились две, как всегда, в прифронтовой полосе, идущие на предельных скоростях танковые колонны, численностью до 30 машин. В нашем распоряжении считанные минуты, за них мы должны полностью снарядить машины, заправить горючим, взлететь, появиться над целью и уничтожить ее. В общем, разгромить обе танковые колонны. Машины все пустые. А их, самолетов, в полку больше сорока, в них нужно заложить в общем больше 20 тонн боеприпасов. Это, конечно, на полк. В эскадрилье до двенадцати машин, значит, нужно загрузить в них боеприпасов весом более семи тысяч килограммов. Доля на каждую оружейницу немалая. Да еще если учесть — температура с утра упала до восемнадцати, что из леса, соседней просеки — как из трубы со свистом вырывается тугой жгучий ветер, обжигающий руки, лицо, то будет ясно, в каких адских условиях работали девушки.
А между самолетами бегали, метались механики, командиры и кричали: «Быстрее! Быстрее!» С них тоже требовали.
И вдруг — на фронте, в полусотне километров от линии огня, такое бывало часто, — над аэродромом разнесся вой сирены, оповещавший о тревоге.
Захлопали, захлебываясь, зенитки и тут же из-за туч, один за другим вынырнули три «Фоккера». Они сыпанули несколько мелких, противопехотных бомбочек на только что занятый нами аэродром. Видно решили израсходовать остатки.
Остатки не остатки, нам от этого не легче. «Фоккеры» сделали круг, обстреляв аэродром, пощипав осколками некоторые самолеты, пошли на второй. И тут я заметил, что девушки, спрятавшись под плоскостями самолетов, так и сидят на корточках, прижимая к груди снаряды и бомбы, вроде как прикрываясь ими. Смешнее, или, скорее, страшнее, трагичнее этого придумать было нечего. Это же было равносильно тому, чтобы они прятались за бочку с порохом.
Закончилось все внезапно и благополучно. Зенитчики подбили одного «Фоккера». Он, густо дымясь, рухнул в лес, остальные два тут же скрылись. А девушки так и сидели, обняв снаряды, оцепенев от страха.
В назначенное время мы все-таки вылетели. Девушки свою задачу выполнили, несмотря ни на что. Мы тоже постарались. А потом благодарили их за хорошую работу.
Мы, мужчины в эскадрильи, во всем полку вообще относились к оружейницам как можно лучше, как положено, проявляли вежливость, уважение, стремление помочь, внимание, заботу. В общем, все как и должно быть. Были и браки. Мы, командиры, не препятствовали.
В один из дней я со всей своей эскадрильей — девять машин — возвращался с задания. Работа была сложная, мы штурмовали небольшой лесок, оказавшийся забитым фашистской техникой. И, что особенно нежелательно, напичканным зенитной артиллерией и другими противовоздушными средствами.
С противовоздушной мы кое-как справились, даже не понеся потерь, как следует штурманули цели, разгромив танки, машины, артиллерию. Уже намерились уходить, когда появились истребители противника. Сколько их было, я не считал. По радио передали — три десятка.
Три десятка на двенадцать «ИЛов» — это много, очень много. Я, как и должно быть в такой обстановке, приказал уплотнить построение и повел эскадрилью на бреющем. Летели, чуть не задевая плоскостями ветви деревьев.
Конечно, отступление наше, а проще бегство, проходило не так уж и гладко. Пришлось и огрызаться, схватываться с некоторыми чересчур наглыми «Мессерами», некоторых из нас немцы сильно пощипали и побили, но, в общем, на аэродром мы прилетели всей группой, без потерь. И тут, буквально следом за нами, над аэродромом появились фашистские бомбардировщики. Их было не так много, пять или шесть, но шороху на аэродроме они могли наделать. Наши зенитки били как надо. Все небо было в зонтиках разрывов, но над аэродромом появились еще фашистские истребители. Может, новые прилетели, или те же, что гнались за нами. В общем аэродром наш оказался в капкане, под угрозой полного разгрома. Опытные летчики из моей эскадрильи, не обращая внимания на рвущиеся кругом бомбы, снаряды сквозь огонь уводили машины с посадочной в укрытие, а молодые, новички, не столько от страха, сколько от растерянности, в панике повыскакивали из кабин и в укрытие.
Три или четыре самолета — остались брошенными на посадочной. Летчики, успевшие запрятать свои машины, под деревьями, в зеленые капониры, укрывали их. Таким образом, оставшиеся на посадочной, были обречены. Но теперь не выдержали механики, выбежавшие встречать нас. Они, запустили моторы, а наши девочки, ухватились за плоскости и потащили самолеты в укрытие.
Над аэродромом с ревом носились фашисты, прошивали взлетную пушечными, пулеметными очередями. Грохотали взрывавшиеся бомбы, а девушки, тащили и тащили машины.
И они спасли самолеты. Повреждения получили две машины, остальные, девушки и механики можно сказать, вынесли на руках.
Командование полка высоко оценило этот боевой подвиг. По моему представлению механики и девушки были представлены к наградам.
В моем письменном столе есть специальный ящик, в котором хранятся письма. Их много. Есть уже пожелтевшие от времени конверты-треугольнички со штампом военной полевой почты, есть и конверты, на которых изображены стремительные ТУ-114, — эти пришли недавно.
Пишут, в основном, однополчане, с которыми пройдены суровые годы войны, пишут мои однокашники по Военно-воздушной академии. Скупые строки. Как правило, мужчины не любят словоизлияний. Несколько строчек о своем житье-бытье, несколько вопросов о том, как идут дела. И всегда я точно так же скупо отвечаю друзьям.
Но как-то пришло необычное письмо. И я не положил его в стол. Оно со мной. Часто я открываю вновь и вновь перечитываю. При этом испытываю такое чувство, будто время сделало скачок назад, отодвинуло меня в грозные годы войны.
Необычна и история письма. Автор направил его в редакцию газеты «Известия». Оттуда оно попало в Министерство обороны СССР, затем в военный комиссариат Киргизской ССР, потом в Алма-Атинский аэропорт и, наконец, ко мне. Вот это письмо.
«Дорогая редакция! Я никогда не писала в центральную газету и сейчас мне немного страшновато: не займу ли я у редакции времени, которое нужно для других материалов.
Мне долгие годы очень хочется разыскать своих однополчан. Я служила в штурмовом авиационном полку оружейником. Нас было одиннадцать девушек. Люди у нас в полку были особенные. Я начала служить в Советской Армии, когда мне было девятнадцать лет, и по своей молодости не смогла тогда ощутить со всей силой, какие это были особенные люди. Только позднее, когда уже стала зрелым человеком, я один за другим мысленно раскрывала образы почти каждого, кого я знала. Все они были настоящими людьми, разными по своему характеру и в то же время одинаковыми в своем героизме, в своей беззаветной преданности Родине, в стремлении к победе над врагом.
Летчики летали на боевые задания, бомбили немецкие объекты, а мы — девушки — заряжали на самолетах пушки, пулеметы, подвешивали бомбы, вообще снаряжали самолеты к боевым вылетам. Много героев погибло. Я никогда их не забуду, все время о них помню. Они очень много мечтали о жизни, которая будет после войны. Они не знали тогда реактивных самолетов. Если бы сейчас они могли видеть достижения науки и техники в области освоения космоса! Но им не пришлось это увидеть. Они сделали все, чтобы это увидели мы, оставшиеся в живых.
Я никогда не встречала в газетах имен наших героев и хочу их назвать. Хотя бы небольшую часть самых отважных героев, которые отдали жизнь во имя человечества. Где-нибудь у них есть родные. Пусть же они еще раз вспомнят тех, которые не вернулись.
Вот они: Герой Советского Союза Степан Демьянович Пошевальников, Борис Васильевич Шубин, Александр Грединский, Владимир Потехин, Русанов, Малов и много других.
Мне не пришлось быть в своем полку, когда наступил конец войны. Я не знаю, кто остался жив, но точно знаю, что жив из нашего полка дважды Герой Советского Союза Талгат Якубекович Бегельдинов. Несколько лет назад я видела его в киножурнале на Первомайском параде в Москве.
Я была уже в полку, когда он пришел к нам новичком, рядовым летчиком-сержантом. По натуре веселый, жизнерадостный, любящий своих товарищей, Толя (так мы его звали) был жесток в бою с врагами.
Самолеты уходили на задания, и все мы, оставшиеся на аэродроме, с большой тревогой ждали их возвращения. Больно было, когда кто-нибудь не возвращался. Однажды, уйдя на боевое задание Толя Бегельдинов не вернулся. Был сильный бой, и летчики, летавшие с ним, доложили, что Бегельдинов погиб.
Прошло немало времени с того дня, и вот однажды в полку появился Толя. Раненый, измученный, грязный, похудевший. Долго он пробирался вместе со стрелком через линию фронта, но стрелок Яковенко погиб, а Толя перенес все невзгоды и добрался до своего полка.
А дрался он так, что не жалел себя, и на его счету, на счету штурмовика, был не один сбитый фашистский самолет. О том, как он дрался, можно судить по его наградам, а их у него много.
Дорогая редакция! Я очень хочу знать, чем сейчас занимается дважды Герой Советского Союза мой однополчанин Талгат Якубекович Бегельдинов. Мне это очень дорого. Не один раз я снаряжала его самолет к боевому взлету. Может быть, он откликнется на мое письмо, а может быть, еще кто-нибудь найдется. Ведь мы все вместе переживали такие трудности войны и никто никогда не заикнулся, что трудно. Знали — это необходимо.
Где Вы, откликнитесь, наш начальник штаба Евгений Сергеевич Иванов! Такой добрый, милый человек. Как нам было страшно первое время, когда нас бомбили, а он, обладая исключительной выдержкой и благородством души, спокойно с нами разговаривал во время бомбежки, как будто на занятиях в каком-нибудь кружке. Говорил он, как нужно вести себя во время бомбежки, определять, где упадет бомба, следить за направлением ветра. В общем, делал все, чтобы вселить бодрость духа в наши молодые сердца. Давал нам, девушкам, правильные наставления. Я их очень хорошо помню и сердечно благодарна за них. Ведь мы все были молодыми, впервые оторвались от родителей, и, конечно, нам необходима была отеческая опека.
Мне бы очень хотелось услышать голоса таких далеких и все же родных людей.
Тогда меня звали просто Машей. Сейчас у меня семья, двое сыновей. Как я не хочу, чтобы они увидели ужасы войны. Моя мама в Великую Отечественную войну проводила защищать Родину всех: отца, меня, трех братьев. Двое не вернулись, а сама мама умерла во время войны. Она умирала, проклиная войну...»
Я дочитываю последние строки.
Милая Маша! Если бы знала ты, как часто я вспоминаю те годы, наши полевые аэродромы, боевых друзей, которых давно нет в живых! Говорят, что время залечивает раны: стирает в памяти людей горечь потерь. Нет, мы все помним, мы не забыли кровь и слезы. И не забудем.
Это письмо еще в те годы вызвало у меня желание написать о годах Великой Отечественной войны, о своих друзьях-однополчанах. Я не претендую на обобщения, на анализ операций, в которых принимал участие. Это дело историков. Просто хочется поделиться воспоминаниями, чтобы все знали о людях нашего штурмового авиационного полка. Помнишь, Маша, слова замечательной песни?
В небесах мы летали одних, Мы теряли друзей боевых. Ну, а тем, кому выпало жить, Надо помнить о них и дружить.
Я специально заострил внимание читателя на девушках, работницах авиации по двум причинам: во-первых, потому, что во всех книгах о военной авиации любого жанра, в мемуарах, полухудожественных — аналогичных моей, художественных, о них ни слова, будто их там и не было, во-вторых, своим самоотверженным трудом они тоже внесли немалый вклад в борьбу за Победу и тоже имеют право на то, чтобы их имена были среди мужчин-фронтовиков, обрели бессмертие.
То фронтовое лето 1944 года для нашего полка штурмовой авиации оказалось исключительно знаменательным, ему было присвоено звание «Гвардейский, Львовский». Важным событием ознаменовался он и в моей фронтовой биографии: мне было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Продвинулся я к тому времени и по службе — от командира звена, замкомандира эскадрильи до командира эскадрильи и был уже в звании капитана. Назначение комэском — такое доверие командования было, как я уверен, не случайно. Я заслужил его, доказав свои способности в боях, в схватках с врагом, штурмовках — в общем, в выполнении сложнейших боевых заданий командования в качестве персонального летчика-штурмовика, командира и обязательно ведущего эскадрильи почти во всех операциях, проведенных за этот год.
К тому времени, по свидетельству летной книжки «Бегельдинов совершил более ста тридцати успешно проведенных боевых вылетов, за что был удостоен ордена Отечественной войны II степени, ордена Красного Знамени, ордена Славы III степени, орденом Красного Знамени». Здесь же, в летной книжке, краткие записи в трех-четырех словах фиксирующие суть выполненных заданий и результат. Вот одна из них:
«17.5.44. Выполняя задание по разведке группа Т. Бегельдинова обнаружила в районе Шевченково, на станции, эшелон с техникой и боеприпасами. Несмотря на яростные атаки фашистских истребителей «Фоккевульфов», сбросила бомбы точно на цели, сожгла эшелон, вывела из строя выходные стрелки на линии, прервав движение поездов и, что не менее важно, звено полностью уничтожило всю оборудованную на станции противовоздушную оборону, разгромив все зенитные установки. Это дало возможность вылетевшим следом звеньям штурмовиков добивать, громить станцию беспрепятственно. План фашистского командования развернуть из этого района контрнаступление был сорван.
О величине ответственности, возложенной на плечи вновь назначенного двадцатилетнего паренька, можно судить по объему работы. В составе эскадрильи три-четыре звена, в каждом по три-четыре «ИЛа» с экипажем из двух человек — летчик и стрелок. Это — норма, но в первой эскадрильи было и до восемнадцати-двадцати машин, по численности же личного состава эскадрилья приравнивается к пехотному батальону.
С новым назначением в моей жизни изменилось все. Если раньше, получив самолет, определив свое место в звене, в общем строю я нес ответственность перед командиром только за него, за умение использовать боевую машину, мощность ее мотора и вооружение, за выполнение заданий в одиночном полете, звеном и, конечно, еще я нес ответственность за себя самого. Это входило в каждое порученное мне боевое задание. При этом так и говорилось — сделай то-то, то-то, при этом сохрани машину от огня зенитчиков, от атак вражеских истребителей и точно по команде, в заданное время, кстати, нередко ограниченное запасом горючего, вернуться на аэродром.
Не очень усложнялись задачи у меня — командира звена: три-четыре твои машины, все на глазах — слева одна, справа две — или наоборот. Летчиков знаю — изучил как самого себя, потому и управляю звеном как будто своими двумя руками. Главное — слаженность в действиях экипажей. А она была, я старался постоянно добиваться ее.
С эскадрильей все сложнее. Хотя я и до этого командовал ею, был замкомэска, вначале, после получения назначения было нелегко. Прежде всего эскадрилья это уже большой сложный организм, боевая машина, предназначенная для боя, уничтожения противника на земле, при необходимости — и в воздухе. В ней, как я уже сказал, три-четыре звена, до восемнадцати-двадцати машин, в каждой, за ручками управления — пальцы на пусковых гашетках, кнопках — человек-летчик, успевший, в основном, пройти теперь уже солидную школу вождения штурмовика, боевую школу или зеленый новичок. И вся ответственность за него, за его действия в воздухе, в бою и на земле, на мне, на его командире. Ответственность эта очень большая, я бы сказал, огромная, ведь мне доверена его жизнь! Она, жизнь человека, данная ему один раз навсегда, в моих руках, и, храня ее, ты, командир, не имеешь права на ошибку. Ошибся в ходе боя в подготовке к нему, расплата чьей-то жизнью, а то и жизнями. Это в условиях, когда жизнь каждого, при каждом боевом вылете, висит буквально на волоске, и если ее удастся сохранить, то возвращается летчик из таких иной раз и часовых полетов, настолько вымотанным, обессиленным, что сам, самостоятельно не может выбраться из кабины. Тяжесть этой ответственности я осознал и прочувствовал сполна.
Разведка боем
Вверенная мне Первая эскадрилья штурмовиков «ИЛ-2» еще и моем предшественнике, была определена как особая — разведывательная. Это — дополнительные обязанности, головоломные задачи, причем на каждый день, на каждые сутки. Сведения о противнике, его силе, расположении, передвижениях необходимы командирам всех рангов наземных войск — от командующего фронтом, армии до командира батальона, роты, также и авиации. Каждый вылет разведэскадрильи в полном составе, отдельными звеньями, парами, в одиночку на заоблачной высоте, на бреющем, скоростные полеты и с облетами: фотографированием и визуальным наблюдением, наконец, разведка боем. И все — с обязательным возвращением. И не медля, сейчас же, в штаб или на КП. Здесь тебя ждут командиры с фотоснимками, с результатами визуальных наблюдений и всем, что может, обязан доставить штурмовик-разведчик.
Задания, как правило, давались сложные — летать чуть ли ни до километров в тыл врага. Если задание на штурмовку, то обычно — большой группой — девять, двенадцать и до тридцати самолетов.
К тому же трасса известна. Разведка уже побывала, доложила. Известно и расположение противовоздушной обороны. А тут, в разведке все заново. Летят обычно парой или звеном, четыре истребителя — для прикрытия. Летят, а что там впереди, неизвестно. Для того и разведка, чтобы узнать, засечь глазами, запечатлеть в голове. Конечно, работает, фиксирует все что нужно и фотокамера, но глаз во многих случаях совершеннее, на него летчик-разведчик и полагается. К тому же запас пленки ограничен, так что и расходовать ее нужно со знанием дела, с расчетом. Не продумал маршрут, не наметил объектов для фотографирования заранее, по картам, по данным пехотной и прочей разведки — растратишь пленку впустую, тогда запоминай все увиденное сам.
Боевая напряженная и опасная работа требовала ото всех жесткой дисциплины, неукоснительной исполнительности, особенно в полете, в бою, предельной наблюдательности в разведке, и вместе с тем, сообразительности, инициативности в деталях боя, в тактике. В рамках этих требований воспитывал я недавних новичков, того же Мишу Коптева, Махотина, Скурыдина, и многих других. Были среди них и птенцы, только выпорхнувшие из училища, были и опытные инструкторы, но только что прибывшие на фронт. Я, сам молодой командир, настойчиво и терпеливо совершенствовал их летную подготовку, учил напористости в схватках с врагом, воспитывал в них решительность, готовность к натиску.
Виды разведки различные. Думаю, что не ошибусь, если разделю ее так. Разведка в тактической глубине, в глубине фронта — осуществляется она, как правило, парой «ИЛов» (спаркой). Обычная цель разведать обстановку в прифронтовой полосе, не глубже десяти-пятнадцати километров. Обследовать прифронтовые населенные или пустые деревни, поселки. В них, как правило, укрываются техчасти, склады с горючим, боеприпасами, да и личный состав рот, батальона, а то и полка противника. При этом разведчики должны зафиксировать все на фотопленку прикрепленными к фюзеляжу фотоаппаратами: постройки, дворы, а также подходы к этим пунктам со всеми возможными препятствиями: лесками, болотами, речками, оврагами, в общем, все, могущее встать на пути наступающей части. Разведка боем, в пять-шесть, двенадцать самолетов. Полет этой группы обычно значительно продолжительней, задачи обширней и сложнее, так как в них входит и разведка боем. Это когда наряду с разведывательным поиском штурмовики, обнаруживая цель, штурмуют ее, наносят удары, уничтожают.
Однако, самая опасная и ответственная это разведка одной машиной — разведчиком. Такие разведочные полеты совершаются по тылам противника в глубину до стапятидесяти и двухсот километров.
Воздушный разведчик-одиночка особенно опасен и потому никак не желателен для противника. Летая на больших высотах он сам практически, с земли не виден, выдает звук. Звук нашего работающего мотора — плавный, непрерывный, приблизительно как «У-у-у». У немцев — резкий, прерывистый — «Уу-уу-уу». Изучив эти различные звуки — в таких одиночных полетах их называют «свободной охотой», я приноровился подделывать звук своего мотора под фашистский. Двигал ручкой подачи газа и мотор выл, ухал совершенно точно, как фашистский. Этот фокус совершенно определенно вводил в заблуждение противника, в какой-то мере оберегал меня от огня зениток.
Группой летать на задание лучше. Особенно, если будут атаковать истребители противника. Это во-первых. Во-вторых, меньше находимся над территорией противника. В-третьих, уже много знаешь о цели, то есть, что и где находится, зенитное прикрытие, вероятность встречи с «Мессерами». И, наконец, как говорится, «на миру и смерть красна».
В одиночку, на разведку идешь, как правило, не зная, что тебя ждет: ты должен сам увидеть, запомнить, доложить. Записей делать не будешь, надо управлять самолетом и внимательно следить за землей. Летишь парой. Прикрывают четыре истребителя. Над территорией же противника находишься от двадцати минут до часа. Приходится залетать на 100-150 километров в тыл. Вроде, подумаешь 20 минут, а при скорости 300 километров в час покрываешь расстояние 100 километров.
Летали с полной нагрузкой, поэтому цель выбирали самостоятельно. Рано отбомбишься, а вдруг впереди более нужная, более уязвимая цель. Побережешь на потом и пожалеешь, что не атаковал цель, оставшуюся позади, тут же, как назло, нет ничего подходящего. Пленку израсходовал, а тут попалось более значимое, которое надо было сфотографировать, а чем? Поэтому при проработке задания особенно тщательно изучалась по карте местность, над которой предстоит лететь. Весь маршрут держишь в памяти: характерные ориентиры, курс, расстояние и время полета на каждом отрезке маршрута. Потом уже, когда летишь к цели, все увиденное привязываешь в соответствии с проложенным маршрутом. При этом надо уметь отличать истинное от ложного. Немцы были неплохие мастера по созданию ложных целей, а истинные умели замаскировать хорошо.
Летчик-разведчик обязан хорошо знать наземное вооружение и боевую технику противника. Нельзя же путать танки с бронетранспортерами, бронетранспортеры с автомашинами, минометные позиции с артиллерийскими и так далее. У него должны быть: повышенная острота зрения, тренированная память, более быстрая реакция, умение в короткие секунды принимать решение в связи с меняющейся обстановкой, не боясь ответственности за него, ну и безусловная же правдивость и еще раз правдивость при докладе о полученных данных.
Высота полета на разведку в зависимости от метеоусловий. В хорошую погоду она колебалась от 700 до 1200 метров. Приходилось спускаться до 200 и ниже. Все зависело от того, что надо разведать.
Разведочные полеты продолжались, в них случалось разное.
Именно так, с ревущим по-немецки мотором, летал я над станциями, над линией фронта отступавших немцев уже в Польше, в районе села Опатува.
Наземная разведка доставила сведения о том, что в районе села и особенно на железнодорожной станции концентрируются воинские части — живая сила и техника — верный признак готовящейся контратаки, а то и солидного контрудара для выправления линии фронта.
Донесение исключительной важности. Командование армии придало ему существенное значение и призывает на помощь авиацию. Получаю задание. Уточнить донесение наземной разведки. В случае обнаружения скопления живой силы и техники, штурмовать, разгромить и уничтожить скопление всеми средствами вооружения. Я слетал в указанный район, убедился в верности донесения пехотной разведки. Тут же была подготовлена группа штурмовиков.
Вылетаем в назначенное время эскадрильей под моей командой — четыре звена — двенадцать машин. Ведущим я со своим звеном в составе трех машин: лейтенанты Любушкин Николай, Валентин Кочергин и старший лейтенант Коптев; стрелки — Таванов, Соболев и Фридман. Идем боевым порядком — слева звено Шишкина, замыкающим — звено Иванова. Идем правым пеленгом, скорость триста пятьдесят километров. До цели тридцать пять километров — десять минут лета.
Оглядываюсь — строй, как надо, плотный, четкий. Каждая машина на своем месте. Это хорошо и очень важно для боевых действий и вообще, при выходе на штурмовку особенно.
Смотрю вниз. Подо мной — поселок, вытянувшийся вдоль какой-то речушки или пруда. В поселке подозрительная беготня. По дворам мечутся фигуры в зеленых шинелях — фашисты. Между домами, во дворах, у сараев — машины, танки, самоходки, транспортеры. А вот и станция. Зенитки не стреляют, значит, ничего существенного для атаки тут нету. Не вижу ни одного цельного состава. На путях — разрозненные вагоны. Только вот разрозненны они странно: просто отделены друг от друга, как будто специально, на одной линии. А вот он, на самой окраине станции, за постройками, целый состав. Он втиснут между складами. А за ними, далеко за станцией, у какого-то тупика — и основная цель — танки. Выгружали их в спешке, валили чуть ли не один на другой, некоторые завалились в кювет.
Вот это цели! Есть по чему бить, над чем поработать.
Делаем круг, облетая еще раз засеченный объект. Обдумываю план атаки. Первые удары по танкам. Увидев нас, они могут разбежаться. Склады подождут. Ими займемся отдельно.
Связываюсь с КП:
— Я двести тридцатый. Обнаружил состав, отдельные вагоны, танки. Принимаю решения атаковать танки. Как поняли?
У аппарата сам комкор генерал Рязанов, узнаю по голосу.
— Двести тридцатый! Вас понял. Приказываю, танки уничтожить, склады сжечь!
— Я двести тридцатый. Вас понял!
— Двести тридцатый! Выполняйте! Чехлы снять!
Я отвечаю и сразу в микрофон, командирам звеньев:
— Атакую танки. Используйте все оружие! Бомбы для атак на склады. Атака с круга. Делайте как я!
Следует сказать, такая новая форма штурмовки — атака с круга, была освоена именно в нашем первом звене, еще при бывшем комэске Пошевальникове. Генерал Рязанов увидел эту форму в деле, проверил несколько раз и ввел как систему в работу всех эскадрилий.
Самолет замыкает круг уже на высоте шестьсот метров. Танки впереди. Вижу, танкисты пытаются завести моторы, растащить машины, крутятся около них. До цели — полтора-два километра. Теперь пора.
Вдавливаю пальцем кнопку пуска реактивных снарядов. Они вырываются из-под плоскостей, какие-то секунды летят, опережая самолет, оставляя огненные следы, затем плавно уходят вниз, на цель. Между неподвижными — их, видно так и не успели завести — и крутящимися на месте, лезущими друг на друга танками — пламя взрывов. Мои эресы достигли цели. Сколько танков было, сколько вывели из строя — об этом расскажут фотоснимки, на которых будет четко запечатлена наша работа и ее результаты.
Все так же, по кругу, вывожу самолет, оглядываюсь. Эскадрилья в порядке. Одно звено за другим четко повторяет мой маневр, взмывает в небо.
Снова круг, опускаюсь до двухсот метров. И теперь, буквально, прицельным огнем, бью по танкам из пушек. Поднимаюсь вверх и тут начинают хлопать зенитки. Зенитчики явно прозевали. И все-таки, не хотели обнаружиться, надеялись, что мы пролетим, не заметив целей. Да, судя по огню, который ведут, их совсем немного — пушки две, не больше.
В ходе боя, в штурмовке, в атаке огонь зениток не страшен. При наших скоростях, особенно при пикировании, зенитчики просто не в состоянии уловить цель. Они могут подбить машину при подлете, уходе, в полетах по кругу.
Я делаю противозенитные маневры, со скольжением на левое крыло — ухожу, уводя в сторону эскадрилью, зонтики разрывов остаются далеко в стороне. И тут же в крутом вираже возвращаюсь обратно. Прямо в самую гущу застывших в небе белых клубочков — следов разрывов. Зенитчикам нужно успеть — перевести за нами стволы пушек, справиться с прицелами. Но это невозможно. Мы уже над целью — расстреливаем, бомбим состав — он окутывается дымом. Я аккуратно укладываю в цель свои две шестисоткилограммовые бомбы: точно в паровоз, он взрывается, окутывается огромным облаком пара.
Взмываю вверх. Эскадрилья за мною. Окидываю взглядом: машины все целы, все на своих местах. Огонь зениток сильно поредел. Видно, кто-то из моих ребят в атаке прошелся и над ними. Докладываю на КП.
— Танки уничтожены. Состав горит, уничтожены склады. Разрешите на аэродром?
— Бегельдинов! — это голос Рязанова. — Поздравляю с успехом! Вам благодарность командующего армии.
Боевые эпизоды, проведенные эскадрильей, звеном «ИЛов» и в одиночку можно продолжать без конца. Собственно из них и состоит вся история нашего полка, эскадрильи и моя, фронтовая. Приведу еще пример. В летной книжке он отмечен совсем скупой записью. «Летал, штурмовал. Столько-то время...»
Иду бреющим полетом. Облачность метров на двести над землей, дождь стих. Видимость приличная. Вот и дороги. В два ряда идут по ним танки с мотопехотой. Ну, уж тут меня ничто не удержит. Атакую колонну, бью из пушек и пулеметов. Пехотинцы горохом рассыпаются в разные стороны. Вспыхивают два танка и несколько машин.
Вхожу в облака, разворачиваюсь и вновь атакую колонну уже с другой стороны. Фотокамеры все время включены. Можно лететь домой. Набираю высоту и беру курс на аэродром.
Видно, я не очень точно рассчитал и начал пробивать облачность раньше времени. Вынырнул из тумана, километра три не долетая до линии фронта. Внизу поле, на нем копны. Ох, уж эти копны в прифонтовой полосе! Чего только не скрывают в них, чем только они не грозят пехоте!
Решаю на всякий случай атаковать одну из копен. Уж очень они подозрительны. Пикирую и бью из пушек. Вот так штука! Копна вдруг взрывается. Атакую следующую и вижу, как отлетают в сторону клочья сена и несколько человек очертя голову бегут от копны, а из нее предательски выглядывает ствол орудия! Танк! Значит предчувствие не обмануло.
Летаю над полем и бью по копнам из пушек, пулеметов. Видно, не выдержали нервы у немцев. Танки, разворотив сено, удирают куда попало. Фотографирую поле и теперь уже окончательно решаю идти домой.
Вот и линия фронта. Ну как тут удержаться и не послать гитлеровцам «привет»! Лечу вдоль немецких окопов и поливаю их свинцовым дождем, отвожу душу за дни вынужденного безделья. Лишь когда кончился боезапас, повернул к аэродрому.
Подобно тем самым, разгромленным мною липовым копнам, немцы устраивали многие другие ложные цели. Они делали ложные артиллерийские позиции с липовыми пушками, почти натурально выглядывающими из маскировки стволами — бревнами, с макетами присевших, стоящих солдат, с дымящими «кухнями», «блиндажами», ложные склады боеприпасов, горючего, даже большие, вполне оборудованные аэродромы, с искусно выполненными из фанеры макетами самолетов, автомашин, с кое-какой противовоздушной обороной. Немцы сооружали, оборудовали всем необходимым целые ложные линии обороны, все это не должно было обмануть, сбить с толку воздушного разведчика. Ошибется он, примет ложную батарею, аэродром за настоящий и на их уничтожение будут затрачены десятки, а то и сотни самолетовылетов, израсходованы тонны боеприпасов и все на радость врагу, впустую.
Немцы не ограничивались обманом, ложными сооружениями на земле, они пытались вводить в заблуждение летчиков и в воздухе. Иногда ловили на липу молодых, неопытных.
Я на эти немецкие штучки никогда не попадался, хорошо усвоил первую заповедь разведчика — быть во всем бдительным, не доверять всему, что вызывает хоть малейшее сомнение.
Не попался я в расставленную немцами ловушку и в том, массированном боевом вылете.
Командир корпуса личным приказом выделил мне полк — тридцать шесть штурмовиков и полтора десятка истребителей сопровождения, утвердил ведущим. Задание — провести штурмовку крупного скопления танков и самоходных орудий в лесочке. Немцы готовили контрудар по нашим наступающим войскам, концентрировали живую силу и технику.
Маршрут был знаком. Я уже летал по нему со своими ребятами. Тогда и обнаружили этот плотно набитый немецкой техникой лесок.
Правда, глазами я сумел угадать лишь несколько машин. Зато фотоаппарат выявил все отлично. Рассматривая потом проявленную фотопленку, я удивлялся, как мог не разглядеть стоявшие в лесу десятки танков, самоходных пушек. Правда, все они были укрыты камуфляжными сетками, набросанными на них вывороченными деревьями.
Теперь предстояло прощупать эти кусты, деревья бомбами и всем остальным, что было в ящиках штурмовиков.
Через линию фронта я провел группу вполне благополучно, потому, что опять-таки хорошо изучил расположение зенитных батарей. Обошел их стороной.
До цели оставались считанные километры, минуты и тут:
— Коршун, Коршун, я — Ястреб, доложите обстановку! — Это беспокоится следящий за полетом с КП командир корпуса.
— Подхожу к цели. Все нормально, — отвечаю я. Проходит минута. И вдруг в наушниках треск и голос:
— Коршун, Коршун! Я Ястреб! Штурмовку отставить! Срочно возвращайтесь на аэродром! Коршун, штурмовку отставить!
Голос незнакомый, совсем незнакомый, но позывные правильные. В чем дело? Что могло случиться? Повернуть от цели тридцать шесть самолетов — дело нешуточное, сожжены тонны горючего. А что с тоннами боеприпасов, которыми они нагружены? Куда их? Садиться с ними? Но если при посадке взорвется хоть один (вероятность же взрыва шестьдесят-девяносто из ста) сдетонируют все машины на стоянке и успевшие сесть. Нет, тут что-то не то, нужна проверка.
Перед вылетом, уже на старте, в кабину ко мне просунул голову контрразведчик, выкрикнул в ухо, покрывая шум мотора, контрольный пароль.
— Твой Волга, наш Дон.
Его сейчас и используя я.
— Дон, Дон! Я Волга.
И сразу ответ.
— Дон слушает.
— Я Волга, двести тридцать, — называю свой код и личный номер я. — Получил приказ, штурмовку отставить. Подтвердите ваш приказ.
И сразу голос командира полка, знакомый голос.
— Волга, я Дон. Двести тридцатый, — задание подтверждаю. — И открыто. — Бегельдинов, не слушай их, бей!
У меня отлегло от сердца.
— Вас понял, вас понял! — кричу я. И сразу. — Цель подо мной, разрешите атаковать.
— Атаку разрешаю. Снять предохранители! — А в ушах крик, визг.
— Я Коршун! Ястреб! Штурмовку отставить! Отставить!
Но я уже дал команды, я пикирую, за мной остальные штурмовики.
Этой штурмовкой было уничтожено до тридцати танков и самоходок, готовившийся немцами контрудар был сорван.
В другой раз произошло и такое. Я так же летел на разведку. По пути, как всегда, наметил цель для штурмовки. Боекомплект у разведчиков полный, его нужно израсходовать.
Задание выполнено, группа легла на обратный путь. Я рассчитываю, как лучше нанести удары по уже согласованным с КП полка, а также с КП пехоты целям, и вдруг в наушниках голос:
— Бегельдинов! Бегельдинов! слушай приказ. На западной окраине села Обаянь, на высотке 202 скопление танков противника, произведите штурмовку. Штурмовку!
Позывные правильные, но и на этот раз смущает такое резкое изменение задания. Я решаю проверить. Вызываю:
— Я двести тридцатый, подтвердите приказ.
Теперь они должны назвать свой позывной, тот самый, секретный, который объявляется летчику перед вылетом. Но отдавшему приказ он неизвестен. Он твердит одно:
— Бегельдинов! Ударь по высотке двести два. Приказ командующего фронтом.
Приказ самого комфронта. Такое случается не часто, но опять без позывного и личного номера летчика.
«А если липа? Если розыгрыш немцев. А у той высотки наши танки. За такое опять же расстрел!» Остается одно:
Я тут же связался с КП, там связались с НП командующего. Приказ был подтвержден. Танки на высотке двести два атакованы, разбиты.
Елим-ай — земля родная
— Ну, Бегельдинов сообщу тебе радостное известие, — этими словами встретил меня командир полка Шишкин, вызвав в штаб. — Предоставляем тебе отпуск, заслуженный тобой на пятнадцать дней. Так что собирайся. Документы оформят и, как ты говоришь, «аллюр три креста».
И действительно, сообщение радостное, я его ждал. В штабе намекали, что в связи с присвоением звания Героя Советского Союза будет предоставлен отпуск. У меня и план был разработан — тут же отправиться на фонт к Айнагуль. Штабники отсоветовали, и командир полка тоже сказал:
— Зачем отпуск на фронте проводить? К ней, к твоей Айнагуль, — знал он и ее имя, — договоримся с командованием, на нашем связном слетаешь.
Ей я об этом не писал, решил сделать сюрприз — появиться нежданно.
Документы оформлены и я в дороге. До Москвы добрался самолетом.
Столица уже не такая, какой выглядела в те, тяжелые дни сорок третьего, когда мы с Чепелюком бродили по ней, до пересадки на поезд. Теперь она ожила, даже вроде как прибралась, похорошела. Люди на улицах все те же: в основном женщины, старики, военные. Но кинотеатры — я успел забежать, — полны зрителей, шумно в ресторанах, которые по вечерам заполняли, в основном, такие, как я, приезжие офицеры.
Попрощавшись с Москвой, я забираюсь в вагон. Мне, Герою, предоставляется купейный. — И вот уже бежит за окнами, от горизонта до горизонта, родная степь — дала. Сейчас на ней ни ковылей, ни серебристого жусана, только снег, да еще поземка, седые косы ее бегут, стелятся по равнине, завихряются у сопок, падают, оседая в ложбинах. Но она, степь, все равно красивая, вся искрящаяся, переливающаяся всеми цветами в скупых на тепло но все равно ярких солнечных лучах.
До Фрунзе добираюсь без приключений, и сразу в объятья отца, матери, предупрежденных телеграммой.
А потом встречи, встречи. Первая, после посещения Дома Правительства, конечно, родной аэроклуб. Его инструкторов — моих сослуживцев да и начальников уже нету, — все, в основном, на фронте. Но все равно мне приятно, волнующе в этих родных мне стенах, на взлетной полосе, с которой впервые поднялся в свое, ставшим для меня звездным, небо.
Теперь здесь, во Фрунзе, пришлось осваивать еще одну профессию — рассказчика или даже оратора. Я с утра до вечера встречался с рабочими коллективами, с колхозниками, рабочими совхозов, с ребятами в школах и Домах пионеров. И только теперь, рассказывая о боевых делах своего полка, эскадрильи, своих боевых полетах, я видел, осмысливал все это как бы со стороны, с позиции некоего третьего лица. И делал вывод — все, что совершил — все это уже не так значительно, нужно делать больше и лучше, что другие летчики, мои друзья, тоже достойны самых высоких наград.
Встречи, выступления утомляли. Иной раз казалось, что легче было бы слетать на самую сложную штурмовку, но я понимал, что все присутствующие на встречах: дети, женщины, мужчины, старики, — все они тоже непосредственные участники войны и моих побед в том числе. Ведь это они своими руками создавали, строили мой самолет, вооружали меня сделанным ими оружием, обеспечивали горючим и всем необходимым для того, чтобы я поднял его с земли, нанес удар по врагу. Кроме того, у каждого из нас там, на фронте, кто-то из родных: муж, отец, брат, сестра. Потому так радостно встречают меня, с таким волнением ловят каждое мое слово о фронте, о том, как мы там бьем фашистов, освобождаем родную землю, города, села — действительно для многих присутствующих родные, так как они эвакуировались оттуда. Я понимал, что обязан удовлетворить их желание, и говорил, рассказывал о войне со всеми подробностями. И каждую такую встречу обязательно завершал горячим, искренним, от самого сердца, заверением, что, возвратившись, буду еще беспощадней бить врага, что это обещание всего полка, дивизии. Сделаем все, чтобы приблизить победу.
А дни бежали. Короткий срок отпуска истекал. И я вдруг, почувствовал, что до боли в сердце хочется съездить на мою Родину, на землю моих отцов, в аул, носящий название раскинувшегося рядом озера Майбалык, что в переводе на русский значит «жирная рыба». Рыба в озере действительно была жирная, толстоспинные, золотистые караси.
Был я там всего один раз. Отец возил совсем маленького. Но аул запомнил и слившуюсяя с ним русскую деревню Алексеевку, тоже — на всю жизнь. И сейчас совершенно отчетливо представлял себе эти несколько улочек, деревянные и, в основном, саманные домики. Желание снова увидеть все это, росло. Только как его выполнить? Сделать остановку на обратном пути, но времени уже в обрез. Решение было найдено, с военного аэродрома летел самолет в Акмолинск. Летчики берут меня.
И вот я в ауле, дома! Именно дома. Так я чувствую себя в просторных хатах двоюродного брата Ахмета, племянниц Раушан и Райхан. Я ходил с ними из дома в дом нашей родни и вся родня, — а это половина аула, — перебывала в нашем доме.
И как же это было хорошо — обнять каждого, прижать к своей груди, узнавая степень моего, близкого мне, родства. Только тут я постигал великий смысл понятий «Туган жер», «Елим-ай» — моя Родина! И я понял, за что боролся с врагом, за что ежедневно шел на смерть, а многие мои друзья летчики, стрелки пожертвовали своими жизнями.
Провожали меня всем аулом, всей Алексеевкой. Теперь меня, своего героя, гордость свою, знали все майбалыкцы-алексеевцы, и все были горды тем, что я, Герой, Талгат, — их родня, их земляк, на войне не посрамивший свой род, свой Елим-ай.
И опять было обидно и грустно, что рядом со мной не было моей любимой, что я не мог представить ее своим отцу, матери, сестрам и здесь, всем замечательным родным, близким людям.
Отпуск, мирные города, села, встречи с земляками, — все позади. И снова фронт.
В части новость. Комдив генерал Каманин, прошедший с дивизией от Волги до Днепра и дальше, в связи с повышением, уходит. Перед отъездом прилетел проститься. Обойдя построенный полк, обратился с прощальным словом.
— Дорогие товарищи гвардейцы! Личный состав вашего полка внес немалую лепту в дело разгрома немецко-фашистских захватчиков. Вы участвовали в боях на Курской Дуге, на Днепре, в ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки, в Молдавии и в Львовско-Висленской операции. О полке идет слава по всей воздушной армии. Полку присвоено наименование Львовский, на его гвардейском Знамени — орден Богдана Хмельницкого. Это ваша же гордость, ваша слава. Надеюсь, что вы и дальше будете успешно бить врага на земле и в небе.
Бывало и так
Поздняя осень 1944 года. Второй Украинский фронт. Моя отдельная разведывательная эскадрилья стоит на полевом аэродроме в районе небольшого польского городка.
Однажды вечером, когда закончились боевые полеты и мы, наконец, могли вздохнуть, раздался звонок из штаба полка.
— Бегельдинов!
— Слушаю вас!
— Направляем в вашу эскадрилью летчика. Пока на задания его не отправляйте, Присмотритесь. Дайте тренировочные полеты строем на боевое применение, облет района боевых действий, когда будет готов к выполнению боевых заданий — доложите.
— Ясно, — ответил я.
Утром передо мной предстал лейтенант. Одет с иголочки, подтянут. Четко доложил, что прибыл для прохождения дальнейшей своей службы.
Знакомлюсь с личным делом. Ого! Новичок-то, оказывается, бывалый — имеет более сорока часов налета на штурмовике. Невольно вспомнилось, как мы с Чепелюком прибыли в часть, имея всего по одиннадцать часов.
Новичок быстро освоился, перезнакомился со всеми летчиками, стрелками, механиками.
А тем временем эскадрилья несла нелегкую службу. По три-четыре раза в день поднимали мы в воздух машины — вели разведку и бомбили вражеские войска. Когда же все отправлялись на отдых, я летал с новичком.
Прошло более месяца тренировочных полетов.
— Считаю, что готовы к боевому полету, — сказал я новому товарищу.
— Если можно, то я еще полетал бы с Вами, — честно признался он.
Что ж, без уверенности в полетах человека в бой не пошлешь. Еще несколько дней прошло в тренировочных полетах.
— Ну, как чувствуете, готовы?
— Еще бы... хоть немного...
И вновь мы ежедневно летаем с ним.
Тем временем отношение в эскадрильи к новичку резко изменилось. Уже не раз летчики обращались ко мне с вопросами, дескать, в чем дело, почему летчик целые дни изнывает от безделья, почему его не пускают в бой? Кое-кто стал с неприязнью посматривать на него.
Новичок, конечно, понял это и в один прекрасный день, наконец, заявил, что он чувствует себя готовым к выполнению боевого задания.
Рано утром мы с ним вылетели парой под прикрытием четырех истребителей под командованием Михаила Сайкова, на разведку. Подлетаем к линии фронта. Немцы открывают заградительный огонь. Новичок держится строго. Проходим над окопами. И буквально через минуту попадаем под огонь минимум трех вражеских батарей. Тут уж не зевай. Нужно маневрировать, иначе неизбежно будешь сбит. Даю команду ведомому маневрировать от зенитного огня так, как маневрирую я.
И тут происходит невероятное — мой напарник дает полный газ, вырывается вперед и летит по прямой без всякого маневра, уходит все дальше и дальше. Летит в сплошных разрывах зенитных снарядов.
Связь у нас с ним была налажена прекрасно. Еще на земле договорились, что в случае беды он должен резко развернуться на девяносто градусов, выйти на свою территорию, а там настроиться на наземную радиостанцию, которая приведет его на свой аэродром.
Кричу в микрофон: «Девяносто градусов!»
Ни слова в ответ. Летит по прямой, даже не пытаясь произвести маневр. Даю полный газ, пытаюсь догнать его, но тщетно. В любую секунду можно стать жертвой зенитчиков.
Что делать?
— Михаил, — обращаюсь к командиру звена прикрытия, — парой прикройте меня, а пару пошли за моим ведомым. Пусть немедленно вернут обратно.
— Понял! — ответил Сайков.
Тотчас два истребителя кинулись вдогонку за «ИЛом».
Времени, чтобы наблюдать за исходом этой не совсем обычной операции, у меня не было. В сопровождении двух истребителей полетел выполнять задание.
Выполнив задание и подлетая к своему аэродрому, я думал о том, как следует поступить с летчиком, нарушившим самое святое правило — приказ ведущего.
Приземлился. Но что это? Мой ведомый на аэродром не вернулся. Сбит? Погиб?
Истребители, посланные за ним вдогонку, рассказали, что все их попытки повернуть «ИЛ», остались безуспешными. Более ста километров в глубь территории врага шли они, но горючее было уже на исходе, и истребители повернули обратно.
Все мы молча слушали рассказ летчиков.
Признаться, мысль о том, что новичок умышленно ушел за линию фронта, не приходила мне в голову.
В штаб полка мы доложили о том, что один штурмовик не вернулся с задания. Я подробно рассказал обо всем. В полку пожали плечами, дескать, и такое бывает.
Долго переживать случившееся не пришлось — началось мощное наступление, и мы чуть ли не ежедневно меняли полевые аэродромы.
Лишь через несколько месяцев узнали, что произошло в тот злосчастный день. Рассказал об этом стрелок, находившийся на самолете новичка.
«...Я никак не мог сообразить, что произошло, когда летчик, дав полный газ, стал уходить все дальше и дальше. Я ему кричал, но он ни на что не реагировал. Каким-то чудом проскочили зенитный огонь. Тут подлетели два наших истребителя. Они проходили буквально под самым носом «ИЛа». И тут ничто не помогло. Мы продолжали лететь на территорию, занятую немцами. Истребители оставили нас, когда мы уже углубились километров на 150 в тыл врага. И тут будто просветление нашло на летчика. Он вдруг полетел обратно. Но, увы, попасть домой нам было не суждено. Километров восемь не долетели до линии фронта, кончилось горючее. Он, не выпуская шасси, посадил машину на поле. Страшно было смотреть на летчика. Видно, он понял, что случилось непоправимое. Пот крупными каплями выступил на его лице, мокрые волосы выбились из-под шлема.
— Что будем делать? — глухим голосом спросил он. Ответить я не успел. Со всех сторон к самолету бежали немцы. Я открыл из пулемета огонь. Летчик выхватил пистолет. А немцы все ближе и ближе. Меня дважды ранило. Когда немцы были рядом с машиной, летчик пустил себе пулю в висок. Я попытался сделать еще несколько выстрелов, но потерял сознание...
— Ну, а дальше что было?
— А дальше — лагерь для военнопленных. И голод, побои. Несколько дней назад наши танкисты освободили лагерь и я ушел. Вот, нашел свою часть...»
Мы молча слушали рассказ товарища. И у каждого в голове был один вопрос: так кто же он, тот самый летчик? Трус? Нет, трусом его назвать нельзя. И уж, конечно, не предатель. Кто же? Честно говоря, я до сих пор не могу дать себе ответа на этот вопрос. С тех пор я непременно рассказываю об этом эпизоде всем новичкам. Пусть знают, что и такое бывало на фронте, пусть знают, что война не прощает даже минутной слабости, даже мгновенной растерянности.
На память невольно приходит гибель еще одного нашего летчика — Владимира Потехина. Но это была совсем иная, геройская гибель. Было это в районе города Кривой рог. Наш полк беспрерывно летал на бомбежку гитлеровских танковых колонн.
В тот день мы вылетели двумя группами на село Недайвода. Одну группу вел Пошевальников, другую — Потехин. При подходе к цели попали под сильнейший зенитный огонь и были атакованы истребителями. Группа Пошевальникова, в которой летел и я, сумела быстро отбомбиться и уйти. А у Потехина оказался поврежденным самолет.
Я ясно видел, как его «ИЛ» быстро снижается, оставляя шлейф черного дыма. Стрелок непрерывно вел огонь по истребителям. Последним усилием Владимир направил горящую машину в танковую колонну. И пока он не врезался в самую гущу танков, стрелок вел огонь. Взрыв! Прощай, Володя Потехин, прощай, боевой друг!
Так же погиб на территории Польши летчик нашего полка Виктор Чернышев.
Да, воевали и погибали люди по-разному. И если имена героев на всю жизнь врезались в мою память, если они до сих пор часто снятся мне, хотя после войны прошло пятьдесят пять лет, то фамилии того новичка я не помню. Фронтовая память хранит лишь то, что дорого и свято, что достойно нашей памяти.
Вскоре именно такой же бессмертный подвиг совершил командир звена лейтенант Борис Шапов.
Мы получили задание атаковать технику и живую силу противника в районе Радиул-Алдай и высоту 197. Группу в девять самолетов повел Степан Демьянович. В тот день это был мой второй вылет в этот район. К линии фронта идем довольно плотным строем. Внизу расстилается знакомая местность. Что ждет нас, я уже знал: будут бить зенитки. А будут ли истребители? Прошло не более трех часов, как мы здесь бомбили и штурмовали артиллерийские позиции, замаскированные автомашины и другую технику в садах Радиул-Алдая.
Пересекаем линию фронта. Немецкие зенитки открывают по нам огонь. Снаряды рвутся внизу и впереди. Значит, ставят заградительную завесу, надеются, что мы испугаемся и отвернем назад в сторону. Нам не впервой прорываться через подобные завесы. Но и привыкнуть невозможно, страшно проходить через нее, ибо каждый последующий снаряд может быть твой или кого-либо из летящих в группе. Завесу преодолеваем успешно. Зенитчики ведут прицельный огонь. Ухожу резко влево. Вижу спрятавшуюся автомашину среди яблонь, по ней и открываю огонь из пушек и пулеметов. Трассы идут точно. Думать о зенитках некогда. Уничтожить автомашину — и больше никаких. До земли остается 300 метров, пора бросать бомбы, и только тут замечаю еще несколько автомашин или что-то другое, хорошо замаскированное среди деревьев. Туда и сбрасываю бомбы серией.
Выходим на свою территорию и продолжаем набирать высоту для новой атаки. Сейчас будем атаковать высоту 197, где засели фрицы. Нельзя допустить, чтобы они контратаковали наши войска.
Звено Степана Демьяновича пикирует на цель. Вот-вот перейдет в пикирование и звено Шапова. Мы звеном идем еще с набором высоты по своей территории. В этот момент увидел, как в одном из самолетов звена Бориса Шапова разорвался зенитный снаряд. Хвост отваливается, и плоскость с работающим мотором, переворачиваясь, начинает падать вниз. Видны то голубой низ, то зеленый верх. Я направляю самолет со снижением. Жду и надеюсь, что летчик выбросится с парашютом. Стрелок наверняка погиб, снаряд разорвался в его кабине. Но не видно белого купола парашюта. Плоскость падает кабиной вниз в камыши небольшой речушки, протекающей около высоты. Вверх взметнулся столб огня и дыма.
Мы с яростью ведем огонь из пушек и пулеметов, пускаем эресы по окопам и траншеям, где прячутся фрицы. После третьего захода кончились снаряды и патроны. Степан Демьянович берет курс на свой аэродром. Вот тут, когда идем плотным строем, я увидел, что нет самолета Бориса Шапова.
Да, в том бою мы потеряли выдающегося боевого летчика, хорошо известного на всю дивизию.
Вот что пишут о нем авторы книги, посвященной генералу Рязанову. «В 144-м гвардейском штурмовом авиаполку Бориса Шапова любили за широту натуры, за волжскую удаль... Меньше года летал Борис, а успел сделать 133 боевых вылета, в 53 воздушных боях на «ИЛе» сбил восемь истребителей. Был награжден пятью орденами.
В сентябре 1943 года эскадрилья «ИЛов» под командованием Пошевальникова, в которой летал и Шапов, разбомбила переправу через Днепр у Кременчуга. В самолет Бориса тогда угодили три зенитных снаряда, осколком задело лицо. В довершение всего из облаков на его израненную машину накинулись «Мессершмитты». Прижимаясь к земле, маневрируя, летчик привел самолет домой, хотя сам находился в полубезсознательном состоянии.
Днепропетровщина. Младший лейтенант Шапов так искусно уничтожал артиллерийские и минометные батареи на Бородаевских высотах, что командующий Пятой армией генерал Жадов трижды объявлял летчику по радио благодарность. Пехотинцы по летному почерку узнавали этот штурмовик.
Под Корсунь-Шевченко звено младшего лейтенанта Шапова сбило 11 транспортных самолетов «Ю-52», пытавшихся пробиться к окруженной группировке».
В 1944 году Б. Д. Шапову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Наш всеобщий любимец Саша Грединский любил этакие эффекты, чудил. Не редко на задания летал, не закрывая кабины фонарем. Сколько раз по этому поводу ему внушали командиры, советовали товарищи, что любой шальной осколок может убить его, что над целью фонарь должен быть закрытым, часто броня фонаря надежно защищает летчика. На все эти доводы он с подкупающей улыбкой отвечал:
— Так лучше видно, что творится вокруг. А осколки я увижу и отойду в сторону.
Как-то стояла жаркая погода. Саня, готовясь к вылету на задание, сбросил с себя комбинезон и майку, остался в одних трусах, подпоясался ремнем с висевшим на нем пистолетом, застегнул парашют и сел в кабину, ожидая сигнала о запуске мотора. В это время проходит инженер эскадрильи и спрашивает:
— Саша, ты полетишь в таком виде?
— А что? Если собьют, то поживиться фрицам нечем. Одни сапоги, — полушутя, полусерьезно ответил Саша. Так и взлетел.
7 июня мы возвратились с успешно выполненной штурмовки колонны отходящих сил противника на дороге Яссы — Думалей. После доклада на КП я пришел к своему самолету, обменялся мнением со своим механиком Яковом о выполнении задания. Он приступил к подготовке самолета к очередному вылету, а я в тени, под плоскостью лег на разостланный брезентовый чехол. День был жаркий. Незаметно уснул. Проснулся от пушечных и пулеметных очередей. Механик кричит:
— Грединского сбили!
Все бросились к месту падения самолета. Когда я подбежал, то увидел лежащих на земле Саню Грединского — на левой стороне груди кровь, техника Женю Грехова. Их вытащили их-под обломков прибежавшие первыми механики.
Как могло случиться, что такой летчик, как Саня Грединский, погиб над своим аэродромом? Вот что мы узнали из рассказов очевидцев.
На одном из самолетов их эскадрильи сменили мотор. Надо было облетать самолет до задания, таково требование наставления по эксплуатации самолетов. Саня решил это сделать сам, хотя облетать мог любой из летчиков, за исключением молодых. Саня любил летать, летал мастерски. Но тут нужно было учесть одно обстоятельство. Дело в том, что над базами «ИЛов» стали регулярно появляться два «Мессера», летавших «охотниками» в свободных полетах. Они явно охотились на штурмовиков. Прячась за лесом, за холмами, по лощинам, они крутились у аэродромов, опасаясь зениток, не подлетая близко, выжидали удобного момента, когда штурмовики, уже без прикрытия, шли на посадку, чтобы ударить по ним удачно использовали складки холмистой местности, идя на бреющем полете. Несколько раз проскакивали над нашим аэродромом, не открывая огня. Вскоре в соседнем полку сбили самолет, шедший на посадку после боевого задания. Экипаж погиб. Тут же скрылись на бреющем.
Во время посадки у летчика все внимание на землю, по сторонам смотреть некогда, а то не посадишь самолет. Да и у воздушных стрелков притуплялась бдительность. Теперь уже дома. Да и при планировании после четвертого разворота обзор задней полусферы ограничен, чем и воспользовались фашисты. Все попытки поймать эту пару «охотников» результатов не давали. Их самолеты, выкрашенные под цвет местности, трудно было заметить с высоты, а если ходить на малой высоте нашим истребителям, то слишком большая вероятность попасть под огонь «Мессершмиттов». Получалось — как ни кинь, все клин. «Охотники» же летали, все время меняя направление, не было той немецкой педантичности. Значит, летчики опытные. Чтобы избежать потерь или сократить их до минимума, теперь во время посадки штурмовиков, возвратившихся с задания, прикрывали «ЯКи». «Охотники» стали появляться реже.
В связи с полетами немецких «охотников» были даны указания — над своим аэродромом или при перегонке «ИЛов» с одного аэродрома на другой во второй кабине должен находиться воздушный стрелок. Саня вместе со стрелком подошли к самолету, чтобы подняться в воздух. Тут техник Женя Грехов стал просить взять его вместо стрелка «подлетнуть» так называли полет кого-либо вместо стрелка во второй кабине.
— Нет. Я полечу с командиром. Здесь опасно, — сказал Миша Юнас.
— Да иди ты, еще налетаешься, а то как дам по элеронам (так он называл уши), — замахнувшись планшетом, с веселой улыбкой произнес Саня, — пусть проветрится Женя.
Вскочил на плоскость и стал надевать парашют. В заднюю кабину залез Женя, надел парашют, сел на сиденье. Взлетев с аэродрома и отойдя немного в сторону, Саня на высоте 400 метров начал крутить глубокие виражи, затем боевыми разворотами набрал высоту и сделал перевороты через крыло, пикировал и снова посылал машину то в правый, то в левый глубокий вираж, при этом видно было, как с консолей плоскостей срываются спиралями струйки воздуха. Этого никто не мог сделать в полку. Надо не только хорошо владеть самолетом, но и переносить большие перегрузки. Снизившись до 150-200 метров, Саня продолжал виражить. Наблюдавшие любовались техникой пилотирования Грединского.
Никто не заметил, как на бреющем выскочила пара «охотников». Один сделал «высокую горку» и перевел самолет в пикирование, а другой «горкой» пошел вверх. В этот момент Грединский переводил самолет из правого виража в левый. Самолет оказался в горизонтальном положении. Почти одновременно оба немца открыли огонь из пушек и пулеметов по Грединскому... Его самолет с левым креном, увеличивая угол пикирования, стал падать к земле. Немцы, проскочив — верхний над Грединским, а атаковавший снизу, со скольжением вправо, — снизились на бреющий и скрылись за аэродромом. Зенитчики, охранявшие наш аэродром, не сделали ни единого выстрела. Никто и сообразить ничего не успел, так ошеломляюще быстро все произошло.
Миша Юнас, не стесняясь слез, оплакивал потерю командира, часто повторял:
— Не прошу себе такого! Зачем согласился не лететь? Я виноват в его гибели!
Выяснилось и другое: Женя Грехов страдал близорукостью. Да и вряд ли мог наблюдать за воздухом после таких фигур и перегрузок.
Часа через два после гибели Грединского прилетел командир дивизии генерал-майор авиации Агальцов. Мы еще никогда не видели его столь возбужденным. Он стоял около КП в окружении командира полка подполковника Шишкина, штурмана Степанова, замполита Полякова, начальника штаба Иванова и что-то выговаривал командиру полка. Выкрикнутую им последнюю фразу услышали мы, стоявшие вдали:
— Вы погубили летчика чкаловского типа! Такого не найти в корпусе, — круто развернувшись, быстро пошел к своему самолету и улетел с нашего аэродрома.
На следующий день полк провожал своего любимца Саню и техника Женю. У могилы, вырытой в школьном саду, не было длинных речей, они были не нужны. Да и говорить никто не мог. Вышел Степан Демьянович и смог произнести лишь:
— Саша, дорогой Саша, прощай! Прощай, Женя!
Полк проводил их в последний путь. Плакал комэск Пошевальников, а с ним и все летчики.
Под троекратный салют гробы опустили в могилу. Долго стояли в глубоком молчании возле свежего холмика земли. Затем стали расходиться. Миша Юнас остался у могилы. Лишь перед ужином удалось его увести.
На многие дни в полку не стало слышно ни шуток, ни песен, ни громких возбужденных разговоров. Только тут все почувствовали, поняли сполна, кого нет с нами, навечно ушел Саша Грединский, лейтенант, штурман второй эскадрильи, красавец, силач, выдумщик, весельчак, в совершенстве владевший техникой пилотирования, до безумства, но расчетливо смелый в бою, любимец полка. Вспоминали, как часто он выручал других.
Родина увековечила память о своем славном сыне. Через двадцать лет после войны вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Александру Ивановичу Грединскому звания Героя Советского Союза, посмертно.
Но война продолжалась, она шла и требовала своего. Эскадрильи полка продолжали громить противника. И теперь каждый летчик, сбрасывая бомбы на железнодорожные станции, громя танковые колонны, живую силу противника, носил в душе затаенную мечту — встретиться с теми «Мессерами» — «охотниками», — номера запомнили, — отомстить за Сашу Грединского и Женю Грехова.
Окрыленные успехом «охотники» продолжали устраивать налеты на наши прифронтовые аэродромы. Сбили еще один «ИЛ» и, наконец, попались сами.
Через несколько дней после того, как сбили Грединского, «охотники» вновь проскочили над нашим аэродромом. Командование сообщило на соседний аэродром. Там зенитчики приготовились к встрече «гостей». И как только пара выскочила на бреющем, открыли сразу огонь из скорострельных двадцатимиллиметровых пушек. Бронебойный снаряд пробил грудь ведущему пары. «Мессер», пропахав более двухсот метров, лежал на земле. На этот раз зенитчики молодцы, сбили стервятника, наделавшего столько бед. По документам и записной книжке летчика установили, что этот обер-лейтенант с немецкой точностью записывал в своей книжке дату и какой самолет сбил. Только советских самолетов было сбито им более пятидесяти, не считая самолетов стран, которых захватила Германия. Последняя запись была сделана 7 июня 1944 года: «Сбил «ИЛ-2». Он был награжден высшей наградой фашистской Германии — железным крестом с дубовыми листьями.
А вскоре точку расчета с оставшимся «охотником» поставил сам комэск, Пошевальников. «Мессеры» атаковали шестерку «ИЛов», возвратившихся с задания. Их было тоже шесть и среди них тот, «охотник», с известным номером. Ведущий Пошевальников построил группу и принял бой, доложив об этом на КП. Оттуда тут же послали на подмогу «ЯКов». Но пока бой разворачивался. Маневрируя, Пошевальников не упускал из поля зрения того самого «охотника», ловил, уходя от атак, в прицел именно его. Немец не опасался, он считал, что тяжелые «ИЛы» у них в западне, носился вокруг.
И комэск поймал его. Всадил в мотор пару реактивных снарядов. «Охотник» окутался дымом и рухнул.
Появились наши «ястребки», и немцы ушли, не нанеся шестерке урона.
Вечером летчики выпили фронтовые сто грамм за победу, за погибших товарищей.
Крылатые степняки
На фронте у меня, по-фронтовому все было, вроде, ладно: по службе продвигался нормально, даже сказал бы, сверхнормально, от звания старшего сержанта уже до капитана дотянул. Все в эскадрильи, в полку, в дивизии меня знают, уважают, даже, как говорят в эскадрильи, любят. Одно иной раз скребет душу, холодит сердце, вызывает обидное недоумение. Подумайте сами: в нашем полку, в его трех-четырех эскадрильях личный состав — просто настоящий интернационал. В нем, в первую очередь, русские, затем — украинцы, белоруссы, татары, грузины, армяне, есть по одному башкирину и какому-то северянину, узбеки и даже чуваш, а казахов нет. В чем дело? Почему?.. Политотдельцы, с которыми говорил на эту тему специально, отмахиваются, ерунда, мол, в нашем полку казахов нет, зато в соседнем полку, в соседней дивизии их полно, зато там белорусов ни одного. Так что ты насчет этого не переживай, война-то всенароднаяа, так что в ней представителям всех народов, — казахам особенно, — место нашлось, свою долю, свою лепту в победу все внесут.
Рассуждения и доводы политотдельцев были убедительные, но меня они не удовлетворяли. Я даже по штабам соседних авиаподразделений прошелся, казахов искал.
А их не было. Может, где-то в технических подразделениях, в аэродромной службе были, но меня интересовали летчики. Их не было. А мне так хотелось повстречать, увидеть характерное широковатое и близкое, с чуть выдающимися скулами, лицо земляка казаха, услышать его плавную, полную ярких образов, сочных пословиц и поговорок, родную казахскую речь. Как было бы славно хотя бы обмолвиться парой слов, перебрать в памяти близких сородичей и обязательно установить хоть какую-нибудь родственную связь. У казахов она обязательно обнаруживается, если не в этом, то в предыдущем, а то и в самых древних казахских родах, из которых они вышли.
Но вокруг меня казахов не было. Специально с целью найти сородичей добрался до штаба корпуса, и узнал: казахи в штатах подразделений имеются, летчики есть, механики, оружейники, но больше — в аэродромных подразделениях.
Я имена, фамилии их переписал, решив найти и поговорить с каждым. Но начались эти самые ожесточенные бои на Корсунь-Шевченковском направлении, и все поиски пришлось отложить.
Однако встреча с казахом — родным моим земляком — состоялась, неожиданно, случайно, при совершенно невероятных обстоятельствах.
В то жаркое лето наш полк базировался где-то под Старым Осколом. Жара стояла невероятная днем и ночью. Спать в душных комнатках школ или в клубах, а то и в землянках, было невозможно, и кое-кто из нас, летчиков, приловчился устраиваться на ночь в копнах сена, свежескошенного кем-то вокруг аэродрома. Мягкое душистое сено принимало нас в свои объятия, мы заворачивались в плащ-палатки либо в простыни, зарывались в копну и спали сном праведников.
В ту ночь я спал в копне один, остальные любители были заняты кто чем. Дело-то молодое. Я, как всегда, расстелил простыню, выкопал в копне нишу, раскинул плащ-палатку улегся, подумал о доме, о плане работы на завтра и... заснул, будто провалился в колодец.
Спал, конечно, не просыпаясь. Поднялся с рассветом, оглянулся и отпрянул. Рядом со мной, на моей плащ-палатке — кругловатое, скуластое, смуглое лицо, лицо казаха.
Не веря себе, я тронул его. Он проснулся, уставился на меня.
— Сен кiмсiн? Ты кто? — спросил я по-казахски. Он удивился еще больше, пробормотал:
— Мен казакпын. Я — казах. Кубаис мен, Алдиярдын баласымын (Кубаис я, Алдияра сын). Озiм — ага лейтенант (Я старший лейтенант). Сен кымсын? (ты кто??
Сказано было по-казахски как должно, чисто, без всяких акцентов. Это был, безусловно, казах. Но откуда он свалился. С неба что-ли? — летный шлем его лежал рядом. Значит летчик! — решаю я.
Дальше разговор шел по-казахски. Прежде всего я, как у нас положено, о здоровье его родственников спросил, откуда он, и кто его отец, из какого он рода. Земляк оказался откуда-то из Гурьева. На фронте оказался точно по схеме Коптева: пригнал из каких-то ремонтных мастерских самолет и вот, задержался, ходит по штабам, командирам, просит оставить... Пока ничего не выходит.
Он вылез из сена, отряхнулся и я ахнул... Это был какой-то великан, ростом под два метра, в плечах косая сажень.
Я сводил его в столовую, познакомил с ребятами. Он рассказал о своей работе, о налетанных часах, а главное, об уже трех встречах с немецкими истребителями.
— В первом случае летел один, на «ИЛе» же. Тоже перегонял. И до фронта было еще сравнительно далеко. «Мессеров» было три, — рассказывал Кубаис. — До этого я их, немцев, вообще не видел. Они зажали меня спереди, сзади и сбоку. Выхода у меня не было. И я рванул на переднего, напрямую, на таран пошел. Жму на гашетки и кнопки — вооружение у меня было. Зубы стиснул. Ну, думаю, смерть.
Но смерти не вышло, то ли фашист, то ли я, кто-то из нас отвернул. Мы разошлись. А тут наши «ястребки» из облаков. Завязался бой. Я не улетел, дрался, одного «Мессера» сбил. В летной книжке записано. С тех пор — «на фронт» и больше никаких. Десять рапортов подал. На губу уже за них отправляли. Я все свое «На фронт!» и только.
И с этим, с Кубаисом, пришлось ходить по начальству. Мы его все-таки оставили. Дали ему самолет, стрелка, и на старт. Самое главное — зачислили в мою, Первую эскадрилью.
Какое-то время он летал в моем звене, правым ведомым, потом ему доверили звено. Летал казах отлично. Припоминаю такой случай. Получили задание прощупать расположенную сразу за линией фронта густую рощу или лесок. Вообще-то мы уже пролетали над ней, прощупали всячески и ничего не обнаружили. Слева от рощи деревушка, в ней тоже ничего подозрительного, ни машин, ни людей, — будто все вымерло. Облетаем рощу еще раз группой, в составе Алдиярова, может быть, Коптева, Роснецова или еще кого-то, точно не помню. Задание-то пустяковое. Летели как обычно, я ведущим, Кубаис правый ведомый и третий слева, чуть отстав. Летим, впиваемся глазами в лес и нигде, ничего. Облетели лесок, его окрестности — пусто. Я уже решил возвращаться, но эскадрилья опять же с полным боекомплектом, с таким грузом не сажают. Нужно что-то придумать.
И вдруг одна из моих машин вырывается из строя, пикирует к земле. Я просто ошалел. Что это значит? Кто посмел? Без команды?! А это он, тот самый — я уже догадался — мой земляк, Кубаис Аддияров. Это был именно он — падает и падает и вдруг что-то там атакует, стреляет, бомбит и выходит из пике.
Я кричу в шлемофон:
— В чем дело? — приближаюсь к нему. Он показывает руками, и я понимаю: на земле танки. Четыре. Нужно бомбить.
Киваю ему и разворачиваю самолет. Летим обратно. И тут я засекаю взглядом среди развороченных взрывами, вырванных с корнем деревьев, танки. Один на боку, другие стоят как надо и еще разворачивают в нашу сторону стволы.
Докладываю на КП.
— Цель — танки — обнаружил. Численность не установлена. Прошу разрешение на штурмовку.
Разрешение получаю и обрушиваю огонь на запрятанные, закопанные в землю, замаскированные фашистские танки.
Мы отбомбились. Сколько танков сожгли, вывели из строя, это потом должны подсчитать в штабе, по фотопленке. Мне было не до этого. Над нами появилась целая армада «Мессеров». Их, видно, успели вызвать с ближнего аэродрома танкисты.
Доложив обстановку на КП, командую построиться в круг — принять бой.
Фашисты были наверху, мы под ними. Быть на верхнем этаже при такой ситуации, куда как выгодней.
КП запрашивает мое решение.
Докладываю:
— «Мессеры» над нами. Иду на снижение. Дальше на бреющем, к аэродрому.
Решение одобрено. КП обещает подмогу — «ястребков».
— Исполняйте!
Два или три истребителя отделились от группы, направились в мою сторону.
Я продолжал лететь своим курсом на своей высоте. Когда ведущий фашист догнал меня, велел стрелку отбиваться. Он пулеметными очередями отогнал истребителя. Но с другой стороны, сбоку, подошел второй. Полоснул самолет по левому крылу пулеметной очередью. Я видел, как летели выдранные пулями куски дюраля.
Стрелок, в свою очередь, полоснул очередью по «Мессеру». Думаю, всадил крепко. Он отстал, отвернул, пошел в сторону. Но тут опять наскочил тот, первый. Он подошел ко мне чуть ли не вплотную, подставляя стрелку бронированную стенку кабины. Фашист выбрал удобное положение и дал очередь по и так ободранной левой плоскости. Теперь от нее летели целые куски. Однако мой стрелок все-таки нащупал фашиста, всадил пулю в щель или между капотом, пробил все-таки бронестекло.
«Мессер» отвалил, но откуда-то снизу или сбоку подлетел еще один, может быть, тот, первый, которого, как мне показалось, сбил Кубаис. Он с ходу дал очередь по фюзеляжу моего «ИЛа» и пролетел. Следом за ним мелькнул Кубаис. Они взвились вверх и закрутились, заметались в боевой схватке.
А у меня явно выходит из строя, видно, крепко побитый пулеметной очередью, мотор. Он еле тянул, захлебывался.
До аэродрома я дотянул, кое-как уложился на посадочную, а вот вылезти из кабины не смог, так замучили эти схватки с «Мессерами». Механик выволок меня, и я плюхнулся под самолет, лежал, привалившись к колесу. Механик сидел рядом. Теперь мы ждали возвращения Кубаиса.
Шли минуты, а его все не было. «Сбил «Мессер», сбил, гад!» — неслось в голове.
Он появился, наконец, до предела измотав нас ожиданием. Тоже, как я, плюхнулся на посадочную. Отвел машину на стоянку и замер в кабине.
Мы подбежали к нему. Машина была вся иссечена пулями, в плоскостях — пробоины от снарядов.
Когда мы его вытащили из кабины, он долго молча осматривался, потом вздохнул, сказал:
— Неужели живой?! — Ощупал себя и сел на землю. Взгляд его упал на меня. Он встрепенулся.
— Талгат, айналайын! Айналайын! Сен калайсын?! — Вдруг протянул огромные свои руки, обнял меня, притиснул к себе, бормоча, — Аи, менiн балам, казактын баласы! — Ой, меным агайы ой, казахтын агаин.
(Талгат, дорогой! Дорогой! Ты как? — Ай, мой мальчик, казахский мальчик! — Ой, мой брат (старший брат), ой, казахский брат)
Отлежавшись, он поднялся на ноги, и я снова увидел, какой он грузный, огромный, и мне не верилось уже, что несколько минут назад он был совершенно обессиленный, беспомощный. Мой спаситель, родной мой казах.
Про его самовольство, нарушение дисциплины полета я уже не вспоминал.
Со вторым оказавшимся в эскадрильи казахом — его звали Ахмет, сверстником, встреча была проще. Он служил — работал стрелком на «ИЛе» же в соседнем полку. По его словам, он был много наслышан про казаха Талгата Бегельдинова, командира эскадрильи, и ему до смерти захотелось встретиться, повидаться со мной.
И он пришел. Этот совсем не был похож на Кубаиса, скорее он походил на меня. Низенького роста, хрупкого телосложения. Но по разговору было ясно, что он не из робкого десятка, довольно боевой. Мы, познакомившись, и говорить с ним стали не о нашей «Елiм -ай» — дорогой родной земле, не про «Кай жерде тудын?» — месте рождения, а про то, сколько у него боевых вылетов, с кем летает, сколько сбил или хотя бы подбил вражеских машин. Он отвечал уверенно, про все наше авиационное — со знанием дела.
Потом мы поговорили и про «Елим-ай». Он оказался родом из Кустаная. Биография: окончил среднюю школу и сразу на фронт, в авиаполк. Там определили в стрелки.
— С тех пор, вот уже второй год, летаю, — заключил он. — Пережил все; и вынужденную, и с парашютом прыгал, но все на нашей территории.
И вдруг он выпалил:
— Талгат-ага, возьми меня к себе в эскадрилью. Хоть с одним казахом буду. У нас со мной обращаются хорошо, все друзья, и русские, и украинцы, и грузины, а вот казаха нет.
Сначала он озадачил меня этой своей просьбой, а потом, подумав, я решил, что, в конечном итоге, оформить желание его не такое уж сложное дело. Обратиться с просьбой к его командиру полка с письмом, изложить все как надо и все.
Мы сделали это с Ахметом тут же. Рапорты, письмо от обоих, от командиров и через неделю он, казах этот, уже был в моей эскадрилье. Сидел у меня за спиной стрелком.
А вскоре я узнал, какой это замечательный стрелок. То есть, скажу прямо, такого у меня еще не было. Во-первых, Ахмет в совершенстве владел оружием — спаренным крупнокалиберным, на турели, пулеметом, бил его очередями в цель, без промаха. Но главное, он каким-то образом досконально изучил все маневры, повороты, подходы и уходы «Мессеров» и «Фоккевульфов». Зная все их повадки, на них и ловил, подсекал их.
В любой воздушной схватке, в самых неудобных для нас обстановках, при отсутствии прикрытия истребителями или при значительном численном превосходстве противника Ахмет окружал наш «ИЛ» такой плотной стеной огня, что сквозь нее не мог пробиться ни один фашист.
А скольких истребителей покалечил, подбил. И сам часто выходил из боя не без урона, с легкими пулевыми, осколочными ранениями, заливал своей кровью дно кабины. Но перевязавшись, забинтовавшись, снова в кабину.
Поражал он меня удивительно правильной, четкой и молниеносной оценкой обстановки в бешеном темпе воздушного боя. И главное — это слаженность в наших общих действиях — летчика и стрелка. Он, целясь в противника, командовал спокойно: «Левая, правая, верх, низ», — и я, понимая его, прижимал ногой левую педаль, правую, уклоняясь от противника или наоборот, устремляясь на него. Ахмет бил, крушил его из пулемета, я помогал из своих пушек. Из боя выходили живыми, сохраняли машину, то есть, побеждали, потому что в воздушном бою побежденных не бывает, есть погибшие и уцелевшие — значит, победители. Ну, еще, редко, подбитые.
Сколько мы так пролетали с моим Ахметом, наверное, около полугода. Беседуя с ним, я подумывал, как бы получше определить его положение в жизни и дальше, после войны. Думал над тем, чтобы пристроить его в какое-нибудь военно-воздушное училище. Он-то в авиацию, в свой «ИЛ» был просто влюблен, только о них и говорил. Мы с ним уже планы строили, чтобы начать действовать в этом направлении, не дожидаясь окончания войны.
Но планам нашим сбыться не пришлось. Видно, не судьба. Ахметом заинтересовался командир эскадрильи Шапов, решивший выдвинуть его флагманским стрелком. Это что-то вроде стрелка-инструктора. Кстати, до этого у нас такого не было, хотя по штату значился, переговорил с командиром полка, тот горячо поддержал идею и все было улажено.
Я не успел опомниться, обдумать все это, а приказ о переходе Ахмета в эскадрилью Шапова, в его же флагманский экипаж в качестве стрелка-флагмана был подписан.
Об удивительных успехах, просто победах воздушного стрелка казаха Ахмета в полку ходили легенды, как они с летчиком, отбивался от двойки, тройки «Мессеров», «Фоккеров», сбивали вражеские самолеты.
Много замечательных по результативности вылетов совершил командир эскадрильи Шапова, вместе со своим стрелком-казахом Ахметом Кожабаевым. Подводя итоги, проводя разбор очередного полета командир полка обязательно останавливался, заострял внимание на действиях передовой эскадрильи Шапова, не забывал упомянуть и грамотные действия стрелка. Признаюсь, боевые успехи паренька просто радовали меня, пробуждали в сердце какую-то особую, наверное, эту самую национальную гордость. По приказу командира полка — это уже после Корсунь-Шевченковской операции — Шапов вылетел ведущим с группой — девяткой «ИЛов», на штурмовку обнаруженной наземной разведкой танковой колонны. Цель Шапов обнаружил сразу и с первого захода стал громить колонны, наносить большой урон. Колонна раздроблена, многие танки с белыми крестами на бортах горят.
— Второй заход, — командует по радио Шапов.
Оставшиеся целыми танки ощетинились орудиями, заговорили сопровождавшие колонну зенитки. В небе густо от разрывов, но Шапов, умело маневрируя, выводит девятку на цель без единой потери и посылает свою машину в пике. За ним — вся группа. Снова на танки летят всесокрушающие эресы, бомбы, снаряды.
Отбомбившись Шапов выводит группу вверх, осматривает поле боя. От колонны не осталось ничего, большинство танков горят, некоторые свалились в кюветы. Однако небольшая группа — четыре-пять танков, видно, еще на ходу. Зажатые на шоссе, они пытаются разойтись, разбежаться. Шапов, зафиксировав взглядом отличную цель, направляется к ней. И в этот момент удар в хвостовую часть. Кто-то из оставшихся целым зенитчиков достал его. Шапова чуть не выбросило из кабины. Но он очнулся, как всегда, первым делом оглянулся за спину — стрелок убит. Осколок снаряда снес ему полголовы. Шапов берет себя в руки, опять выравнивает самолет из падения, но мотор уже не тянул, захлебывался. Самолет падал. Летчики — ведомые устремились за ведущим в надежде, что он выбросится с парашютом, Но Шапов пренебрег этой возможностью, последним шансом на жизнь, не захотел попасть в руки фашистов. Да и ярость боя, злость за убитого стрелка, за самолет, видно, кипели в его груди. Он снова кое-как выправил полет «ИЛа», из последних своих сил и возможностей машины направил «ИЛ» точно на ту самую определенную им цель, на все еще грудившиеся на шоссе немецкие танки. Взрыв поднял к небу тучу пыли, комки земли, куски развороченных танков.
Так, со славою, в бою, погибли они, командир звена Борис Шапов и молодой стрелок, казах Ахмет Кожабаев.
Произошла и еще одна интересная фронтовая встреча с земляком.
Вскоре после Корсунь-Шевченковской операции в наш полк прибыла группа инструкторов и командиров из летных училищ для прохождения практики в боевых условиях. Трое из них были направлены в мою эскадрилью.
День был ненастный, и ни один самолет не поднимался в воздух. Сижу в комнате и слышу, как открылась дверь и кто-то четко доложил адъютанту эскадрильи:
— Прибыл для прохождении практики. Прошу доложить командиру эскадрильи.
Я вышел из комнаты и буквально остолбенел. Передо мной стояли три офицера — три моих учителя из летной школы. Вот так встреча!
Один из офицеров пристально посмотрел на меня и вдруг закричал:
— Товарищи, ведь это же наш Бегельдинов! Талгат! Здравствуй, родной! Ну, рассказывай...
До поздней ночи просидели мы. Теперь роли переменились. Бывшие учителя стали учениками, а я, недавний курсант — учителем.
Потом мы вместе летали на боевые задания, бомбили вражеские позиции. Инструкторы показали себя с самой лучшей стороны и все трое были награждены орденами Красной Звезды.
Настал день, когда практиканты уезжали с фронта в училище. Мы тепло распрощались, пожелали друг другу всяческих успехов.
С одним из бывших инструкторов мы до сих пор поддерживаем самые дружеские отношения.
Невосполнимая утрата
Мы уже находились на территории Польши, когда произошло событие, о котором я до сих пор не могу вспоминать без душевной боли. Как это ни печально, но связано оно с вручением мне ордена Ленина и Золотой Звезды.
Буквально с первых дней пребывания в действующей армии я крепко сдружился с летчиком Степаном Демьяновичем Пошевальниковым. Он был командиром эскадрильи, затем я принял звено. Со временем меня назначили заместителем Пошевальникова. А вскоре Степан Демьянович рекомендовал меня командованию на должность командира эскадрильи. Именно Степану Демьяновичу я обязан всеми своими успехами в ведении штурмового боя, в умении маневрировать под зенитным огнем. Он был моим терпеливым и настойчивым учителем, близким другом.
Вообще-то он, командир, был другом всем своим экипажам, всем летчикам, механикам, мотористам, оружейникам. Но ко мне относился как-то особенно тепло. Иной раз, чувствуя, ощущая его заботу обо мне, я видел в нем вроде как родного отца. Перед каждым полетом он обязательно уединялся или шел со мной до самолета, давал наставления как лучше выполнить задание. Может быть именно эти наставления в какой-то мере хранили меня, позволяли вести счет боевым вылетам уже не на десятки, а на сотни.
А учиться у него было чему. Летчик-штурмовик он был божьей милостью. Именно по его рекомендации меня назначили вначале его заместителем, а за тем командование доверило эскадрилью.
Особенно он проявлял себя в последних боях, уже на польской земле, точнее в небе над нею.
Дня через три после прилета на новый аэродром, было получено задание: уничтожить группу танков противника, прорвавшуюся в наши тылы. Немедленно. А на дворе вечер и солнце уже заходит. Значит возвращаться, искать аэродром в темноте. А опыта ночных полетов у штурмовиков никакого. Да и ни к чему он для штурмовой авиации, действующей в непосредственной близости от фронта.
Ведущим — Пошевальников. И это было вполне обоснованно. В полку, корпусе, было известно, что он самый искусный мастер вождения самолета в любых условиях: летал на задания в непролазный туман, дождь, снег. Он поднимал самолеты в самый дикий, ураганный буран, летал, возвращался и благополучно сажал самолет. Именно за это, будучи всего лишь капитаном он, единственный во всем корпусе, был награжден полководческими орденами Суворова III степени и Александра Невского.
Получив задание. Пошевальников поколдовал над картой, поговорил с выделенными в группу летчиками. Отобрал лучших, на которых можно было положиться — всего пять. Из моей эскадрильи Дмитрия Кузнецова и еще кого-то. Мой самолет стоял на ремонте.
Группа вылетела, а командиры, летчики остались на аэродроме ждать их возвращения. Время шло, а их все не было. Командиров то и дело вызывают к телефону из штабов дивизии, корпуса, спрашивают о результатах полета, возвратилась ли группа? Там тоже волнуются.
И вдруг звонок из штаба пехотной дивизии, по просьбе которой был сделан вылет: «Командование дивизии горячо благодарит командование полка и летчиков за успешную работу. Все восемь прорвавшихся через фронт танков противника уничтожены. Прорыв ликвидирован. Спасибо всем!»
Послышался шум моторов. Запылали костры, обозначавшие посадочную полосу. Пошевальников делает круг над аэродромом и идет на посадку.
Сделать это нелегко. Костры кострами, а в темноте попробуй рассчитать эти самые подлетные, предпосадочные метры, соразмерь скорость. И ведь все непривычно, можно сказать, впервые. Но он рассчитывает, садится точно у первого костра. За ним также успешно, подведя самолеты, садится ведомый.
После этого случая с легкой руки Пошевальникова, штурмовики выполняли сумеречные полеты не раз. Конечно по крайней нужде.
Это был один из предпоследних полетов всеобщего любимца эскадрильи и полка Степана Демьяновича Пошевальникова.
Трагическому этому событию предшествовало немало радостных, знаменательных событий. Степану Демьяновичу, а через какое-то время и мне, были присвоены звания Героев Советского Союза. Радости, просто ликованию всего нашего полка не было конца. Первому Золотую Звезду вручили Степану Демьяновичу.
Эскадрилья находилась в первой готовности, когда на аэродром прибыл генерал для вручения правительственных наград. Весь состав полка выстроился прямо на поле. Генерал зачитал Указ Президиума Верховного Совета и приколол к груди Степана Демьяновича орден Ленина и Золотую Звезду.
«Какая досада, — подумал я. — У человека праздник, а он в «первой готовности» и не может отлучиться от командного пункта». Подошел к другу.
— Давай, я за тебя полечу, а ты иди и подготовь все к вечеру. Ведь после полетов, хочешь, не хочешь, банкет будет.
— Надо бы, конечно, — сказал Степан Демьянович, — да только есть два маленьких «но».
— Какие еще могут быть «но»?
— Прежде всего, нужно разрешение командира полка. Во-вторых, что на это твои ребята скажут?
— Мои? «Ура!» скажут мои ребята. С ними уже все обговорено. Айда к Шишкину!
— Нет, придется отставить твое предложение.
Я не сдался и один отправился на КП. Рассказал командиру полка.
— Что же, добро, — говорит Шишкин. — Не возражаю.
Часа через два моя группа поднялась в воздух. Провели разведку, «поласкали» отступающую танковую колонну и вернулись домой.
Вечером в столовой был банкет. Пришли в гости истребители. Мы от души поздравляли виновника торжества. Кажется, от рукопожатий у него заболела рука, а от дружеских похлопываний ныло плечо. Очень не хотелось расходиться, но ничего не попишешь — война.
А приблизительно через месяц тот же самый генерал вновь прибыл в полк. Теперь виновником торжества предстояло быть мне, тоже по поводу присвоения звания Героя. И надо же, случилось, что именно в этот день и час я, как Пошевальников, был в «первой готовности».
Командир полка подошел к самолету, окинул меня критическим оком, помотал головой и предложил немедленно отправиться сменить гимнастерку, а заодно не забыть надеть все правительственные награды. Я было заартачился, но Шишкин сдвинул брови и не то в шутку, не то всерьез прикрикнул:
— Разговорчики! Бегом марш!
Пришлось надевать новую гимнастерку, привинчивать к ней ордена Отечественной войны первой и второй степени, Александра Невского, два Красного Знамени, Славы, медали и гвардейский значок.
В таком виде я и предстал перед строем полка. Генерал зачитал Указ, в котором говорилось, что за героический подвиг, проявленный при выполнении боевого задания командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, Президиум Верховного Совета СССР своим Указом от 26 октября 1944 года присвоил мне звание Героя Советского Союза. И прикрепил к гимнастерке орден Ленина и Золотую Звезду.
— Служу Советскому Союзу! — произнес я дрожащим от волнения голосом.
Когда строй разошелся, генерал обратился ко мне:
— Скажите, Бегельдинов, сколько Вам лет?
— Двадцать два.
— Совсем мальчик, — задумчиво произнес генерал. — У меня сын был старше. Погиб на Днепре.
И генерал, как-то ссутулившись, в сопровождении офицеров штаба пошел к машине.
Тут-то и подошел Пошевальников.
— Ну, друже, теперь моя очередь тебя выручать, — улыбнулся он.
— Не нужно. Может быть, и вылета не будет, а в случае чего сам слетаю. Настроение такое, что хочется в воздух подняться.
— Понимаю, брат, все понимаю. Думаешь, у меня тогда другое настроение было?
Не знаю почему, но мне очень не хотелось уступать дежурство. Степан Демьянович приказал, добился своего. Пришлось сдаться.
Аэродром опустел. Мне следовало заняться подготовкой к вечеру, но какое-то тревожное чувство мешало уйти с поля. Я сел на траву и решил ждать возвращения самолетов, недоумевая, зачем отдал свое дежурство?
Прошло полчаса. Чувство тревоги, ожидания беды все усиливалось. Еще полчаса. Я уже не находил себе места. Минуты казались часами. Наконец, вдали показались самолеты. Я облегченно вздохнул. Идут на посадку. Один, второй, третий... Одиннадцать. Где же двенадцатый? Где Пошевальников? Бегу к самолету, который отруливает к месту стоянки, стараясь перекричать шум мотора, буквально ору летчику, показывая пальцами: где, мол, ваш ведущий? Где двенадцатый? И вдруг вижу, что пилот, сидя в кабине, плачет.
Будто неведомая сила ударила меня сзади под колени. Я упал на траву и зарыдал. Я не скрывал своих слез. Погиб друг и учитель! Погиб Степан Демьянович, который ушел в полет, подменив меня! Может быть принял на себя мою! мою смерть!
К самолетам сбежался весь состав полка. Плотным кольцом окружили летчиков, только что вернувшихся с задания. Я оставался лежать в стороне. Дикие мысли лезли в голову. Смогу ли я сам себе простить то, что произошло? Кто-то опустился на землю рядом со мной. На плечо легла дружеская рука.
— Талгат, не нужно. Талгат, пойми...
В этот день я дал себе клятву жестоко отомстить за Степана Демьяновича. Бить, бить, бить! Я не мог тогда слушать рассказ о том, как погиб командир эскадрильи. Лишь через несколько дней мой стрелок рассказал об этом.
Едва было получено разрешение командира полка на замену меня Пошевальниковым, как раздался звонок, и через несколько минут группа Пошевальникова ушла на запад.
Самолеты группы разметали колонну бронетранспортеров и уже возвращались на аэродром, как вдруг на машине ведущего мотор вспыхнул, и она, скользя на крыло, врезалась в землю. Видно, пилот был убит, ибо даже с горящим мотором такой мастер, как Степан Демьянович, сумел бы выровнять машину и посадить ее.
Всем полком мы провожали жену Пошевальникова — Машу — в тыл, домой. Тяжело было расставаться с ней, ведь Маша больше года делила с нами все трудности и радости, была отличной оружейницей.
... А жизнь полка шла своим чередом. С ревом поднимались в воздух штурмовики. Один за другим меняли мы аэродромы, продвигаясь на запад. Огонь «ИЛов» нес смерть врагу уже на его земле.
Наступление продолжалось
На подступах к южному Бугу наши отбили немецкий аэродром. На него и перебазировались эскадрильи второго корпуса. Аэродром тесноватый, но с него очень хорошо поддерживать действия наступающих войск, при форсировании реки.
Погода по-прежнему отвратительная. Летчики продолжали вырывать самолеты из раскисшей взлетной. Но все-таки летали, били, крушили не только живую силу и технику противника, но и добивали фашистскую авиацию.
Сокрушительный удар по аэродрому вблизи Первомайска нанесла группа лейтенанта Столярова. Было уничтожено на земле более десятка самолетов.
В ходе наступления наших войск на Львовском направлении перед авиацией была поставлена задача — удерживать по-прежнему превосходство в воздухе, содействовать наземным войска в прорывах вражеской обороны, прикрывать действия ударных группировок, не допускать подходов вражеских резервов.
Газета воздушной армии призывала:
«Воздушный воин! Ты помнишь Курскую Дугу. Пылающий Белгород, дымное небо над Прохоровкой. Теперь под твоим самолетом старинный Львов, Станислав, Рогатин. Теперь ты гораздо сильней, чем год назад, перед тобой враг, не раз уже отступавший под силой твоих ударов. С ужасом ждущий грядущего возмездия за совершенные им преступления. Пусть же не знает враг пощады, он пришел, чтобы грабить твою страну. Пусть же найдет здесь свою смерть!»
Гитлеровцы предпринимали все меры, чтобы сорвать наступление наших войск на Львовском и Раворусском направлениях. Противник подтягивал резервы. Крупные танковые соединения, в сопровождении пехоты, контратаковали в районах Золочева-Плугово наши наступавшие части. И опять на помощь пехоте пришла авиация. В воздух подняли все эскадрильи Второго гвардейского корпуса. «ИЛы» штурмовали танки, пехоту противника. Непрерывные атаки с воздуха продолжались полных два часа. Один полк штурмовиков сменял другой. Клубился огненный вал. Горели окружающие лесные постройки, танки, машины, казалось, что горела сама вставшая дыбом земля.
В огненный этот ад свою долю противотанковых бомб, снарядов, эресов вносила и наша эскадрилья. Атакуя, я ликовал, я всей душой чувствуя превосходство над врагом и бил, бил его.
Впоследствии, уже в мирное время, я прочитал в чьих-то мемуарах печальные воспоминания немецкого генерала Мелентина. «В тот день наша 8-я танковая дивизия, двигавшаяся колоннами, была атакована русскими штурмовиками и понесла огромные потери. Все надежды на контратаку рухнули».
Однако в целом обстановка на фронтах, особенно на Львовском направлении, сложилась нелегкая. Атаки наших наземных войск не приносили успеха. И все-таки пехота рвалась вперед, будто мощным тараном долбили вражескую оборону. И она пробила брешь. Пока небольшую, на протяжении всего шести километров. Командующий Третьей Гвардейской танковой армией генерал Рыбалко решил бросить в прорыв всю танковую армаду.
Танки шли в прорыв, неся значительные потери от сжимавшей горловину прорыва с обеих сторон немецкой артиллерии.
Генерал обратился за помощью к комкору Рязанову.
Штурмовики откликнулись. Комкор тут же поднял в воздух эскадрильи 144 гвардейского. Первым вылетело звено лейтенанта Столярова. Горловина под ними, на земле. Там жаркое сражение. Наши танки ведут артиллерийскую дуэль с пушками врага. Но те хорошо закопаны, обложены мешками с землей. А наши танки на виду, как на полигоне. В стороне уже горят одна, вторая «тридцать четверки».
— Я Грач! Столяров, слышишь меня? Слева от головного танка, в кустах три батареи. Уничтожить их. Атакуй, соколы! — командует с занятого им на высотке КП генерал Рязанов.
Столяров атакует. Одна батарея уничтожена. Второй заход, бомбы разнесли еще три орудия.
Заходы следуют непрерывно. Орудия противника умолкают одно за другим. Кругом разрывы зениток. Осколки хлещут по бронещиткам, по фюзеляжу, плоскостям.
Наблюдающий за действием звена генерал ждет каждую секунду, что вот-вот, какой-то из штурмовиков задымит, сорвется вниз или не выйдет из пике, подбитый снарядом. Но они пикируют раз за разом.
И так до подхода пришедшего на смену звена, которое в свою очередь сменила наша эскадрилья в полном составе.
Так, непрерывно атакуя артиллерию, закопанные в землю танки противника, штурмовики очистили фланги прорыва, танкисты расширили его и рванулись мощным потоком.
Разгоралась борьба за Сандомирский плацдарм. Верховное главнокомандование ставило задачу выйти к Висле, форсировать ее.
Противник всеми силами старался ликвидировать плацдарм. В районах Сандомир, Ранжува разгорелись напряженные бои на земле и в воздухе.
От зари до темна штурмовики гвардейского корпуса генерала Рязанова вели разведывательную работу, штурмовали немецкие части и соединения.
Больше всего в этих условиях доставалось нашей эскадрилье. Она летала, при необходимости, и в глубокий тыл противника. Бывало, что сама же и реализовывала доставленные сведения. Так произошло и в тот день, когда я барражировал в районе населенного пункта Опатуво, шел ведущим. Вечерело. Лучи заходившего солнца холодили застывшие в уже темноватом небе розовевшие облака. Мне было даже как-то жалко врываться самолетом в их золотисто-легкую нежность. Барражируя над селом, окружавшими его перелесками, я старался обходить их то правым, то левым пеленгами. Группа повторяла маневры.
Вглядываясь в перелесок, я заметил укрывавшиеся в нем танки. Накренил самолет в вираже, пролетел над леском. На дороге целая колонна танков, за ней автомашины, набитые поблескивавшими касками, солдатами. Еще облет — и я подсчитал: танков не менее сотни и до двух полков пехоты. Такого скопления в одном месте техники и живой силы противника обнаруживать еще не приходилось.
«Донесение комэска принял, как всегда оказавшийся на наблюдательном пункте генерал Рязанов, — вспоминает в своих мемуарах, его заместитель генерал Донченко.
— Бегельдинов, я тебя понял. Осмотрись еще раз. Работай спокойно, — приказал Рязанов, — видно, тоже удивленный переданными данными. — Сто танков, два полка пехоты. Это же цель!»
Но было не до спокойствия, заговорили сопровождавшие колонны зенитки. От взрывов зенитных снарядов в воздухе стало густо. Маневрируя, я то и дело менял скорость, поднимая самолет вверх, бросал вниз, при этом продолжая доносить на КП результаты наблюдений.
— Приготовьте группу, приготовьте!
К возвращению группа штурмовиков была скомплектована. Летчики и стрелки в кабинах, в первой готовности.
Самолет заправили, и я снова повел штурмовиков.
...Колонны, не меняя курса, двигались, окутанные густой пылью.
Пикирование, сброс бомб, огонь из пушек и пулеметов... Танки замедлили ход, остановились, вздыбили стволы пушек, пехота залегла по обочинам.
Не обращая внимания на огонь танков, группа сделала еще несколько заходов — пыль перемешалась с дымом. Тусклые языки пламени поползли по броне нескольких «Тигров».
Боеприпасы уже на исходе, но тут подошла новая эскадрилья.
Посадив машину Бегельдинов торопил механиков, оружейников, чтобы те, не мешкая, снаряжали новую группу. Авиаспециалистам помогали летчики и воздушные стрелки.
И снова взлет. Из «ИЛов» выжимали все, на что они способны. Быстрее к цели.
Тогда, перебравшись вместе с Рязановым на наблюдательный пункт продвинувшегося вперед нашего танкового корпуса, — продолжает Донченко, — я увидел потрясающую картину истребления фашистских танков. Вокруг на поле — еще пылали, догорая «Тигры», штурмовые орудия, чернели обгоревшие остовы подбитых машин.
Уже после войны, на одной из традиционных встреч ветеранов корпуса, Талгат Якубекович Бегельдинов показал аэрофотосъемки того самого места. По ним даже несведущий человек мог определить, что к чему. Сколько тогда набили этого бронированного зверя.
В тот день штурмовики крушили не только танки и пехоту на дорогах, на подходах к линии фронта. Звено Коптева штурмовало прифронтовую станцию. Был уничтожен на ходу эшелон с боеприпасами и техникой.
Об операциях штурмового корпуса того боевого дня с ужасом вспоминает пленный немецкий офицер: «Я находился в составе танковой дивизии, которая была укомплектована полностью новой техникой и получила отборное пополнение. На второй день нашего пребывания на фронте начался кошмар, который невозможно описать. Все танки и штабы в лесу и весь лес превратился в пожарище, все рвалось и горело. От адского грохота и огня мы начали сходить с ума. Выскочить из этого леса было невозможно — вся площадь леса была усыпана бомбами».
Наши наземные войска, с активной поддержкой авиации, освободили город Львов, рывком прорвались к Висле в районе города Сандомир. С ходу форсировали реку и захватили плацдарм на противоположном берегу. Перед авиацией поставлена задача — прикрыть переправу через Вислу и войска, захватившие плацдарм. Вместе с остальными эскадрильями полка выполняла задачу и эскадрилья Бегельдинова».
Разгромив противника в районе Львова и освободив город Перемышль, советские войска стремительно продвигались на запад, освобождали от фашистских захватчиков польские города. 27 июля Ставка Верховного Главнокомандования приказала войскам Левого крыла Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов продолжать преследование отходящего, по-нашему, по-солдатски — в панике бегущего противника, форсировать Вислу и захватить плацдарм на ее левом берегу.
Войска приступили к выполнению приказа. Завязались упорные жестокие бои за Сандомирский плацдарм.
Перед Второй воздушной армией была поставлена задача: надежно прикрывать боевые действия наземных войск, особенно крохотные участки на правобережье Вислы, захваченные несколькими подразделениями, форсировавшими реку, преследуя отступавшего противника, буквально на его плечах.
«На отражение яростных контратак фашистов поднимались в воздух мастера штурмовых ударов летчики В. Андрианов, Т. Бегельдинов, Г. Чернецов, И. Михайличенко, М. Одинцов», — пишут в своем вышедшем в г. Воронеже сборнике «От Воронежа до Берлина» ветераны Второй воздушной армии.
Чтобы остановить стремительное продвижение советских войск, немецкое командование перебросило на Сандомирское направление не менее пяти дивизий, сняв их с соседних участков, восемь дивизий прибыли из Германии, из оккупированных ею стран. Противник укрепил свой фронт шестью бригадами штурмовых орудий и отдельными батальонами тяжелых танков. Все это предназначалось для создания мощной долговременной линии обороны на реке Висле.
Так планировали фашистские стратеги. Но, как говорится, -расписали на бумаге, да забыли про овраги.... Наступление наших было столь мощным и стремительным, а многодневное бегство противника — таким паническим, что, с ходу перемахнув Вислу, они драпанули без остановки почти на сотню километров в глубь своего тыла. Воспользовавшись этим, советские подразделения безо всякой подготовки на подручных средствах форсировали реку.
Когда немцы опомнились, пришли в себя, было уже поздно. Наши захватили на правобережье Вислы три плацдарма, три небольшие, в общем-то, совсем маленькие, клочка берега: один в непосредственной близости от Сандомира, протяженностью вдоль реки в один и две десятых километра, вглубь километра два, второй, также чуть больше — километра на два с половиной — три и третий, ниже по течению, этот полтора на три километра. Первый плацдарм удерживал батальон, второй — чуть больше батальона, третий — тоже батальон. В общем, оборона еще та, жиденькая, никак не надежная. А подкрепить ее неоткуда и некем: основные советские части на подходе, но еще далеко.
В штабах наших сухопутных войск: армейском, дивизионных, успевших подтянуться к Висле, царило напряжение, тревога. У всех одно на уме: «Если немцы успеют до подхода советских частей возвратиться, прорваться к реке хотя бы полком, двумя да еще с техникой, они же одним ударом, с ходу, опрокинут наших закрепившихся на берегу ребят, сбросят их в реку, ликвидируют эти самые, чудом доставшиеся нам плацдармы.
Командование предпринимало все меры для усиления гарнизонов плацдармов, переправляло через реку всех, кто был под рукой: писарей, разных техников, но то были капли в море. Однако пока, до подхода частей, матчасти, больше послать было некого и нечего. Да и на чем переправлять, если бы что-то обнаружилось? Где-то раздобытых лодок-плоскодонок едва хватало для доставки десантникам продуктов питания, боеприпасов и всего остального.
Тревожно было в штабах и нашей Второй воздушной армии. Все ждали приближения яростных схваток с противником: никто не мог и в мыслях допустить, поверить в то, что фашисты так легко, без единого выстрела, могли оставить, подарить нам такой выгодный для них, в отступлении, водный рубеж. Это было их ошибкой. Теперь они должны сделать все возможное для ее исправления. Именно этого ждали и потому опасались наши штабы, принимали все контрмеры.
Пятнадцатого числа сухопутная разведка донесла: противник концентрирует силы для контрудара — создает мощный механизированный кулак. Согласно показаниям двух пленных офицеров, ставится задача: возвратиться к Висле. Для этого нанести внезапный массированный удар танковой группой, опрокинуть захваченные противником участки правобережья, создать здесь, на пути советских войск, мощную линию обороны, сорвать и тем самым остановить наступление.
Наше командование старалось подготовиться и к такому варианту.
Ночью меня разбудили.
— Талгат! Талгат! На КП, к командующему армии!
Я как всегда, как и все на фронте, вскочил, вытянулся. Передо мной стоял командир нашего полка.
— Быстро собирайся, дорогой, к командарму тебя требуют. Командующего пехотной армией, которой был придан наш штурмовой корпус, генерала армии Жадова мы хорошо знали, и в его штабе приходилось бывать, но чтобы вот так, лично — этого не было.
Штаб армии был от нас недалеко. Доехали за минуты. В просторном, с прихожей, блиндаже сидели сам командующий армии, командир нашего авиакорпуса генерал Рязанов и еще кто-то.
Я вытянулся в струнку по стойке смирно, доложился.
Жадов глянул на меня и в его глазах мелькнуло удивление. Я уже к этому привык. Действительно, какой я... Рост — метр шестьдесят четыре, да и в ширину — оса перепоясанная. У него в армии все в сажень, а тут...
Он повернулся к Рязанову, спросил недоверчиво:
— Летает?
— Не только летает, товарищ командующий, но и бьет немцев, крушит на земле и в воздухе. Герой Советского Союза. Эскадрилью особую, разведочную, доверил — комэск теперь.
Жадов пожал плечами.
— Ну, ну, это хорошо, это здорово! Ты что, капитан, татарин? — спросил он.
— Никак нет, товарищ командующий, казах я.
— Казах? Знаю. У меня в армии есть казахи. Хорошо воюют. А тебе, Бегельдинов, задание. Ответственное задание!
Он приказал садиться за стол перед разложенной картой. На ней — Висла и три четко обозначенные участки, те самые наши плацдармы. Здесь на большой карте, рядом с широкой рекой, они выглядят ничтожно маленькими, узенькими и беззащитными.
Генерал спросил, какими силами располагает моя разведэскадрилья. Я доложил:
— В строю двенадцать штурмовиков. К выполнению боевого задания готовы!
Он вновь глянул на меня.
— Задание, капитан, будет сложное, очень сложное, но выполнимое. Потому что невыполнимые задания на фронте не даются... А тут, у тебя за спиной, — страна, Родина. — Он сделал паузу.
Я удивился: «Чего это он пропаганду-то? Обычно сколько я его слышал, он не тянул, четко отдавал приказ и все».
А генерал молчал. Что-то обдумывал. Наконец оторвался от карты, повернулся ко мне.
— Разобрался в обстановке?
— Так точно, товарищ генерал!
— Знаю, Сказали — летал над плацдармами нашими, зубами в берег вцепившимися.
Он начертил на карте прямоугольник.
— Участок твоего наблюдения. Должен знать — фашисты возвращаются к Висле. Они будут рваться сюда, промах свой, ошибку исправлять. Понял? Будут рваться к реке всеми силами, — воскликнул он. — Потому что не могут, не имеют право так просто, без боя оставить нам этот рубеж, им этого их командование не простит, в предательстве обвинит. А если мы их сюда, — ткнул он карандашом в карту, — допустим, значит совершим предательство мы. Потому что выбивать их отсюда, форсировать реку будет ой как трудно, с огромными потерями людским, да и во времени. Задержимся у Вислы, будем здесь топтаться, значит, нарушим стратегические планы Верховного, сорвем наступление по всем фронтам. Ты понял, капитан?.. Поэтому я тебе и про страну, про Родину!
— Мне все понятно, товарищ генерал! Готов к выполнению любого задания! — вскочил я, щелкнул каблуками.
— Задание будет. Ты должен взять под пристальное, жесткое наблюдение этот участок. Мой приказ — сделать так, чтобы над ним непрестанно, днем и ночью кто-то летал. Ты понял, днем и ночью висел твой самолет, круглые сутки, и вел наблюдение за дорогами, малейшими проездами, за тропками даже, ловить каждое передвижение людей, техники, малейшее!!! — поднял он палец. — И о каждом доносить, о групповом, о технике — мне лично, в течение всех суток, всех двадцати четырех часов. Мне лично! — подчеркнул он. — Об ответственности не говорю. Сам знаешь. Пропустишь что-нибудь, проворонишь — трибунал, голова с плеч! Понял?! Теперь выполняй!..
Такой вот у нас состоялся разговор.
Теперь нужно было думать. На дежурство — барражирование над определенным генералом участком — в течение дня машин и летчиков в эскадрильи достаточно. А ночью?! Техникой ночного полета летчики эскадрильи не владеют — не обучены. В любое время суток летаю только я — прошел специальную подготовку. А противник из предосторожности и для усиления эффекта внезапности, бросок сделает конечно же ночью, рванется на наши плацдармы под покровом темноты. Значит, вся ответственность за уже намеченную операцию на мою голову, как сказал генерал, — на мне и только на мне. Из этого я и исходил, составляя график полетов.
Первое звено — четыре машины с ведущим лейтенантом Коптевым, поставил на вылет с утра. Время дежурства — один час сорок минут, предел запаса горючего. Второе звено — моего заместителя, старшего лейтенанта Роснецова.
Вызываю на КП весь летный состав эскадрильи, объясняю задачу точно так, как объяснил ее генерал, чтобы прониклись ответственностью. Объявляю график полетов, даю наставления, время вылета и. на старт. Наблюдаю вылет — Коптева и ухожу на КП, принимаю его первые доклады.
На участке наблюдения все тихо, никакого движения.
Так проходит час, полтора. Коптева сменяет второе звено Роснецова. Слушаю его доклад. Обстановка не меняется.
И тут на КП появляется генерал Рязанов. При виде меня лицо его исказилось гневом.
— В чем дело, Бегельдинов?! Ты что здесь командуешь?! Забыл, что тебе ночью в темноте?! Всю ночь?! Ты что, задание сорвать?! Сейчас же марш спать! Марш! Марш!
Разбудили меня в точно назначенное время по моему приказу. И я над участком, определенным генералом. Летаю до пустых баков, заправляюсь и снова до рассвета.
Работа началась. Наблюдение вели посменно. Ребята, разведчики опытные, дело знают. Но я все-таки не оставляю их без контроля, нет-нет да и вылетаю с каким-нибудь звеном, кружу над участком, проверяю все названные объекты. Движения никакого, и я улетаю. Зато с наступлением темноты весь участок наблюдения — за мной.
Ночные полеты, несмотря на всю их сложность, я очень любил. Описывать их трудно, но я все же попробую. Во-первых, эта самая темнота. Недаром ночные называют слепыми полетами, по приборам. А я летал свободно и с охотой. Приборами, вроде и не пользовался. Не знаю, может быть, природа наделила меня каким-то шестым, кошачьим, чувством. Я свободно ориентировался в темноте, уверенно летал по любому маршруту.
Проблему ночного полета решал просто. Прежде всего, использовал все видимые в темноте объекты. Их обычно достаточно. Это и мерцающие огоньки уже знакомых по дневным полетам населенных пунктов, речки, озерки и все остальные водные поверхности и обязательно проблескивающие сквозь темноту белесыми полосами дороги. И ко всему этому следует сказать, что совершенно темной, черной ночи не бывает. Так или иначе темноту рассеивает обязательно присутствующие на горизонте светлые полосы утренней или вечерней зари, в небе мерцают звезды. Так что света вполне достаточно, чтобы соориентироваться. Важно быть наблюдательным, уметь суммировать в полете все эти ориентиры на земле и в небе, объединять их и делать вывод... К сожалению, умением этим овладеть, наверно, трудно, потому мастера ночного (слепого) полета среди штурмовиков встречаются довольно редко...
Представив в уме, на память участок, его окружность, определял на нем свое местоположение и приступал к барражированию, и в эту, вторую ночь дежурства. Тридцать-сорок километров на десять-пятнадцать, для самолета, летящего со скоростью до трехсот пятидесяти километров в час, на высоте до двух тысяч метров, — дело нетрудное. Регулируй подачу газа, жми налево ручку управления — в начале летел левым виражем. Так и летал: крен, поворот, прямая. Виражирую, внимательно осматриваясь во все, что подо мной. Изучаю расположение, контуры захваченных нашими войсками плацдармов. Да какое там плацдармы, пятачки. Отсюда, с высоты, продолговатые участочки эти, среди зелени проглядывают чуть заметными черточками, плотно притиснутыми к берегу реки, к самой воде, поблескивающей в полутьме. В центре укрепления реденькое движение светловатых силуэтов людей, чуть просвечивают топки кухонь. Значит, наши как никак застолбили эти клочки берега земли нашей, на берегу Вислы. И мы ее не отдадим. Нет, не отдадим! — соображаю я и кладу самолет в очередной крутой вираж. И снова крен, поворот, прямая, крен, вираж.
Время идет, тянется. На участке ничего не происходит. Захватившие клочки поросшей кустарником правобережной земли ребята и ночью продолжали укреплять позиции. Внизу подо мной мелькают огоньки, сквозь мерный гул мотора прорываются звуки, голоса. Я летал и докладывал прежде всего, конечно, на КП командарму и тут же в штаб нашего корпуса. Ни на земле, ни в воздухе противник не появлялся, ничем не напоминал о себе.
Без происшествий, прошел второй день. Поспал урывками. За день пришлось вылетать по вызову командиров, дежуривших в небе звеньев. В кустарниках обнаруживалось движение. Оказалось, овцы. Сказывалось напряжение, от переутомления клонило ко сну.
Эта ночь выдалась безлунная, но небо чистое. Самолет будто в мутной воде. Так казалось сначала. Потом глаза адаптировались к ночи. Всматриваюсь в темноту и начинаю различать все светящееся на земле.
Проходит час, идет второй. Горючее на исходе. И тут взгляд цепляется, определяю: по земле движется светящееся, как бы фосфорицирующее облако. Всматриваюсь... Да это же пыль, обыкновенные клубы пыли на дороге. Давлю машину к земле и различаю теперь уже совершенно отчетливо — танки!
Снижаюсь еще, пролетаю над пыльными клубами, определяю точно: по двум дорогам движутся на большой скорости танковые колонны. Двигаются с потушенными фарами, но выдают их узенькие и вместе с тем яркие полоски — огоньки из выхлопных труб, яркие снопы искр, вырывающиеся из-под траков. Прикидываю — получается, танков не менее семи-восьми десятков. В колонне могут быть бронетранспортеры и самоходки, но об этом потом.
Торопливо вызываю КП, Жадова. Он у аппарата. Докладываю. Он спрашивает на каком расстоянии танки от Вислы. Прикидываю...
— Расстояние до ближнего плацдарма — сорок-пятьдесят километров, идут со скоростью сорок пять километров в час.
Генерал помолчал, видно, обдумывал обстановку. Что-то кому-то приказал. И мне:
— Слушай, Бегельдинов. Время кончилось. Нету у нас ни минуты. Нам их сдержать нечем. Налетят и с ходу сомнут. Сотрут все наши плацдармики. Нам их сдержать нечем и некем. Через час, полтора понтонеры обещают завершить наводку моста. Через час-полтора. Тогда мы отобьемся. А сейчас, дорогой мой, сынок, все на тебе. Срочно от моего имени вызывай своих штурмовиков и бей фашистов, бей всем, что у вас есть, громи танки, делай все, чтобы задержать их. Сделай все, сынок! Старайся! Успеха тебе! Я тебя не забуду!
Это был уже не приказ, генерал просил, просто просил.
Я тут же связался с комкором Рязановым. Он уже знал обо все. Командарм успел с ним поговорить.
На аэродроме подготовились. На старте — девятнадцать машин, моторы работают. Я пересаживаюсь в другой, уже полностью заправленный самолет, связываюсь по рации с командирами звеньев, докладываю о готовности на КП. Получаю подтверждение задания: «Атаковать танки и уничтожить всех до одного!»
Взлетаю и веду эскадрилью. Уже светает и вражеская танковая колонна хорошо просматривается.
Делаем первый заход, наносим удар по колонне из пушек, посылаем эресы. Они летят, четко обозначивая свой дымный след и рвутся, пробивая броню машин. Некоторые танки взрываются, горят.
Колонна рассыпается по полю, танкисты задирают стволы пушек, вокруг эскадрильи в полутьме вспыхивают розоватые разрывы снарядов. Но это уже как мертвому припарки. Атаки «ИЛов» точнее, эффективнее. Они засыпают машины бомбами, крушат пулеметными очередями.
Танки мечутся из стороны в сторону, разбегаются по кустам, «ИЛы» настигают их, бьют, крушат, уничтожают.
Израсходовав боеприпасы, эскадрилья улетает. На смену ей поднимается в воздух другая, и опять со мной — ведущим, над танками. И так до конца, пока на поле, в кустарниках не осталось ни одного целого танка, они горели, рвались с грохотом, подбитые нами. Между ними метались очумевшие от страха фашисты, падая, срезанные пулеметными очередями штурмовиков, истребители противника так и не появились.
Танковая атака сорвана. Понтонеры навели мосты-переправы. Советские войска, форсировав Вислу, продолжали стремительное наступление, рвались вперед, на запад, к Германии, к логову фашистского зверя — Берлину.
За эту операцию летчики моей эскадрильи были награждены орденами и медалями, я был удостоен ордена...
В августе Львовско-Сандомирская операция завершилась. Советские войска нацелились на Берлинское стратегическое направление. На фронте наступило затишье, относительное. Штурмовики действовали, они отдыха не знали. Готовились к операциям в Восточных Карпатах.
Гвардейский корпус штурмовиков Рязанова за образцовое выполнение заданий командования во Львовско-Сандомирской операции был награжден орденом Красного Знамени, его командиру -Василию Георгиевичу вручен орден Богдана Хмельницкого 1-й степени. Три гвардейских авиаполка, в том числе 144-й, удостоены почетного звания «Львовский». Почти весь летный состав и многие техники были отмечены правительственными наградами.
Мы защищали Родину
Просмотрев главы повести, я понял, что пишу, рассказываю, в принципе, об отдельных боевых эпизодах. Иначе и не могло быть, потому что, в конечном итоге, вся моя фронтовая биография и состоит из этих самых боевых... Именно боевые эпизоды, цепь из них, пронизывает все мои дни, месяцы, годы прошедшей войны. Получаю задание вылететь туда-то, в составе с кем-то, нанести такой-то силы удар по таким-то наземным целям, мосту, станции или танкам, артбатареям, скоплению живой силы. А в докладах по возвращении, после исполнения задания обязательное: уничтожено столько-то танков, вагонов, паровозов и, почти обязательно — живой силы противника. В этом была моя — летчика-штурмовика, задача, этому я обучался, этому был предназначен доверенный мне замечательный самолет штурмовик «ИЛ-2». Вместе с ним мы представляли мощную, грозную машину человек-самолет, спаянные одним целеустремлением, самим предопределением в единый, цельный агрегат, предназначенный нести противнику — врагу разрушение и смерть. И чем продуктивнее, результативнее были каждый наш с машиной боевой вылет, тем выше был мой, с самолетом, как теперь говорят, имидж — авторитет среди соратников в эскадрилье, полку, корпусе. После каждого удачного — это определяли на КП, через него оповещался весь аэродром — боевого нас — самолет и меня — встречали как героев, с ликованием, с объятьями, поздравлениями. Нас ожидали благодарность командования, а то и боевые награды. Иногда, в радостном запале, после очередной победы над врагом, при посадке чудилось, что нам с машиной одобрительно кивают головами-моторами выстроенные, как на параде, на стоянках самолеты, еле заметно покачивают подкрылками.
Да, так мне казалось, воспринималось. И это вполне естественно. За дни, месяцы, годы войны мы, летчики, так сживались, сращивались с машиной, что уже не отделяли от нее самого себя, воспринимали самолет и себя каким-то одухотворенным единым живым, в общем, единомыслящим, экипажем — агрегатом. И я уже не мог сказать, кто из нас кем управляет. Все эти наши — летчиковские понятия: «взял ручку на себя», «от себя», «влево», «вправо», «нажал кнопку», — все это формальные, я бы сказал, банальные объяснения. В действительности все не так. Нет. В ярости боя летчик сам по своей воле ничего не нажимает, не поворачивает, не стреляет не сбрасывает бомбы. Все делает агрегат — человек-машина. Он выполняет поставленную задачу. Кто из них: машина, человек, что делает в атаке, в бою, кто кем управляет разобрать трудно, и неважно, это уже детали. Да пожалуй, что и невозможно во всем этом разобраться. В таком плане мне все это представляется.
Знаю, рассудительные летчики скажут: загибает мужик. Как это — кто кем управляет? Ясно — человек машиной. С виду, внешне все оно вроде так и есть. Но если вдуматься, невольно задаешься вопросом, какое логическое объяснение можно дать всему, что происходит в этой самой штурмовой атаке, с круга, с пикирования... Конечно, вопрос можно отнести только к тем, кто пережил все это, кто бросался со своей машиной в грохочущий хаос атаки, в пекло.
В самом деле: весь процесс нанесения штурмового удара по цели, скажем, у «ИЛа», занимает секунды и за этот микроскопически минимальный отрезок времени агрегат — летчик-самолет на скорости, близкой к скорости звука (теперь он у самолетов-штурмовиков опережает звук в два-три раза), успевает навести себя на цель, выпустить эресы, очереди снарядов и пуль из пушек и пулеметов, а то и сбросить бомбы. На высоте, бывает и до десятка метров, чуть не касаясь земли, выйти, вырваться из почти железной хватки многотонного притяжения земли, помноженного на бешеную инерцию, заданную набранной машиной скорости. Нет, один человек сам по себе, не может проделать все это, его мозг не в состоянии за одно мгновение — а это, фактически, именно так -отдать столько команд одновременно рукам, пальцам — каждому особо — ногам, глазам, всем частям тела. В штурмовой атаке занят весь организм человека, точно как и у машины — каждая его клеточка, чтобы все они: руки, ноги, глаза... — четко — не дай бог перепутать, сбиться, — передали их команды либо машине-самолету в целом, либо его отдельным узлам.
Так я представляю себе все это, выходя из горячки боя, на пути к аэродрому, еще полный яростной стремительности штурмовки. Значит, я не фантазирую, считая, что мозг дает самолету-машине общую программу, и она ее выполняет. Я лично лишь помогаю прикосновениями к ее ручкам и кнопкам, но она не нуждается и в этом. Она во мне, я в ней, мы с ней единый живой агрегат и делаем общее дело.
Тогда возникает вопрос — где же это и когда я потерял человеческое лицо и стал сам полумашиной для разрушения и смерти? Может быть, для этого были особые предпосылки? Заглядываю в свое детство... Там было все нормально. Сколько себя помню, агрессивным не был, драк не затевал. Дрался только в случае крайней необходимости и только в порядке самозащиты, отстаивая свою честь, свое право, свою собственность, какой бы она ни была. И самое важное, я никогда, как помню, не ощущал в мальчишеских кулачных стычках никакой особой яростной злобы, отбивался, как бы отражая нападения, удары. Хотя был щуплым, физически не сильным, но в трусах никогда не числился.
Откуда же эта ярость, притуплявшая естественные чувства самосохранения — то, что принято называть страхом, чувства жалости, сострадания к метавшемуся, барахтающемуся подо мною врагу. Откуда она, неукротимая ярость штурмовых атак, а затем радостные рапорты на КП.
— Задание выполнено. Атаковал скопление танков и живой силы противника... — То есть, уничтожил может десятки или сотни живых людей?!
Я анализирую себя, свои переживания и прихожу к выводам. Эти самые убийственные бойцовские, как мы говорим, зверские качества, в принципе, заложенные природой в каждом человеке, даже почти в каждом живом существе, разбудила война во мне, в моих фронтовых друзьях, во всех наших солдатах. Она, война. И не сама по себе, война есть война, тоже своего рода работа, обыденная, хотя и трудная, и опасная. И никаких в ней особых страстей, ненавистей к противнику быть не может. Ну скажите, за что, почему я, человек из далеких степей Казахстана, должен был ненавидеть немцев? Я немцев знал, их в моей Акмоле немало, мы дружили. А здесь — ненависть и ярость. Почему? Да потому, что разожгли ее во мне, в нас, сами немцы. Их так воспитывали, растили в ненависти, презрении к нам, вообще ко всем людям, к человечеству. И они ненавидели, презирали людей. Не все, особенно гвардия Гитлера — эсэсовцы.
Я — летел-шел — дорогами войны и черпал ярость, копил ее в своей груди для смертельных боев, штурмовок.
Война внесла свои коррективы в мое, наше сознание. Она вычеркнула из нашего понятия слово «человек» в отношение немецко-фашистского захватчика. Да, просто вычеркнула, и все. Теперь для меня эти понятия — «фашист» и «человек», никак не совмещались, не совпадали. Теперь «фашист» в моем сознании очень плотно ассоциировался, совмещался с совершенно четким, конкретным понятием — зверь, хищник, злобный хищный зверь, уничтожать которого — долг и обязанность каждого человека. Истреблять, как у нас в степи истребляют вдруг размножившихся и уничтожающих все живое волков.
Пришел я к этому не сразу, лишь продвигаясь по сожженным, разрушенным фашистами городам и селам, с повешенными на площадях людьми, убитыми, расплющенными, раздавленными фашистскими танками стариками, женщинами и детьми.
Я видел их, шел по этим следам и закипал злобой, яростью, той самой, которую выплескивал на голову фашистов вместе со снарядами, пулеметными очередями, грохочущими взрывами бомб, которые сыпались щедро, тоже, как мне казалось, от всей души.
Гитлеровцы-эсэсовцы буквально наслаждались самим процессом уничтожения человеческих жизней, целых сел, городов, подчас при совершенно очевидной ненужности этих актов для самой войны, в целях достижения каких-то стратегических, либо тактических целей. Просто так, попутно зашли в село, поселок, город, пожгли, порушили строения, клубы, больницы, церкви, убили — расстреляли, повесили, сожгли ни в чем не повинных мирных людей.
Я своими глазами видел плоды этой дикой страсти или ненависти фашистов к нам. За что?! Почему?! Они и сами, впоследствии плененные, не могли ответить на этот вопрос. Пожимали плечами. И односложно мямлили: «Война». Либо молчали, не находя объяснения, ответа.
А у нас ответ был, ответ, объяснявший все наши действия: мы защищали Родину!
По-звериному злобствовали части эсэсовцев, при тотальном отступлении обращенные нашими войсками в бегство. Они превратились буквально, в диких, да еще и бешеных зверей. Отступая, бесновались, жгли, уничтожали на своем пути все, ликвидировали заключенных людей в своих тюрьмах и концлагерях. Летчики видели страшные следы их зверств. Во всем этом проявлялась ярость хищника, из зубов которого вырывают ухваченную добычу. Свидетелем такой слепой ярости случайно оказался я. Я ехал на машине в штаб пехотной дивизии. В лесу выстрелы. На дорогу выскочили наши автоматчики, остановили машину.
— Дальше нельзя, в лесу немцы, — объяснил подошедший лейтенант.
— Какие немцы? — удивился я. — В нашем тылу?
— Черт их знает, откуда взялись. Думаю, около роты. Несколько офицеров-эсэсовцев. Подводы и еще, вроде наши русские люди, под конвоем. У нас чуть больше взвода. Мы предложили немцам сдаться, а они ни в какую. Оборону в лесу заняли, отстреливаются.
— Вы-то здесь чего? Откуда вы? Чьи?
— Да из... дивизии, — назвал он номер. — Деревню от застрявших в ней то ли власовцев, то ли еще каких бандитов, очищали. Очистили... Шли к своим, и вдруг напоролись. Немцы завидели нас и, видно, напугавшись, первыми огонь открыли. Мы и залегли. Я нарочных в полк послал. Там меры принимают. Пару танков обещают выслать. Теперь ждем.
— Мы бы их тут же раздолбали, — сказал подошедший старшина. — У нас минометы, пулеметы. — Так наших побить можно. А там, у них, вроде русские, женщины кричат нам: «Спасите милые, дорогие, спасите!» Аж за душу хватает.
Делать нечего, лейтенант докладывал мне, капитану. Я должен, обязан был дать ему распоряжения, приказ об его дальнейших, в этих обстоятельствах, действиях.
— Ждите танкистов, — приказал я. — Из леска, укрывающего их, фашисты не выйдут. На открытом месте вы их поодиночке перестреляете. Они соображают. Значит, будут сидеть, может быть, ночи ждать. Только с такой толпой, с пленными, им и ночью не уйти. Так что, окружили и сидите. Танкисты подойдут, они вас отпустят... И весь вопрос разом решат.
Лейтенант объяснил, как объехать лесок. Я благополучно прибыл в штаб.
Возвращался вечером. У леска встретился с тем же лейтенантом. Он с автоматчиками сбивал на дороге в колонну пленных немцев. Их было немного, десятка три, некоторые раненые. Офицера ни одного.
Лейтенант, выравнивая колонну, зло матерясь, толкал, пинал немцев.
— Расстрелять бы их, гадов всех, тут на месте, всех, каждого, мать их!.. — тискал он кулаки. — Чего сделали, гады! Пленных военных и гражданских — всех, до одного, пристрелили. Женщин трех, тоже. Зачем? Зачем?! — выкрикнул он, ухватив за шиворот стоявшего в колонне немца. — У-у-у, гад, Расстрелять! Так не могу же ведь, — повернулся он ко мне. — Не имею права. Расстреляю, меня же и в трибунал. А ты посмотри, капитан, посмотри!
Ухватив за рукав меня, он повел в лес. Прошли шагов сто. На полянке, между кустов, убитые русские пленные, больше офицеры, в остатках измочаленной формы, гражданские, по виду городские, три женщины. Всех убитых не менее двадцати. И все с немецкой педантичностью уложены — перед расстрелом строили, по пятку — в аккуратные рядки.
— Вот они что, вот как, сами в плен, а пленных под пули. Ну не было им плена, — выдохнул лейтенант. — Вон они, все офицеры и солдаты эсэсовцы, — ткнул он в сторону убитых фашистов. — Мы с танкистами оборону их враз раздолбали. Ну, а как этих, расстрелянных увидели, и с ними, зверями, посчитались. Конечно, «в бою, при жестоком сопротивлении», — зло усмехнулся он.
Весь путь до аэродрома перед моими глазами неотступно стояли эти аккуратные ряды расстрелянных. И я никак не мог понять, осмыслить логику действий отступавших немцев. Зачем, почему они, сами обреченные, в двух шагах от плена, убивали пленных, гражданских женщин? Логики нормальной, человеческой тут не было.
В памяти еще и еще такие же случаи совершенно бессмысленного, не оправданного даже самыми жестокими законами войны, ее необходимостями человеконенавистничества. Чем, как можно было объяснить такой эпизод истребления?
Наш полк размещался неподалеку от Львова. Мне с адъютантом эскадрильи выделили на постой аккуратненький домик на отшибе.
Хозяева, одинокие старики, относились к нам со всем присущим украинцам радушием, делились последним. Летчики старались их не обижать, за каждым завтраком, ужином — столовой пока не было — щедро выкладывали на стол свои припасы.
Так и жили душа в душу. При переезде прощались как с родными. Старики обнимали, благословляли, желали успеха.
Через несколько дней мне пришлось прилететь на аэродром, за оставленным тут, с механиками, неисправным самолетом.
Осмотрев самолет, велел привезенному летчику готовиться к отлету, сам решил забежать к старикам. Но их уже не было. Не было и дома. Он был сожжен. Старики зверски задушены.
Как я узнал, сразу после нашего отъезда, в ту же ночь в домик ворвались немцы и учинили расправу. Над кем? Над двумя стариками! И опять, зачем? Почему?
Ответ на этот недоуменный вопрос в какой-то мере, получили в другом эпизоде, участником которого оказался я.
Это случилось уже после Сандомирской операции. Я получил задание обследовать оставленный немцами аэродром в польском городе, только что освобожденном от немцев. Аэродром уже действовал, а с жильем для личного состава не утрясли. Аэродромная служба запаздывала. Занятый очисткой его от разбитых самолетов и другого оставленного немцами хлама, начальник интендантской службы посоветовал летчикам прошвырнуться по прилегавшему к аэродрому поселку.
— Немцы жили там и вы устроитесь. Для охраны можете взять автоматчиков.
Прихватив кого-то из летчиков, в сопровождении двух автоматчиков, я пошел по домам. Погода стояла отличная. Яркое утреннее солнце золотило своими лучами густые, в пестром цвету, окружавшие домики сады. Подселять людей можно было в каждом. Но домики были маловаты, в каждый можно было поселить только по одному-два человека. А нужно было, чтобы летный состав селился кучно, в нескольких соседствующих домах.
На одной из улиц стоял большой, просторный четырехэтажный дом. Как раз то, что требовалось. Зашли в подъезд. Обследовали первый этаж. Квартиры просторные — одна, вторая, все хорошо обставлены, с ваннами. Видно, жильцы были не из бедных. И все квартиры пустые. В общем, то, что надо.
Поднялись на второй этаж. И вдруг, пистолетный выстрел. Определили квартиру, где стреляли. Дверь закрыта, прислушались — звон стекла. Летчики определили — звякает горлышко бутылки о стакан. Дверь тонкая и звук совершенно четкий.
Постучали. Никакого отклика. В комнате кто-то есть, слышно громкое сопение. И опять выстрел.
— Ломайте! — приказал я.
Автоматчики даванули на дверь плечами. Вышибли.
Ворвались в квартиру и замерли.
За столом, заставленным бутылками, сидел пожилой офицер-эсэсовец. Перед ним, на столе, еще дымившийся после выстрела пистолет.
Я схватил его. Оглядел комнату, ища в кого или во что стрелял эсэсовец. И нашел. У стены, на вешалке, шапка советского солдата со звездочкой. Она была вся изрешечена пулями. Вот на что он, опора фюрера, изливал свою бессильную злобу, на шапку советского солдата, владелец которой, может быть, и гнал его от Волги до Вислы.
— Встать! — холодно приказал я.
Эсэсовец глянул на меня полными яростной ненависти пьяными глазами, скривился, будто хватил уксуса, поднял стакан, сглотнул содержимое.
— Встать! Сволочь, грязный иблис! — выкрикнул я. Приказал автоматчикам:
— Взять его!
Автоматчик рванул эсэсовца за грудь, приставил к горлу штык. И тут случилось такое, что я никогда, ни до, ни после не видел, не то что на войне, своими глазами, но даже в кино.
Эсэсовец ухватил штык и в бешеной ярости стал грызть его зубами. Да, да он грыз самым настоящим образом, как грызет бешеная собака палку, при этом вставные, тоже стальные, его зубы скрипели, скрежетали о сталь.
Автоматчики уволокли его. Летчики заняли пустовавшие квартиры. Я долго думал после этого случая о природе этого уже явно психически ненормального поведения фашиста, не всех, но многих. Тех самых, приказавших расстрелять пленных, убивших наших стариков-хозяев, убитого фашистами советского солдата, на залитой кровью спине которого хорошо просматривалась мастерски, именно мастерски, вырезанная звезда. Совершалось это варварское художество не спеша, со вкусом, опять же с немецкой педантичностью, каждый штрих рисунка — именно рисунка, видно, по линейке. Эта старательная, холодная педантичность и пугала.
Кто же они? Почему такие? Люди же?! — задавал я себе вопросы. Обдумывал и начинал понимать. Те, рядовые, сдающиеся сейчас нашим войскам ротами, полками, армиями им и большинству офицеров, с окончанием войны, в результате поражения, терять нечего. В основном они шли на нее подневольно, их гнали в ее пекло. Положив ей конец, сохранив жизнь, они ничего не теряли. Как едва ли чего приобрели бы и выиграв войну. Сливки победы сняли бы главари фашизма и их прислужники, элита фашизма — эсэсовцы, вроде этого, стрелявшего по солдатской шапке. Им было обещано все: необъятные плодородные земли, рудники, фабрики, заводы, целые округа, области. И при этом — миллионы рабов.
Им было что терять, поэтому они и бесились, исходили яростью в тупом бессилии, грызли зубами неприступную сталь советского штыка.
Счет расплаты
Вырвав свободный час, летчики занимались запущенными личными делами. Приводили в порядок парадную и повседневную форму, подшивали, латали регланы, брюки. Некоторые шли в каптерку, насчет смены изорванных, прожженных, пробитых комбинезонов. И все по вечерам писали письма, кто жене, матери, родным, а кто — таких большинство — просто знакомым или уже любимым девушкам.
Писал я, вначале, как делал всегда, отцу, матери, сестрам. Им скорописью: «Мои дорогие, я жив, здоров. Мы летаем, бьем немцев. Скоро дойдем до Берлина...» и дальше в этом роде. Закончив и заклеив это письмо, склонялся над вырванными из тетрадки листиками, писал, изливал душу своей дорогой, любимой Айнагуль. И ей тоже как родителям, несколько слов о полетах, об успехах, полученных наградах. О Золотой Звездочке она уже знала, поздравляла, писала, что гордится. Все остальное — о своей к ней любви, о близком победном завершении войны, нашей радостной встрече. Я писал и представлял ее — эту встречу так явственно, живо, даже ощущал прикосновение, тепло ее нежных тоненьких рук, вкус ее поцелуев. Писал и верил, что мечта сбудется, встреча состоится, что она уже совсем близка. Нам же осталось совсем немного, перелететь — наземным войскам перебраться — через Карпаты и мы в Чехословакии, а там и Германия, логово фашистского зверя — Берлин. И тогда конец войне, начало счастливой мирной жизни.
Писал обычно долго. Отрывался от листков, закрывал глаза, мечтая. Мог бы писать — говорить с ней целый день, бесконечно, потому что бесконечной была моя любовь. Но вызывали на КП и приходилось прерываться.
В тот вечер я побежал на КП сам. Привезли почту. Летчики расхватывали солдатские треугольники, конверты, как всегда разбегались, чтобы прочитать в уединении.
Схватил свой и я. Подмигнул почтарю, побежал в землянку, залез на нары. Трясущимися от радости руками развернул треугольник, глянул на письмо и сердце сжалось. Письмо-то фронтовое, но не от Айнагуль. Почерк был не ее, совсем не тот, как у школьницы, округлый, со старательно выписанными буковками. И первые слова:
«Дорогой Талгат Якубекович!
Я перевернул листок, убедился, — адрес написан тоже не ее рукой, не Айнагуль.
Меня обдало ледяным холодом. Здесь, на фронте, я успел узнать, что это такое, получить фронтовое письмо не от друга-фронтовика, не от брата, отца, сестры, любимой, — а от их друзей, товарищей. Знал и не мог прочитать. Письмо вдруг стало тяжелым, будто свинцовым, жгло руки.
Стараясь прогнать страшное предчувствие, мотнул головой, стиснул зубы и стал читать:
«Нам больно, страшно больно сообщать о случившемся. О том, что нашей и Вашей любимой Айнагулечки, нашего цветочка, не стало. — Страшные слова били по голове, острыми иглами впивались в сердце. — Проклятые фашисты убили ее. Убили подло, напав на санитарную автомашину, в которой она сопровождала эвакуировавшихся раненых. Немецкий летчик расстрелял машину из пушки, а по разбегавшимся, расползавшимся раненым и сестрам стрелял из пулемета. В нее попало три пули. Она умерла сразу, без мучений.
Примите наше сердечное соболезнование. Мы, ее подруги, знаем, кем были для нее Вы, и кем для Вас она.
В ее вещах нашли недописанное (ее срочно вызвали и послали сопровождать эвакуируемых раненых) Вам письмо. Посылаем его.
Родителям Айнагуль извещение послано».
Известие потрясло. Я не мог поверить в такое, никак не мог. Каждый день, с утра до вечера, летал я над и под смертью, верной гибелью. За это время по мне, в упор, нередко с расстояния в три десятка метров, было выпущено наверное уже не десятки, не сотни, тысячи снарядов, пуль. Ведь меня в каждом боевом буквально расстреливали с земли и с воздуха. Уж кто-кто, а я-то все это время ходил по краю пропасти и вся моя жизнь — на тонкой паутинке, так что и погибнуть, умереть, по всей логике, должен был я. Извещение о моей гибели в адрес любимой, адрес которой я, предусмотрительно, раздал друзьям, — должна была получить она, вот что меня страшило, вот о чем я иногда думал и пугался не за себя, за нее. Но, чтобы она, работая в госпитале, погибла где-то на дороге, за много километров от фронта, такое как-то даже не приходило в голову. Иногда, видя разгромленные немцами наши тылы, в том числе и санбаты, я пугался за нее. Но ведь это отдельный редкий случай. А тут, такое! И именно ее. Нет, я не мог в это поверить, не мог осознать.
Наконец решился, прочитал ее недописанное.
«Мой дорогой, — писала она, — прочитала твое письмо о том, что тебя опять наградили. Герой ты мой дорогой. Я, конечно, горжусь, рассказываю о тебе, о твоих наградах, не только подругам, всему нашему персоналу, но и раненым. Не могу удержаться, хвастаюсь тобой. Вот он какой, мой любимый. Но в душе страх. Талгатик, милый, я же знаю, все эти награды не даются просто так. Они же за твою жизнь! Нет, милый, не за твою, за нашу! Потому, что твоя жизнь, она и моя, потому, что без тебя я не смогу... Поэтому прошу, береги себя. Наград у тебя много и самые высокие, ты уже Герой и ладно, и хватит. Ты свое сделал, дай проявить себя другим. Я хочу, чтобы ты был живой. Слышишь! Мне не ордена, мне нужен ты. Ты! Я тебя, очень, очень люблю и...»
На этом, на слове «люблю», письмо прерывалось, его оборвала смерть. Злая насмешка над жалким убеждением каких-то там поэтов в том, что любовь побеждает смерть. Нет, смерть, да еще здесь, на войне, она превыше всего, она и только она тут правит бал.
Прочитав письмо, я, наконец, понял, до меня дошло, что Айнагуль, любимой, не стало. Вскочил, заметался по землянке. Рухнул на нары, зарыдал. Бился головой.
Весь день комэск Бегельдинов не занимался ничем, сидел в самом дальнем углу один, опустив голову на ладони. У меня большое горе, наверное неизбывное, вообще-то первое в моей пока еще совсем не длинной жизненной биографии. Я утратил, потерял самого, как мне кажется, самого родного, близкого, а главное, никем не заменимого человека — любимую девушку.
Боль в сердце, которую причинило сообщение о гибели Айнагуль, это страшное сообщение не выходит из головы. Друзья летчики пытаются успокоить меня, отвлечь, но у них ничего не получается. Слишком глубока рана в сердце молодого летчика. Ему же всего двадцать два и это его первая любовь.
Боль и обида от понесенной утраты может найти выход только в полетах, в схватках с врагом, в штурмовках.
Теперь у меня главная цель, она в самом сердце, в голове, во всем существе: рассчитаться, хоть как, хоть чем-то притупить мучительную, терзающую душу боль потери, горячей, пламенной и, как мне кажется, я в этом даже уверен — единственной, неповторимой и на всю жизнь любви. Все так, как и должно быть в двадцать два.
Я уже в сотый раз перечитываю трагическое письмо-сообщение, подперев голову руками. В голове одно — «скорей бы, скорей в бой, в самый страшный, чтобы громить, крушить фашистов, пускай и они бьют, стреляют по мне, крушат мою машину, пускай смерть, гибель, только через множество гибелей врага... Но погода...
Вошедшие летчики, узнав печальную весть, успокаивают меня, как могут. Раздобыли водки, заставили выпить.
Я забылся, уснул.
Утром встал спокойный, холодный, будто совсем не живой. Знал, что буду делать — мстить, крушить, уничтожать фашистов на земле и в воздухе.
Сидел на КП молча, ждал задания.
Командиры, узнав о постигшем горе, предложили освободить от полетов. Я не хотел и слушать.
— Мне нужно лететь! Нужно, и прошу не освобождать.
Командир полка пожал плечами, разрешил лететь на разведку боем, по запросу пехоты, шестеркой с прикрытием.
Оседлавший Карпаты противник не бездействовал, готовился к отражению ударов, концентрировал силы для контратак, готовил всевозможные оборонительные сооружения. Все эти замаскированные набитые солдатами траншеи, доты и дзоты, завалы должен обнаружить, зафиксировать на фотопленку летчик, чтобы затем, при подготовке к броску, атаке, наша артиллерия могла разметать их, расчистить дорогу пехоте, чтобы и сами наступающие части шли не вслепую, а знали где, что и как следует обойти, откуда ждать контрударов. И я лечу с группой самолетов. Летал, высматривал, фотографировал.
Немецкие зенитчики обстреливали штурмовиков, прикрывая огнем наиболее важные узлы сопротивления. Приходилось лавировать среди разрывов, но делать свое дело.
Иногда из-за гор вырывались «Мессеры». Они вились вокруг штурмовиков. «ИЛы» и сопровождавшая их четверка «ЯКов» отстреливались, иногда сами принимая бой, нападали. Но чаще, огрызнувшись огнем своего оружия, уходили от преследователей, на бреющем, по ущельям. Их здесь было много.
Я летал над окопами, блиндажами противника, а душу сжигало непреодолимое желание ринуться вниз, обрушить всю мощь оружия штурмовика на них, на фашистов, отнявших у меня любовь, причинивших такое горе. До сих пор, идя по дорогам войны, я видел его, это горе, несчастье кругом. Оно было велико, я чувствовал его, переживал вместе со всем своим народом. Но то горе было общим. Теперь оно рвануло за сердце меня самого. Страшное горе и за него, невосполнимую свою потерю я должен был отомстить. «Должен отомстить!» — кричало, вопило все мое существо. Но было еще одно — приказ, боевое задание и воинская дисциплина. А она требовала делать не то, что хотелось. И я скрипел зубами, продолжая работу, четко передавал сообщения на КП.
— Коршун, Коршун, вас слышим. Задание выполнено. Возвращайся, — приказал командир полка.
Сведения были ценные, и командование не могло рисковать ими. Фотопленка должна быть доставлена.
Возвращалась группа по глубокому, многокилометровому ущелью. С КП дали задание: «просветить» и его. Нет ли там немцев.
Но в нагромождении голых скал никого не было. Об этом тоже доложил. Последовал приказ: самому продолжать полет домой. До аэродрома рукой подать, — ведомым, с прикрытием — ведущий Роснецов — свернуть в соседнее ущелье, посмотреть, что там.
Команда правильная, ребята могут там и штурмануть чего, не возвращаться же с полным боевым.
Я командую. Штурмовики круто взмывают вверх, уходят в сторону. С полминуты лечу один и вдруг впереди, в ущелье же, появляются четыре точки. Они растут, приобретают контуры. Это — «Фоккевульфы». Машины послабее «Мессершмиттов-109», но ведь четыре против одного! В такой ситуации самое правильное свернуть с их пути и удрать. Я с разведданными должен так поступить.
Но у меня еще один долг. Я должен рассчитаться с фашистами за Айнагуль. Кстати и необходимость для атаки на лицо: свернуть уже некуда, ущелье — узкий коридор, стены отвесные. Поднять машину так круто — сложно, да и время упущено. Подставлю бок, немцы расстреляют, как на полигоне. Остается одно, идти вперед, если не будет другого, тогда на таран, продать жизнь как можно дороже.
Приказываю стрелку:
— Абдул, атакую фрицев. Приготовься! — Даю газ и выжимаю гашетки, кнопку. Самолет трясет, из-под крыльев вырываются светящиеся красные шары, — это эресы. За ними снаряды и светящиеся же пулеметные трассы.
Один фашист ныряет вниз. «Может быть подбитый», — мелькает мысль. Но следить за ним некогда. До «Фоккеров» считанные метры. Штурмовик нацелен точно на ведущего, но еще есть секунды, еще можно отвернуть. Только не мелькает такой и мысли, не на то я настроен. В груди клокочет ярость. Нет, сейчас не уклонился бы, не отвернул, даже, встретив целый полк немецких истребителей. В голове одно: «Может именно эти «Фоккеры» и бомбили ту самую «санитарку» с крестом, в которой ехала Айнагуль. Может быть именно они ее убийцы!»
Скорость самолета предельная. Теперь уж это никакой не самолет, это летящий в цель крылатый снаряд, а сам я — его составная часть. Даже не часть, а именно снаряд, начиненный, кроме всего еще и грозной силой боевой ярости.
«Фоккеры» приближаются, вырастают до невероятных размеров, закрывая собой все небо. Я лечу по прямой, посылая снаряды и эресы в вырвавшегося вперед ведущего. Еще миг, он всею мощью своей машины врежется в меня. Будет грохот, пламя и все, и гибель. Айнагуль отмщена. Про себя, про свою гибель я уже не думаю.
...Мгновенье промелькнуло. Столкновения не произошло. «Фоккер» не выдержал. В самый последний миг рванулся вверх, подставив брюхо снарядам штурмовика.
Я оглядываюсь, шарю глазами по ущелью. Фашистов нет. Они уже скрылись за поворотом ущелья. Ушли, не приняли боя одного штурмовика! Это знаменательно, это уже новое в войне. Я понимаю — на истребителях были новички, салаги. Тех, первых асов, еще бомбивших Францию и другие оккупированные немцами страны, уже не осталось. Они нашли смерть в нашем небе, их кости гниют в земле, в болотах России, Белоруссии, Украины.
Однако нерастраченные злость, обида, не проходят, скрипя зубами, ищу цель, на которой можно было бы хоть как-то отыграться. Накренив самолет, сворачиваю в соседнее ущелье. Но и здесь пусто. Немцев-фашистов, моих врагов нет. Лечу с нерастраченной злостью, с той же горючей жаждой мести.
Что же, я еще живой, у меня впереди еще дни, недели, может быть целые месяцы, и война не кончилась, мы еще встретимся в бою, в смертельной схватке. Да, да, именно в смертельной, потому что я вам не медсестра с ранеными, на дороге, беззащитная. Я несу вам смерть! Гибель!!!
Аэродром нашего 144-го полка расположен в нефтяном районе, между городов Местечек, Дупль, Пельзва, Ясло. Там и тут торчат нефтяные вышки, качалки. Погода нестерпимая — то дождь, то какая-то снежная крупа. Аэродром закрыт наглухо и надолго, как заявляют в аэродромной службе. Прогноз ничего хорошего не обещает.
В обычные летные дни летчики, до предела измотанные, выжатые бесконечными вылетами — в день до пяти и даже до шести — штурмовками, воздушными схватками, атаками, валятся с ног. Их, как правило, уже вытаскивают из кабин — не могут вылезти самостоятельно, так устают. Отсидятся, отлежатся какие-то минуты и — снова в кабину, опять доклад на КП, и «Прошу взлет». Так весь день, смертельно адской работы, и ни слова возмущения, ни жалобы. А тут их уже одолевает злость и уже гремит не одно непечатное проклятие этой самой нудной, мокрой погоде.
Некоторые отводят душу в картах. Тут можно поругаться, душу отвести можно, кто-то углубляется в книжку, нетерпеливые ходят, мечутся по блиндажу, не находя места.
Именно так веду себя и я, комэск Бегельдинов. На погоду теперь уже на всю природу, зол вдвойне, втройне. Потому что только она, она одна, эта осклизлая, туманная мокреть, сорвала, вопреки синоптике, проведенный вчера вылет с заданием разведать обстановку в ближайших тылах противника. Разведку боем! Тут можно развернуться, наделать шороху. Нанести удар, тот самый, о котором мечтаю с момента получения письма о гибели Айнагуль.
Сегодня с утра вроде развиднелось, даже небо стало проглядывать сквозь нагромождение клубящихся до черноты серых туч. Получил задание лететь в какой-то, уж не помню, район, осмотреть окрестности деревни, там возможны скопления танков.
Неладно все пошло с первого момента, со старта. Получив добро на взлет, вырвал машину из грязи, проскочил через лужу и ... левое колесо завязло, застряло, будто его тисками прихватило. Самолет было крутнулся, к счастью, не упал, замер в грязи...
Подбежавшие механики, аэродромные ребята, вытянули машину, помогли вернуться на старт. Яму, захватившую колесо, засыпали, подровняли всю взлетную. В общем, я все-таки взлетел.
На высоте почти три тысячи долетел над облаками до указанного пункта и, выбрав место, где слой облаков потоньше, пробил его, опустился до ста — полсотни метров. Подо мной — широкая деревенская улица, с аккуратными дворами-прямоугольниками. И... я откинулся на сиденье, пораженный увиденным. Вдоль улицы тянулась цепочка столбов и на каждом или через один — повешенный. Трупы, со вздернутыми кверху головами покачивались от легкого ветерка. Я увидел эту страшную картину за секунду полета. И не поверил. Поверить в такое было просто невозможно! Я накренил самолет, сделал крутой вираж и полетел обратно. Пролетел над деревней еще раз, теперь с другого конца и убедился: на столбах — трупы повешенных.
Это же после немцев! Они, фашисты, здесь были, они учинили расправу. Это их работа.
Душу, сердце раздирала злость добавившаяся к злости за убитую любовь. Она подступала к горлу, душила меня. От ярости хотелось кричать, выть по-волчьи. Нужно было выплеснуть на них, гадов, эту злость, обрушить на них всю мощь моей машины, огонь пушек, пулеметов, бросать и бросать в самую их гущу эресы, бомбы, рвать их на куски. Но фашистов в поселке не было, ни одной их машины, никаких признаков.
Поднял самолет, полетел над облаками. Потом пролетел еще над одним поселком. Немцев так и не обнаружил. Горючее на исходе.
Я возвратился на аэродром пустой, ни с чем. Только со злостью, со жгучей жаждой отомстить. И тут мне повезло. На КП ждал командир полка подполковник Шишкин, с ним пехотинцы офицеры и еще кто-то. Я доложил о полете. С сожалением сообщил, что никакого противника не обнаружил. «К сожалению», — заключил я. И тут же рассказал об увиденном.
— Посчитаться хотелось за подлости их зверские, — кивнул Шишкин. — Ничего, рассчитаешься, мы им за все, за все! — стукнул он кулаком по столу. — Кое-что и сейчас сделать сможете, если машину от земли оторвете...
В общем так, полетите вдвоем, с коэмском два, — кивнул он на сидевшего тут же Мочалова. Задание сложное и очень ответственное. — Как будто у нас были несложные и не ответственные вылеты. — Потому двух самых ответственных посылаю.
— Смотрите сюда, — развернул он карту, по краю которой тянулся заштрихованный хребет Карпатских гор. — Вот, видите, -чиркнул он карандашом. — По имеющимся сведениям по ним движутся части противника, фашисты собирают, концентрируют их в мощный кулак для нанесения контрудара, цель которого если не остановить, то хотя бы сбить темп наступления наших войск.
Нам поручено нанести удар и, если возможно, разгромить фашистские части на марше. Задача исключительной сложности: ущелья узкие с отвесными краями, развернуться эскадрилье негде. Потому и посылаем вас двоих. Полетите двойкой. Ведущим Бегельдинов. Задание — провести тщательную разведку в этих двух-трех ущельях. При обнаружении противника нанести удар всеми видами оружия.
Вопросы? Нет. Выполняйте!
Механики докладывают о готовности самолетов. Мой стрелок на этот раз сержант Глазанов в кабине. Осматриваю самолет, проверяю вооружение. Загрузка полная. В ящиках, наряду с обычными, небольшие противопехотные фосфорные бомбочки. Их — 60 штук. Оружие страшное. При взрыве разбрасывают смертоносные огненные брызги, прожигающие все насквозь. Спасения от них нет. Мне их загрузили впервые. Значит, причина есть. У меня, в душе, она тоже кипит, будоражит меня. Я должен отплатить за тех, которые остались качаться там, на столбах.
Как и утром, взлетаем с трудом, продираясь по грязи, по окончательно раскисшей под дождем взлетной полосе.
Летим спаркой, я — чуть впереди, Мочалов за мной. Облачность сплошная, верные девять баллов. Подлетаем к первому ущелью, делаем облет. Это, конечно, ничего не дает. Мы же ничего не видим. И если не пробьем облака, целую армию не обнаружим. Приказываю ведущему:
— Снижаемся до двухсот. Действуй как я.
Креню самолет и на вираже снижаюсь. Стрелка высотомера торопливо фиксирует: 500-400-300-200 метров. Секунды лечу горизонтально, в густой облачной каше, которую, как мне кажется, с трудом, надсадно воя, пробивает лопастями, совершенно не видный винт.
Нервы на пределе. Лететь по ущелью, в туманном месиве, почти на ощупь, среди скал, невозможно. Я не выдерживаю, рву ручку на себя, самолет буквально выскакивает вверх, вырывается из облаков и... Сердце замирает. Впереди, может быть в полусотне, тридцати метрах, черная, отвесная скала. Но самолет, продолжая почти отвесный взлет, проходит, вроде даже проползает над ней.
Секунды я сижу полумертвый. Надо мной залитое солнцем голубое небо, подо мной — клубящиеся в адском хаосе черные облака — тучи.
А Мочалова нет.
— Разбился! — пугает мысль. Но в ушах его голос.
— Бегельдинов! Бегельдинов! Уходим на аэродром. Полет по ущельям в таких условиях невозможен! Верная гибель! Я возвращаюсь на аэродром.
Я пытаюсь возразить, что-то говорю, но он не слушает. Я кричу:
— Мочалов! Мочалов! — ответа нет. И самого не вижу. Скрылся за очередным хребтом, в облаках, я остался один.
Вообще-то, с определенных позиций Мочалов прав. Риск, гибель с машиной в таких условиях, если в цифрах, процентов на восемьдесят-девяносто из ста возможны. Хребты, скалы со всех сторон, а между ними — густое, непроглядное месиво плотных — сжатая вата — облаков. Они будто живые, ползут, карабкаются через перевалы, целяются за торчащие пики. А между ними, внизу, сплошная муторная темнота. Как же в ней летать с нашей скоростью?! Так что Мочалов вроде прав в своем решении, в такой ситуации летчику дается право принять самостоятельное решение, не бросаться бездумно очертя голову, в пекло, в гибель. Но у каждого летчика кроме этого права есть еще и его, офицерская, наша летчиков — фронтовая честь. Получил приказ, произнес вроде обиходное, стандартное «Есть!». То есть, подтвердил готовность выполнить приказ-задание. К тому же, принимая приказ, знал куда, в каких условиях, зачем летишь. Мог отказаться, отговориться. Командир насильно не пошлет, он обязательно учтет твое заявление, состояние. И настаивать не будет, пошлет другого.
Я не могу из чувства самосохранения, пускай логического заключения, здравого рассудка отказаться от полета, повернуть на аэродром из страха. Может быть Мочалов прав, но по-моему... Задание получил — выполняй!
Я делаю облет, определяю на глазок забитое облаками, видно, глубокое, но не широкое ущелье и направляю машину в самую гущу тумана.
Стрелка высотомера снова бежит по циферблату.
Самолет падает, проваливается в сырую мокрую мглу, и вдруг выныривает из нее у самой земли, по плоскостям, по фюзеляжу хлещут какие-то ветки. Чуть поднимаюсь над деревьями, лечу на бреющем. Осматриваюсь и сразу засекаю плотные колонны пехоты, танков, автомашин, конных подвод, гигантской гусеницей растянувшиеся на километры. Мне отсюда, со стороны, чудится, что пестро-серая гусеница эта ползет прямо по ровной, будто обрубленной стене. В действительности движется она по довольно широкой, метров на пятнадцать, высеченной под нависшим карнизом, скалою.
Немцев много, их колонны растянулись по этой самой дороге километра на полтора, не меньше.
Лечу почти вплотную у дороги, на бреющем. Прикидываю: фашистов тысячи три, не меньше. Ну что же, бандиты, захватчики, палачи, — разжигаю я себя, — это же вы перевешали мирных людей на столбах, а потом шнапсом полученное палаческое удовольствие запивали, закусывали. Вы, конечно, понимаете, что теперь в моих руках, над вами витает смерть, гибель, больше вы никого не повесите.
— Я расплачиваюсь! Расплачиваюсь! — кричу я, машу кулаком. — За наши пожженные города! Села! За поруганных, убитых людей! И за мою Айнагуль тоже! За все! За все!
Взлетаю над ущельем, замыкаю круг и почти пикирую на колонну, ношусь над ней, поливая пулеметными трассами, глушу эре-сами, сбрасываю бомбочки.
— Я с вами рассчитаюсь, — кричу я, стараясь перекричать рев мотора, и давлю на кнопку пулемета. Колонна уже не колонна, это гигантская свора мечущихся в панике фигур, они лезут, тискаются под замершие в этой куче машины. А пулеметы «ИЛа» косят и косят их, наваливая кучи сраженных.
Пролетаю ущелье, раз, второй, закладываю глубокий вираж и снова лечу — едва не касаясь верхушек деревьев, разворачиваюсь, и вновь вхожу в ущелье. Страшная картина открывается передо мной. Оставшиеся в живых гитлеровцы пытаются карабкаться по скале наверх, срываются и летят в пропасть. Бью по клубящейся массе машин, фашистов из пушек — сбрасываю оставшиеся зажигательные снаряды и бомбы. Оглядываюсь — колонны нету, она перестала существовать, дым от горящих машин, черным занавесом плотно закрывает все, что от нее осталось.
Рапортовал я на КП не пряча глаз, как положено победителю. Командование за этот мой полет на благодарности не скупилось.
Наш генерал
Наш Второй гвардейский штурмовой авиационный корпус, вооруженный «ИЛами», входил в резерв Верховного Главнокомандования и перебрасывался с одного участка на другой. Самый большой период его военной истории связан с боевой деятельностью на Воронежском и 1-м Украинском фронтах, в составе 2-й В А.
Командовал корпусом, как я упоминал несколько раз, генерал-лейтенант авиации Василий Георгиевич Рязанов, толковый, образованный военачальник, отец и наставник большого отряда воинов-штурмовиков. Превосходными качествами комкора являлось его умение всегда точно оценивать обстановку и, в соответствии с ней, удачно выбрать место, откуда удобнее всего было управлять частями, а также умение организовывать взаимодействие с наземными войсками. Корпус чаще всего поддерживал наступление танковых армий, во главе которых стояли доблестные командиры-танкисты генералы Ротмистров, Рыбалко, Лелюшенко. От них не раз приходили благодарственные письма и телеграммы в адрес летчиков, сопровождавших танкистов в наступлении. Рязанов в таких случаях незамедлительно выезжал в части, чтобы поздравить героев боев.
В беседах с летчиками генерал особо обращал внимание на недопустимость шаблона боевых действий и неотрывное сопровождение взаимодействующих наземных войск в наступлении. Выезжая на передовую и располагаясь вблизи наблюдательного пункта общевойскового командира, он передавал по радио необходимые приказания штурмовикам, находящимся в воздухе, наводил самолеты на цель с наиболее выгодных высот и направлений, информировал штурмовиков и сопровождающих их истребителей о воздушной обстановке, управлял ими в случае боя с самолетами противника, оказывал помощь экипажам в восстановлении детальной ориентировки в районе цели, поддерживал связь с танковыми и стрелковыми частями, в интересах которых штурмовики наносили удары и, наконец, получал от ведущих групп донесения о результатах их действий, и разведданные.
Командиры и штабы дивизий, полков хорошо знали деловую педантичность Василия Георгиевича, своевременно готовили для него графики вылетов, которые позволяли группе наведения точно знать местонахождение летчиков и при необходимости вызвать очередные подразделения для решения внезапно возникающих задач.
Поздно вечером генерал Рязанов на легкомоторном самолете перелетал с наблюдательного пункта в штаб корпуса для контроля подготовки авиадивизий к очередному боевому дню. Он часто вызывал к телефону отдельных ведущих и указывал им на недостатки, учил, как их устранять. Если командир корпуса ночевал на наблюдательном пункте, то ему приходилось спать не более двух часов, так как все остальное время шла работа по организации взаимодействия с наземными войсками.
Велика роль Василия Георгиевича Рязанова в выращивании прославленных летчиков-штурмовиков: дважды Героев Советского Союза В. И. Андрианова, И. X. Михайличенко, М. П. Одинцова, Н. Г. Столярова и целой когорты Героев и дважды Героев Советского Союза.
Нам, комэскам, нравились его разборы боевых вылетов и подведение итогов наступательных операций, которые очень часто проводил он сам. Генерал серьезно готовился к ним. Генеральские разборы иллюстрировались многочисленными схемами, изобиловали примерами удачных и неудачных вылетов. Глубокомысленные выводы нашего командира корпуса имели прочный фундамент. Он, по рассказам близких сослуживцев, много читал, неустанно учился, обладал большим запасом знаний.
Забегая вперед, скажу: В 1944 году по приказу командующего фронтом маршала Советского Союза И. С. Конева корпус оказывал помощь участникам Словацкого восстания. По его команде несколько эскадрилий по установленному сигналу поднялись в воздух и взяли курс на Дуклинский перевал. Летчики хорошо помнили наставления генерала В. Г. Рязанова о необходимости длительного воздействия на противника, чтобы дать возможность советским танкистам прорвать фашистскую оборону и обеспечить ввод в прорыв частей Чехословацкого корпуса полковника Свободы. В районе цели штурмовики, как это и было проиграно на земле, пошли в атаку в боевом порядке «круг самолетов».
Экипажи в каждом заходе использовали одно из средств поражения поочередно: первый бросает бомбу, второй пускает реактивный снаряд, третий ведет огонь из пушек, четвертый — из пулеметов, и так последовательно каждый заход.
При выходе из атаки на предельно малой высоте воздушные стрелки из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям противника. В результате, было выполнено 17 заходов каждым из штурмовиков, и враг в течение часа не мог поднять головы. За время действия группы артиллерия противника не сделала ни единого выстрела по нашим атакующим танкам, которые с десантом автоматчиков на броне без потерь заняли укрепленные позиции врага в районе населенного пункта Гырова. Развивая успех, передовые части наших войск ворвались на Дуклинский перевал.
Командир гвардейского авиакорпуса был мужественный, отважный человек. На пунктах наведения он неоднократно подвергался бомбардировкам и артиллерийскому обстрелу, но никогда не покидал своего поста. Заслуженно носил он две звезды Героя Советского Союза. Такой он был у нас, «Мой генерал». Так с уважением называли его все командиры подразделений, все летчики: весь личный состав корпуса. Это уважение выражалось, во-первых, в беспрекословном, я бы сказал, душевном стремлении к подчинению его крепкой воле, во-вторых, в горячем и совершенно искреннем нашем стремлении как можно лучше и безупречнее выполнить каждое его распоряжение, команду, поступавшие через штабы, не говоря уже о личном распоряжении, приказе, — и с радостью доложить об этом. Этим мы и жили с нашим комкором.
Как и везде, в армии и на фронте есть командиры от генерала до лейтенанта, которых сами подчиненные определяют конкретным понятием — «любимые». К таким любимым я, наряду с некоторыми командирами пониже званием, в первую очередь, отношу генерал-лейтенанта Василия Георгиевича Рязанова. Конечно, расстояние, разделявшее нас по званиям и должностям — комкор и комэск — казалось неизмеримое, но в том-то и дело, весь секрет его характера, что он умел, при необходимости, сократить, а то и свести на нет этот разрыв с любым нужным ему человеком. И тот, в каком бы малом чине или звании ни состоял, в разговоре или делах с ним чувствовал себя совершенно свободно, абсолютно равным с генералом, одновременно воспринимая всю значимость каждого слова собеседника.
Именно так воспринимал я каждую встречу, каждый разговор с Василием Георгиевичем. А встреч было очень много, как, впрочем, и у всех командиров эскадрилий. Дело в том, что генерал считал необходимым для себя быть в курсе всего: чем каждый день, каждый час заняты эскадрильи. И это вполне оправдано, в конечном счете, эскадрилья и только она — основа полка, дивизии, корпуса — обеспечивала успех выполнения любых боевых заданий, успех ведения войны корпуса кроется в успехах эскадрилий.
Я, пожалуй, не припомню такого случая, когда бы, выполняя групповой полет, с ответственным заданием, не слышал бы в шлемофоне голос генерала. Он сам лично, нередко с КП, вынесенного к самой передовой, — бывало, что КП устраивался на верхушке дерева, — наводил на заданные цели штурмовиков, когда требовалось, подправлял, изменял задание по ходу полета, предупреждал об опасностях, охраняя нас. Как нам известно, именно Рязанов обился внедрения в штурмовую авиацию радиосвязи.
Наблюдая за боевыми действиями никак не связанных с землей летчиков-штурмовиков, атакующих почти вслепую определенные им участки, он переживал вместе с ними, сознавая сложность поставленной задачи. Как нередко штурмовики оказываются беспомощными, а то и не по их вине, наносящими ущерб нашим войскам, генерал нередко сам оказывался под угрозой, на краю гибели. Рассажу о таком случае, произошедшем еще на Калининском фронте.
В тот раз генерал Рязанов еще ночью прибыл на передовую, в расположение артдивизиона. Все эти дни его беспокоила мысль: не слишком ли доверился сведениям о противнике, доставленным армейской разведкой, в которых было утверждение о полной нашей безопасности на флангах. Расположившись в специально для него оборудованном блиндаже — командном пункте, Рязанов глянул в стереотрубу. И сразу засек метавшуюся в небе, над линией обороны, эскадрилью наших «ИЛов». С КП, расположенном на высотке, было отчетливо видно, как наша пехота в атаке прорвалась к первому рубежу обороны противника. Выбив немцев из траншей, атакующие в наступательном порыве устремились ко второй линии. И вдруг они залегли. Немцы сконцентрировали на них массированный огневой шквал пулеметов и минометов. Теперь, чтобы поддержать темп атаки, требовалось одно: срочно подавить огневые точки противника. Сделать это и обязана кружившая над линией обороны эскадрилья. Но «ИЛы» не могли этого сделать. До начала атаки они отбомбили первую линию немцев. Как видно, теперь ее заняли наши. Но на КП не могли определить, где наши, где немцы и потому «ИЛы» бессильно метались над линией огня, углублялись в тыл противника и там вынужденно освобождались от бомбовой нагрузки.
По складу своего характера генерал не мог примириться с ролью пассивного наблюдателя. «Еще тактику в академии преподавал, так неужели придумать ничего не можешь?» Внезапно он оторвался от стереотрубы — решение пришло: поставить на самолеты с радиоприемом — передатчики.
...Из блиндажа, отрытого под старыми кленами, повеяло такой тишиной, что он недоверчиво огляделся. Солнечные лучи едва пробивались сквозь ажурные листья, в тени тучами роились комары. Рязанов, приподняв осунувшееся от бессонных ночей лицо, прислушался: тонкое комариное пение всегда его успокаивало. Мысль командующего маневренной авиационной группой заработала четко и ясно. Он приказал вызвать начальника штаба, а сам, вытерев пот со лба, снял гимнастерку и повесил на спинку самодельного стула. Достал из кармана пачку папирос, закурил...
Вдруг снаружи несколько раз глухо ухнуло, с потолка посыпалась земля. Вбежал адъютант Рязанова.
— Товарищ генерал, немецкие танки!
— Что за ерунда? Откуда здесь немецкие танки? — Василий Георгиевич удивленно поднял брови. Его серые глаза выражали крайнюю степень удивления.
Опять ухнуло, и что-то тяжелое упало на перекрытие блиндажа. Рязанов бросился к выходу, но дверь не открывалась. Погасив волнение, он прислушался.
— Деревом вход завалило. Сейчас мы его оттащим. — Он узнал тревожный голос начальника штаба.
— Дьявольщина! — Василий Георгиевич поспешил к амбразуре.
В бинокль он увидел танки, которые, маневрируя между деревьями, вползали с опушки в кленовую рощу. Пальцы невольно дрогнули, когда разглядел на башнях белые кресты. Опустив бинокль, резко вырвал из красной эбонитовой коробки трубку полевого телефона:
— Немедленно поднять все самолеты! Слышите, все!
Фашисты увидели, как в двух-трех километрах от рощи упали маскировочные сети, и советские самолеты после непродолжительного же разбега стали отрываться от земли, набирая высоту. Танки, словно в раздумье, резко замедлили ход, потом повернули к летному полю. Там цель была намного заманчивее, чем какая-то траншея с подозрительным бугорком.
Рязанов на минуту перевел дух: «Кажется, пронесло... Успели бы только взлететь до того, как захлопнется эта ловушка».
Тем временем начальник штаба и двое бойцов с трудом оттащили в сторону поваленный снарядом танковой пушки могучий клен, освободив дверь блиндажа. Рязанов с адъютантом смогли, наконец, выбраться из западни. Застегивая пуговицы на гимнастерке, Василий Георгиевич приказал:
— Штабу и всему хозяйству отходить на восток. Танки могут вернуться.
Мысль его лихорадочно работала, и он уже понял причину своей недавней тревоги. Армейские разведчики все-таки прошляпили танковые дивизии врага, незаметно скопившиеся на флангах, прорвали линию обороны, и круг замкнулся. Наши наступающие армии оказались внутри его. Вот почему так неожиданно фашистские танки появились здесь, в тылу.
«Это мне урок, — подумал Рязанов. — Ведь хотел проверить авиацией. Отговорили, убедили, что с земли виднее».
Позднее, вспоминая об этой неудачной операции, Василий Георгиевич напишет: «С юга во фланг нам ударили танки Клейста. Они рвались ко мне на аэродромы, нужно было под огнем танков выводить самолеты в другие места, а потом бить по танкам противника на тех аэродромах, с которых только что ушли».
Лишь к утру следующего дня вырвавшиеся из-под огня танков штурмовики вышли к запасному аэродрому. Наземные войска ликвидировали прорыв.
Сам Василий Георгиевич вникал буквально во все вопросы, нередко, на первый взгляд, кажущиеся незначительными. Большую часть времени отдавал организации боевой подготовки в полках, правильной эксплуатации материальной части. Командир корпуса постоянно напоминал летному составу слова Н. Е. Жуковского: «Самолет — величайшее творение разума и рук человеческих. Он не подвластен никаким авторитетам, кроме лиц, свято соблюдающих законы».
По мере накопления опыта совершенствовалась тактика штурмовиков, улучшалась организационная структура, видоизменялись боевые порядки. Теперь их основой становилась пара самолетов, а состав звена — четырехсамолетным. При этом наиболее обороноспособной и маневренной оказалась группа в составе шести-восьми самолетов. Боевым порядком ее стал «пеленг». Сбрасывание бомб производилось с индивидуальным прицеливанием каждым летчиком по сигналу ведущего группы.
Особое внимание генерал Рязанов уделял ведущим. «Знать каждого в лицо» — таково было его требование к командирам полков.
Командир корпуса часто проводил занятия с руководящим составом частей по использованию радиосредств, считая для авиаторов настольной книгой «Инструкцию по управлению, оповещению и наведению самолетов по радио». На «ИЛах» устанавливались коротковолновые станции РСИ-4. Приемно-передающие устройства были на машинах командиров эскадрилий и выше. Командиры звеньев, рядовые летчики имели пока одностороннюю связь, у них стояли приемники. Мечта Василия Георгиевича об оборудовании приемопередатчиками всех самолетов осуществилась позже.
В подготовке, воспитании летчиков у нас было немало недостатков. Был такой приказ наркома Тимошенко перед войной: из летных училищ выпускать летчиков в звании сержантов, в частях держать их на казарменном положении до присвоения офицерских званий. Приказы не обсуждают, это закон. Для нас, военных, это святой закон. Но этот приказ? Надо ли говорить, какое недовольство у выпускников училищ вызывал он и как трудно было работать с молодежью, ущемленной морально и материально. А во время войны сержанты, летчики, командиры экипажей, воевали месяцами, так и не удостоившись лейтенантских погон.
Вот такое пополнение и поступало в полки. Общий уровень выучки у молодежи, а она составляла большинство во всех полках, был невысоким. Из-за слабой (скоростной) подготовки молодого пополнения летчики-новички нередко гибли в первой же штурмовке, воздушной схватке с противником. Полки несли большой урон в живой силе и технике. Рязанов приложил все силы для изменения положения. Помимо уже существовавших инструктажей и практических занятий, он разрабатывал и издавал специальные по этому вопросу обстоятельные, продуманные приказы и инструкции, хорошо помогавшие перестраивать всю систему предполетной подготовки новичков в постепенном их вводе в боевые условия. При этом он очень внимательно наблюдал за отдельными, подававшими надежды. Вот что обнаруживаем в его записях, которые приводит заместитель генерала С. А. Донченко в своей книге «Флагман штурмовой авиации».
«Предельно внимательно генерал следил за ростом каждого подававшего надежды летчика, для них у него в блокноте была специальная страничка, в которую заносились все сведения об его успехах и, конечно, о промахах, ошибках. И тут же пометка: что сделать, предпринять».
«Так же, как и другие, входил в строй Талгат Бегельдинов, — пишет в воспоминаниях о своей дивизии и корпусе, о генерале Рязанове генерал Каманин. — После возвращения Бегельдинова с одного из боевых заданий стало известно, что в первом заходе он настолько удачно спикировал на цель, что бомба легла точно в бензохранилище, а со второго захода поджег склад боеприпасов. Такое бывало и у других летчиков, но редко, у Бегельдинова получилось сразу.
В другом вылете штурмовиков «Мессершмитты» прорвались к ним сквозь воздушную охрану наших истребителей. Плохо пришлось штурмовикам, изрядно нахватали они пробоин. Но и сами не остались в долгу, при каждом удобном случае били из пушек и пулеметов по вражеским самолетам. Такой удобный момент представился и сержанту Бегельдинову. На какое-то мгновение на вираже Талгат поймал в сетке прицела фашистский истребитель и ударил по нему из пушки. Фашист пытался выровнять свою подбитую машину, но она была уже непослушной и врезалась в землю.
Начав боевую работу в 800-м штурмовом полку осенью 1942 года сержантом, рядовым летчиком, этот славный сын казахского народа прошел замечательный путь борьбы и побед. Под Харьковом он был ранен, сбит, блуждал по вражеским тылам и выжил всем смертям назло. Вернулся в свой полк, когда однополчане уже давно считали его погибшим. В родном полку он выздоровел, окреп и снова стал громить фашистов, водить в бой большие группы штурмовиков.
Летал Талгат неутомимо. Мне доставило большое удовольствие подписать на него несколько наградных листов, а затем представить к офицерскому званию. В день 25-летия Красной Армии мы поздравили Талгата Бегельдинова с двумя боевыми наградами и вручили ему офицерские погоны. В боевые расчеты его стали включать ведущим группы.
Учился Бегельдинов, когда числился в списках полка младшим летчиком и старшим летчиком, командиром звена, эскадрильи. И после войны, уже окончив Военно-воздушную академию и став командиром полка, он продолжал совершенствовать свое мастерство.
Были у него отличные учителя. Среди первых — Степан Демьянович Пошевальников, командир эскадрильи, который ввел молодого летчика в боевой строй. Тяжело вспоминать, что нет теперь Степана Демьяновича. Погиб он смертью героя в августе сорок четвертого, когда войска Первого Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И. С. Конева завершали победную Львовско-Сандомирскую операцию.
Замечательные летчики 144-го полка Георгий Красота, Михаил Одинцов, Талгат Бегельдинов — это они и другие, им под стать, ведущие групп, выросли и закалились в огне боев, обрели высокое мастерство, стали настоящими виртуозами штурмового удара. Это они прославили «ИЛ-2» как «летающий танк», вдохнули в него жизнь, сделали прекрасную по своим летно-тактическим данным машину незаменимым самолетом поля боя».
Боевые достоинства «ИЛа» были налицо, однако с первого поступления на фронт «ИЛа» командира корпуса все время тревожила мысль о том, что без защиты задней полусферы самолет не совершенен. Свидетельство этому — потери от вражеских истребителей, которые атаковали его обычно с хвоста и снизу. Подумывал комкор и о необходимости сопровождения штурмовиков истребителями до цели и обратно. Серьезно обсудить эти вопросы помог случай. На подмосковный аэродром, где в эти дни базировался наш 800-й полк майора Анатолия Ивановича Митрофанова, прилетел сам Ильюшин. Из штаба корпуса позвонили, чтобы встречали гостя. Летчики сначала и не поверили. Когда на аэродроме приземлился «У-2» и из кабины вышел пилот в обычном летном шлеме и кожаной куртке, на него никто не обратил внимания. Но вот он направился к командному пункту, и все догадались, что это и есть тот самый долгожданный Ильюшин. Его тут же обступили летчики, механики... Завязался разговор. Выяснилось, что летать Сергей Владимирович начал еще в семнадцатом году. Конструктор задавал вопрос за вопросом, был оживленным, и лишь усталые, воспаленные глаза говорили о его напряженной работе, отмечая бесспорные качества штурмовика, летчики высказали Сергею Владимировичу свои претензии: из-за отсутствия задней кабины для стрелка имелись неоправданные потери людей и дорогостоящих машин.
— Нас «Мессеры» долбают сзади так, что щепки летят, — прямо заявил командир эскадрильи старший лейтенант Шубин. — Естественно, истребитель благодаря скорости, маневренности, может остаться одноместным, а нам нужен стрелок для защиты хвоста.
Ильюшин слушал молча. Ведь ему высказывали претензии те, кто не раз бывал в острых схватках с врагом. Полк принял боевое крещение еще под Киевом. Потом отражение атак противника в районе Дубно, Ровно, Житомира.
— Согласен, что ваши замечания имеют основания, — сказал Ильюшин. — К тому же по расчету центровки второй член экипажа мог бы летать. Но осуществить это весьма сложно. Нужно вносить исправления в чертежи, перестраивать заводское производство.
— Тогда не обижайтесь! — горячился Шубин. — Мы вынуждены будем сами внести изменения в конструкцию «горбатого».
Ильюшин развел руками.
— У нас в полку и Кулибин свой есть, — оружейник Мищенко. Когда мы раньше летали на бомбардировщиках, он снял два пулемета с подбитых машин. Одну турель распилил и на «ИЛ» поставил.
— У нас на двух самолетах уже стоят такие пулеметы, — проговорил, краснея, обычно скромный и малоразговорчивый командир эскадрильи лейтенант Пошевальников.
Ильюшин оживился.
— Покажите!
Шубин и Пошевальников метнулись к своим машинам.
— Александр, в отсек! — толкнул Пошевальников локтем широкоплечего и рослого лейтенанта Александра Грединского. Казавшийся неповоротливым, тот ловко юркнул в узкий отсек и дал звонкую пулеметную очередь в небо.
Конструктор внимательно осмотрел пулеметные установки на обоих самолетах.
— Ну что ж, друзья, — после некоторой паузы сказал Сергей Владимирович, — я на вашей стороне. Воюйте со своими пулеметами, а я обещаю, что в ближайшем будущем получите, как вы называете, «горбатого» с хвостовой огневой точкой. И постараюсь вооружить вас пулеметами калибром покрупнее.
Свое обязательство конструктор выполнил. Теперь самолеты марки «ИЛ-2» поступали с завода с двумя кабинами, с хвостовой огневой точкой.
В сентябре 1943 года Рязанова вызвал Верховный Главнокомандующий, который поставил перед корпусом задачу — выработать тактику массированного применения штурмовиков, число которых, благодаря напряженной работе промышленности, неизменно росло.
... На Калининском фронте, корпус разместился неподалеку от Андриаполя. Наступила суровая зима, укрыв леса и болота глубоким снегом. Частые снегопады, низкая облачность, редкие ориентиры затрудняли поиск целей. Все это вынуждало летчиков-штурмовиков летать на боевые задания малыми группами, по два-четыре самолета.
В такой обстановке, считал Рязанов, успех всецело зависел от ведущих. Он приказал командирам дивизий Каманину и Родякину тщательно подобрать ведущих групп.
Наступила, наконец, пора осуществить давно задуманное. Генерал организовал свой КП на переднем крае, метрах в восьмистах от противника. Ночью офицеры штаба установили на опушке леса две радиостанции — одну для связи с самолетами в воздухе, другую для связи со своим штабом и аэродромами. Хорошо их замаскировали. Наблюдать генерал решил с дерева. На рассвете с микрофоном в руках он начал вызывать с аэродромов группы штурмовиков и направлять их туда, где требовалось в данный момент нанести удар.
Мне, с эскадрильей пришлось участвовать в этом первом экспериментальном вылете и штурмовке целей под наблюдением и командой с КП, расположенном у линии фронта, в котором находился сам генерал Рязанов. Перед вылетом прослушали специальный инструктаж как действовать, вести штурмовку по команде с земли. Вылетели в назначенное время.
...Приблизившись к линии фронта, я во главе четверки «ИЛов» услышал в шлемофоне знакомый голос командира:
— Группа танков, тридцать градусов левее леса. Как понял? Прием.
— Вас понял. Цель вижу.
— Штурмуйте!
Команда ведомым:
— Атака!
Я направил ревущую бронированную машину вниз. На выходе из пикирования сбросил бомбы. И тотчас увидел над головным немецким танком столб дыма.
Ведомые порадовали своего командира корпуса такими же точными ударами.
В шлемофоне ведущего продолжал звучать голос Рязанова.
От точных ударов реактивных снарядов горела вся вражеская колонна. Гитлеровцы, побросав танки, пытались под деревьями скрыться. Но и там их настигали пулеметные очереди «ИЛов». Группа штурмовала танковую колонну до тех пор, пока не кончились боеприпасы.
Генерал вызвал на поле боя следующую группу «ИЛов»...
Это была первая штурмовая операция, проведенная под личным командованием и указаниями генерала, передаваемых по радио с земли и с КП, у линии фронта.
Так, под командованием этого замечательного боевого командира, генерал-лейтенанта Василия Георгиевича Рязанова мы и шли, точнее летали, смертельными штурмовками поражая противника, громя и уничтожая его живую силу и технику, расчищая путь к Победе нашей пехоте и моточастям.
Все мы под трибуналом...
Произошло это в Германии. Наш аэродром был расположен под городом Фюнстервальде. Именно там я чуть-чуть не оказался под трибуналом, то есть, под расстрелом. Что такое военный трибунал, да еще в авиационной части, на фронте, летчики знали отлично. В принципе, это карающий, нет, пожалуй, просто убойный, уничтожающий людей, меч, ибо сек он головы особенно в боевой обстановке, чаще всего, ни в чем не повинного, по «ошибке» самих «смершников», по клеветническому, часто анонимному, доносу, а больше всего по подозрению.
Припоминается такой разительный случай из «деятельности» этой самой фронтовой карательной организации «Смерш» — «Смерть шпионам».
При выполнении боевого задания наш летчик в подбитом самолете сделал вынужденную посадку на оккупированной территории во вражеском тылу. Самолет, как обычно в таких случаях, загорелся. Но летчик успел выскочить из кабины, укрыться в лесу. Взорвался самолет на глазах у прибежавших фашистов. Они потоптались и, не подходя к пылавшей машине, ушли, решив, что летчик погиб.
А летчик отлежался в кустах, дождавшись темноты, пошел по лесной дороге, уверенный, что куда-то, к какому-нибудь населенному пункту она приведет.
Так оно и получилось. Отшагав километров пять, он вышел на деревню, прямо на кузницу на окраине. Осторожно обойдя ее летчик заглянул в щелку двери. За маленьким столиком сидели двое: пожилой бородач и молодой парнишка. Как он и ожидал — оба русские. Летчик подумал и шагнул в двери, на всякий случай засунув пистолет за пояс.
Мужики вскочили, уставились на него удивленными глазами.
— Я русский летчик. Мой самолет потерпел аварию. Сгорел в лесу, — поспешил объясниться летчик.
Мужики осмотрели его, ощупали глазами. Убедившись, что летчик не врет, пригласили за стол, налили в кружку чаю. Расспросили, из какой части, куда летел, что с ним произошло. Грохот взрыва они слышали. Летчик тоже расспросил мужиков о деревне, и конечно, в первую очередь, есть ли в ней немцы.
— Немцы есть, было много. Тут у них какой-то пункт связи, был, — объяснил бородатый.
— Аэродром был, — уточнил парень. — Самолеты стояли, такие маленькие. Два наших четырехкрылых, «ПО-2» называются. Досаафовские они. Раньше здесь аэродром аэроклуба был. Я туда поступил, да вот... — развел он руками, — война. Досаафовцы самолеты угнали. Два осталось. Неисправные, наверное.
Немцы на своих маленьких, учебных, наверно, летали от деревни к деревне, и на одном нашем летали, над аэродромом. Исправили, наверное. Как уходили, в спешке бросили.
— И что же он, стоит тут?
— Стоит, там на аэродроме, за сараями. Как немцы поставили, так и стоит.
— Когда они отсюда уходили, убегали от войск наших, которые уже близко — фронт-то рядом, — продолжил бородач, — шибко торопились. Барахла разного в складах, на аэродроме оставили. Пока стерегут. Сторожка там у них, при аэродроме, при складах, по двое, по трое дежурят. Шнапс пьют, в карты играют.
Говорят, немцы аккуратисты, дисциплинированные... Как наступали, такими и держались, а в бега их как обратили, так про все — про аккуратность, трезвость — про все напрочь забыли, головы потеряли. Пьют похуже нашего, за ведро самогона хуть и самолет отдать готовы.
— Я у них, — вступил парень, — за четверть самогона одежонки рабочей совсем справной мешок наменял. Топоров, лопат придали. Бери, говорят, сколько хочешь.
— Слушайте, друзья, отведите меня на аэродром этот, к самолету нашему, — загорелся летчик. — Прямо сейчас!
Мужики не согласились.
— Сегодня нельзя. Немцы туда понаехали, что-то там делают. Подождать придется. Как уедут, тут и пойдем. Они завтра, послезавтра умотаются. Подождем.
— А со мной как? Немцы поймают!
— Не поймают. Мы тебя запрячем.
Летчик ломал голову: «Мужики вроде нормальные, наши, русские, не выдадут», — успокоил он себя. И согласился... Мужики же таясь, крадучись, перебежками отвели его в лес, в охотничью что ли, избушку. Дали еды — вода в ручье, рядом. — И ушли, пообещав придти, как только немцы смотаются.
Пришли на другой день поздно вечером. Парень сообщил:
— Убираются фрицы. Две машины у них на аэродроме. Сбегал я к аэродрому вроде за грибами, покурить сигаретку попросил. Машины уже загружены. Шофера там ночуют. Утром уедут. Самолеты наши стоят, их не берут.
Летчик сгорал от нетерпения. Хотелось, до смерти хотелось, глянуть на самолеты. Теплилась надежда: «А если и вправду исправные?! На них же улететь можно, через фронт перепрыгнуть!»
На следующий вечер пришел один бородач. А парня, по его словам — задержали дома. Твердо пообещал:
— Завтра мотанем.
В душу летчика закралась тревога: «А ну как предали?!» — будоражила пугающая мысль. Он уже соображал о возможностях ухода отсюда.
Но мужики не предали, пришли вовремя, с радостным сообщением:
— Немцы с аэродрома ушли. Там, как обычно, сторожа, двое или трое, в избушке. От самолетов далеко, почти через все взлетное поле.
— Их обойдем по-тихому, — заверил парень. — Сегодня и пойдем.
Посидели и, дождавшись когда скрылась луна, пошли. Шли в обход деревни. Перебрались через овраг, обошли озерцо или пруд, углубились в лес.
— Бережемся, — пояснил старший. — Немцев мало, десятка два, не больше, на той стороне деревни, в лесничестве обосновались. Ну, староста в селе, у него прихлебателей двое, трое. Шибко-то мы их не боимся, прижались они, как наши подошли, ну тебя, летчика, выдать могут. И нам за тебя каюк.
— Аэродром пока берегут, склады, — вставил бородач. — нужны им, видно, и самолеты, те самые, наши.
Шли недолго. Сквозь деревья обозначился аэродром, терявшаяся в темноте взлетно-посадочная полоса и чуть видная на окраине поля избушка, с еле-еле светившемся желтым огоньком-оконцем.
Летчик рассмотрел зажатую лесом чистую, аккуратно прибранную — немцы явно пользовались ею — взлетно-посадочную. Решил: подняться с нее можно...
— Там они, немцы — охранники в избушке, — шепнул парень.
— Как быть с ними? — глянул на спутников летчик.
— Так спят же, дрыхнут, поди, — пожал плечами старший.
— А если не спят? Я же их мотором разбужу.
— Пьяные если, — а они тут завсегда пьют, — не разбудишь их, хоть из пушки пали, — уверенно заявил бородач.
— Что ж, пошли, глянем чего и как, — махнул рукой парень. Обходя взлетно-посадочную по опушке, они добрались до избушки. В ней кто-то был — окошко светилось. Послышался стук.
— Я посмотрю, — шепнул парень.
Прижимаясь к стене, он добрался до окошка. И именно в этот момент дверца распахнулась, из нее вывалился немец, явно пьяный. Он шагнул и уставился на гостей испуганными глазами, раскрыл рот.
Сказать, крикнуть не успел, летчик ударил его по голове пистолетом. Немец свалился.
Парень заглянул в окошко, сообщил:
— Там еще двое. Тоже пьяные, спят. Теперь можно было идти к самолетам.
За сараями, у самого леса, стоял наш, советский «ПО-2». Натянутый на нижних плоскостях перкаль была кое-где рваный. Видно, порвали, когда тащили машину через кусты.
В кабине был порядок: ручки управления, приборы — на месте, но горючее в баке на донышке, по прибору почти на нуле.
Летчик все-таки решил опробовать мотор. Парень знал запуск. Крутнул винт.
Мотор чихнул, раз, два, три и заработал. Летчик тут же вырубил его и откинулся на спинку сидения, охваченный радостью. Так дико повезти может только раз в жизни.
— Машина на ходу. Горючего нету, — сообщил он мужикам.
— Горючего, горючего, — соображал парень. — Есть горючее! Канистра целая, его, этого самолета, горючее. Там, в сарае. От досаафовцев еще осталось. Я хотел унести, помешали.
В сарае с распахнутыми дверями, под разным хламом действительно стояла большая канистра. Горючего в ней было под завязку. Втроем они быстро заправили машину, кое-как выкатили ее из-за сараев на летное поле.
— Теперь чего? — спросил бородатый. — Неужто полетишь?
— Полечу, если она потянет, — кивнул летчик на машину.
— Потянет, потянет, — заверил парень. — Немцы летали, сам видел.
Летчик забрался в кабину. Снова запустил мотор.
Мотор заработал, рывками, чихая. Потом ритм выровнялся. Летчик выскочил из кабины, поблагодарил, обнял мужиков и повел самолет на взлетную. Кругом ни души. Тишина. Он дал газ и пошел на взлет.
Линию фронта перелетел на бреющем, беспрепятственно, без единого выстрела зениток. И хотя волновался до предела, аэродром свой определил и сел аккуратно. Подробный, в деталях рассказ летчика, возвратившегося уже на пятый день, мы слушали затаив дыхание. Выпили за его чудесное спасение. Между прочим, немецкий шнапс, который механик обнаружил в кабине в немецкой же фляжке — мужики-кузнецы подсунули на дорожку, даже и не предполагая, что именно этот шнапс, немецкая фляга, запечатанный в фольгу, немецкий же паек и еще, так же зачем-то — от души — сунутые мужиками в кабину новенькие, со склада, немецкие полусапоги, никак не подозревая, что все эти вещи и послужат «неопровержимыми доказательствами — «вещдоками», не чего-нибудь — измены Родине — в чем будет обвинен, по сути, герой летчик. В этом самом «смерше», который, по обыкновению, проводил допрос летчика, в данном случае, конечно, же, точно подозреваемого: — «Пробыл четверо суток в тылу у немцев, в занятой ими деревне, но благополучно прилетевший от них на самолете, с их подарками — шнапсом, чуть ли не именным пайком, с новыми сапогами, тут нечего было и раздумывать — «изменник Родины!» и все.
Последовал приговор и летчика отправили.
А через неделю, ровно через семь дней наши войска вошли в эту деревню. Меня послали осмотреть тот самый досаафовский аэродром. Я приехал, осмотрел. Все здесь было точно как в рассказе несчастного летчика. Еще я нашел кузнеца и его подручного. Они подтвердили все, что говорил нам и, наверное, «Смершу», летчик.
Но его уже не было. А рассказ его я привожу дословно.
Что касается случая со мной и тем же «Смершем», он не менее разительный.
В штаб нашего Второго авиационного штурмового корпуса поступил приказ: в составе авиационного полка атаковать и уничтожить окруженную в районе города Бреслау группировку немецко-фашистских войск. По приказу комкора в состав группы вводятся две эскадрильи — моя, первая и командира полка — майора Степанова. Ведущим — майор Степанов. Получаем инструктаж по обстановке в районе предстоящей штурмовки. И вылетаем всей группой — 30 самолетов — в 13-00. Летим пять минут. Все нормально. И вдруг в наушниках голос Степанова:
— Бегельдинов! Бегельдинов!
Отзываюсь:
— Я Бегельдинов...
— Бегельдинов! У меня барахлит мотор. Возвращаюсь! Командование группой принимай на себя!
Я предельно удивлен... Что это у него с мотором, вдруг, ни с того, ни с сего?.. Но размышлять некогда, связываюсь с ведущими звеньев.
— Я Бегельдинов! Принял командование на себя. Приказываю — группе Степанова перейти на правый фланг. Строй не нарушать!
Перестроившись на ходу, продолжаем полет. Я докладываю на КП.
— Резеда! Резеда! Я Ястреб! Подлетаю к цели. Задание: уничтожить окруженную группу противника до железнодорожной станции.
И вдруг задание меняют. С КП передают.
— Атаковать противника за железнодорожной станцией. — И еще уточняют. — Атакуйте за железной дорогой. Станция занята нашими. Бейте за дорогой! Бейте!
Я повторяю приказ. Получаю добро. Перелетаю станцию. Тут за постройками шмыгают, перебегают — хоронятся немцы. Явно они.
Делаю один заход. Наношу удар, затем второй, третий, четвертый. За мной на головы противника, на его технику обрушивают удары мои звенья. Группировка разгромлена.
Докладываю о результате. С войскового КП сообщают:
— Вам, Бегельдинов, и всей Вашей группе за отлично выполненное задание, благодарность от командарма наземных войск. Они наблюдали ваши работу.
Возвращаюсь. Сажаю группу на аэродром, вылезаю радостный из кабины. Как же, с полком вон какую блестящую штурмовку провел. И ни одной потери в составе.
Однако радость эту на аэродроме никак и никто не разделяет. У встретивших на летном поле товарищей тревожные, испуганные, лица.
— Талгат, что ты натворил?! — прошептал кто-то из них. — Ты же по своим, по своим бил! На КП уже «смершник» ждет тебя. Как же это ты?!
— Я по своим? Вранье это!.. Ложь! — выкрикнул я. — Я делал все, как положено, по командам с КП. Да и видел: немцы, немцы были подо мой. фашистов бил!..
Я тут же рассказал ребятам как все было, какие принимал команды, как их исполнял. И про благодарность от командующего наземными войсками сказал. Ребята подумали — они-то мне верили, знали, что все, как говорил, так и было. Но вместе с тем все знали, что «смершники» — нквдшники ни в чем разбираться не будут, у них от кого-то сигнал. Может быть, кто-то на нашем КП бред этот придумал. Ведь в первом приказе было точно: «Штурмовать до станции! Им, «смертникам» этого достаточно. Для них все люди — враги партии, Советской власти, преступники, пока еще не раскрытые, но подозреваемые. Любого бери и — либо в лагерь, либо к стенке.
И друзья решили схоронить, спрятать меня, укрыть от «смершников» хотя бы на время, пока в полку во всем разберутся. Увели куда-то в палатку за ремонтную мастерскую.
В полку действительно разобрались. Запутался в командах не летчик, а сами дежурные. Команды на группу шли с двух КП: от полковой аэродромной и с КП, наблюдателей наземных войск, от нашего же наблюдателя. Последние, находившиеся непосредственно у линии фронта, знали обстановку лучше, следили за ходом боя и передвижением наших войск в наступлении. Они и дали летчикам правильные приказы, четкую наводку, чему следовал командир Бегельдинов, за что и получил благодарность.
Вопрос был исчерпан, «смершники» удалились, на сей раз ни с чем.
Немцы у нас в плену
Танковые части первого Украинского фронта вспороли оборону противника и стремительно продвигались вперед, оставив далеко позади наступающую пехоту. Танки шли и шли вперед, врывались в города и населенные пункты, уничтожали технику и живую силу противника.
Мы в Германии, на земле фашистского зверя, мы достигли великой цели к которой кровавыми дорогами шли эти годы. Для нас, летчиков-штурмовиков это знаменательное, победное событие, по сути не имело особого, четкого значения, ведь мы-то уже давно хозяйничали во вражеском небе, над немецкой землей.
По пять-шесть раз в день летали мы на разведку, помогая танкистам ориентироваться в незнакомой обстановке. С воздуха мне была видна картина огромной операции, которая в конце концов привела к капитуляции гитлеровской Германии. Шли первые дни апреля 1945 года.
Наш аэродром находился далеко от мест, где развернулись бои, и это снижало эффективность разведки, ибо запас горючего не позволял долго находиться в воздухе. Долетишь до места, немного поработаешь, глядь — уже нужно возвращаться. Необходимо было подтянуть аэродром возможно ближе к месту работы. Поделился своими мыслями с командиром полка майором Степановым, тот одобрил и доложил генералу Рязанову. На следующий день получил приказ подыскать место для аэродрома.
Еще несколько дней назад, наводя танковое соединение на цель, я обратил внимание, что среди густого соснового леса расположен немецкий полевой аэродром. Самолеты, как видно, покинули его, и лишь на краю поля стоял разбитый «Фоккевульф». Решаю слетать туда и еще раз посмотреть.
Вот он. И «Фоккер» на месте. Снижаюсь, внимательно осматриваю местность. Людей не видно. Может быть, замаскировались? Нет. Пусто. Делаю несколько снимков, затем пикирую, даю очередь. Тишина. Ясно, что аэродром покинут немцами.
Возвращаюсь и докладываю об этом
— Весь полк с места снимать не будем, — говорит генерал, — а эскадрилью капитана Бегельдинова перебазируем на этот аэродром
— Пехота противника отступает, — нерешительно произношу я, — как бы нам не попасть в ловушку.
— Не отступает, а бежит. На всякий случай дадим взвод автоматчиков. На сборы даю два часа.
В тот же день эскадрилья перелетела на заброшенный немцами аэродром. Мы оказались в довольно странном положении. На запад стремительно продвигались наши танки, а с востока катилась волна немецкой пехоты.
Осмотрелись. Кругом вековой лес, в котором при желании можно укрыть добрый корпус. Великолепно оборудованный КП, рядом бетонированные блиндажи. Видно, намеревались немцы прожить здесь долго, а удирали поспешно, даже разрушить ничего не успели.
Нас вместе с автоматчиками около пятидесяти человек. Близится вечер. На душе неспокойно — ни на минуту не покидает мысль о немецкой пехоте. А ну, как наскочит на нас ночью?
Самолеты расставили на аэродроме так, чтобы огонь из сдвоенных крупнокалиберных пулеметов создавал круговую оборону. Летчики и стрелки остались в блиндаже — им нужен отдых перед предстоящими полетами. В задних кабинах возле пулеметов дежурят механики.
Стемнело. Я вместе с адъютантом эскадрильи расположился в небольшой комнатке. Рядом, за стеной — остальные.
Вместе с нами прилетела оружейница Надя — любимица всей эскадрильи, девушка боевая, серьезная. Сразу же после прибытия в часть она очень тактично, но решительно пресекла все попытки ухаживания и стала нашим боевым другом. Признаться, не хотелось брать ее на такое рискованное дело, но Надя обладала завидной настойчивостью. Одним словом, она прилетела с эскадрильей.
С наступлением ночи девушка села за стол посередине блиндажа, собрала ворох гимнастерок и принялась менять подворотнички.
— Спать нужно, — сказал я ей.
— Я подежурю, а заодно поухаживаю за ребятами, — улыбнулась в ответ Надя, — им завтра лететь, а я днем высплюсь.
Тишина. Все спят. Слышу, как тикают часы на руке адъютанта. Потом вдруг скрипнула дверь, послышался какой-то шорох. Неожиданно грохнул пистолетный выстрел. Поднялся переполох. Кидаюсь к двери и никак не могу открыть ее. Впопыхах забыл, что она открывается внутрь, и всем телом наваливаюсь, пытаюсь выломать. А кругом крики, выстрелы. Слышатся очереди пулеметов. «Налет!» — проносится в сознании. Подскакивает адъютант, вдвоем вышибаем открытую дверь (и так, оказывается, бывает!) выбегаем из блиндажа.
Что же произошло? Надя шила и тихонько напевала какую-то песенку. Наверняка, так полюбившуюся нам «Землянку». Скрип двери заставил ее поднять голову. Она буквально окаменела — в дверях, освещенные неясным пламенем керосиновой лампы, стояли три немецких солдата с автоматами в руках, они широко раскрытыми глазами смотрели на нее.
На счастье, проснулся флагманский стрелок. Он молниеносно выхватил пистолет и выстрелил. Немцы кинулись из блиндажа.
Обо всем этом я узнал позднее. Едва мы выбрались наружу, как поняли, что оправдались наши опасения, — на аэродром наскочила отступающая немецкая часть. Перекрывая треск автоматов, строчат наши крупнокалиберные. Механики ведут сумасшедший огонь. Не отстают от них и автоматчики. Идет самый настоящий наземный бой.
Одна мысль в голове: пробиться к самолетам, там можно отсидеться до рассвета. Действительно, около блиндажа всех нас, вооруженных только пистолетами, немцы перестреляют без особого труда. Но как пробиться туда при такой плотности огня?
И тут замечаю фигуру, которая, пригибаясь, бежит к самолетам. Это же Надя!
— Стой! — кричу ей что есть силы.
Не слышит, бежит.
— Стой, убьют!
Но она скрывается в темноте. Мы залегли, через несколько минут с одного из самолетов взлетает осветительная ракета. Молодчина, Надя!
Немцев на поле не видно. Они спрятались в лесу и оттуда ведут беспорядочный огонь. Бросаемся к самолетам. Огнем крупнокалиберных пулеметов отвечаем гитлеровцам. Они замолкают.
— Так-то умнее, — вытирая пот, говорит мой стрелок. — Ишь, гады, что задумали.
Наступает тишина, тревожная, заставляющая до предела напрягать слух и зрение. Опасаюсь, что в темноте немцы могут пробраться к самолетам. Может быть, тревожить их пулеметным огнем. Нельзя попусту тратить боезапас — ведь утром полеты. Пускаем ракеты.
Медленно, чертовски медленно наступает рассвет. Немцев и след простыл. Надо полагать, они уже далеко от аэродрома. Обхожу самолеты. К счастью, потерь у нас нет, и машины совершенно целы, если не считать несколько дырок в фюзеляжах от автоматных пуль. Это для «Ильюшина» пустяки.
Ничего не скажешь, дешево отделались, могло быть хуже.
Строго отчитываю автоматчиков, которые прозевали немцев. Не растеряйся те трое, дай они очереди в блиндаже — и эскадрилья перестала бы существовать. Хлопцы стоят, опустив головы, оправдываться им нечем.
А утро такое чистое, светлое. Жаворонки поют. Одним словом, весна ликует. Так хочется забраться сейчас в этот лес, раскинуться на траве, забыть обо всем на свете. Но попробуй забыть, если из этого самого леса только что звучали выстрелы, если враг отступает, но еще зло огрызается, если каждый день уносит тысячи и тысячи жизней.
Эти мысли прерывает испуганный голос одного из механиков.
— Товарищ командир, там немцы, — и он указывает рукой в сторону небольшой будки, стоящей метрах в трехстах от самолетов.
— Какие немцы?
— Я туда пошел, за будку пошел...
— Плетешь ты что-то. Поди, с перепугу почудилось.
— Честное слово!
Отрядил к будке двух автоматчиков. И что же, буквально через несколько минут они привели пятерых немцев. Грязные, обросшие, в изодранных мундирах, они вызывали чувство омерзения. Рука тянется к пистолету. Сейчас расстреляю их к чертовой матери. Пусть гниют на своей же земле. Каждому по пуле за смерть друзей, за кровь и ужас затеянной им войны.
В глазах у немцев читаю животный страх, они, видимо, поняли мой порыв. Будьте вы прокляты! Прячу пистолет в кобуру.
Стоящие рядом летчики облегченно вздыхают. Друзья боялись, что я не сдержусь и убью безоружных людей.
Подходит лейтенант Коптев. Он немного знаем немецкий язык. Кое-как лопочет по-русские и рыжий верзила в эсэсовском мундире. Начинается разговор, в котором чаще всего слышится: «Гитлер капут». Что же, не спорим, действительно очень скоро — капут.
Солдаты эти из разных частей, разбитых нашими войсками. На аэродром попали случайно. В будку залезли от страха, боялись попасть под огонь наших пулеметов. Очень довольны, что остались целы.
Даем им папиросы. Жадно затягиваются. Но все еще с опаской посматривают на мой пистолет.
Неожиданно тщедушный солдат лезет во внутренний карман, достает помятый бумажник, извлекает из него фотокарточку и протягивает мне. На фото он сам, только в гражданской одежде, женщина и два мальчугана.
— Матка, киндер.
— Жена, значит, его и детишки, — гудит над ухом усатый автоматчик. — Хорошие пацаны.
Немец что-то говорит, указывая рукой в сторону. Коптев переводит, что этот солдат живет здесь, недалеко, что дома у него семья, а сам он — шофер и ничего плохого русским не сделал.
— Не успел сделать, — уточняет Коптев, — так как всего три месяца назад попал в армию и с места в карьер стал драпать на запад.
Как поступить с пленными? Надо бы доставить их в штаб для допроса. Но сделать это невозможно. А что, если отпустить?! Пусть идут и расскажут своим. Страшно. А ну, приведут на аэродром и устроят нам мясорубку? Что-то подсказывает: не приведут, не до этого им теперь. Мечтают в живых остаться.
— Скажи им, — обращаюсь к Коптеву, — что мы с пленными не воюем, пусть не боятся, не тронем.
С трудом подбирая слова, он переводит. Немцы кивают головами, наперебой твердят:
— Яволь, яволь.
— Яволь, так яволь, дело ваше. Вдруг слышу робкий голос Нади:
— Товарищ командир, накормить бы их. Смотрите, животы к спинам приросли. Люди ведь... Жалко...
Ах ты, Надя, Надюша, добрейшая душа. Ты даже врагов готова пожалеть, тех самых немцев, которые сожгли твой дом в Белоруссии, которые несколько часов назад легко могли застрелить тебя. Вот каков он, русский характер! Даже лютого врага не бьют, если он лежит, если он поднял руки.
— Ладно, — отвечаю девушке, — накормить дело нехитрое, были бы харчи. Где ты их возьмешь? Может быть, летный паек отдашь?
— Отдам, — говорит Надя.
— И я...
— Я тоже... — раздаются голоса наших.
— Шут с ним, с пайком! Берите и мой.
В сопровождении Нади и двух автоматчиков немцы направляются в блиндаж.
Разворачиваем самолеты. Становится совсем светло. Вместе с Коптевым идем в блиндаж. Пленные уже насытились и дымят самокрутками, которые дали им автоматчики. Что же все-таки делать с ними?
Все вместе выходим из блиндажа. Коптев объясняет, что войне скоро конец и нужно бросать оружие. Немцы усиленно кивают головами. Немец, рыжий верзила говорит, что их оружие осталось в будке. А мы, грешным делом, даже не поинтересовались им.
— Идите к своим, — говорит Коптев, — к своим. Понятно? Пусть оружие бросают. В плен, в плен! Ясно вам?
Немцы что-то горячо говорят, показывают в сторону леса.
— О чем это они? — спрашиваю Коптева.
— Говорят, что в лесу много солдат. Но они боятся русских. Дескать, русские расстреляют или сошлют в Сибирь и там сгноят в тайге.
«Надо бы, — думаю я, — поделом вору и мука». А наш переводчик что-то с жаром доказывает солдатам.
— Пусть идут и расскажут, как русские расстреливают, — бросаю Коптеву. — Надо кончать эту историю.
Объясняем солдатам, что они свободны и могут идти на все четыре стороны. Те недоверчиво смотрят. Машу рукой в сторону леса. Идите, мол, скорее идите. Боятся. Не верят такому счастью. Ну и запуганы же они бреднями о зверствах большевиков!
— Марш! — кричу им. — Бегом! Шнель! Шнель! Быстро! Резкая команда подействовала. Поминутно озираясь, как бы ожидая выстрела в спину, немцы бегут к лесу. Быстрее, быстрее... И вот уже скрылись между деревьями.
— Может быть, зря их отпустили? — раздумывает вслух Махотин. — Что у них на уме?
— А что с ними делать?
— Ладно, — соглашается летчик. — Душа из них вон. Связываемся по радио со своей частью. Командир полка был встревожен нашим долгим молчанием. Рассказываю о ночном бое, о пленных.
— Молодцы, — слышу голос командира полка. — Правильно сделали. Заданий пока не даю. К вечеру на ваш аэродром перебазируется весь полк. КП, говоришь, хороший? Приятно слышать. Ну, добро!
Оживленно обсуждаем все перипетии сегодняшней ночи. Голодные немцы нанесли солидный урон нашим продуктам, и мы подтруниваем над Надей, грозимся оставить ее голодной на неделю. Она же смеется. Так проходит около часа.
Неожиданно в блиндаж влетает автоматчик.
— Товарищ капитан, немцы!
Будто ветром выдуло нас из блиндажа. Да, сомнений нет, с дальнего края аэродрома к самолетам движется группа немецких солдат. Но идут они как-то странно: в полный рост, и ни у кого не видно оружия.
— Да с ними Воронцов! — кричит кто-то.
Что за наваждение! И впрямь впереди немцев вышагивает механик Воронцов. Вот он обернулся, сказал что-то, немцы остановились. Механик, не прибавляя шага, направился к нам. Подошел, лихо взял под козырек.
— Разрешите доложить! Привел группу пленных. Оружие все цело и сложено в овраге.
— Да ты толком объясни...
— Понимаете, какое дело, товарищ капитан. С полчаса назад я пошел к краю аэродрома. Есть там овражек такой. Думаю, дай посмотрю, что там доброго есть. Иду себе спокойно. Только подошел к краю, выскочили человек десять с автоматами, навалились, стащили вниз. Я уже с жизнь распрощался, а потом смотрю, что-то у них не то происходит, — механик перевел дыхание и продолжал:
— Один из солдат, в очках, подошел и по-русски говорит, что они хотят сдаться в плен, что их солдат утром был уже у нас и все рассказал. Гляжу, тот самый солдат, что утром был, рядом стоит на меня глаза пялит. Ладно, говорю, кладите оружие и за мной шагом марш! Вот и привел.
Да, загадал нам загадку механик. Что делать с такой группой? Распорядился принести трофейное оружие, выставил охрану и тут же связался по радио с полком. На КП полка, к счастью, оказался генерал. Выслушал он меня и говорит:
— Местечко Калау знаешь? Да, да, то самое, что около шоссе. Это от вас километров семь. Строй их в колонну и направляй в Калау. Там примут.
Подошел к немцам. Они с интересом смотрят на мой планшет, на Золотую Звезду. Вперед выходит солдат в очках. Он служил в штабе дивизии переводчиком и русский язык знает прилично. Ну, думаю, эту птицу надо задержать до приезда генерала.
Построили колонну. В сопровождающие дали Воронцова (он уже имел опыт обращения с ними), а для убедительности — трех автоматчиков. Раздалась команда — и колонна тронулась.
К вечеру Воронцов вернулся и рассказал, что по пути их колонна обрастала, как снежный ком, и в городе Калау он сдал всех под расписку.
Тем временем к нам перебазировался весь полк. Расспросам не было конца.
Утром вновь начались боевые вылеты, вновь «Ильюшины» громили отступающие войска врага, наводили на цель наши танковые колонны.
Одной атакой
Гитлеровская Германия доживала буквально последние дни. Наши войска готовились к битве за Берлин. В один из дней командование собрало нас, чтобы уточнить взаимодействие между родами войск. Это очень важно — близко познакомить командиров, с тем, чтобы они в бою понимали друг друга с полуслова. Больше того, они должны узнавать друг друга по голосу. Пришли командиры пехотных частей, артиллеристы, танкисты. Мы познакомились с танкистами и остальными, договорились обо всем. Затем отправились на рекогносцировку переднего края. По траншеям дошли до самой передовой и тут оказались свидетелями совершенно непонятной картины.
Со стороны немцев доносилась веселая музыка. Мощные динамики разносили ее на много километров.
— Веселятся смертники, — зло проговорил офицер-пехотинец. — То ли перепились, гады, то ли праздник какой отмечают... Вон, полюбуйтесь, и тряпку свою вывесили, — он указал рукой чуть вправо. Мы посмотрели в ту сторону и увидели на бугре высокое дерево, а на нем — большой красный флаг с черной свастикой посередине.
— Хотели мы его сбить ружейным огнем, — продолжал офицер, — ничего не получилось.
В это время меня к себе позвал командир нашего корпуса генерал Рязанов.
— Слушаю, товарищ генерал!
— Флаг нужно снять. Ясно?
— Так точно!
— Сейчас же отправляйтесь на аэродром и действуйте! Учтите, — генерал заговорил вполголоса, чтобы никто, кроме нас, не слышал, — сбить нужно одной атакой. Это очень важно. Кроме всего прочего, пусть танкисты лишний раз убедятся в силе штурмовика. Им спокойнее под нашим прикрытием воевать будет. Ясно? Исполняйте!
Генерал тут же позвонил в полк и приказал немедленно готовить самолет. А я по траншеям быстро выбрался с передовой и в генеральской машине за каких-нибудь двадцать минут добрался до своего аэродрома.
Вскоре был уже в воздухе. Да, необычное задание дал генерал. Сбить одной атакой… Но рассуждать долго не пришлось — я уже подлетал к передовой. Твердо решил, что если не попаду снарядами, то собью фашистский флаг винтом.
Вышел на цель очень удачно. Пустил реактивные снаряды, открыл огонь из пушек. На месте где только что трепыхался флаг, взметнулись клубы дыма, поднялась вверх земля. Задание выполнено. Но не возвращаться же на аэродром, если самолет имеет полный запас боеприпасов. Я пролетел за передний край немцев, увидел две полевые артиллерийские батареи и скопление пехоты. По радио доложил об этом и тут же получил разрешение атаковать. Отбомбился по артиллерии, «поласкал» из пулеметов пехоту, а затем развернулся и пошел домой.
Сразу же после приземления вернулся на передний край.
— Молодец, — похвалил генерал и крепко пожал руку.
— Да, чистая работа, — с восхищением сказал подполковник-танкист. — С таким хлопцем воевать легко. Как, летун, повоюем? — обратился он ко мне.
— Конечно.
— И еще как повоюем, брат, — улыбнулся танкист.
А через несколько дней началось наше наступление. Танки прорвали вражескую оборону, за ними в прорыв хлынула мотопехота. Вот тут-то и довелось мне выручить из беды того самого танкиста, с которым познакомились мы на переднем крае.
Группа танков, которой он командовал, оторвалась от основных сил и попала в окружение. В это время моя группа находилась в воздухе. Танкист попросил помощь. Мы подлетели к месту боя, но ничего не смогли увидеть. Горел лес, дым поднимался больше чем на тысячу метров. Начали отыскивать окна, с тем, чтобы пробиться к земле. Наконец, это удалось, и мы увидели наши танки в кольце врага.
— Бегельдинов, бей! — раздался в шлемофоне голос танкиста.
Сверху нам было видно, что с южной стороны сил у немцев маловато. Именно там мы их и атаковали. По радио я дал танкистам команду пробиваться в том же направлении. Через несколько минут кольцо было разорвано и танки вышли на соединение с основными силами.
После, при встрече, подполковник рассказывал, что когда он услышал по радио знакомый голос, он показался ему приятнее самой любимой музыки.
Вот что значит знакомство командиров перед наступление.
В штабе полка подсчитали, что только в дни Львовско-Сандомирской операции Первая (моя) эскадрилья штурмовиков уничтожила 27 танков, 42 автомашины, 12 артиллерийских орудий, подавила огонь 9 вражеских батарей. Являясь основной разведочной в полку Первая эскадрилья часто базировалась отдельно, поближе к КП дивизии или даже корпуса, поступала под непосредственное командование высшего командования. Очень часто я получал особые задания лично от командира дивизии или самого комкора. Именно поличному заданию Рязанова я вылетел на разведку. Комкору нужно было убедиться в достоверности донесений пехотной разведки о том, что в районе Косово сосредоточены танки, бронемашины и пехота, как видно, подготовлены для броска на прорыв нашей линии обороны.
Вылетел один. Долго барражировал над местечком и его окрестностями. Обнаружить немецкую технику было невозможно, кругом лес, кустарники, какие-то постройки. В этом нагромождении можно было укрыть целый полк.
Опускаюсь все ниже и ниже, летаю чуть ли не касаясь верхушек деревьев. От напряжения болят глаза. Наконец взгляд цепляется за нелепо выпирающий из копны сена то ли ствол дерева, то ли пушки. Возвращаюсь, пролетаю над подозрительным объектом еще раз. И из кучи не то сена, не то веток выскакивают не выдержавшие напряжения, напуганные ревом мотора немцы. Они бегут в разные стороны, очевидно, куда глаза глядят. Я снова делаю разворот и теперь обсыпаю объект пехотными бомбами. Куча разворачивается, разлетается, и обнаруживается танк. Затем другой, третий. Я летаю и штурмую всеми видами оружия, какое имею. И обнаруживаю, теперь уже не прячущиеся, пытающихся убежать танки.
— Их пятнадцать, — докладываю я на КП. — Десять укрывавшихся за строениями автомашин с пехотой.
С командного пункта поступает приказ: уничтожить живую силу и технику!
Приказ выполняю.
На следующий день повел четверку «ИЛов» на разведку в район Крутова и обнаружил скопление пятидесяти автомашин с автоматчиками. Отбив атаки восьми «Фоккевульфов» и четырех «Мессершмиттов», штурмовики уничтожили семь вражеских автомашин.
Бои идут на территории самой гитлеровской Германии. Моя эскадрилья прикрывает советские войска, штурмующие города Гинденбург, Оппельн, форсирующие Одер. За этот период в личном деле гвардии капитана Бегельдинова появилось десять благодарностей Верховного Главнокомандующего за отличное выполнение боевых заданий. А в феврале сорок пятого я сбил еще один, седьмой по счету вражеский самолет.
Дело было так. Вылетел на разведку и встретился с вражеским самолетом-разведчиком «ФВ-189». Это была тихоходная, но весьма маневренная двухфюзеляжная машина, прозванная у нас поэтому «рамой». Она использовалась гитлеровцами для разведки и корректирования артиллерийского огня. И сразу же пришло решение: нельзя отпускать ее, ведь не исключено, что фашист, покружив над нашими войсками, теперь спешит к своему командованию с разведданными. Сразу же убедился что правы были летчики-истребители, когда говорили, что «рама» — неудобная цель. И раз, и два атаковал ее я, но безрезультатно. Гитлеровец умудрился даже ускользнуть в облачность. Рассчитав, в каком месте он вынужден будет выйти из облаков, я подстерег «раму» и ударил из пушек по кабине и мотору...
Я получил почетное задание: разведать систему обороны врага на подходе к столице гитлеровского рейха. ... Над землей висели тяжелые кучевые облака. Когда самолет достиг цели, я пошел на снижение. Под крыльями самолета лежал огромный город. С высоты полета Берлин казался гигантским макетом, разграфленным узкими линейками улиц.
Такого душевного волнения я не испытывал со времени своего первого боевого полета, в числе первых советских летчиков я пролетел сейчас над городом-спрутом, гнездом германского милитаризма, логовом фашистского зверя. Ни бомб, ни эресов не пустил я на этот раз в ход. Только фотоаппарат щелкал кадр за кадром, да тренированный взгляд разведчика фиксировал объекты для будущих штурмовок. В боях за Берлин счет боевых вылетов, совершенных мною за годы войны, достиг трехсот.
Вылеты на разведку чередовались со штурмовками вражеских позиций. 14 марта 1945 года шесть «ИЛов» уничтожили пять танков и три бронетранспортера в районе Куцендорфа. 8 марта под Шенау — удар по вражеской пехоте. 11 марта эскадрилья подавила огонь двух вражеских батарей и сровняла с землей до десятка зданий, превращенных фашистами в доты.
В начале апреля командующий Второй воздушной армией генерал-полковник (впоследствии — маршал авиации) С. А. Красовский утвердил представление на присвоение во второй раз звания Героя Советского Союза гвардии капитану Бегельдинову, то есть, мне. Через два месяца, в июне, последовал Указ Президиума Верховного Совета СССР.
Под крылом Берлин!
Войска Первого Украинского фронта, в состав которого входила и наша дивизия, ломая сопротивление противника, стремительно продвигались к Берлину.
В ходе боев в районе Рагов-Тейпиц была окружена значительная группировка немецко-фашистских войск. В «котле» оказались несколько пехотных и танковых дивизий.
Ночью, собрав все силы в один бронированный кулак, гитлеровцы прорвали кольцо окружения и лесными дорогами пошли на соединение со своими основными силами.
Рано утром меня вызвали на КП и приказали вылететь на разведку. Предстояло выяснить, куда двигаются немцы. За ночь их группировка сумела оторваться от преследования и буквально растворилась в лесных массивах. Это грозило серьезными неприятностями: в тылах у наших наступающих войск оказались довольно значительные силы противника.
Лечу. Высота около пятисот метров. Внимательно осматриваю местность, но, как ни напрягаю зрение, не вижу ничего подозрительного. Докладываю об этом по радио. КП требует:
— Проверь еще раз лесные массивы.
Вновь летаю над лесом — нет, ничего не видно внизу. Сплошной стеной стоят вековые деревья. Тишина и покой. Куда же девались немцы? Не смогли же они исчезнуть — чудес-то не бывает! Едва подумал об этом, как с земли раздался орудийный выстрел, и снаряд прошел буквально в нескольких метрах от самолета. Ага, значит не выдержали нервы у врага! Перехожу на бреющий полет, едва не касаюсь макушек деревьев и тут же вижу, что лес битком набит танками и автомашинами. Мысленно благодарю того немца, который выстрелом демаскировал колонну. Не будь выстрела, ни за что бы не увидел ее.
Что ж, за выстрел следует отплатить. С бреющего полета бросаю бомбы, пускаю несколько реактивных снарядов. Внизу раздаются взрывы, видны дым и пламя. Теперь уже не одно орудие бьет по мне. Бьют впустую — разве можно попасть по цели, которая с огромной скоростью проносится прямо над головой?!
— Обнаружил танки и автомашины в районе Тейпиц, — докладываю на КП.
Получаю приказ немедленно возвращаться на аэродром, брать группу и идти на штурмовку.
Уже через сорок минут восемнадцать «Ильюшиных» были над лесом. Атаковали врага до тех пор, пока не кончились боеприпасы. На смену нам пришла другая группа.
Так штурмовики работали весь день. Группировка была уничтожена. Вскоре нам пришлось побывать в том лесу и увидеть дело своих рук. Признаться, мурашки пробегали по телу, когда я увидел, что сделала с колонной авиация. Сплошное месиво.
Линия фронта проходила в ста шестидесяти километрах от Берлина. Наш полк располагался около небольшого городка, название которого я, признаться, сейчас уже не помню. Ежедневно мы летали на штурмовку, помогая наземным войскам ломать оборону гитлеровцев. Как-то утром в полк приехал генерал Рязанов. Меня вызвали к нему. Вхожу, докладываю. Командир корпуса здоровается, предлагает сесть.
— Покажите планшет, — говорит генерал. Разворачиваю, показываю карту. Рязанов рассматривает ее, а потом говорит:
— О, у Вас не хватит карты.
— Почему? Пятьдесят километров за линией фронта. Достаточно.
— Не совсем.
Генерал пристально посмотрел на меня, а потом обратился к начальнику штаба полка подполковнику Иванову.
— Возьмите планшет капитана Бегельдинова и подклейте еще лист.
Пока начальник штаба выполнял распоряжение, командир корпуса расспросил меня о состоянии самолета, поинтересовался самочувствием. Я никак не мог понять, чем вызван этот разговор. Тут принесли планшет, и я увидел, что на нем появилась карта Берлина.
— Пойдете на Берлин со стороны Луккенвальде, — медленно, как бы подбирая слова, заговорил генерал. — Западнее города есть мост. Проверьте его. Далее — на Потсдам. Посмотрите, что там делается. Затем — домой. Высота полета пятьдесят — восемьдесят метров. Ясна задача?
Задача ясна. Лишь одно взывало недоумение: заданная высота полета. Не один десяток раз приходилось летать на разведку, но никогда о высоте не шла речь. Обычно, исходя из обстановки, сам выбирал ее. А тут...
— Вас, конечно, смущает указание о высоте, — угадал мои мысли генерал. — Не удивляйтесь. Полет предстоит очень сложный, и эта высота — самая безопасная. Нам крайне необходимо, чтобы Вы доставили пленку.
Да, полет предстоял необычный. Одному нужно было углубиться на сто шестьдесят километров на территорию врага, лететь прямо в логово зверя. И все это днем. Я прекрасно знал, что Берлин усиленно охраняется зенитной артиллерией. Даже ночные полеты бомбардировщиков, осуществляемые на огромной высоте, редко обходились без потерь.
— Разрешите обратиться с просьбой? — сложив карты, повернулся я к генералу.
— Пожалуйста.
— Разрешите лететь одному, без стрелка.
— Почему?
— Полет опасный. Мне... — я запнулся, — мне не хотелось бы ставить под угрозу жизнь товарища.
— Зачем такие мрачные мысли? — Рязанов подошел, положил руку на плечо. — Все будет хорошо. Командование ждет результатов разведки. Что касается стрелка, то решайте сами. Ну, в добрый путь, капитан.
Минуты — и «Ильюшин» в воздухе. Непрерывно держу связь с землей, докладываю обо всем, что вижу внизу. Позади Луккенвальде, до Берлина не больше двадцати километров. Неожиданно прямо перед собой вижу аэродром, на нем истребители. Вот это сюрприз!
Закладываю вираж и, форсируя газ, начинаю уходить от опасного места. Лечу, почти касаясь земли, петляю между перелесками. Одна мысль: уйти подальше от аэродрома. Что стоит немцам поднять в воздух хотя бы пару истребителей и без труда уничтожить меня?
К счастью, все обошлось благополучно. Правда, я сравнительно долго не отвечал КП, и там начали волноваться. В шлемофоне звучит тревожный голос:
— Тринадцатый, почему молчите? Тринадцатый, почему молчите?
Отлетев от аэродрома, я возобновил связь, сообщил об истребителях.
И вот оно, логово фашистского зверя, Берлин. Пока лечу над его пригородами. О, аллах! Как же мы мечтали об этом моменте, по-настоящему историческом. С каким трудом, какой ценой, сколько жизней отдано за него, море пролитой крови. А все-таки пришли. И первый тут я, казах, сын казаха из далекого аула на берегу озера Майбалык, внук чабана Бегильды. Я пришел, прилетел, чтобы поставить на колени, схоронившегося в твоих подвалах изверга, связать его, засунуть в клетку. Чтобы повергнуть в прах созданные им фашистские банды убийц.
На крышах домов, костелов, пожарных вышках, зенитки. По мне они стрелять не успевают, слишком низко лечу, палят вслед, для формальности. Подо мной мелькают улицы, на них люди, машины, с виду все спокойно, но это только с высоты так кажется, в душах фашистов смятение и страх, они знают, крах неизбежен, приближается развязка, а там, ответственность тех, кто виноват. И они корчатся от страха, скрежещут зубами от бессильной ярости.
Вот он и мост. Наверное через реку Шпрее. Разбираться нету времени.
Докладываю на КП. И не выдержав, прошу разрешения атаковать. Сейчас мне так удобно. Разнесу с одного захода. Но генерал запрещает.
— Отставить атаку! Запрещаю атаку! — кричит он. У командования свои соображения.
Одна часть задания выполнена. Теперь на Потсдам. На карте я его вижу. Да вот он, уже подо мной.
А немцы растревожились. Прослеживают мой маршрут, предупреждают зенитные батареи. Над Потсдамом завеса из сплошного огня.
Делаю вираж, захожу с другой стороны. Но зенитки бьют и здесь.
Что же, уходить, возвращаться, не выполнив задания?! Нет, такого еще не было. Думаю и принимаю решение. В развороте набираю высоту и бросаю машину в пике. На позиции зениток летят бомбы, снаряды, пулеметные очереди косят прислугу. И батарея замолкает, пушки подавлены.
Теперь жди истребителей, их, конечно, выслали. Но сейчас это неважно, появятся, тогда решать.
Спокойно делаю круг над районом, фотографирую артиллерийские позиции, всю тянувшуюся здесь систему обороны немцев. На прощанье еще заход, еще серия бомб, обстрел из пушек, пулеметов и, на обратный курс.
Оглядываюсь. Истребителей нет как нет. «Может без горючего сидят? — соображаю я. — Последнее время у немцев бывает и так».
Полет обратно другим маршрутом и тоже почти на бреющем.
В шлемофоне голос генерала. Он сообщает, что штурмовики — эскадрилья Чепелюка, — нанесли удар по обнаруженному им аэродрому. Немецкие машины горят.
Радист сообщает, что его полет уже занял около часа сорока минут.
— «Два часа? — не верится ему, — А казалось, что с момента вылета не прошло и тридцати минут».
На аэродроме меня ждали. На летном поле весь свободный личный состав полка. Вытащили из кабины и в объятья, а потом качать.
С нетерпением ожидал меня, так и просидевший рядом с радистом на КП, комкор. Вскочил навстречу, обнял, расцеловал.
— Благодарю, капитан Бегельдинов, от всей души благодарю! От лица командования тоже горячая благодарность. Оно не забудет этого твоего подвига. Можешь гордиться, твой штурмовик появился над Берлином днем первым из машин нашей воздушной армии.
А через день новое задание и снова на Берлин. Теперь уже не разведка и не в одиночку, штурмовка группой.
Задачу ставит командир полка. С ним начальник оперативного отдела корпуса майор Захаров.
— Задача — пробиться к центру Берлина, отыскать на Шпрее баржи с танками. Наземная разведка сообщает, что они там. Их нужно потопить, не дать немцам пустить в дело.
— Танки, резерв самого Гитлера, — поясняет Захаров.
— Задача ясна, — киваю я.
Да, мне ясна задача, я знаю, что Берлин окружен, бои идут на самых ближних подступах, а то и на окраинах. Город и так набит немецкими танками, самоходками, зачем же давать новое подкрепление? Такое допустить нельзя. А то, что на крышах, в скверах на каждом шагу зенитки, так это естественно и к ним не привыкать.
— К вылету готовы двадцать пять машин. Больше нету, остальные на заданиях, — развел руками Степанов.
— Разрешите лететь только своей эскадрильей!
— Почему? — изумился Захаров.
— Шуму меньше, а главное — потерь. В двадцать пять самолетов зенитчикам попасть проще. Каждый залп — хоть одного да настигнет. В десять — вероятность попадания уже вдвое, втрое меньше. И неудобно это, больше двух десятков самолетов над маленькой баржей крутиться. Цель мала, для нее и эскадрильи много.
— Ну что же, Бегельдинов, делай как удобней.
Через несколько минут двенадцать штурмовиков моей эскадрильи один за другим отрываются от взлетной полосы, выстраиваются в треугольник и на Берлин.
Теперь маршрут уже не опасен, немецких частей внизу нет. Они сбились на последнем, из оставшихся у них, клочке земли, — в Берлине. И аэродром у штурмовиков уже в непосредственной близости. До Берлина рукой подать.
Зенитки встретили штурмовиков уже в самом городе. Огонь сплошной. Но в эскадрилье моей опытные штурмовики. Ведомым — Иван Скурихин, слева звено Коптева с Махониным и Кочергиным. Замыкающим звено Роснецова. Этих асов так легко на пушку не возьмешь, за них я спокоен.
Эскадрилья летит вдоль Шпрее. И вот они, эти самые баржи, не одна, а две и еще буксир. На каждой барже уже расчехленные, видно, подготовленные к выгрузке, танки. Теперь в атаку, прижаться к самой воде, в мертвое для зениток пространство. Пальцы на гашетках бомбосбрасывателя, пушек, эресов. Заход, второй и развороченные взрывами баржи оседают, кренятся на борт и вместе с танками, последним резервом Гитлера, уходят под воду.
И вот еще один исторический момент в моей фронтовой биографии — начало штурма Берлина. Город полуразрушен. Фашисты фактически сломлены, но продолжают сражаться, по инерции, в основном под дулами пистолетов своих же командиров. А забившиеся под рейхстаг гитлеровские главари ставят на карту сам город, его жителей. Теперь все это не в счет, чтобы оттянуть час расплаты, они ставят к пулеметам, минометам стариков, женщин, вооружают мальчишек фаустпатронами, гонят их на смерть.
Моя эскадрилья в воздухе, штурмует отведенные ей квадраты, подавляет очаги сопротивления, рушит здания, в которых сидят автоматчики, сжигает танки, самоходки. В ушах голос командира полка. Он говорит открытым текстом, без паролей. А кого теперь опасаться?
— Бегельдинов! Бегельдинов! В районе Трейенбритцен немецкие танки. Их много. Они теснят наших. Помоги!
Я разворачиваю эскадрилью. Где он, этот район? Ага, вот он, — ориентируюсь я по карте. Внизу площадь, окраина, роща, на них и в них танки. Немного наших и много окруживших их, немецких, с белыми крестами на броне.
Вдруг голос в наушниках.
— Штурмовики! Горбатые! Немцы нас окружили. Бейте по ним! По моей машине бейте!
Всматриваюсь. Посреди площади две наши тридцать четверки, а вокруг немецкие «Тигры». Они расстреливают наших в упор.
— Что говорите, что говорите?! — не поверив команде, прошу подтвердить приказ.
— Говорю, бей, черт тебя возьми! Бей скорее! По мне бей, не бойся!
— Узнаю голос генерала — танкиста, с которым встречались.
— Атакуем немцев! — даю команду я. — Осторожней, не заденьте нашего. — И сам, точно нацелив самолет, посылаю его в пике. Ведомые повторяют маневр.
Бомбы, эресы посланы так аккуратно, что, взрываясь, не задевают ни одну нашу машину. Пять немецких танков подбиты, замерли, два из них горят.
Еще заход и опять бомбы, снаряды с ювелирной точностью поражают машины противника, не касаясь стоявших в непосредственной близости своих.
Оставшиеся целыми немецкие танки расползаются, теряются в улицах.
Вечером в полк приехали несколько танкистов, во главе с генералом. И опять сердечные благодарности, объятья.
Ужинали вместе, в столовой. Генерал поднял тост за боевую дружбу, отдельно за то, что вопреки категорическому приказу генерала, все-таки не разбомбили его.
— Ах, Бегельдинов, Бегельдинов, я же тебя за невыполнение моего боевого приказа в трибунал послать должен. Но не пошлю, — нет, не пошлю. А за жизнь мне тобою оставленную, сохраненную, спасибо.
— Скоро, скоро, братцы, — поднялся он, — выпьем в Берлине за победу. А пока за вас, боевых наших друзей — товарищей. После сегодняшней вашей отличной мастерской штурмовки, да разве только сегодняшней? Мы у вас, друзья, в неоплатном долгу. Но ничего, братцы, в Берлине, как заберем его полностью, за все сочтемся.
Ну ты, Бегельдинов, родной ты мой, удивил меня. Немцы же были около, впритирку стояли, а вы их бомбочками, эресами. И как же точно. Нас и осколками не задели.
Ну молодцы! Ну мастера! — И опять объятья, поцелуи. И теперь уж обязательные уговоры о встрече в Берлине.
Берлин был взят. Пал рейхстаг — последний оплот фашизма. Германия капитулировала. Летчики-штурмовики вместе со всеми родами войск праздновали победу.
Злата Прага
Седьмого мая штурмовики нашего 144-го Гвардейского полка, как я думал, провели последний боевой вылет на Берлин. 8 мая представители поверженной фашистской Германии подписали акт о безоговорочной капитуляции.
До летчиков полка эта весть дошла на следующий день. Меня разбудили крики, выстрелы. Натянув брюки и схватив на всякий случай свой «ТТ», я выскочил из дома. Весь состав полка был на летном поле. Летчики, механики, оружейники, солдаты роты охраны и аэродромного обслуживания метались по полю, обнимались, и что-то разом все кричали. Я уловил одно слово:
— Победа!
Подскочил стрелок Абдул, стиснул меня в объятиях.
— Победа, командир, победа! Войне конец! — А на глазах слезы.
— Победа! Победа! — закричал, замахал руками и я, наконец осмысливший произошедшее. — Победа! — кричал я, обнимая всех, кто попадал под руку.
Летчики собрались в столовой, выпили по фронтовой. Механики притащили вино. Заиграл баян. Полетов в этот день не было.
В Москве, поверженном Берлине, в городах Советского Союза отгремели залпы Победы, прошли митинги. А война еще не кончилась. В Чехословакии действовали мощные группы фельдмаршала Шернера. Они отказались капитулировать.
Решительными натисками советские войска подавляли сопротивление вражеских дивизий. Наши танкисты наголову разбили гитлеровцев под Дрезденом, форсированным маршем устремились к Праге. И тут в штаб Первого Украинского фронта поступила радиограмма: «Нахожусь в Праге. Еременко».
В штабе фронта недоумевали: как, каким образом в Праге мог оказаться командующий Четвертого Украинского фронта генерал Еременко, если его войска движутся совсем по другой полосе, а на Прагу наступают и фактически уже освободили ее танковые дивизии генерала Рыбалко и Лелюшенко?
Чтобы внести ясность, маршал Конев приказал послать в Прагу летчика, разобраться на месте. «Послать толкового и чтобы не сдрейфил!» — велел маршал.
144-й Гвардейский полк расположился неподалеку от Берлина, на аэродроме Финстервальде. Самолеты зачехлены, люди отдыхают. Но боевые дежурства не отменены, дежурные самолеты в боевой готовности, сигнал — и они в воздухе. И сигнал не заставил себя ждать.
Я был у своей машины, когда прибежал посыльный.
— Бегельдинов, в штаб корпуса, к генералу Рязанову.
Любой вызов к большому начальству ничего хорошего не обещает. Война кончилась, неужели еще штурмовки? Надоели они вот как, по самое горло.
До штаба корпуса рукой подать.
— По вызову? — спрашивает дежурный, перед кабинетом Рязанова. — Сейчас доложу.
В кабинете сам комкор, ставший командиром нашей дивизии Донченко, пехотные полковники. Колдуют над картой.
Я доложился.
— Ага. вот он, ас наш, — вроде как представил меня полковникам генерал и мне: Подойди к карте: смотри внимательно. Это Прага, — указал он карандашом, проведя линию от аэродрома через Рудные горы в Чехословакию. — По имеющимся данным, часть чехословацкой столицы освобождена нашими войсками. Что там происходит сейчас, разобраться трудно, сведения поступают не точные и противоречивые. Есть донесение, что в городе восстание, его захватили партизаны. Твоя задача — слетать туда, разведать, разобраться что там и к чему. Весь маршрут безопасен. Воздух чист. «Мессерам», «Фоккерам» вроде взяться неоткуда, но, на всякий случай, даю прикрытие, пару «ЯКов» вашего друга Михаила Токаренко.
По последним данным, немцы где-то в противоположной от аэродрома южной стороне. Пролетишь над аэродромом, все высмотришь. Узнаешь, что там за люди, если не немцы, партизаны, должны тебя пригласить, выложат посадочное «Т». Увидишь, садись, но из кабины не вылезай. Развернешься и жди. Учуешь подозрительное, по газам и пошел.
— Ты все понял? — спросил Рязанов.
— Так точно, товарищ генерал, — козырнул я.
— Он у нас понятливый, — кивнул головой комдив Донченко. — Сделает как надо.
— Сведения нам из Праги вот как нужны, — сказал пехотный полковник. — С генералом Еременко чепуха какая-то. Узнай, там ли он.
Еще несколько напутствий комдива, и я на аэродроме. Машина заправлена, она на старте. Стрелка я не беру, зачем он нужен, если небо чистое, без «Мессеров», лишний груз и риск еще одной жизнью.
— Миша, Миша! — вызываю по радио истребителя Токаренко. — Ты как? — Все знаешь?
— Знаю. Пошли! — отвечает тот.
Весь полет через кусок Германии, через невысокий, но грозный горный перевал, занимает не больше тридцати пяти — сорока минут. Летим без приключений, никаких зениток, ни «Мессеров», и небо действительно чистое. Даже как-то не верится, непривычно.
Вот и «Злата Прага», как ее называют сами чехи. Она действительно «злата». По-весеннему яркое солнце заливает ее, отражаясь мириадами золотистых бликов, в лужах, на улицах, на мокрых крышах — ночью прошел дождь. Только где-то, действительно на южной стороне, вздымаются к небу, так знакомые на войне, багрово-алые сполохи пожарищ, да большими, черными зонтиками отрываются от земли и плывут в небе разрывы снарядов.
Быстро определяю местонахождение аэродрома. Облет, второй: на летном поле появляются люди в гражданском, машут руками, шапками — вроде приглашают на посадку. Двое выкладывают посадочное «Т».
— Михаил! Михаил! — вызываю я истребителя. Что делать? Я сажусь.
Даю разворот. И в этот момент залп пушек. Зеленоватые цепочки снарядов прошивают воздух перед носом машины. Жму на ручку управления, ухожу в сторону и вверх. Жду продолжения обстрела. Но его нет. Небо чистое.
Осматриваюсь. У аэродрома зениток нет. Стреляли откуда-то сбоку, издалека. А люди на аэродроме бегают, машут руками, приглашают.
— Миша, сажусь! Чуть чего выручай!
И сразу в наушниках истошный крик Токаренко.
— Не садись, самоубийца! Не садись! Там обман! Немцы там! — надрывается он.
Позднее Токаренко, признаваясь, скажет: «А ведь тогда, Толя, мне перед вылетом, было приказано, в случае чего, если ты попадешь в западню, самолет захватят немцы, уничтожить самолет, немцев и тебя.
— Приказ страшный, — вздохнул он. — Едва ли я бы его выполнил».
— За невыполнение боевого приказа — расстрел, — заметил тогда я.
— Ну, это уже потом, — пожал плечами Токаренко.
— Момент напряженный, — продолжаю сомневаться я. — А ну как и вправду обман? А если это немцы?
Но надо мной, вверху, с ревом носятся два наших истребителя. Это успокаивает, прибавляет уверенности. Навстречу белая ракета. Можно садиться. Я захожу на посадку. Задание нужно выполнить.
Штурмовик коснулся колесами бетона, пробежал по полосе. Я на ходу разворачиваюсь. Теперь, на всякий случай, готов для взлета. Через летное поле бегут люди. Это явно чехи, не немцы. И без оружия.
Посылаю красную ракету. Они останавливаются.
Поднимаю палец, даю понять, что подойти должен один.
Люди поняли. Переговорились. От группы отделяется худощавый высокий человек. Я сбавил газ, крикнул:
— Ты кто?
— Партизан! Чех! Партизан! — тыкал подошедший себя в грудь. — Брат! Брат!
Я спросил, как в городе?
— На Прага бош нету. Вси ушли. Вси бежали! — объяснил чех. — Мы советски брат. Приходи, вси приходи!
Про генерала Еременко он ничего не слыхал.
Чех дает знак, чтобы выключил мотор. Я не соглашаюсь. Представляюсь. Чех тоже называет имя, фамилию. Он командир партизанского подразделения. Объясняет, что стреляли по самолету какие-то немцы, из города. Их добивают, — объяснил он. — А аэродром заняли партизаны. Так что можно его использовать.
— Отдаем Вам, — сделал он приглашающий жест.
Говорить было не о чем. Задание выполнено. Я обещаю прилететь. Прощаюсь и взлетаю.
На обратном маршруте я теперь спокоен — есть возможность поглядеть вниз, на проплывающие подо мной фермы, городки. Горы, разделяющие Германию и Чехословакию, перелетаю, чуть ли не касаясь крыльями вершин. Навстречу, по перевалам, движутся колонны наших танков, с ними мотопехота.
А на аэродроме снова триумфальная встреча.
Потом обстоятельный доклад об увиденном, захваченном партизанами аэродроме, который можно и нужно занимать немедленно. Командование дает добро.
Комдив сообщает, что с телеграммой Еременко разобрались. Послал ее не генерал, а полковник Еременко, командир дивизии и его однофамилец. Бывали на войне и такие казусы.
Час на сборы и группа из двадцати четырех самолетов в воздухе. Веду ее я же. Приземляется группа на уже знакомом аэродроме без происшествий. Встречают летчиков как дорогих гостей.
— Обедать и отдыхать, — на ломаном русском распоряжается тот самый худощавый чех, командир отряда.
У нас с собой сухие пайки, но повар аэродромной столовой, огромный, толстый, в белом фартуке, ведет меня к холодильнику. Там туши жирного мяса, бутылки, бочка вина, разные закуски. Все немецкое и все страшно соблазнительное. Но у меня, как каждого командира, приказ: «На вражеской и оккупированной территории кормить людей трофейными, захваченными, купленными или же просто преподнесенными населением продуктами только с разрешения нашего врача!»
А где его взять, врача нашего?
Подсказывает тот самый чех, командир. Оказывается, неподалеку уже обосновалась наша танковая часть, там санбат.
Едем с ним на его машине. Танковая часть действительно недалеко. Но, завидев летчика, танкисты ухватили меня, не отпускают. Они празднуют освобождение Праги, хотя освобождена она еще не вся. Пришлось с ними посидеть.
Когда вернулись, летчики тоже праздновали, пили вино, закусывая жирным гуляшом, изготовленным поваром из мяса, для установления пригодности которого я привез врача. Вскоре и врач сидел за столом, уписывая за обе щеки гуляш. Ел и я, запивая отличным трофейным, из немецких складов, не то итальянским, не то французским вином.
Уже ночью сидел в скверике, у определенного летчикам дома с официанткой, не то чешкой не то венгеркой, удивительно похожей на теперь уже покойную Айнагуль. Мне даже казалось, что никакая она, моя Айнагуль, не покойная, а передо мной живая, со своими темными блестящими глазами, черными волнистыми волосами и до прозрачности нежными алыми губами. И руки у нее были такие же хрупкие, нежные и теплые, а голос грудной, проникновенный. Может быть, и впрямь не погибла Айнагуль, просто ее душа, вся ее суть сменили оболочку, вселились в эту девушку?! Наверно, потому и было с ней, с этой не то Владой, не то Баженой, так хорошо?
Жизнь продолжалась, молодость брала свое.
Утром всю нашу группу снова поднял приказ. Задание — помочь танкистам добивавшим никак не складывавшую оружие немецкую группировку.
И снова штурмовка, рвущиеся вокруг зенитные снаряды всех калибров, а под крыльями — вздыбленная бомбами, снарядами земля, горящие машины, танки, мечущиеся в панике солдаты пехоты.
Наконец, немцы, поняв всю бессмысленность сопротивления, подняли руки и сложили оружие.
На следующий день, поднявшись утром, летчики увидели праздничную ликующую Прагу. Пройдя больше ста километров за ночь, танковые соединения на рассвете вступили в столицу Чехословакии, теперь уже окончательно освободив от немецко-фашистских захватчиков. Люди в парадных праздничных одеждах вышли на улицу. Завидев нас, они обнимали, целовали, плакали от счастья.
— Наздар! Наздар! Победа! Нех жие руда армада! — кричали они приветствуя советских воинов.
Вокруг самолетов толпились чехи. Автоматчики охраны старались оттеснить их, но они прорывались к машинам. Немецкая же пропаганда убеждала их в том, что у русских никакой военной техники нет, что танки, самолеты — из фанеры, что в такой отсталой стране, где по улицам городов бродят медведи, не может быть никакой техники. И вот она, техника, налицо. И все-таки сомнения одолевали.
— Русь, она эта, — указывая на штурмовики, спрашивает кто-то, — это фанер?
— Русь — фанер, — поддакивает второй. Сержант-автоматчик не выдерживает, кивает чеху.
— Подойди, пощупай.
Чех подскакивает к самолету, размахнувшись, бьет кулаком по крылу. И отскакивает, размахивая ушибленной рукой, кричит: — Метал! Метал!
Утром над аэродромом пролетела пара американских истребителей. Заложив круг по всем правилам летного искусства, они приступили к выполнению фигур высшего пилотажа. Работали чисто, с большим мастерством. После них появилась четверка. Эти исполнили еще более сложную программу, показали высокий класс.
Оставаться равнодушными, к этой хвастливой демонстрации наши летчики-истребители не могли.
— Разрешите слетать, товарищ генерал, — обратился к только что прилетевшему комкору командир звена истребителей Шут.
Генерал было отказал, но летчики просили. Как же, было задето самолюбие.
Полетели тройкой. Возвратились через час.
— Полет завершен успешно, — доложил Шут. — Мы полетали маленько, поучили союзничков настоящему пилотажу, вообще, как работать...
Потом они рассказали, что это была за работа.
Над американским аэродромом прошли бреющим. Затем, серия фигур высшего пилотажа по одиночке, потом строем. Сделали боевой разворот, переворот и многие другие сложные фигуры. На прощание прошли над аэродромом на бреющем же. При этом командир звена летел вниз головой, кверху колесами. Все три самолета крыло в крыло.
После этого американцы уже не прилетали.
В тот же день чехи устроили для летчиков большой банкет. В просторной столовой много чехов военных и гражданских. Сидели за столами до позднего вечера. Поднимали тосты за победу. Пели русские и чешские песни, танцевали.
Утром штурмовики и истребители их сопровождения улетели на свой аэродром в Германии. Их место заняла другая авиационная часть.
Пролетая над гостеприимной Прагой, я покачал прощально крылом самолета. Это же сделали все штурмовики.
Однако и эти штурмовки Берлина, бои под Прагой оказались не последними. Несколько дней на аэродроме во Фюрнстервальде стояла тишина. Изредка ее нарушал шум мотора — это кто-то из механиков прогревал свою машину. Летчики слонялись по комнатам общежития или отирались около зачехленных самолетов, не находя, с непривычки к свободному времени, места. С завистью поглядывали они на еще сидевших в кабинах дежурных по первой готовности. Они все-таки при деле.
Сидел в кабине и я. Боевое дежурство несла моя эскадрилья.
После полудня на аэродром приехали гости, истребители соседнего полка. Их встретили, усадил за накрытые столы.
Дежурным экипажам стало обидно — там гуляют, а ты сиди в кабине.
День был на исходе. «Еще час, солнце зайдет и никаких тревог, и конец дежурству», — соображал я. Но время тянулось.
Появился механик. Хитро подмигнул, подсунулся к уху шепнул:
— Сегодня полетов уже не будет. Да и некуда лететь-то. А у меня бутылка. Давайте, командир, за победу! Такая радость, такая радость! Скоро домой! Эх, давайте, командир по глотку, — махнул он рукой.
— Нет, нет, — отмахнулся я. — Ты что, чокнулся?! Я же на боевом.
И действительно, предложить летчику выпить на боевом дежурстве в первой готовности! Да, неделю назад он бы только за такое предложение сам любого под трибунал отправил. Но это же неделю назад, в боевой обстановке, а теперь какое оно боевое, если война кончилась?! И вообще, какие теперь могут быть вылеты?
— А, черт с ним, — махнул я рукой. — Наливай!
Выпили по полному стакану. Механик налил по второму. И в этот момент, надо же было случиться такому, подбежал посыльный.
— Тревога!
Эскадрилья поднята в воздух. Задание штурмовать прорвавшуюся откуда-то в район подопечной пехотной дивизии, не сложившую оружия танковую группу немцев.
Штурмовики обрушились на немцев со всей силой своего огня. Не прикрытая ничем с воздуха танковая колонная остановилась, смешалась. Подбитые, горевшие машины перегородили дорогу остальным.
Подоспели новые группы самолетов, наши танки.
Я работал как обычно, даже с еще большим азартом, укладывая бомбы точно в цель, расстреливал танки из пушек, косил пулеметными очередями пехоту. Как всегда, четко командовал эскадрильей, руководил штурмовкой.
Израсходовав боезапас, вывел эскадрилью из боя, довел до аэродрома. А вот посадил самолет с трудом. Наверно, в бутылке механика был ром невероятной крепости, он и дал о себе знать. Чуть приземлившись, я тут же, прямо в кабине уснул.
Меня вытащили. Подошел командир полка. Глянул на своего подопечного и, сразу разобравшись в чем дело, отправил пьяного комэска домой.
Наутро, как положено, был разгон. Но война-то кончилась, не судить же провинившегося.
— Твое счастье, что она кончилась, — сказал, закончив отчитывать меня, командир. — А то бы! В общем, прощаю. Помни, в следующий раз, на боевом... — И запнулся, наверное, подумав: «Когда он будет, такой следующий?» Улыбнулся. Война-то кончилась!
Та самая, чуть не ставшая для меня трагической, штурмовка, оказалась для полка, да, наверное, и для всей штурмовой и прочей авиации, последней. И не важно, что я ее даже и не запомнил — после рома-то, — и без нее эти три года были полны штурмовками, боями, и вспоминать их было не очень-то радостно, хотя они были преимущественно победными. Хорошо, счастливо было вспоминать одно: конец войны и общую Великую Победу!
Памятным в моей жизни остался день седьмого июня. В этот день, на том же самом аэродроме в Фюнстервальде, состоялся митинг по поводу награждения штурмового Гвардейского корпуса Рязанова, орденом Суворова Второй степени.
Обстановка торжественная, вдоль стартовой линии выстроились «ИЛы», перед ними — четкие ряды летчиков. На правом фланге гвардейское боевое знамя, с прикрепленным к нему орденом Красного Знамени.
Команда «Вольно!», и комкор генерал-лейтенант авиации Рязанов объявляет митинг открытым.
Выступают с приветствием маршал Советского Союза Конев, за ним — командующий воздушной армией генерал-полковник Красовский. Они говорят об огромном вкладе, внесенном корпусом в победу над врагом, перечисляют боевые операции, блестяще проведенные полками, эскадрильями, каждым летчиком в отдельности.
— Не было такого случая, — восклицает маршал Конев, — чтобы летчики корпуса не выполнили, при любых условиях, — подчеркивает он, — боевого задания.
Выступающие называют имена летчиков-героев, погибших смертью храбрых, особо отличившихся, стоящих в строю.
Знаменосцы, Герои Советского Союза, уже майоры Максимов, Токаренко и я, пронесли перед строем знамя.
Маршал прикрепляет к красному полотнищу орден. Напоминает:
— Когда я вручал корпусу первую награду — орден Красного Знамени, сказал: «Уверен, что вы, крылатые, гвардейцы, будете в небе над Берлином первыми! Рад, что оправдалось мое предсказание! Я очень рад! Честь вам и слава!»
Парад Победы
Потом произошло невероятное. Парад Победы — и я его участник! Полк готовился к перелету. В полном составе мы должны были перебазироваться в Австрию. Как-то жаль было покидать Фюнстервальде. В годы войны, особенно в наступлении, мы привыкли почти каждую неделю менять аэродромы. А тут стоим уже больше месяца, обжились, обзавелись друзьями в соседних частях.
Буквально накануне отлета меня неожиданно вызвали в штаб корпуса. Вновь прохожу знакомым коридором к кабинету генерала Рязанова. В приемной у него много офицеров из разных частей. Невольно в сердце закрадывается тревога: что случилось, за какой надобностью собрали нас?
Адъютант приглашает всех в кабинет. Командир корпуса сегодня выглядит несколько необычно. Он при орденах, в парадном мундире. И настроение у него, как видно, отличное.
— Я собрал вас, товарищи офицеры, — заговорил генерал, -чтобы сообщить приятную новость. В конце месяца в Москве состоится Парад Победы. На нем вы будете представлять наше соединение. Есть вопросы — пожалуйста. Если нет — можете быть свободны. Дополнительные указания получите в своих частях. Капитана Бегельдинова попрошу остаться.
Все разошлись, мы остались вдвоем в кабинете.
— Садись, садись, разговор предстоит долгий и не совсем приятный. Мне доложили о полете в район Мельники, — генерал пристально посмотрел на меня, и я почувствовал, как краска заливает мое лицо. — Изволь объяснить свое поведение.
Что я мог сказать командиру корпуса — человеку, которого глубоко уважал, больше того — любил как отца родного. С первого и до последнего дня войны он был моим высшим начальником, требовательным, порой безжалостно строгим, но всегда внимательным и справедливым.
— Ну, я жду, — Рязанов встал, закурил, прошелся по кабинету. И я, не скрывая ничего, рассказал о злосчастной бутылке рома, просил простить меня и дал слово, что впредь никогда не случится ничего подобного. От стыда я готов был провалиться сквозь землю.
— Пойми меня правильно, — генерал сел в кресло напротив. — Война сделал тебя офицером. Родина отметила твой путь многими боевыми наградами. Тебе ли заниматься ухарством, быть мальчишкой? Мы решили не наказывать тебя, но предупредить строго.
Я встал и еще раз дал слово быть впредь образцом дисциплины. Уже прощаясь, генерал сказал:
— Жаль, что ростом ты невелик.
— Почему?
— Да вот на параде левофланговым пойдешь, далеко от мавзолея.
На душе у меня сразу потеплело. Я понял, что инцидент со злополучным ромом исчерпан.
В самом лучшем настроении вернулся в полк. Здесь уже знали, что я еду в Москву. Товарищи от души поздравили меня. Но, признаться, меня волновало одно обстоятельство: кто поведет в Австрию мой самолет, мой тринадцатый. (Номер погибшего, по моей просьбе, присвоили новой машине, после возвращения из госпиталя). Неожиданно вопрос разрешился очень просто.
— Оставим тринадцатый в Фюнстервальде, — решил командир полка. — С ним будет и твой механик. Вернешься из Москвы — вместе прилетите. Только сначала проверь, нет ли где-нибудь в загашнике еще одной бутылки рома.
Все присутствующие при этом разговоре расхохотались. Смеялся и я — после разговора с генералом я имел на это право.
... Поезд медленно идет через Польшу. В составе офицеры -участники Парада Победы. Проезжаем места недавних боев, видим раны, нанесенные войной. С утра до вечера в вагонах не прекращаются воспоминания. И, что странно, теперь, когда смолкли бои, у каждого вдруг появилась масса забавных историй. Мы иронизируем над своими неудачами, подтруниваем друг над другом.
Вот и граница. Все прильнули к окнам. Разговоры умолкли. В торжественной тишине состав перешел границу. О чем думал каждый из нас в этот момент? Трудно сказать. Я мысленно окинул взглядом путь от Старой Руссы до Берлина и Праги, вспомнил друзей, которые не дожили до Дня Победы.
Поезд идет и идет. Вновь разговоры в вагоне. Но теперь все делятся своими планами на будущее, мечтают скорее попасть домой, к семьям.
Наступает вечер. Лежу на полке с открытыми глазами и под перестук колес вспоминаю декабрь 1942 года, холодный товарный вагон, негреющую «буржуйку». Вижу Сергея Чепелюка и, конечно, мою первую потерянную любовь Айнагуль, расставание с ней, вновь и вновь мысленно, перечитываю странички ее недописанного предсмертного письма. Кто-то допишет его в моей жизни?
Перед глазами возникает Фрунзе. Вижу, отца, мать. Родные мои, я ведь так виноват перед вами, так редко писал, заставляя волноваться и плакать. Но теперь уже недалек день встречи. Я прижму вас к груди, и мы долго-долго будем сидеть молча, снова и снова, теперь уже все вместе, будем переживать нашу завершившуюся разлуку и то, что пришлось пережить за прошедшие два года войны, что красной строкой теперь уже на всю жизнь, вошло, врезалось, в мою биографию и благодарить судьбу, бога за то, что пройдя всю войну по краю гибели, я остался жив и снова с вами.
Москва! Ликующая столица нашей великой Родины. Как она изменилась, как похорошела! На улице весна, дышится легко и свободно. Мы ловим на себе благодарные взгляды людей.
День 24 июня будут вспоминать наши потомки. В этот день по Красной площади прошли сводные полки фронтов и части Московского гарнизона. К подножью мавзолея легли вражеские знамена.
Во главе полка Первого Украинского фронта шел маршал Конев, за ним в первой шеренге шли мы, фронтовые друзья: Иван Кожедуб, Сергей Луганский, Юрий Балабин и — самым крайним слева — я. С трибуны мавзолея на нас смотрели руководители партии и правительств. Я был безмерно счастлив от сознания своей принадлежности к тем, кто ратным трудом и кровью освободил народы Европы, счастлив тем, что мне выпала честь сражаться и побеждать под великим знаменем нашей Отчизны.
Участники парада стали разъезжаться по своим частям. Что привезти друзьям из Москвы? Эта мысль не давала покоя. И вот. проходя по улице Калинина, я обратил внимание на огромные витрины универмага Военторга. В них, сверкая лаком козырьков, красовались фуражки с голубыми околышами и крылышками на тульях. Ясно! Вот он, лучший подарок!
Продавец ахнул, когда я попросил упаковать мне сразу тридцать фуражек.
— Зачем так много, товарищ капитан?
— На всю эскадрилью.
Продавец замялся и, смущаясь, признался, что в отделе у него сейчас столько не наберется. Посоветовал обратиться к администратору.
Администратор, видимо, в прошлом офицер, понял с полуслова. Он усадил меня в своем кабинете, а сам отправился на склад. Вскоре он явился в сопровождении двух рабочих, неся коробки. Вот так штука! Как же я довезу все это до вокзала? Администратор и тут выручил: дал машину.
Поездом, затем попутным грузовиком, я добрался до Фюнстервальде. Уложили фуражки в хвост самолета, механик уселся на место стрелка, и вскоре «Ильюшин» уже летел к Вене.
Нужно ли говорить о том, какой была встреча в полку? Уже через час после прилета летчики, механики и стрелки моей эскадрильи щеголяли в новых фуражках. Не беда, что кое-кому они пришлись не впору. Главное — подарок из Москвы, с Парада Победы!
Мирное небо
Самолеты стоят в двадцати километрах от Вены. Мы несколько раз побывали уже в городе и не устаем восхищаться дивной красотой австрийской столицы. Посетили и знаменитый лес, знакомый всем по кинофильму «Большой вальс». И все-таки очень хочется скорее вернуться на Родину. У меня все чаще и чаще появлялась мысль об учебе. Поделился ею с командиром полка, но он со мной не согласился.
— Сколько можно учиться? Слава богу, окончил авиаклуб, три авиационных училища. А разве война — это не школа? Нет, брат, мы все сейчас академики, кого угодно поучить можем.
Какая-то доля правды в этих рассуждениях была. Действительно, война явилась великой школой. За два года я сделал более трехста боевых вылетов, проведя в них в общей сложности без малого пятьсот часов, уничтожил много вражеской техники, сбил семь самолетов. Но ведь это — сугубая практика. Кто я? Летчик, но не больше. Нет, нужны основательные теоретические знания. Признаться, волновало и другое: сумею ли попасть в академию! Сдам ли экзамены?
Наконец я получил отпуск и поехал домой. Всю дорогу от Вены до Москвы мечтал о том, как приеду во Фрунзе, встречусь с родными и друзьями. Но этому не суждено было сбыться. В Москве я твердо решил стать слушателем академии.
Явился на прием к главному маршалу авиации и рассказал о своей мечте. Мое стремление одобрили, позвонили начальнику академии. В этот же день я был уже на комиссии. Да, подзабыл все окончательно за годы войны. Меня успокоили: есть курсы подготовки.
Через три месяца курсы были окончены, я сдал вступительные экзамены и стал слушателем Краснознаменной Военно-воздушной академии. После этого вернулся в свою часть, сдал эскадрилью другому офицеру. Боевые друзья тепло проводили меня на учебу.
До начала занятий оставалось еще немало времени, и я поехал во Фрунзе. До сих пор бережно храню в памяти теплоту моей встречи с отцом, матерью, с друзьями и знакомыми.
В эти же дни в моей жизни и произошло очень большое событие.
Дело в том, что еще в школьные годы была во Фрунзе девушка, с которой мы были хорошими друзьями.
В последнее время, на фронте когда выдавались свободные минуты, я писал Сание, рассказывал о боях, о своих фронтовых друзьях. В ответ приходили письма. Вначале короткие, застенчивые. Потом Сания стала заполнять свои весточки словами: «Дорогой Талгат...». Нужно ли говорить о том, что во Фрунзе мы встретились и не могли наговориться. Лишь на рассвете закончилось наше первое свидание.
Штурмовики — народ решительный, не привычный долго рассуждать над тем, что совершенно ясно. Я сделал предложение, и она согласилась стать моей женой. Несколько дней родные и друзья отмечали нашу свадьбу.
С тех пор прошло много лет. Военная служба бросала меня из одного конца страны в другой и все время рядом со мной была Сания. Рядом наши дети...
К сожалению, дома погостить пришлось недолго. Начались занятия. Вместе со мной сели за столы Иван Кожедуб, Сергей Луганский и многие другие летчики, решившие получить высшее образование. Здесь, в стенах академии, мы совершенно другими глазами посмотрели на операции, в которых совсем недавно принимали непосредственное участие.
После года учебы, когда я готовился ехать в отпуск, из Акмолинска пришла телеграмма. Коллектив Макинского паровозного депо выдвинул меня кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.
Я поехал к своим избирателям.
Побывал в ауле Майбалык, откуда много лет назад ушел искать счастья мой отец. Как самого почетного и дорогого гостя встретили меня односельчане отца.
Теплая встреча ожидала и в областном центре. Я стоял на трибуне, видел тысячи лиц, и одна мысль владела мною: как отблагодарить этих незнакомых, но близких и родных людей за высокое доверие? Как передать им чувства, волнующие меня в эти минуты? Я рассказал о том, как выполнял свой воинский долг, защищая родной народ от врага, обещал, что так же старательно и честно буду выполнять и новые свои обязанности — обязанности народного избранника.
Вновь занятия в академии. От избирателей приходят десятки писем. Много сложных, порой запутанных дел пришлось разрешать по долгу депутата Верховного Совета.
Наконец учеба закончена. Командование академии предложило остаться на кафедре, но я всей душой стремился в часть и получил назначение заместителя командира полка по летной подготовке. Вместе с летчиками, прошедшими суровую школу войны, мы учили молодежь, передавали ей свой богатый опыт.
Но, видно, не прошли бесследно годы войны. Медицинская комиссия отстранила меня от полетов, и командование перевело на высшие курсы усовершенствования офицеров-штурманов в качестве начальника штаба.
И снова бой
Прошло несколько лет. В 1957 году по состоянию здоровья я был демобилизован из рядов Советской Армии.
Первый этап моей жизни пройден. Что в нем главное? Конечно, война. Фронт, парад Победы и я в первых рядах его участников в группе Героев Советского Союза. Затем — служба в оккупационной Советской армии (конечно, в своей авиационной части), учеба в Военно-воздушной академии, наконец, Краснодарская школа штурманов. И все, и я — по состоянию здоровья, ухожу в отставку. Почему? Как это могло произойти? Ведь я так любил авиацию, самолеты, окружавших меня людей — летчиков и, вообще, всю эту специфическую воздушно-авиационную среду. У меня и в мыслях не было расстаться с нею. Да, не было. И сейчас, где бы я ни был, в какой бы должности ни служил, как бы ни привязался к новому делу, авиация, самолеты в моей душе. Они так и пройдут со мной, я пронесу их в своем сердце через всю жизнь до ее конца, через все предназначенные мне этапы.
А расстался я с авиацией по очень простой, по нашим понятиям, причине — я перестал быть летчиком по состоянию здоровья. Да, да, очередная медкомиссия по состоянию здоровья, из-за перенесенного ранения, контузии отстранила меня от полетов навсегда. И вот я уже — начальник штаба летного штурманского училища. Это, конечно, не летчик, это совершенно определенно, канцелярский работник. Таким он должен быть, такой и есть. А я не мог. Не мог быть изо дня в день вблизи самолетов, слышать рев их моторов и сидеть в конторе, за столом. Перенести, вытерпеть такое не мог. Я ведь жил самолетами. Которые летали над нашими головами с пассажирами — эти меня не волновали, как не может волновать, скажем, автогонщика скрип телеги. Перед моими глазами мой совсем по-девичьи стройный, изящный и вместе с тем, мощный и грозный со своим вооружением «ИЛ-2». Самолет фронтовой, боевой, этот самый, как его называли, «воздушный танк», гроза противника, сеющий в его рядах страх и смерть. Вот что занимало меня, вот чем я еще продолжал жить.
Но война кончилась, мой «ИЛ» стоял на приколе, и девушки-оружейницы не загружали ящики всесокрушающими снарядами, и мне уже не сесть в его кабину, не ощутить ласкового прикосновения к ладоням прохладной полированной поверхности ручек управления. Все это ушло, все позади. Теперь передо мной задача — избрать путь к новому этапу мирной жизни, конечно, достойный, заполненный не менее захватывающей работой, напряженной, наполненной глубоким содержанием. Чтобы я как на своем «ИЛе» в бою, в штурмовках, в воздушных схватках, мог отдавать себя всего без остатка, ставить цели и, преодолевая любые препятствия, достигать их, побеждать.
Следует сказать, что в мирную жизнь я шел не с пустыми руками, последний, послевоенный период, сознавал, что так или иначе, не сегодня, так через год, придется идти в отставку. Вообще-то строго определенный финиш службы летчика, да еще штурмовика ограничивается очень коротким возрастом. Мне уже пошел тридцать третий, плюс ранения, контузия, вынужденные посадки. Медкомиссии учитывают все. Учтя это, я заранее сумел окончить Московский строительный институт. Это и определило мой дальнейший трудовой, а в общем и весь жизненный путь.
Расставшись с авиацией военной я, по воле судьбы, все-таки, в принципе, снова оказался при ней. Правда теперь вроде как косвенно, но, вместе с тем, и довольно непосредственно. Я стал строить взлетно-посадочные полосы для самолетов, обеспечивать им жизнь полнокровную, удобную, дающим возможность беспрепятственно покорять любые пространства и время.
И вот уже перед моими глазами плывут в окне вагона мои родные степи, потом бесконечная и грандиозная цепь Улутауских гор, а около них, у самого устья широкого ущелья, покрытого вечнозеленым лесом, Фрунзе.
Теперь я еду сюда уже с семьей, у меня жена Сания, сын Марат и две дочери — Галина и Райхан.
Пробыли мы здесь недолго. Встреча с начальником Республиканского управления гражданской авиации Казахстана. Надо же было такому случиться именно здесь. Он тут же предложил мне должность своего зама по капитальному строительству. Я согласился.
Так начался второй этап моей жизни, этап, как мне казалось, совершенно мирного труда. Но так только казалось, в действительности, как выяснилось, к спокойному, размеренному, буквально мирному труду, я оказался совершенно не способным. Кстати, и само доверенное мне дело никак не позволяло следовать этим самым мирным терминам. На каких бы участках ни был занят, я не мог быть спокойным, если дело не кипело, если мы не боролись и не побеждали, какие-то, казалось, непреодолимые препятствия. А в строительном деле, которым руководил, иначе было и невозможно. Я уже достаточно хорошо освоил сложное строительное дело, и уже отлично разбирался во всех его тонкостях. И сразу, с первых дней, суровый, обстоятельный экзамен моих знаний, и не где-нибудь, а на стройке ответственного объекта — сооружение первого в республике Алма-Атинского аэродрома, его взлетно-посадочной полосы.
Доверили мне это дело не сразу, перед этим, в основном, не без моей инициативы, с помощью Совета Министров Казахстана, была разработана и утверждена генеральная программа развития в республике гражданской авиации, в которой особое внимание было уделено созданию ее базы — сооружению аэродромов со взлетно-посадочными полосами, способными принимать большегрузные самолеты типа «ИЛ-18» и соответствующие вокзальные постройки. В программе намечалось соорудить десять аэродромов, со всеми сопутствующими таким аэродромам сооружениями.
Программа была грандиозной, но для воплощения ее в жизнь требовались огромные людские, материальные и денежные ресурсы. И все это легло на мои плечи.
Целесообразнее всего я считал начать осуществление программы с сооружения первого аэропорта, способного принимать самолеты любого размера и веса в Алма-Ате. Такое решение было принято и Центральным Комитетом Компартии и Советом Министров Казахстана. Было определено место, установлен жесткий срок. Но когда мы с основным подрядчиком, бывшим тогда управляющим «ГУШОСДОРа» — Главного управления шоссейных дорог Казахстана Леонидом Борисовичем Гончаровым, окинули взглядом местность, у нас волосы встали дыбом, руки опустились от сознания почти стопроцентной невыполнимости поставленной задачи. Перед нами, насколько хватало глаз, расстилалась неровная, кочковатая поверхность болота.
— Оно так тут и будет стоять, болото это. Низина же, а кругом — горы, дожди, — сделал заключение Гончаров.
Заключение было совершенно правильное. На осушение болота, удаление всей этой, заполнявшей низину грязеводной массы — а ее здесь сотни тысяч кубометров — потребуются месяцы. Это было неоспоримо, но так же неоспоримым было постановление ЦК и Совмина, в котором было записано черным по белому: завершить сооружение взлетно-посадочной полосы аэропорта в течение семи месяцев. Таким решениям возражать было не положено. Мы почесали затылки и стали решать, искать выход. И нашли. Работа закипела. У болота появились люди, сотни свезенных из республики единиц механизмов. И я снова оказался в уже почти родных мне фронтовых условиях. Прежде всего, нужно было убрать воду. Легко сказать — «убрать». А как это сделать? Выкачивать сотни тысяч кубометров не воды, — в том-то и дело, выкачивать, осушить или как, нужно было тягучую, тухлую жижу, перемешанную с гнилыми водорослями, мелким кустарником... Тут ни о какой откачке насосами не могло быть и речи, нужно было другое решение. И оно нашлось. Предложили сами рабочие, механизаторы, тоже загоревшиеся этой самой боевой страстью. Обнаружив протекавшую неподалеку речушку, предложили прокопать к ней водостоки, по которым и спустить воду...
Инженеры промерили все, просчитали, предложение было реально, но работа предстояла адская. Прокопать четыре-пять, а то и десять основных водосборников, к ним — арычки со всего болота.
И мы взялись. Работали — действительно не считаясь со временем и усталостью — в две, в три смены. Перед моими глазами и сейчас встает эта картина, очень похожая на полотна художников, отображающих ад. Ночь, холодный ветер, моросит дождь и болото — жидкая грязь, местами до метра глубиной. Жесткие лучи прожекторов рассекают густую, как само болото, темноту, жирными блестками отражаются в густой жиже. А кругом люди, их темные силуэты, с трудом просматривающиеся в темноте. Они в болотных сапогах, на машинах, около них, копаются лопатами в грязи, утопая почти по пояс.
Так было. А потом вода по арычкам, по водосборникам пошла в речку и... болота почти не стало. Всего мы его осушать не стали, да, наверное, и не смогли бы. Нам было достаточно сухой плотной полосы, способной принять и выдержать многотонную нагрузку — огромный самолет типа «Ил-18».
Сколько мы так работали, конечно, не один месяц, но мне кажется, что все это сжалось в один миг, в один предельно напряженный, сжатый как штурмовка «ИЛа», как воздушный бой, минута — и все позади, и если ты жив, значит, победил.
Несмотря на сомнения пессимистов, нытиков, писавших по инстанциям о наших каких-то, якобы, ошибках, неправильных действиях, вызовов с объяснениями на «ковер», дело шло.
Очистив от воды и грязи взлетную полосу мы забутили ее, заложили щебенкой камнем, песком, покрыли специально сконструированными железобетонными плитами. И вот торжественный прием первого вылетевшего из Москвы самолета «ИЛ-18» с почетными гостями...
Взлетно-посадочная полоса была сооружена в установленный правительством срок. 18 октября 1958 года Председатель Верховного Совета КазССР вручил мне за эту первую мою на гражданском фронте победу Почетную Грамоту Верховного Совета КазССР. Вместе со мной правительственными наградами были отмечены многие инженеры, техники и рабочие. Потом эти победы на трудовом фронте завоевывались уже легче. Теперь я принимал участие, практически руководил, вел сооружение аэродромов, можно сказать, аэропортов в целом, с вокзалами, техническими и иными сооружениями одного за другим: в Чимкенте, на Мангышлаке, в Усть-Каменогорске, Семипалатинске, на Балхаше. А всего при моем участии, а в основном, под моим руководством, было сооружено и сдано в эксплуатацию двадцать аэропортов — двадцать широких воздушных ворот, открывших путь нашей Республике во все страны мира.
Завершив строительство аэродромов, я как бы оглянулся на пройденное уже после войны, но не по-граждански, по-фронтовому. Итог был неплохой. Свидетельством тому — многочисленные Почетные Грамоты Верховного Совета КазССР и другие награды за отличное выполнение заданий в деле развития воздушного транспорта в республике. И что теперь? Кажется, как гражданин Бегельдинов сделал если не все возможное, то достаточно многое для своей Родины как патриот, ее защитник и как труженик. Не достаточно ли? А почему бы мне не последовать примеру многих моих дорогих друзей, удостоенных высоких званий Героя и дважды Героя Советского Союза уже давно, почти сразу, как отгремели грозы войны, по праву, завоеванному на войне, по болезни или, отработав до пенсии, уединившихся где-то в скромном домике, в лесу, на берегу речки или озера. Я даже попробовал представить себя в этой роли — с удочкой, в соломенной шляпе на берегу или с кошелкой, собирающим грибы, ягоды. Нет, ничего не получалось, не вырисовывалась такая картина даже в моей фантазии. Не создан я, видно, для такой доли.
И вот уже я снова на трудовом посту в должности заместителя управляющего трестом «Казстальмонтаж». И снова ответственное задание. Теперь это уже строительство Лисаковского горно-обогатительного комбината. И снова, как тогда полагалось, штурмы, преодолевание бесчисленных препятствий и бесконечная борьба с различными противниками твоих, принятых тобой, оперативных или стратегических решений. Все опять как на фронте, как при выполнении боевых заданий. Так было.
После Лисаковского горно-обогатительного — новая гигантская стройка, теперь уже Джамбулского завода двойного суперфосфата, Дворца Республики в Алматы, здание республиканской библиотеки, Алма-Атинского цирка. И все в сжатые сроки, ударными темпами.
Помимо этих объектов я, со своими коллективами строителей во всех областях республики построил автодромы со зданиями автошкол и всеми необходимыми сооружениями.
За этот период сумел полностью перестроиться из боевого военного летчика-штурмовика в квалифицированного строителя высокого ранга, способного решать задачи сооружения объектов любых назначений, объемов и сложностей. Это опять же подтверждается многочисленными благодарностями партии и правительства, всевозможными поощрениями. Верховный Совет КазССР награждает меня Почетной Грамотой Республики за активную работу в хозяйственных органах, затем вручается Почетная грамота за активную трудовую деятельность. Верховный Совет награждает меня Почетными Грамотами за активное участие в благородном деле патриотического воспитания молодежи, за плодотворную работу в общественных организациях.
Свою горячую признательность и глубокое уважение за боевые заслуги на фронтах войны и высокие заслуги в труде в мирное время выражает мне мой народ, трижды избирая депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Алма-Атинского городского Совета.
По воздушным трассам Казахстана день и ночь летят самолеты. Они везут пассажиров, важные народнохозяйственные грузы. Линии перевозок становятся все длиннее, достигают самых отдаленных уголков республики. И я счастлив, что в этом есть доля моего труда.
Теперь я регулярно встречаюсь с молодежью, бываю на предприятиях, в институтах. Юноши и девушки внимательно слушают о боевых делах летчиков в годы Великой Отечественной войны. Часто слышу вопросы о том, какие подвиги совершил, за что удостоен звания дважды Героя Советского Союза, многих орденов и медалей. Ответ у меня простой: я был честным, правдивым, стойким и дисциплинированным воином, всегда был верен воинской присяге. Меня воспитали безбрежные мои ковыльные степи, могучие горы, мой многострадальный, но гордый, свободолюбивый народ, которому я всегда платил за это своей горячей сыновьей любовью и безграничной преданностью. Вот в чем я черпал силы, находил всегда помощь и поддержку.
Перечитал рукопись и стало неудобно. Впечатление такое, как будто бы я сам превозношу себя, свои подвиги на войне, успехи, победы в мирном труде. В действительности все не так. Я пишу, рассказываю обо всем пережитом мною, причем, в основном, уже пересказанное другими авторами, моими соратниками, начиная с летчика моей эскадрильи Михаила Коптева до командиров дивизии и корпуса генералов Н. П. Каманина, В. Г. Рязанова, множеством журналистов и даже писателями. Я просто попытался рассказать о том, как завоевывались наши победы, решались сложные задачи, в основном, о славных боевых делах наших замечательных летчиков-штурмовиков. Во имя этих целей и написана книга. А в общем-то, я пишу и мне кажется, что все это прошлое, особенно на фронте, происходило не со мной, а с другим человеком — так все это было невероятно и сложно.
Эпилог
В начале повествования я уже говорил о моем, воспитавшем меня отце, так искренне гордившемся своим древним казахским родом, своею Сарыаркой. Он учил меня, казахского парня, сыновней любви к нашим безбрежным казахским просторам, зимой укрывавшимся девственно белым снежным покровом, весной — пестрым ковром цветов и ярко-зеленых трав, учил любить необыкновенное казахстанское небо, голубым шаныраком покрывавшее степь.
Для моих отца, дедов и прадедов бескрайняя величина степи измеривалась временем перекочевки, шагом верблюда, пробежкой скакуна. Перекочевки тянулись медленно, неторопливо, не часами — неделями, целыми месяцами. В безмерности степных просторов все совершалось без никчемной здесь спешки. Именно эта необъятность степи, ее богатства, обильные пастбища, безбедная жизнь народа, реки и озера не давали покоя не только ближним соседям, но и совсем дальним, чужеземным захватчикам — начиная от Чингисхана, Хромого Тимура, жунгар и других. Они пытались захватить казахские земли или хотя бы отхватить кусок, поживиться их богатствами, насылали сюда свои полчища. Но из-за холмистой дали, из-за горизонта выметывались скуластые всадники на низкорослых быстроногих степных скакунах, будто на крыльях, почти не касаясь травы, стлавшихся по степи. Перемахивая через сопки, с шокпарами, пиками в руках, с яростными боевыми кличами устремлялись, бросались всадники на врага. Пришельцы в страхе пятились, бежали, возвращались восвояси ни с чем. А казахи оставались хозяевами степи, зеленых пастбищ, полноводных рек и упирающихся в небо пиками заснеженных гор. Так было и так оно есть. Сотни лет, испокон веков в жестоких битвах с алчными захватчиками отстаивал и отстоял казахский народ свои степи и горы, не уступив ни одной пяди земли. И мы, их потомки, глубоко благодарим своих предков за это, по их примеру бережем землю нашей Отчизны. Мне, летчику, не раз пришлось мерить величину Казахстана с небесной высоты при полетах на воздушных кораблях. Она действительно захватывает дух, заставляет замирать сердце.
С тех дальних памятных времен джунгарских и иных нашествий в наших реках утекло немало воды, произошли коренные изменения в жизни народа, изменилось лицо и самой степи, не узнали бы ее не только мои деды и прадеды, но и мой отец. Не узнаю я ее и сам. Не узнаю, пролетая над ее опять же бескрайними, но теперь уже вспаханными, возделанными казахстанцами полями, выросшими в степи городами, аулами, деревнями и рабочими поселками. Неузнаваемо изменилось само степное раздолье, расчерченное колеями железных и шоссейных дорог, водными каналами. И все-таки, она, моя степь, та самая, защищая которую шли на смертные бои деды и прадеды, отстаивая которую воевал я с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной. Да, да именно в Великой и Отечественной. Ибо, отстаивая объединявший тогда нас Советский Союз, мы защищали и свою священную казахскую землю, громили врага на земле и в небе, во имя этого совершались трудовые подвиги казахстанцев в тылу.
Великая Отечественная война раскрыла сущность сплочения и дружбы народов. Под знаменами Советского Союза мы, разноплеменные народы, отстаивали свои земли, свободу и независимость, а после завоевания Победы общими усилиями восстанавливали и развивали свое хозяйство, экономику.
Все было так, но потом, когда пришло время, мы совершили исторический прыжок в независимость, со дня которого начался новый отсчет времени в новой истории Республики, истории независимой, суверенной Республики Казахстан, знаменательной вехой в которой явилось первое десятилетие ее существования.
Теперь, оглядываясь на пройденный нами десятилетний путь, я будто с высоты своего очередного полета, окидываю взглядом уже проделанное суверенной Республикой, моим народом. И сразу главной вехой встает основа всего, произведенная нами государственная... Нет, не перестройка.
К уже совершенному, избитое и достаточно изношенное это определение не подходит. Сделанное, достигнутое нами пора назвать подлинной социальной революцией. Именно под него подходят создание, построение совершенно новой формы государственности, базирующейся на подлинно демократической основе с новым юридическим и идеологическим фундаментом, принятая Конституция, отвечающая требованиям международного сообщества. На основе этого сформировались такие демократические органы, как наш Парламент. Гарантом исполнения принимаемых ими законов, соблюдения требований Конституции, явился избранный всенародно Президент.
Следующим мощным проявлением внедрения в нашу жизнь подлинной демократии последовала замена диктатуры одной партии демократической многопартийностью, открывшей всему народу возможность свободного волеизлияния и непосредственного участия в управлении государством, право на свободу слова, печати.
Используя все эти институты, казахский народ, как и все другие народы, обретшие независимость, получил неограниченные возможности в решении сложных государственных задач и, главное, в развитии своего национального самосознания, стремления к экономическому развитию своей Республики, утверждению в мировом сообществе. Наглядным подтверждением успехов во всем этом может явиться то, что Казахстан уже является равноправным членом ООН, республика установила посольские связи со всеми значимыми государствами мира. Из года в год растет число иностранных посольств и консульств в столицах Республики, на основе чего растут и укрепляются экономические связи с зарубежьем.
Подытоживая все совершенное, я снова и снова возвращаюсь к тому, с чего начал, — к Великой Отечественной, чему посвящена книга, к войне, к трагическим бедам, принесенным ею людям разных национальностей, без малого каждому из оказавшихся на ее театре, в поле военных действий, каждому народу, городу, селу, поселку, почти каждому, причастному к ней человеку.
Пролетая на своем «ИЛе», я видел их, эти зияющие раны, нанесенные войной — страшные развалины, порушенные строения и взорванные мосты. Я пытался представить себе объем, величину человеческих усилий, которые потребуются для залечивания этих ран, для восстановления всеобщей разрухи, и у меня ничего не получалось. Нет, не получалось — столь велики были масштабы предстоящего поистине титанического труда. Представить в воображении восстановленными разрушенные дома, искореженные взрывами авиационных бомб и крупнокалиберных снарядов предприятия с покореженной арматурой, вырванной из фундаментов машинами, вновь отстроенными, восстановленными, было невозможно. Своими сомнениями я уже после окончания войны, в мирной беседе, поделился с рядовым немцем, владельцем небольшого, покосившегося от взрыва бомбы, дома-магазина — может быть, и моей, сброшенной в штурмовке, — что он думает делать с домом, выправлять или как?
— Снесу и построю новый, — уверенно ответил немец и пояснил. — Это очень тяжело — ломать, уничтожать свое старое, доставшееся от предков, но в нем, в этом старом, и наш позор — фашизм, приведший нас ко всему этому. Фашизм — он не только в этих развалинах, он в нашем сознании, этот яд нелепых убеждений о выдуманной фюрерами сказке о расовом превосходстве немецкой нации над всеми народами, о якобы закономерной необходимости захвата, установления мирового господства Германии. И самое позорное в том, что мы, не все, конечно, но большинство немцев, поверили в эти дикие бредни параноиков. Развязанная и проигранная нами же война, эти руины отрезвили нас, вернули из мира дикого бреда в действительность. Вот почему их нужно убрать и на их месте построить новые жилые дома, фабрики, заводы, построить новую жизнь безо всякого фашизма, без фюреров и прочих нелепостей, жить в добре и мире с соседями, со всеми народами мира.
Сказанное немцем запало в душу. Я часто вспоминаю его слова и полностью присоединяюсь к нему в отношении того, что война, именно она, просветила нас, освободила наши головы от химер однобокой идеологической и политической пропаганды, заставила реально взглянуть на окружающий мир, воспринять нашу реальную действительность. Особую роль война сыграла в укреплении единства и дружбы народов нашего многонационального Казахстана. Укрепляя самосознание, война разбудила закономерное стремление народа к самоопределению, выразившееся в том самом смелом его рывке к независимости. Народ создал новое независимое государство со всем присущими ему демократическими институтами, властными структурами, наукой, армией. Во всем этом тоже результаты нелегкой победы, завоеванной в Великой Отечественной войне. Нам, ее участникам, это очень важно, ведь мы стояли насмерть в обороне, шли в атаки, штурмовали врага во имя нашего народа, во имя свободы и счастья, во имя этой светлой идеи и умирали. Долг живых, всех нас, казахстанцев, сделать так, чтобы принесенные жертвы не были напрасными.
Теперь главное — не растерять, сберечь достигнутое, завоеванное в новой жизни, в самостоятельности независимого государства, по-фронтовому не отступить от завоеванных позиций, закрепиться на них и мобилизовать, сконцентрировать силы для новых штурмов, бросков к вершинам новых свершений, к исполнению наших надежд на полный экономический и общий расцвет нашей независимой Республики Казахстан.
Дважды Герой Советского Союза Талгат Якубекович БЕГЕЛЬДИНОВ



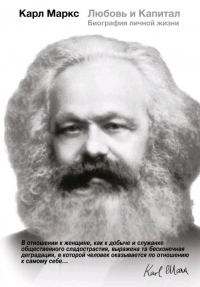
![Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 2](https://www.4italka.su/images/articles/542787/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Пике в бессмертие», Талгат Якубекович Бегельдинов
Всего 0 комментариев