Сын русского гренадера
В один из августовских дней 1911 года к начальнику московской Лефортовской военно-фельдшерской школы генералу Синельникову пришли скромно одетые пожилая женщина и юноша. Это были Мария Павловна Железнякова и ее сын Анатолий.
Смело подойдя к генералу, юноша подал ему заявление с просьбой о приеме его в школу и свидетельство об образовании.
Рассматривая поданные бумаги, генерал медленно, как бы про себя протянул:
— Гм… мещанин Басманной слободы… 1895 года рождения… 20 апреля… окончил церковноприходское училище… — И, обращаясь к юноше, сказал: — Так, молодой человек, значит, хотите учиться в нашей школе?
В этот момент мать Анатолия подала генералу документы, удостоверяющие, что ее муж Григорий Егорович Железняков был гренадером русской армии, награжден двумя Георгиевскими крестами за участие в освободительной войне на Балканах в 1877 — 1878 годах. Что он под неприятельским огнем переправлялся через Дунай, сражался в боях под Пленной, был несколько раз ранен.
Еще никогда Анатолий не видел свою мать такой настойчивой, так убежденно доказывающей, что ее сын имеет полное право обучаться в школе на казенный счет.
Внимательно выслушав просительницу, генерал ответил ей:
— Хорошо, сударыня, я согласен принять вашего сына в нашу школу, если он выдержит экзамен. — И уже более снисходительно добавил: — Надеюсь, что молодой человек окажется достойным своего отца-героя…
— Постараюсь, ваше благородие! — отчеканил Анатолий, еще не зная точно, как обращаться к такой важной личности.
— Не ваше благородие, а ваше превосходительство, — поправил Синельников, самодовольно поглаживая пушистые усы. — А сейчас, молодой человек, пройдите в канцелярию, там вам разъяснят, что требуется для поступления к нам.
Не знал генерал, как долго пришлось Марии Павловне убеждать сына прийти сюда, в эту школу. На ее советы пойти учиться в Лефортовку он упорно отвечал:
— Не хочу быть фельдшером! Не хочу всю жизнь ставить градусники и пичкать больных порошками да пилюлями. Хочу быть моряком!
Но мать настойчиво уговаривала его:
— Тошенька, дорогой мой, лечить людей — благородное дело… Только приняли бы тебя в школу на казенное содержание…
Анатолий уступил доводам матери. После смерти Григория Егоровича, до последних дней работавшего смотрителем небольшого дома московского купца Чижова, Железняковы жили в большой нужде. Сестра Анатолия Саня, еще при жизни отца окончившая гимназию, учительствовала на дому, но это давало очень небольшой заработок. Матери же Анатолия приходилось на поденной работе добывать буквально гроши, стирая белье и убирая чужие квартиры.
Через несколько дней, после вступительных экзаменов, придя в канцелярию школы, Железняков узнал, что он принят в число ее слушателей.
Седенький писарь растроганно сказал ему: — Поздравляю вас, молодой человек. Говорят, уж очень хорошо вы отвечали.
Начался учебный год. Первую лекцию прочитал военный врач Николай Иванович Якимов. На груди его сверкал орден «Святого Лаврентия III степени».
— На вашу долю, господа, — сказал он, — выпала большая честь учиться в медицинской школе, которая вместе с Московским военным госпиталем существует свыше двух столетий и является прародителем всех медико-хирургических школ в России. Здесь для русской армии получили образование сотни фельдшеров и врачей. История существования школы неразрывно связана с историей развития всей медицинской науки в России, успехи ее велики. От вашего усердия зависит овладеть этой наукой так, чтобы впоследствии принять посильное участие в ее дальнейшем развитии на благо отечества.
Якимов стал перечислять дисциплины, которые предстояло изучать будущим фельдшерам начиная с 1-го курса: хирургия, фармакология, полицейская медицина (в курсе школы она называется еще и полицейской гигиеной).
При словах «полицейская гигиена» у Анатолия невольно в памяти всплыли события его детства, связанные с событиями революции 1905 года.
Однажды вместе с матерью Анатолий оказался вблизи Страстного монастыря и Тверской улицы. Они попали в большую толпу демонстрантов, выкрикивавших лозунги против самодержавия и распевавших революционные песни. Вдруг раздалась ружейная стрельба, и люди в панике бросились в разные стороны. В образовавшейся суматохе Анатолий потерял мать. Он побежал туда, где продолжалась стрельба. Здесь на лошадях гарцевали казаки. Они стреляли в окна большого Торгового дома купца-миллионера Филиппова. Здесь забаррикадировались бастовавшие рабочие-пекари и служащие. Рассвирепевшие всадники били нагайками всех, кто оказывался возле них. На выручку осажденным спешили сотни людей. Недалеко от Анатолия городовые проволокли за ноги истекающего кровью мужчину в белом пекарском колпаке, и тело его оставляло кровавый след на булыжной мостовой. А двое конных жандармов хлестали нагайками по лицу паренька в засаленной рабочей кепке и темно-синей спецовке…
Только под вечер вернулся Анатолий домой, усталый и не по-детски взволнованный.
И вот теперь, услышав слова лектора о курсе «полицейской гигиены», Железняков сразу представил себе, как он после окончания фельдшерской школы может оказаться на дежурствах в полицейских участках и составлять акты в защиту городовых. Такое будущее ему не улыбалось…
День за днем, лекция за лекцией. Школа тяготила Анатолия. Как и во всех военно-учебных заведениях царской России, будущих фельдшеров воспитывали в духе преданности самодержавию. Новички сразу попадали под строгое и неослабное наблюдение взводного фельдфебеля и ротного командира. В первый же день занятий им было заявлено: «Здесь мы вас вышколим на всю пружину». И это заявление настойчиво проводилось в жизнь.
На уроках словесности учащихся начиняли сведениями из уставов гарнизонной и караульной служб, учили отдавать честь. Приходилось вызубривать такие премудрости: к кому обращаться «ваше благородие», к кому «ваше высокоблагородие», к кому «ваше превосходительство». Требовалось без запинки называть имена и отчества царя, царицы, их многочисленных дочерей, наследника…
Все эти «науки» вызывали у Анатолия душевный протест. И он стал задумываться, как бы оставить ставшую ненавистной школу. Но оказалось, если он уйдет отсюда, мать обязана будет возместить казне все расходы, понесенные школой по его содержанию. А средств у матери не было.
В апреле 1912 года вся Россия была потрясена вестью о том, что на Ленских золотых приисках Сибири царские жандармы стреляли в рабочих только за то, что они требовали улучшить условия жизни. На такое злодеяние рабочие многих городов России ответили политическими демонстрациями и забастовками.
Воскресный день, 18 апреля, Анатолий получил разрешение провести у родных дома. Встретился он и с товарищами, работавшими на текстильной фабрике капиталиста Прохорова. Они рассказали ему о происшедшем на далекой реке Лене и о том, что на фабрике были распространены листовки революционеров, призывавшие рабочих к всеобщей забастовке. Железняков разделял их негодование.
В понедельник, вернувшись в училище, Анатолий узнал, что объявлен приказ подготовиться к торжественному молебну и параду в честь «тезоименитства» императрицы.
Юноша, не долго раздумывая, решительно направился к кабинету начальника школы генералу Синельникову.
— Я на парад и в церковь не пойду! — заявил он.
— Что-о-о?! — не веря своим ушам, вскричал Синельников. Он весь побагровел. — Повтори, что ты сказал?!
— Я на парад и в церковь не пойду! — твердо ответил Анатолий.
— Почему не пойдешь?! — Генерал вышел из-за стола и вплотную приблизился к бунтарю. — Отвечай!
— Я сам именинник. Завтра мне исполнится семнадцать лет!
— Ишь какой король объявился! Говоришь, завтра семнадцать лет тебе будет? Хорошо. Посидишь, значит, в карцере семнадцать суток на хлебе и на воде.
— Не запугаете! — закричал Анатолий.
— Замолчать, негодяй!
На крик генерала прибежали дежурный по училищу фельдфебель и дневальный. Железнякова схватили и потащили в карцер.
Потеряв власть над собой, в ярости арестованный Анатолий разбил стекла в окне, сильно порезал руки. Но на окне была железная решетка. Он бросился к дверям, начал бить по ним табуреткой и бил до тех пор, пока не упал обессиленный.
6 мая 1912 года в актовом зале Лефортовской военно-фельдшерской школы выстроились все учащиеся. Был зачитан приказ об исключении Анатолия Железнякова из школы как «личности вполне вредной и безнравственной».
— Сними казенное обмундирование! — приказал командир роты.
Анатолий снял мундир, сбросил сапоги.
— Уведите его! — приказал генерал Синельников.
Мать встретила сына у подъезда школы. Анатолий боялся увидеть ее в слезах. Но этого не случилось. Мария Павловна дрожащими от волнения руками обняла его и стала утешать:
— Ничего, ничего, Тошенька, как-нибудь проживем…
— Проживем, мама! Я найду работу. Но мучителям народа служить не буду!
— Что ты, что ты, сынок, нельзя так говорить! — в ужасе шептала мать. — Пойдем скорей домой!
Марию Павловну дерзкий поступок сына испугал, но он не был для нее неожиданностью. Она видела, как прямой и горячий Анатолий мучился, тяготился учебой и муштрой, которые царили в школе, и все время чувствовала себя виноватой в том, что уговорила его поступить учиться в Лефортовку. Она ждала, что он не выдержит, сбежит оттуда. Теперь же случилось другое, худшее, но она благодарила судьбу за то, что все обошлось только исключением из школы, а ведь могло быть и хуже… Время-то наступило какое!
Вскоре семья Железняковых переселилась в Богородск, где Анатолию удалось устроиться учеником в аптеку при Глуховской мануфактуре Морозова.
Богородско-Глуховская мануфактура Арсения Морозова была одной из крупнейших в России фабрик с двенадцатью тысячами рабочих. Даже в условиях царской России предприятия фабрикантов Морозовых отличались изощренной, продуманной до мелочей системой эксплуатации. Рабочий день здесь длился почти двенадцать часов, а заработок рабочих был гораздо ниже, чем на других текстильных фабриках России. За любой «проступок» рабочего мастера накладывали штрафы. На фабрике, часто происходили несчастные случаи.
Однажды вечером, когда Анатолий уже собирался закрыть аптеку, с фабрики прибежал подмастерье. Он сообщил, что в ткацком отделении рабочему оторвало три пальца правой руки. Фельдшер, один-единственный на таком большом предприятии, просил срочно прислать йод и перевязочный материал.
Анатолий немедленно сам побежал на фабрику. В Лефортовском училище он научился оказывать первую помощь при несчастных случаях — накладывать бинты, делать перевязки.
Переступив порог цеха, Анатолий закрыл уши руками: грохот станков был настолько оглушительным, что дрожали от него стены и, казалось, вот-вот провалится пол. Воздух был пропитан пылью — в цехе не было вентиляции.
Железняков вместе с фельдшером сделали для пострадавшего все, что могли, и отвезли в больницу.
На следующий день в аптеку пришел один из ткачей, который видел, как Анатолий оказывал помощь рабочему. Он крепко пожал руку молодому аптекарю и сказал:
— Спасибо тебе, дружок. Доброе дело ты сделал вчера, помог нашему товарищу. Жаль беднягу, теперь ведь он уже не работник… Вот беда-то приключилась. Подумать только, три пальца оторвало, да еще на правой руке! Но что поделаешь, такая уж наша доля рабочая… Заходи ко мне, милок, гостем будешь. Поближе познакомимся. Зовут меня Тимофеем Петровичем.
Анатолий стал бывать у Тимофея Петровича и узнал от него много любопытного из жизни Морозовской мануфактуры. В частности, ткач рассказал ему, как в подмосковном «Манчестере» фабрикант Савва Морозов заставлял рабочих «жертвовать» деньги на постройку церквей. Высмеивая своего хозяина, рабочие сочинили и распевали песню:
Чтоб не ели в пост скоромного, Поведенья были скромного, Чтоб безропотно трудились И молитвами кормились…Тимофей Петрович познакомил Железнякова с местными подпольщиками-революционерами. Вскоре Анатолий стал для них одним из лучших помощников в распространении среди рабочих большевистской печати. Он всегда был желанным человеком в казармах текстильщиков. Рабочие предупреждали его:
— Будь поосторожней, милый. К людям присматривайся. Остерегайся, главное, смотрителей. Иной прикинется такой овечкой, другом твоим…
В один из февральских дней молодой аптекарь находился в рабочей казарме. Узкие, слабо пропускавшие дневной свет окна, заделанные железными решетками, как в тюрьме. Общие нары были заполнены обитателями казармы, спавшими вповалку, тесно прижавшись друг к другу, чтобы хоть немного согреться.
Из темного угла доносился мучительный детский кашель. Анатолий направился туда. Худощавая женщина держала на руках умирающего ребенка. Рядом стоял фабричный поп. Переводя взгляд заплывших жиром узеньких глаз с ребенка на женщину, он говорил:
— Не плачь, не горюй, голубка, а радуйся, что дитя твое на том свете попадет в царство небесное. Ведь его ангельская душенька совсем невинная. Ей только в раю место.
На улице бушевал резкий северный ветер. Холод проникал в казармы сквозь стены и окна, из-под каменного пола. Возмущенный словами попа насчет «счастья», которое ожидало эту бедную мать после смерти ее замерзающего ребенка, Анатолий не выдержал:
— Вы, батюшка, вместо обещания «царства небесного» помогли бы рабочим, чтобы хозяин отремонтировал казарму да получше отапливал ее. Может, по воле божьей хозяин не делает этого и морозит людей?
— Еретик! Богоотступник! — закричал на него поп и погрозил крестом. Как твоя фамилия? Вот сообщу о тебе куда следует.
— Это вы умеете делать! — ответил Анатолий и вышел на улицу.
Поп выполнил свою угрозу.
Как-то весной усталый Анатолий шел с фабрики домой, вдруг он увидел группу всадников. Это сам Арсений Морозов с дочерьми и своими гостями выехал на прогулку.
Фабрикант Морозов требовал от рабочих, чтобы они при встрече с ним в любом месте снимали шапки и обязательно низко кланялись. Каково же было удивление его, когда он увидел, что какой-то молодой человек не остановился и не поклонился ему.
— Стоп, стоп, господа! — закричал Морозов своим спутникам, а сам повернул лошадь в сторону Железнякова, стараясь прижать его к забору.
— Ты почему не снял шапку, подлец?! — негодующе вскричал он.
— Я шапку снимаю только перед покойниками, — ответил Анатолий.
— Ты что, не знаешь, кто я такой? Я — хозяин фабрики! Твой кормилец!
— Тебя кормят рабочие своим трудом, а не ты рабочих! — крикнул Железняков.
— Ага, социалист, значит, — угрожающе произнес Морозов. — Как твоя фамилия?
— Железняков! Запишите на воде мелом, — показал Анатолий на большую лужу и быстро зашагал дальше.
— Железняков? Так вот ты какой, безбожник! — крикнул вслед Морозов.
На следующий день Анатолий был уволен из фабричной аптеки.
Железняков уехал на Черное море, в город Туапсе. В то время там работал водолазом его старший брат, Николай. Анатолий надеялся с его помощью найти работу в порту или на каком-нибудь пароходе. Ведь он еще с детства мечтал быть моряком.
Прошло немного времени. Анатолий пишет матери:
«Я живу неважно. Места нет… Работаю поденно у водолазов. Тоска. Все идет не так, как желаешь… Чего хочешь, желаешь, само лезет, не выходит. А то, чего не хочешь… Очень хочется мне, дорогая мама, поступить в морскую школу. Буду готовиться. Спать придется совсем мало, по три часа в сутки, но поступлю обязательно!»
В начале мая 1914 года Железняков сообщил родным в Богородск:
«Ура! Ура! Я устроился очень хорошо. Служу матросом на пароходе „Тайфун“…»
Чтобы не огорчать мать, сестру, он не писал, как ему тяжело приходится: в духоте надо было почти непрерывно шуровать в топках мелкий зольный уголь, раздеваясь донага, чистить котлы. Нестерпимо болели ничем не защищенные глаза, едкая солоноватая пыль разъедала мокрое от пота тело, затрудняла дыхание.
Свободное после вахты время Железняков проводил либо в машинном отделении — старательно изучал все, что требовалось знать механику на пароходе, либо читал. Он мечтал поступить учиться в мореходное училище.
1 августа 1914 года началась первая мировая война. Анатолий узнал, что Ростовское мореходное училище объявило дополнительный набор курсантов.
И вот он в Ростове. Успешно сданы все экзамены в отделение судовых механиков. Было отмечено, что кочегар с «Тайфуна» превзошел многих экзаменующихся по своим знаниям. Но в списках принятых его фамилии не оказалось.
— Почему меня нет в списках принятых в училище? — спросил Железняков секретаря в канцелярии. — Ведь я выдержал все экзамены.
Тот, выслушав, открыл ящик стола и протянул Анатолию сданные перед экзаменами документы.
— Не приняты-с, молодой человек.
— Почему не принят? — недоумевающе спросил Анатолий.
— Вот уж этого не знаю-с. Начальству виднее.
— Может, мне пройти к начальнику?
— Его сейчас нет. Да он ничего и не скажет. Пожалуй, в Москве скорее дознаетесь…
— При чем здесь Москва? — настороженно спросил Анатолий.
— Эх, зелен ты еще, милый мой, — уже более мягко сказал канцелярист. В народе говорят: «Добрая слава за печкой спит, а худая по свету бежит». Ты в Москве в Лефортовской школе учился? В Богородске на фабрике Морозова работал? Вот так-то…
Железнякову все стало ясно. Он попал в «черные списки». Занесенного в черные списки не принимают на работу, не допускают учиться.
В апреле 1915 года команда парохода «Тайфун» объявила забастовку. Судовладельцы обратились в портовую жандармерию. Всех матросов, годных для отправки на фронт, сняли с парохода и направили в пехоту. Железнякова, как не достигшего призывного возраста, мобилизовать не могли. Его уволили с парохода и предложили в течение 24 часов убраться из Одессы, где в то время стоял «Тайфун».
«Я стараюсь принять это как должное испытание, которое дает мне жизнь для будущего, — писал Анатолий родным в мае 1915 года. — Опыт никогда не мешает. Много еще встретится огорчений и всяких треволнений, перед которыми эти явятся мелкими, серенькими пятнышками. Настроение бодрое, и я думаю, что выйду победителем из положения, в котором очутился.
Я всегда рад, когда получаю от вас письма, и с большим наслаждением читаю их. И хочется борьбы сильной и большой, такой грозной, как сильный шторм. Да, да, и на самом деле, что это за жизнь, которой жили и живут гоголевские старосветские помещики и обломовы Гончарова. Не жизнь, а копчение неба и бесполезное занимание места».
Почти вслед за письмом Железняков вернулся в Москву. В июне 1915 года он поступил слесарем на Бутырский завод Густава Листа, не указав места прежней работы. Нуждаясь в слесарях, управляющий заводом немец принял новичка без особых расспросов. Завод вырабатывал снаряды для фронта и насосы для военно-морского флота.
Однажды, войдя в сборочный цех, управляющий услышал доносившуюся из-под сводов цеха песню.
— Это что за артист здесь появился? — спросил он у мастера.
— Как же, слесарь наш новый, сами изволили его принять третьего дня.
— Ах, этот юнге, такой длинный? Его фамилия, айзен… айзен… Ага! Железняков! Карашо работает?
— Хороший слесарь, — ответил мастер.
— Карашо. Пусть поет. С песнь будет лучше работать. — И, заметив непорядок на одном из токарных станков, он обрушился руганью на токаря. Стуча толстой тростью по станку, он кричал: — Собакин сын! Ты чего делаль? Хочешь на фронт поехать?
Железняков, ловко орудуя инструментом, крикнул сверху:
— Эй там, на палубе! Не мешай работать! Чего разошелся, как самовар?
Управляющий умолк и тотчас выбежал из цеха, что-то бормоча не по-русски.
Вечером того же дня в тесной комнатушке старого рабочего завода токаря Петрова собралась немногочисленная заводская подпольная большевистская организация. Один из рабочих спросил:
— Кто знает нового слесаря, что так смело обрезал нашего немца?
По всему заводу об этом разговор пошел…
— Я с ним малость поговорил, — ответил один из присутствующих. Говорит, недавно с Черного моря приехал. Кочегаром там работал. Видно, боевой паренек… Надо бы заняться им…
— Будешь работать со мной? — спросил как-то Петров у Анатолия.
И разъяснил, что надо делать.
— Есть! — ответил Анатолий по-матросски.
Первая мировая война была в разгаре. Работа, к которой старый подпольщик Петров привлек Железнякова, заключалась в следующем. Надо было незаметно вкладывать в ящики антивоенные листовки вместе со снарядами, отправлявшимися на фронт.
Приемку ящиков со снарядами производил представитель от военного ведомства молодой поручик. Необходимо было отвлекать его внимание от этих ящиков. И каждый раз Железняков что-нибудь придумывал. Однажды он схитрил так.
— Господин поручик, — обратился к офицеру Анатолий, — я много раз думал о том, какой вы молодой еще, но у вас уже два Георгиевских креста…
Приемщик с увлечением начал расписывать свои «подвиги».
Анатолий хорошо знал, что поручик получил награды не за боевые дела, так как совсем не был на фронте, а все время находился в Москве. Но с разыгранным восторгом он поддакивал приемщику, восхищаясь его «храбростью», наблюдая в это время за упаковщиками, от которых ждал условного сигнала, что все сделано. После этого Железняков, сделав поклон головой, сказал:
— Ваше благородие, вы так интересно все рассказываете. Скорее бы и мне попасть на фронт!..
На снарядном заводе Густава Листа Железняков проработал слесарем до осени 1915 года. Немало отправил он на фронт антивоенных большевистских листовок. В октябре Железняков был призван на военную службу в Балтийский флот…
На «Океане»
Боцман, сидящий на корме баркаса, всей своей грузной фигурой наклоняется вперед и командует протяжно:
— А-а-ать!
Баркас делает сильный рывок вперед и, разгоняя волны, с шумом проходит брандвахту у выхода из военной гавани, чтобы выплыть на широкий водный простор.
Загребной, плечистый, ладно скроенный, высокий матрос, дыша полной грудью, вместе с другими гребцами отталкивается веслом, искусно рассекая встречный ветер развернутой лопастью.
— Железняков, осел! — кричит боцман Слизкин. — Как гребешь, обормот!
Молодого моряка передернуло. Ведь он работает веслом не хуже других. Почему же этот толстопузый придирается к нему? И он тихо сказал: «Эх, двинуть бы веслом тебя!»
Услышав сказанное Железняковым, находившийся рядом с ним матрос строго заметил: «Возьми себя в руки, Анатолий!»
— Груздев, не вертись, как буек! — обрушился боцман и на него.
Миновав окруженный гранитной стеной, вросший в Финский залив хмурый старинный форт Кроншлот, баркас направился к внешнему рейду, держа курс на высокобортное судно с надписью «Океан».
У командира учебного судна «Океан» Норгартена с самого утра было испорчено настроение. К нему неожиданно явился жандармский ротмистр. Он подробно расспрашивал о матросе Железнякове.
— Мы знаем, господин капитан первого ранга, что Железняков ведет среди матросов вашего корабля антиправительственную агитацию и снабжает их листовками.
Сообщение представителя жандармского управления так поразило командира «Океана», что он несколько минут не мог ничего ответить.
— Вот одно из писем, в котором Железняков довольно открыто высказывает свое настроение… Почитайте. — Ротмистр протянул командиру листок бумаги.
«Дорогая мамочка, — читал Норгартен, — прости, что долго тебе не писал — не было времени. Последнее желание мое исполнилось, меня причислили к машинной школе, если удастся ее кончить, то буду иметь звание механика третьего разряда. Недурно ведь, верно?..
Сегодня ездил в отпуск в город, разозлился, было, до крайности. Замерзли, зашли в чайную, не пускают. Идем дальше, в другую, там то же самое, и в третьей слышу такой же ответ. Вот тебе и наши герои, вот так уважение… Возмущение берет… Давят, а приходится подчиняться…»
— Что же делать с этим Железняковым, господин ротмистр? — растерянно спросил Норгартен.
— Вы должны будете помочь нам поймать его на месте преступления. Если же это окажется невозможным, надо вызвать молодчика на какое-нибудь грубое нарушение устава службы и отправить на гарнизонную гауптвахту. Оттуда нам легче будет убрать его, куда следует. А пока усильте наблюдение за ним.
Проводив ротмистра, Норгартен долго еще находился в возбужденном состоянии. Он вспомнил, как пришлось расплачиваться командирам дредноута «Гангут», линкора «Андрей Первозванный» и других кораблей, на которых был раскрыт заговор революционеров против самодержавия. Взглянув на портрет Николая II, висевший на переборке каюты, испуганный командир почти наяву услышал: «Предупреждаю, что при малейшем повторении недопустимых беспорядков на судах флота будут приняты самые суровые меры взыскания, начиная со старших начальствующих лиц». Такую резолюцию царь написал на донесении главнокомандующего флотом, докладывающего о выступлении матросов линкора «Гангут».
Вызвав дежурного по кораблю, Норгартен приказал:
— Старшего офицера ко мне!
Капитан второго ранга Сохачевский побледнел, услышав от Норгартена заявление ротмистра о Железнякове. Он мгновенно представил себе все те неприятности, которые могут возникнуть, если на «Океане» действительно завелись «крамольники».
Сохачевский озадаченно протянул:
— Да… Это очень…
— Надо выполнять то, что от нас требуют. Я не желаю рисковать своим положением из-за какого-то матроса. Кстати, какие данные имеются в его деле? — спросил Норгартен.
— В послужном списке о нем сообщается очень немного. Призван во флот в 1915 году. Прошел строевое обучение и получил звание матроса второй статьи во 2-м Балтийском флотском экипаже. А с февраля текущего года зачислен учеником класса машинных унтер-офицеров Кронштадтской машинной школы и прислан к нам для прохождения морской практики, — ответил Сохачевский.
— Все ясно. Надо сделать так, чтобы мы имели основания убрать этого смутьяна с корабля. Притом, чтобы никто не знал, что его арестовали за антиправительственную агитацию. Мы его отправим на гарнизонную гауптвахту как нарушителя корабельного устава… А как сделать это, подумайте…
— Слушаюсь! — коротко произнес Сохачевский.
В кубрике уже давно царила полная тишина, а Железняков беспокойно ворочался в своей подвесной койке и никак не мог уснуть. Корабельные склянки пробили два часа ночи. Выпрыгнув из койки, он направился к дежурному.
— Что случилось, Железняков? — удивленно спросил тот.
— Голова разболелась. Разрешите выйти на верхнюю палубу.
— На четверть часа разрешаю.
Над морем лежала белая северная ночь. Дул небольшой зюйд-вест. Облокотившись на фальшборт, Железняков глядел на темный водный простор.
«Итак, прощай, машинная школа, прощай, „Океан“, с твоими драконовскими методами… На днях, как объявил начальник школы, получу звание механика четвертого разряда. Тогда на любом корабле мне найдется хорошее место. Я судовой механик! Как обрадуется мама! Ведь она так долго ждала, когда я выйду в люди…»
— Анатолий… — раздался за спиной тихий голос.
— А, Федор!
— Проснулся, взглянул на твою койку, вижу — пустая. Забеспокоился, сказал Груздев. — Хочу поговорить с тобой…
— Случилось что? — тревожно спросил Железняков.
— Да, случилось. Разговор о тебе самом. Как неосмотрительно ты вел себя сегодня на баркасе! Если б не удержать тебя, пожалуй, и в самом деле стукнул бы боцмана.
— Эта шкура давно заслужила такой награды, — зло ответил Железняков.
— А чем это могло кончиться, ты подумал? В такое время! — строго сказал Груздев. — Завтра же на тебя надели бы кандалы или расстреляли. Ты же знаешь, что получилось у гангутцев.
— Знаю, все знаю. Говорят, что 95 человек на каторгу угоняют…
Осмотревшись кругом, Груздев тихо продолжал:
— И сколько матросов попало в тюрьмы, страшно подумать…
— А мы все молчим, терпим… Надо немедленно поднять команды всей Кронштадтской базы, выручать товарищей!
Груздев схватил его за руку и совсем тихо, почти шепотом сказал:
— Не горячись. Не пришло еще время, браток. А кто знает, может быть, разведывательное отделение донесло уже командиру. Вот они и ищут предлог, как избавиться от тебя. Кстати, как с листовками?
— Передал кому надо, не беспокойся, — едва слышно ответил Железняков.
На всех кораблях, стоящих на рейде, склянки отбили половину третьего.
Железняков спохватился:
— Ох, черт побери! Мне разрешили только на четверть часа отлучиться из кубрика! Надо бежать!
Через несколько минут друзья уже были в своих подвесных койках и скоро погрузились в крепкий предутренний сон…
Рассвело. Сквозь иллюминаторы врываются в кубрик первые лучи восходящего солнца. На всех кораблях склянки бьют половину шестого. Напевный звон медных рынд сливается со звуками горнов, играющих побудку. Это военно-морская музыка нового дня проникает во все отсеки «Океана».
Напеву горнов и перезвону склянок вторят трели и пронзительные свисты боцманских дудок. Слышны сердитые, хриплые от постоянных покрикиваний на матросов голоса унтер-офицеров:
— Вставай! Вставай! Койки вязать!
Заспанные люди неохотно сбрасывают с себя одеяла, недовольно бурча, выпрыгивают из подвесных парусиновых коек, шлепая о палубу босыми ногами, и пугливо озираются — не приближается ли «главный пес», — так прозвали на судне боцманмата Слизкина.
Проворно соскочил из своей койки и Железняков. Он уже оделся, свернул постельные принадлежности, втиснул в парусиновый мешок и ловко зашнуровал его.
Кочегар Сомов насмешливо говорит Железнякову:
— Думал я, Анатолий, что ты не из трусливых. А как погляжу, тоже перед боцманом пасуешь…
Железняков уже готов был нести свою койку в положенное место, но остановился, чтобы ответить Сомову:
— Зато ты, Сомов, за свою «храбрость» и усердие с удовольствием принимаешь «царские подарки»,[1] которыми Слизкин частенько награждает тебя. Вот и вчера…
— Нихто не може проучить такую собаку, як наш боцман. Оброс салом, як той кабан годований, — вмешался в разговор здоровяк матрос Петр Бугаенко.
Железняков возбужденно сказал:
— Ничего, братки. Придет время, и мы им отплатим за все…
— Кому это ты так страшно грозишь? — неожиданно раздался голос старшего офицера, вошедшего в кубрик.
Матросы сразу все умолкли.
Сохачевский подошел вплотную к Железнякову.
— А ну, разъясни, с кем это ты собираешься расправиться? — Взгляды их скрестились. Вытянув длинную шею, Сохачевский уставился в молодого матроса злыми черными глазами: — Молчишь, сукин сын? А почему так долго возишься с койкой?
Железняков окинул быстрым взглядом кубрик. Еще никто не вынес своей постели. А этот придирается к нему…
Анатолий впился дерзким взглядом в Сохачевского.
— Что ты уставился на меня, как баран? — крикнул еще более раздраженно старший офицер. — Я спрашиваю, почему до сих пор не вынес койку?
С трудом сдерживая себя, чтобы не ответить Сохачевскому резкостью, Железняков ответил:
— Виноват, задержался…
Выхватив из рук Железнякова койку, старший офицер издевательски спросил:
— Это что такое у тебя?
— Койка, — уже еле владея собой, выговорил Анатолий.
— Мешок с навозом, а не койка! Разве так зашнуровывают?! — Сохачевский приподнял брезентовый мешок с постелью и бросил его на палубу. Перевязать!
Железняков сжал кулаки. По вдруг увидел, как сурово, предостерегающе смотрит на него Груздев. Словно облитый ледяной водой, Анатолий сразу вытянулся во фронт перед Сохачевским.
— Есть, перевязать койку!
В этот момент в кубрик вошел боцман Слизкин. Крупные покатые плечи, высокое и толстое туловище, рыжие щетинистые усы и ярко надраенная большая медная дудка, висящая на такой же блестящей цепи, перекинутой через багровую шею, усиливали сходство его с городовым.
Сохачевский набросился на него:
— Безобразие! Распустил команду! Это не военные моряки, а старые бабы!
— Виноват-с, ваше высокобродие. Что касаемо до матроса второй статьи Железнякова, так нет сил управиться. Развращает всю команду…
Железняков обратился к Сохачевскому:
— Разрешите вынести койку?
Старший офицер грубо отрезал:
— Марш, быстро!
Вечером того же дня, встретив Железнякова на верхней палубе, боцман Слизкин зло набросился на него:
— Из-за тебя, дармоед, мне сегодня попало от их высокоблагородия. При этих словах Слизкин толкнул Анатолия.
Терпение молодого матроса лопнуло. Он ударил боцмана с такой силой, что тот грохнулся на палубу и закричал:
— Караул! Убивают!
Первым на крик прибежал дежурный по кораблю, а вслед за ним явились Норгартен и Сохачевский.
— Он хотел убить меня, ваше высокобродие! — завопил Слизкин.
— Это неправда! Я…
— Молчать! — крикнул Норгартен. — Под суд пойдешь! Арестовать его!
Над заливом уже сгущались вечерние сумерки, когда от трапа «Океана» отчалила шлюпка, на которой отправили в Кронштадт Железнякова под конвоем двух матросов. Один находился в носовой части шлюпки, а другой — вблизи кормы. У каждого из них у ног наклонно стояла винтовка.
Улучив момент, когда сидящий ближе к корме матрос занес весла для очередного гребка, Железняков схватил у него винтовку, наставил на переднего конвойного и приказал:
— Бросай ружье в воду! — Затем он навел дуло своей винтовки на другого матроса и властно потребовал: — Кидай весла в воду!
— Железняков, не губи нас! — закричали конвойные.
— Братцы, простите меня! Если я попадусь в лапы жандармов, то меня расстреляют или сошлют на каторгу! Прощайте! — С этими словами он прыгнул в воду…
Против воли
Набережная небольшого черноморского портового города была похожа на шумный базар. Пестро одетые загорелые люди суетливо метались но пристани возле складов, толкались у широких деревянных сходен двухтрубного океанского транспорта. Жаркий воздух был пропитан запахом нефти. Отовсюду слышалась русская, украинская, армянская, греческая речь.
В носовой части пришвартованного транспорта прерывисто громыхала паровая лебедка, выуживая тросом из недр трюма мешки, ящики, тюки.
Сквозь шум толпы и грохот лебедки то и дело раздавались восклицания низкорослого, гололобого человека:
— Майна!.. Одерживай!.. Вира!..
Подгоняемые ветром волны катились по залитой лучами солнца бухте, с шумом бились о берег и борта судна, обдавая брызгами набережную и деревянную пристань. Но ни солнце, ни волны как будто не существовали для вспотевших бронзоволицых грузчиков-силачей. С вытертыми кожаными подушками на спинах, сгибаясь под тяжестью ящиков и мешков, они бегали по сходням, гикая и ругаясь. То и дело слышалось:
— Не зевай! Задавлю!
— Эй, берегись!
К пристани подошел небольшой катер с пассажирами, принятыми с высокобортного судна, стоящего на рейде.
Бранясь и толкаясь, назойливо атаковали пассажиров юркие, полуоборванные носильщики. Они хватали узлы и чемоданы, упорно предлагая свои услуги:
— Позвольте донести, барыня!
— Любезный господин, прикажите помочь вам!
Сквозь крикливую толпу к катеру пробирался рослый молодой человек с задорным, непокорным чубом чуть вьющихся волос. На нем была просторная косоворотка и старые сандалии, в руках небольшой вещевой мешок.
— Куда прешь? — грубо осадил его усатый контролер.
— Мне на рейд, к пароходу.
— Нельзя без билета.
— Да я никуда не еду. Хочу узнать только насчет работы.
— Сказано нельзя! Много вас таких тут шляется! — Контролер кивнул головой в сторону транспорта: — Иди вон туда, на разгрузку.
— Ходил. Там больше никого не принимают. Толпа оттеснила молодого человека в сторону от трапа.
— Я тоже хотел попасть туда, да этот тип уж больно несговорчив с нашим братом. Никого без взятки не пропускает, — услышал юноша за спиной незнакомый голос.
Оглянувшись, он увидел коренастого, средних лет мужчину с открытым, приветливым лицом. На нем была сильно поношенная матросская рабочая форма.
Иронически улыбнувшись, молодой человек спросил у него:
— Тоже у графа Панелина служишь?
— Да, приходится, дружище…
Не желая продолжать разговор с незнакомым человеком, юноша быстрой походкой направился к набережной.
Уже вторую неделю Железняков скитался по берегу в поисках работы. Ему хотелось попасть на какой-нибудь пароход, курсирующий в прифронтовую полосу. Но пока ничего не получалось.
Пройдя набережную и бульвар, заполненные разряженными в шелка и дорогие костюмы курортниками, Железняков подошел к свободной скамье и устало опустился на нее. Мимо него медленно прошла подгулявшая компания. Женщины весело смеялись. Мужчина в светлом костюме и широкополой шляпе обратился к своим спутникам:
— Итак, господа, до встречи вечером в «Сан-Ремо»…
Железняков с возмущением подумал: «Веселятся, дармоеды, а ты ищи, где бы заработать хотя бы на кусок хлеба».
Шел третий год мировой войны. На далеком западе, в отрогах Карпат и у берегов Балтики, на подступах к Босфору и у каменистых бухт Анатолии всюду гибли и калечились армии молодых жизней. А здесь богатые бездельники развлекались анекдотами, распивали дорогие вина, сгоняли лишний жир и наслаждались музыкой…
Со скамьи, на которой сидел Железняков, хорошо был виден весь порт и широкий рейд. Теперь там стояли уже два больших парохода. Решительно поднявшись со скамьи, Анатолий зашагал к портовой сторожке, возле которой пожилая женщина развешивала белье.
— Мамаша, — обратился к ней Железняков, — разрешите оставить у вас на хранение свое барахлишко. Вот оно, все тут, — показал он на тощий вещевой мешок. — Хочу вплавь добраться к рейду… Может быть, найду работу на какой-нибудь посудине.
Женщина посмотрела на него с удивлением:
— Сынок, да ты что? В такую даль плыть? Утонешь, помилуй бог!
— Не собираюсь, мамаша, тонуть! — ответил Анатолий, подумав при этом: «Уж если через Финский залив переплыл, да еще ночью, то здесь уж как-нибудь справлюсь».
— Ну что ж, сынок, попытай счастья, — сочувственно промолвила женщина.
Железняков быстро сбросил с себя верхнюю одежду и, закрепив на голове небольшой сверток с документами, обернутыми клеенкой, бросился в воду и поплыл навстречу волнам.
Капитан парохода «Принцесса Христиана» Каспарский, отправляясь в рейс из Одессы на русско-турецкий фронт — к берегам Анатолии, надеялся привезти оттуда партию восточных ковров, побольше цветных шелков и прочих богатых трофеев, захваченных у турок в Трапезунде и других городах. Но на этот, раз вместо богатых трофеев «Принцесса Христиана» возвращалась в Одессу, имея на борту несколько сот раненых и тяжело больных солдат.
Каспарский буквально выходил из себя. Его бесили подобные рейсы. Они не приносили ему никакого дохода. В прошлом отважный контрабандист, он привык, хотя и с большим риском, наживать немалые деньги. Война же заставила его нарядиться в китель обычного капитана торгового, правда военизированного, транспорта. И теперь за ним гонялись не русские пограничники, а немецко-турецкие подводные лодки и другие военные корабли, уничтожавшие все суда под русским флагом.
Ожидая, пока отправят портовым катером на берег умерших по дороге от тяжелых ран, капитан все время ходил по мостику, время от времени разглядывая в бинокль панораму бухты.
Вдруг в окуляры бинокля Каспарский увидел человека. Он плыл по направлению к транспорту «Ксения», стоявшему невдалеке от «Принцессы Христианы». Судя по тому, как он справлялся с волнами, видно было, что это хороший пловец.
Это был Анатолий Железняков. Приблизившись к борту «Ксении», он закричал:
— Эй, вы! Вам матросы не нужны?
С парохода никто не ответил. Тогда он закричал еще громче:
— Эй, эй! Не требуются ли матросы? Кочегары не нужны?
В ответ Анатолий услышал:
— Матросы не требуются! Кочегаров хватает!
А кто-то насмешливо прокричал:
— Спеши, молодчик, обратно к берегу! А то портки унесут!
«Ксения», шедшая с грузом к берегам Анатолии, заревела последним гудком, прерывисто загрохотала якорная цепь, судно забурлило винтами и стало разворачиваться, ложась на курс.
Преодолевая усталость, пловец поплыл к транспорту «Принцесса Христиана».
Увидев это, Каспарский скомандовал:
— Спустить штормтрап! — В мегафон он ободряюще крикнул: — Молодец! Такие матросы всегда нужны мне! Поднимайся на палубу!
Когда Железняков поднялся на борт судна, к нему подошел пожилой матрос и протянул брезентовые брюки:
— На вот тебе, браток, приоденься. А то неудобно как-то, одет ты не по форме… У нас здесь все же есть женщины, сестры милосердия…
Каспарский сошел с капитанского мостика и обратился к Железнякову:
— Молодчина, молодчина! Но почему ты… таким путем…
— Голод не тетка, если нужно — и через море переплывешь! Ищу работу. На любую согласен, господин капитан.
— Работа найдется. Документы есть? — спросил Каспарский.
Анатолий развернул клеенку.
— Вот, пожалуйста… Паспорт… Удостоверения…
После побега с «Океана» Железняков добрался до Москвы. Товарищи, рабочие-подпольщики с завода Густава Листа, достали ему документы, с которыми он благополучно добрался к Черному морю, пройдя многочисленные полицейские и жандармские проверки.
— Так, так… Викторский Анатолий Григорьевич… 21 год… — вслух произнес капитан, возвращая пловцу бумаги. — А почему ты не на военной службе?
— По документам видите, господин капитан, что я освобожден от призыва. Льготу имею. Единственный сын у больной матери…
— Ясно. А на судах плавал? — спросил Каспарский.
— Да… Работал кочегаром на волжских пароходах «Жигули» и «Каспий».
— Значит, был речником. Теперь станешь моряком… Беру тебя кочегаром, — заявил капитан.
Из люка, ведущего в машинное отделение, вышел сухощавый, высокий человек. В зубах он крепко держал мундштук обгоревшей маленькой трубки
— Вот, Степан Петрович, наш новый кочегар, — обратился Каспарский к подошедшему. — А старую развалину, Непомнящего, отправьте на берег…
— Слушаюсь, Александр Янович, — небрежно взял под козырек человек с трубкой и, окинув новичка испытующим взглядом, направился к люку, ведущему вниз.
— Наш главный механик, — пояснил Каспарский, — будет твоим начальником.
— Господин капитан, вещи мои на берегу… — нерешительно сказал Железняков.
— Сейчас иди на камбуз, там тебя накормят. А потом бери шлюпку и катай за своими пожитками. Сегодня вечером снимемся с якоря. — С этими словами Каспарский удалился.
Вернувшись с камбуза, Железняков прошелся по палубе и присел на кнехт. Во время скитаний в поисках работы ему приходилось много раз слышать о том, что «Принцесса Христиана» совершала рейсы в Трапезунд, Ризе. Оттуда можно было пробраться в Персию… А из Персии махнуть… Эх, да мало ли куда можно улететь через эту восточную страну! — размечтался Анатолий. Сегодня перед ним открывался широкий путь к спасению…
Вдруг до него ясно донеслись слова одного из фронтовиков с перевязанной рукой, мешавшего русские слова с украинскими:
— Молодой, да, видать, из ранних. Значит, старик ваш буде теперь безработным из-за этого героя? Высокий матрос ответил сокрушенно:
— Непомнящему теперь придется подыхать с голоду. Кто возьмет его на другое судно?
К разговаривающим подошел рослый, широкоплечий человек с темной шевелюрой вьющихся волос.
— На вахту, Волгин? — спросил усатый матрос. — Ну как твой напарник? Говорят, выгоняют старика…
— Выгоняют как собаку! На его место берут молодого, здорового. Когда кочегарка сделает и его таким же старым и больным, его тоже выбросят, как ненужный хлам…
Внезапно он умолк. На палубе появился механик. За ним шел сутулый седоволосый человек в заношенных старых брюках и брезентовой куртке. Он о чем-то просил механика. Но тот, молча отмахнувшись от него, скрылся в каюте капитана.
— Брось, Феодосии, унижаться! Разве уговоришь их? — Волгин подошел к старику.
— А где этот бродяга, которого берут на мое место? — сердито спросил старый кочегар.
Солдат с перевязанной рукой кивнул в сторону Анатолия:
— Вон, отдыхает, бессовестный… Даже не смотрит сюды…
Железняков готов был провалиться на месте.
— Ерунду мелешь, пехота! — резко крикнул Железняков, поднимаясь. Никого не собирался я оставлять без куска хлеба! — Глаза его встретились с устремленным на него взглядом старого кочегара. — Не обижайся на меня, старина. Я не знал, что ваш капитан устроит такую подлость! — Анатолий быстро прикрепил шнуром поверх еще не просохших волос сверточек с документами и с края борта прыгнул в море.
Теперь волны были попутными для пловца, и он направлялся к берегу быстрее, чем добирался на рейд. Солнце склонилось уже совсем низко над горизонтом, когда Железняков вернулся на берег. Ветер стал еще крепче. Волны все сильнее и яростнее разбивались о прибрежные камни и портовый мол. По небу поползли угрюмые тучи. Похоже было, что к ночи разбушуется настоящий шторм.
Сильное волнение на море заставило Каспарского по настоянию врачей, сопровождавших раненых, ввести судно в бухту. Опасно было продолжать рейс и по другой причине. Наблюдательные посты заметили недалеко от прибрежной полосы перископ вражеской подводной лодки.
Над городом и морем опустилась густая южная мгла. Железняков бродил по набережной, озабоченный, где провести ночь. Полиция не разрешала безработным спать на бульваре и в приморском парке. И они уходили на ночь далеко за город. Решил направиться туда и Анатолий. Вскоре он оказался вблизи ресторана «Сан-Ремо», окна и стеклянные двери которого были тщательно замаскированы. Из большого зала доносились визг и хохот женщин, пьяные мужские голоса, звон посуды и звуки музыки.
Все кругом лежало во мраке: порт, город, бульвар. Этого требовала военная обстановка. Где-то недалеко в море бродили неприятельские корабли «Бреслау» и «Гебен».
«Залепить бы в этот „Ремо“ хотя бы один снарядик!» — со злостью подумал Железняков.
Размышляя обо всем пережитом за день, он шагал все дальше и дальше за город и оказался далеко от гавани. Справа чернело море, а слева тянулись сады с прячущимися в них маленькими деревянными домиками.
Вдруг до слуха Железнякова донеслись звуки рояля из одноэтажного домика с распахнутой дверью на веранде.
Прислонившись к дереву, Анатолий стоял и слушал словно завороженный.
— Руки вверх! — внезапно раздался за его спиной чей-то грубый голос. Ты что здесь делаешь, бродяга?
Рояль тотчас замолк. Двери веранды захлопнулись. Возле Железнякова стояли двое городовых с револьверами в руках.
— Ты что тут делаешь, отвечай! — повторил вопрос один из них.
— Музыку слушаю.
— Ишь ты, музыку слушает! А ну, руки вверх! — прикрикнул другой городовой.
Анатолию пришлось подчиниться. И хотя обыск не дал ничего, а документы оказались в порядке, ему объявили:
— Ты арестован!
— За что?
— Не разговаривать! Марш вперед! — крикнули городовые.
Железняков попал в одну из облав.
По стране бродило свыше миллиона дезертиров, как сообщалось в официальных донесениях главного жандармского управления. И, несмотря на введение царским правительством смертной казни за побег из действующей армии и флота, дезертирство не уменьшалось.
Ночная облава в приморском городе на этот раз преследовала и другие цели. Полицейские производили в порту, на предприятиях и судах «выемку» лиц, подозреваемых в революционной деятельности. В числе прочих были арестованы Железняков и два моряка на транспорте «Принцесса Христиана».
Перед рассветом шторм стал заметно ослабевать. Встревоженный ночным обыском среди команды, Каспарский не мог заснуть. Он поднялся на капитанский мостик и осмотрел горизонт. Да, скоро можно будет покинуть бухту и следовать дальше.
— Дойдем до Одессы без Волгина и Чумака? — спросил Каспарский у механика.
— Не справимся, Александр Янович. На Волгине держалась вся ходовая вахта в кочегарке. А Чумак был главной опорой у меня в машинном отделении, — ответил механик.
— И оба оказались смутьянами, большевиками, черт возьми! Случись это в Одессе, мы не стали бы горевать. А здесь, в этой дыре… Конечно, утром набежит орава безработных, но нам нельзя задерживаться. Пройду-ка я в полицию… — сказал Каспарский и зашагал к сходням.
Через несколько минут он скрылся в предрассветной мгле, направляясь в город.
Железнякова привели в полицейский участок Приморского района. Там было уже много арестованных. Все они находились в подвальном помещении. Оттуда их вызывали поочередно в канцелярию на допрос, после чего одних отправляли в городскую тюрьму, а других награждали крепкими тумаками и выталкивали на улицу.
«А вдруг начнут проверять, действительно ли я служил на пароходах? Могут обнаружить, что паспорт у меня не настоящий… — тревожно думал Анатолий».
Рядом на каменный пол сел человек. Он показался Железнякову знакомым, но Анатолий сразу не мог вспомнить, где встречал его раньше,
— Ищи бродягу в тюрьме, а пьяницу в кабаке, — шутливо сказал незнакомец, обращаясь к Анатолию.
— Но я не пьяница и не бродяга, — резко ответил Железняков.
— Не обижайся, дружище. Давай познакомимся хоть здесь. — И незнакомец протянул ему руку: — Дмитрий Старчук. Вывший машинист эскадренного миноносца «Керчь», а теперь вот безработный. И даже в полицию угодил!
Анатолий наконец вспомнил, как он впервые встретился со Старчуком — на пристани возле несговорчивого усатого контролера.
— Анатолий Викторский, кочегар, — сказал Железняков, отвечая на рукопожатие.
Знакомство с бывалым черноморцем обрадовало Железнякова. Он почувствовал себя уже не таким Одиноким.
— За что тебя приволокли сюда?
— Об этом надо у них спросить, у драконов, — негромко ответил Анатолий.
К ним подошли двое арестованных матросов.
— Прошу прощения, — заговорил матрос с большими, длинными усами. Кажется мне, что это ты приплывал вчера на «Принцессу»?
— А если и так? — хмуро и нехотя ответил Железняков, вспомнив, как враждебно встретили его на судне.
— Да ты не смотри на нас волком, братишка! Держи пять! Прозываюсь Василием Чумаком.
— Волгин. Кочегар, — представился второй и добавил: — А ты молодец, браток, что не оставил без работы старика Непомнящего. Благородно поступил…
На этом разговор их прервался. Загремел железный засов у дверей, и в подвал вошел полицейский.
— Какие здесь с «Принцессы», выходи!
— Пошли, Вася! — сказал Волгин Чумаку. — До счастливой встречи, братухи, — бросил он на прощанье Железнякову и Старчуку.
Снова явился полицейский.
— Викторский! — крикнул он.
Сидевший за деревянной загородкой долговязый полицейский офицер с остроносым желчным лицом громко распекал кого-то по телефону:
— Дурак! Болван! Что не ясно! Арестовать! Доставить сюда немедленно! Швырнув телефонную трубку на рычаг, он уставился воспаленными глазами на Железнякова. — Фамилия?
— Викторский.
— Имя?
— Анатолий…
В этот момент в помещение буквально ворвался Каспарский. Офицер поднялся из-за стола и услужливо открыл дверцу перегородки.
— Проходите, господин Каспарский. Пожалуйста, присаживайтесь. Чем обязан столь неожиданному да еще такому раннему визиту?
Не замечая Железнякова, Каспарский, поздоровавшись с дежурным полицейским, возбужденно заговорил:
— Я буду жаловаться самому главнокомандующему Кавказской армией! Вы задерживаете мой пароход с больными и ранеными! Мне надо срочно везти их в Одессу. Там меня ждет военный груз…
Судя по тому, как разговаривал Каспарский с дежурным, можно было догадаться, что бывший контрабандист не чужой человек в этом учреждении.
Выслушав разгоряченного Каспарского, офицер мягко сказал:
— Сейчас ваших молодчиков допрашивает сам начальник участка…
— В чем они обвиняются?
— Солдат агитировали против войны, что ли… Не знаю точно. Но вы не волнуйтесь, господин капитан, найдете других. Стадами ходят безработные…
— Я не могу взять любого голодранца! — вспылил Каспарский. — Мне нужны люди, умеющие работать в машинном отделении и в кочегарке.
В это время Каспарский увидел Железнякова.
— Ба! Беглец! Ты что ж удрал с моего парохода? Или тебе больше нравится ночевать в полицейских участках?
— Не подошли условия, господин капитан, — негромко сказал арестованный.
— Документы у него проверили? — спросил Каспарский у дежурного.
— Паспорт и справки об освобождении от военной службы в порядке, но все же…
За окнами раздался автомобильный гудок. И тотчас по всему зданию полиции поднялась суматоха. Городовые заметались, не зная, где и как стать. Торопливо накинув на свою бритую голову маленькую фуражку и поправляя на ходу саблю, дежурный офицер кинулся опрометью мимо изумленного капитана к входным дверям.
В полицейский участок стремительно вошел начальник жандармского управления Фон-Кюгельген. Несмотря на свою огромную фигуру и большой живот, шагал он быстро. За ним едва поспевал безусый, розовощекий ротмистр.
Фон-Кюгельген направился в глубь коридора, откуда уже спешил ему навстречу сам пристав, начальник участка.
— Черт побери! Какой важной птицей стал! Старых друзей не замечает, недовольно проворчал Каспарский. «А ведь совсем еще недавно был незаметным пограничным чиновником», — подумал он.
Раздался телефонный звонок. Офицер взял трубку:
— Слушаю! — И, обращаясь к Каспарскому, сказал: — Я сейчас вернусь. Встав из-за стола, одернув на себе китель и пригладив волосы, он пошел в кабинет начальника.
— Ну как, Викторский, значит, здесь тебе больше нравится, на казенных харчах? — иронически спросил Каспарский у Анатолия. — Говоришь, условия не подошли…
— Так вот, господин Каспарский, — заговорил вернувшийся дежурный офицер, — еще не выяснено точно кем является ваш кочегар Волгин, есть предположение, что это беглый матрос…
— Черт с ним, хоть повесьте его! Мне сейчас нужен кочегар! — резко сказал Каспарский дежурному офицеру. — Так что ж, удалой пловец, может, все-таки пойдешь ко мне на судно? — обратился он к Железнякову.
— Хорошо. Согласен, — ответил Железняков.
— А вот и машинист вам, капитан, — показал дежурный на арестованного Дмитрия Старчука, которого ввел в это время городовой. — Задержали у ресторана «Сан-Ремо», но документы в порядке.
…Из полицейского участка Железняков и Старчук прошли вместе с капитаном прямо в порт.
Вскоре «Принцесса Христиана» вышла из гавани и легла на свой курс, направляясь к Одессе.
«Принцесса Христиана»
По указанию капитана Каспарского Железняков занял свободную койку в общекомандном кубрике.
— Потом перейдешь к «духам»,[2] - сказал ему капитан.
Перед вахтой надо было хоть немного отдохнуть. Но Железняков не мог уснуть. Он был взволнован тем, что пришлось пережить в полицейском участке. Да и здесь, на этом пароходе, где могут арестовать как дезертира военного времени. «Да, могут, если я не опережу их и не убегу из этого „милого отечества“… Посмотрим все же, кто кого опередит… Нет, они не поймают меня!»
Пробили склянки, известившие, что надо собираться на вахту.
Железняков вышел на верхнюю палубу. Шторм окончательно присмирел, но море беспокоила большая зыбь, от которой особенно страдали больные и раненые фронтовики. Способные передвигаться выбирались из нижних помещений на верхнюю палубу, чтобы подышать свежим воздухом и этим облегчить свои мучения.
Многие солдаты, видевшие Железнякова накануне днем, когда он приплывал на судно наниматься, сразу узнали его. И Анатолий услышал, как говорят о нем:
— Этот молодчик снова вернулся сюда.
— Но старика не уволили, я сам видел его сегодня, когда он выходил из кочегарки…
Железняков прошел на полубак. Отсюда во все стороны хорошо было видно море и берег. Ему знакомы были эти места: еще до военной службы он плавал здесь матросом на пароходе «Тайфун»…
Впереди на горизонте показался большой караван транспортов. Они шли кильватерной колонной в охранении военных кораблей. «Наверное, везут солдат для пополнения нашей Кавказской армии, — сразу догадался Железняков. — Эх война, война, будь ты проклята! Ну за что погибают люди?!»
Размышления Железнякова прервал раздавшийся за его спиной незнакомый голос:
— О чем задумался, мореплавец?
Анатолий обернулся и оказался лицом к лицу с тем раненым солдатом, который ругал его накануне, заступаясь за кочегара Непомнящего.
— Ты, может, за мои слова обиделся? Я ведь от жалости к старику, простодушно сказал солдат. — Давай познакомимся. Як тебя величают? А я Тарас Архипенко.
— Зови просто Анатолием…
Их дальнейший разговор прервал громкий гудок «Принцессы Христианы». Она приветствовала караван транспортов, заполненных солдатами.
— Везут на турецкий фронт, — хрипло сказал Архипенко, вспомнив, как он сам вместе с товарищами по полку плыл этим маршрутом.
Раненый снял с головы выгоревшую на солнце старую фуражку с помятой жестяной кокардой. Так он стоял, не покрывая головы, несколько минут, словно провожая похоронный кортеж, плывший по морю…
— Мабуть, полка два повезли, а скильки вернется? — тяжело вздохнул Архипенко, продолжая стоять с непокрытой головой.
Когда караван остался далеко за кормой «Принцессы Христианы», Железняков отвел пехотинца подальше от других солдат и предложил покурить.
— Как сейчас настроение на фронте?
— Будь вин скаженный той фронт, — сплюнул Архипенко, сопровождая ответ крепким словом. — Совсем загоняли солдата…
— А кормят в окопах как, хорошо? — продолжал расспрашивать солдата Железняков.
— Як кормят? — солдат опять выругался. — Суп — хоть голову мой, пшонина за пшониною гоняется з дубиною… А куда податься нашему брату от такой жизни? На небо не вскочишь и в землю не заховаешься.
Анатолий обратил внимание на зарубцевавшийся шрам, который краснел на виске под короткими седыми волосами фронтовика.
— Это что, дружище, ранение?
— А ты думаешь, шо баба поцеловала, — горько усмехнулся раненый пехотинец. — Мене неприятель любит, як кума. То в башку влепит пулю, то в руку. Вже третий раз до госпиталя еду. Но зараз я спокоен. Бильше не придется представлять свой лоб под турецкие, або под германские пули. Кажуть, що царь решил отпускать до дому воина, коли вин три або четыре раза ранен…
— О таком законе не слыхал что-то… Думаю, обдуривают вас… медленно проговорил Железняков.
Пехотинец насторожился:
— Обдуривают, кажешь? А може царь такое допустить? Солдат воюе за бога, престол и отечество…
Анатолий осмотрелся кругом.
— Вижу, Тарас, что многого ты еще не понимаешь. Немцы тоже говорят, что воюют за своего кайзера, Вильгельма.
Пробили склянки.
— Надо спешить на вахту. Прощай, дружище, — кинул Железняков уже на ходу.
Скоро Железняков топтался у раскаленных топок в жарком, тесном и душном котельном помещении. Его напарника Непомнящего еще не было.
Больно защемило сердце старого кочегара, когда он узнал, что вместо арестованного Волгина с ним будет работать тот человек, из-за которого его чуть не выгнали с парохода. Но ничего не поделаешь, надо подчиняться начальству.
Придя в кочегарку, Непомнящий сухо ответил на приветствие Железнякова, отворачивая суровое морщинистое лицо в сторону пылающей топки. Сутулясь, он обошел котельное помещение, проверил запас топлива и проворчал сердито:
— Занимался когда-нибудь этим чертовским делом?
— Занимался! — откликнулся Анатолий. — Но давно, почти два года назад.
— А зачем хвастал капитану, будто служил совсем недавно на волжском «Каспии»?.. Капитана ты мог провести, но меня не проведешь… — Непомнящий ловким движением швырнул уголь в самую глубь топки. — Вот так-то и шуруй! Начинай! Надо держать давление пара на пределе. А то механик шкуру сдерет с нас…
Железняков смотрел, с каким мастерством его напарник действовал лопатой, несмотря на то, что в кочегарке было очень жарко и душно. Грязные ручейки пота ползли по его щекам и лбу, попадали в глаза. Тяжело было и Анатолию. На каждом шагу подстерегали какие-нибудь неприятности. Он несколько раз больно ударился головой о пиллерс и сильно ушиб ногу. Томила жажда. Но вода в бачке отдавала углем, и пить ее было невозможно.
«Держись, не поддавайся, — подбадривал себя Анатолий. — От первой вахты зависит твое будущее».
К концу вахты старый кочегар заметно смягчился. Его тронула стойкость, выносливость новичка.
Когда Анатолий, томимый страшной жаждой, подошел к бачку напиться, старик протянул ему свою бутылку с чаем:
— Здесь самая малость осталась, но все ж поделимся. Не пей из бачка. От такой воды может подохнуть даже кит. Подлость!
— Да, это не вода, а пакость. Надо требовать остуженный кипяток, сказал Железняков.
— Эге, чего захотел! — смахнул Непомнящий грязной рукавицей пот с разгоряченного лица. — Ты вроде ак бы с луны свалился.
— Да неужели ж невозможно добиться, чтобы хоть ода была хорошая! возмущенно говорил Анатолий.
— Вот так рассуждал и Андрей… Волгин, мой напарник. А ему заявили, что возбуждает матросов, так казать, на бунт против царя и капитана парохода…
Старый моряк вдруг осекся, поняв, что слишком разговорился. И до конца вахты не проронил больше ни слова.
Одесса встретила «Принцессу Христиану» печальной вестью. Караван военных транспортов, разминувшихся накануне, был атакован неприятельскими подводными лодками. Одно торпедированное судно затонуло почти со всеми находившимися на нем солдатами я командой, другое — выбросилось на мель.
— Немецкие пираты, конечно, готовили торпеды и для нашей «Принцессы», — сказал Каспарский в беседе со своими ближайшими помощниками.
— Когда-нибудь подлюги угробят и нас, — мрачно заметил главный механик.
— Будем надеяться, господа, что останемся живыми-здоровыми и… с хорошими трофеями! — пробовал шутить Каспарский, хотя сам далеко не был спокоен за каждый рейс.
— Меня больше волнуют дела, происходящие на нашем пароходе. Правда, главных смутьянов — Волгина и Чумака убрали, но я не уверен, что не появятся новые, — с тревогой сказал старший помощник капитана Митрофанов.
— К сожалению, уже есть. Вот, например, наш новый кочегар только что прибыл на судно, как тут же стал ругать наши порядки. Нет, мол, воды свежей в кочегарке, плохая вентиляция… — каким-то особенно предостерегающим тоном доложил главный механик.
— Кочегар он неплохой, как я убедился уже по первой вахте. Но все же пусть Коновалов понаблюдает за ним… — сказал Каспарский.
Митрофанов угодливо кивнул головой.
Шла высадка тяжелораненых. Анатолий увидел Тараса Архипенко, когда тот стоял недалеко от трапа в группе легкораненых… Фронтовики ждали команды сходить на берег.
Увидев Железнякова, солдат подошел к нему.
— Здорово, мореплавец. Ну, як работа у кочегарки?
— Уже выстоял три вахты, Тарас. Пока еще ни разу не свалился с копыт в этом проклятом аду! А ты, значит, сейчас в госпиталь, потом в отпуск, до дому. Ты родом-то откуда?
— З Полтавщины, — ответил солдат. — А ну-ка, милок, помоги цигарку свернуть. — Достал свой кисет с табаком и протянул Железнякову. — Был человеком до фронта, а зараз и закурить не могу без помоги, — вздохнул тяжело Тарас.
— Домишко небось свой есть? — продолжал расспрашивать Анатолий.
— О, там у мене така хата! Витром обгорожена, нибом покрыта, — горько усмехнулся солдат.
— А жинка есть у тебя?
— Имеется, — расплылся в улыбке Архипенко. — Добрая у мене жинка!
— Так сидел бы ты лучше дома, Тарас, да целовал свою жинку, чем торчать в окопах и ждать смерти…
— Все ж надиимся, що царь даст закон об освобождении солдат, раненных три або четыре раза. А може, и война скоро завершится… Тогда генералы скажуть: «Геть домой, солдаты!» И я швидким ходом — до дому, до жинки!
Тарас прищелкнул пальцем здоровой руки:
— И гарно у своей хаты! Тишь-гладь божья. Ни тоби пуль, ни снарядив.
— Эх, Тарас, Тарас, — тихо сказал Анатолий, — ради кого ж мы воюем?
Архипенко пыхнул цигаркой.
— Ничего не зробишь. Солдат проклинае страдания в окопах, но строго держится за присягу. Он воюе за власть, що богом дана, за царя, за батьковщину…
— Архипенко, давай сюда! — раздался голос санитара.
Солдат порывисто протянул Железнякову здоровую руку.
— Спасибо тебе, моряк, за добрые разговоры.
Анатолий проводил солдата долгим прощальным взглядом. Казалось, будто ушел от него хороший старый друг.
Вдруг Железняков заметил недалеко от трапа рыжего боцмана, с которым чуть не подрался в кубрике после своей первой вахты в кочегарке.
«Черт его побери! Он, Коновалов! — выругался про себя Анатолий. — Как я не заметил его раньше? Хорошо, если он не слышал наш разговор с Тарасом… А если слышал, то может передать капитану…»
До ночной вахты оставалось около трех часов. Можно было бы еще поспать, но Анатолий не стал ложиться. Он достал из рундука книгу, принесенную на «Принцессу Христиану» вместе с небогатым имуществом.
Кубрик освещала только одна небольшая керосиновая лампа. Железняков придвинулся ближе к ней и стал читать. Скоро по трапу с верхней палубы явился Старчук.
— Почему не спишь? Ведь работать почти всю ночь. Говорят, скоро снимаемся. Что читаешь?
— Хорошую книгу. Здесь написано много такого, что помогает стать настоящим человеком, смело идти через все преграды жизни…
— А в этой книжке не сказано, как прожить на нашей планете в более светлых кубриках? — спросил черноморец, подкручивая фитиль в лампе, чтобы хоть немного увеличить свет. Но из этой попытки ничего не вышло. Фитиль закоптил нещадно, и еще больше запахло керосином.
— Вот окаянная! — возмутился Старчук, снова уменьшая огонь в лампе. А ты читал что-нибудь Джека Лондона?
— Не спрашивай! Шесть раз всего перечитал, — восторженно ответил Анатолий.
— А книги о капитале, о пауках и мухах тебе не попадались? — испытующе посмотрел на него Старчук.
— Кое-что читал, — уклончиво ответил Железняков.
— Чем дышать этим чадом, давай лучше пойдем на верхнюю палубу и там поговорим, — предложил черноморец.
Они работали на «Принцессе Христиане» уже несколько суток, но до сих пор еще мало общались друг с другом. С этого вечера они стали друзьями.
«Принцесса Христиана» уже вторую неделю курсировала между Новороссийском и Батумом. К берегам Анатолии ее не направляли. Это выводило из себя Каспарского и Митрофанова. Их тянуло к прифронтовой полосе, как хищных воронов к полю боя. Там были трофеи, нажива.
Солнце нависло над волнистой далью уже совсем низко, и вершины мачт, облитые багровыми лучами, как бы загорелись. На судне закончилась приборка, И свободные от вахты матросы собрались на баке. Оттуда доносился смех.
«Наверное, Вася Меченый снова забавляет ребят, — подумал Анатолий. Пойду-ка и я туда».
Белобрысый молодой масленщик из машинного отделения, прозванный Меченым за то, что был густо разрисован татуировкой, сидел на кнехте, окруженный матросами, и рассказывал разные истории о своих любовных делах на берегу. Когда Анатолий подошел к собравшимся матросам, Вася Меченый убеждал Непомнящего:
— Пусть меня гром убьет, если я брешу насчет Маруськи. — Не обращая внимания на едкие насмешки товарищей, рассказчик продолжал: — Вот подзаработаю монет побольше, и — айда к Марусе. Надоело мне болтаться на этой паршивой посудине!
— А в гости к своей Марусе вот так же, босиком и в рваной тельняшке, ходишь? — подковырнул масленщика старый кочегар.
Вася сделал глубокую затяжку из толстой самодельной папиросы и ловко выпустил в воздух несколько дымных колец. Тщедушный паренек был в рваной полосатой тельняшке и коротких трусах. Смуглая впалая грудь, руки, спина, ноги — все пестрело разрисованными синей тушью якорями, женскими головками, чернокрылыми орлами, страшными драконами и надписями.
— Какой ты красивый, Вася! Прямо картинная галерея! Только вот плохо ходишь без ботинок, — подшутил над ним Анатолий. — Да, неважная, брат, у нас с тобой житуха, если не можем заработать даже на пару башмаков.
— Поменьше надо по кабакам шляться, — вмешался в разговор боцман Коновалов, сидевший до этого молча в стороне от остальных матросов.
Анатолий искоса посмотрел на свои сандалии и ответил Коновалову:
— Я не шляюсь по кабакам, а вот тоже хожу без ботинок…
— Ах ты, живоглот, мироед деревенский! Заховался тут от пуль и снарядов, будто немощный какой! — крикнул Вася Меченый и направился к нему, сжимая кулаки.
— Не робей, воробей, лупи коршуна! — кто-то подзадорил масленщика.
— Брось, Вася, не связывайся! — сказал Анатолий. — Закурим лучше.
Вася сел на кнехт. Рядом с ним опустился на бухту троса и Железняков.
— Хорошо ты сказал этому жлобу, Василий! Молодец, браток!
— Поосторожней выражайся! — угрожающе сказал Коновалов Анатолию. И, шепнув что-то Марковичу, вместе с ним ушел с бака.
— Откуда ему знать, как живется нашему брату, — вздохнул Непомнящий. Проработал бы с мое, да еще в чертовой преисподней, тогда запел бы другое. — Морщины, прорезающие широкий лоб старого кочегара, будто еще более углубились.
— Правильно, Феодосин! — подхватил Железняков. — Все вывозим мы на своих плечах, обливаясь потом, задыхаясь в топках! Эх, братки, братки, хотелось бы поговорить с вами по душам… — Осмотревшись вокруг, Анатолий сказал: — Давайте, ребята, поближе сюда, ко мне.
Матросы сомкнулись вокруг него тесным кольцом. Понизив голос, Железняков заговорил:
— Плохо, что нет у нас организации, которая могла бы защитить моряка от кабалы эксплуататоров, облегчить его тяжелую долю. Да, пока нет у нас такой организации. Мы разбросаны, рассеяны. А организация нужна, необходима… И чем скорей мы создадим ее, тем будет лучше для нас.
Это был открытый призыв к восстановлению моряцкого профсоюза, который был запрещен жандармерией в 1915 году.
Послышались одобрительные голоса:
— Правильно, нужна организация!
Кто-то предупредительно сказал:
— Потише, ребята!
И тут Железняков заметил Марковича. Прикидываясь безразличным к тому, о чем говорят матросы, он стоял у фальшборта и глядел в сторону берега.
«Подслушивает, подлец! — мелькнуло в голове. — Вот почему Дмитрий смотрит на меня так укоризненно».
Анатолий умолк.
Матросы стали медленно расходиться. Смелые слова Железнякова радовали, вселяли надежду на лучшую жизнь. Но было в этих словах и такое, за что могли вызвать в полицию и спросить: «Слушал, сукин сын, агитатора, говорил ему „Правильно“? Профсоюза захотел?..»
Каспарский, сидя вдвоем со своим старшим помощником Митрофановым, категорически заявил:
— Нет, я не согласен с вами, Николай Михайлович. Мы не можем передать Викторского полиции в этом порту. Черт знает, что вообразит Фон-Кюгельген! Он скажет: «Команда капитана Каспарского состоит из одних мятежников». Надо подумать о репутации «Принцессы».
— Но мы не смеем скрывать разговоров на баке, Александр Янович, настойчиво доказывал Митрофанов.
— Надо подождать.
Энергичное, с резкими чертами и большим ястребиным носом лицо Каспарского выражало тревогу. Он нервно барабанил пальцами по столу.
— Я не меньше вас обеспокоен происшедшим. Но если теперь жандармы возьмут еще и Викторского, нас не пустят в Трапезунд и Ризе до окончания войны.
Отстояв вахту, Железняков поднялся на верхнюю палубу и прошел к рострам. Сюда просил его прийти Дмитрий Старчук. Он уже ждал.
— Хочу поговорить с тобой, Анатолий, по поводу…
— Понимаю. Все понимаю. Не одобряешь мое открытое выступление? Но мне надоело говорить вполголоса.
— Ты что ж, считаешь активной борьбой неподготовленные, непродуманные выступления? Разве ты не понимаешь, что такими и подобными действиями ты можешь подвести товарищей? — строго спросил Дмитрий.
Мимо проплыл какой-то пузатый буксир. Мелькнул зеленоватый бортовый огонь и тотчас снова потух между черными валами моря.
— На румбе? — раздался громкий голос Митрофанова с ходового мостика.
Не слышно было, что ответил рулевой, но помощник капитана снова крикнул:
— Держать точно на румбе!
— Подлец этот Митрофанов, но как уверенно, четко командует: «Держать точно на румбе!» Вот и я так себе представляю, Митяй. Жизнь наша — это бурное море. Море грозное и суровое. Все зависит лишь от тех команд, какие я могу применять, по каким румбам буду прокладывать свой курс…
— Вот с этим я согласен, — заговорил Старчук. — Но поведение твое вчера на баке показало, что судно под названием «Я» ходит отнюдь не по твоей воле. В два счета можешь оказаться на таком «румбе», что угодишь прямо… в жандармерию!
Анатолий подставил свое лицо ветру, жадно глотал прохладу. Ему хотелось говорить громко, гневно, но он говорил тихо, временами переходя почти на шепот. — Дорогой Митяй, ты должен понять, почему я так поступаю. Всю мою юность преследует жандармерия! А за что? За правду! Я хочу шагать вперед смело, разбивая все преграды на пути! А мне приходится прятаться. Если бы ты знал, как мне нужно быть сейчас особенно осторожным! Тогда ты еще сильнее ругал бы меня за мое вчерашнее… на баке. Как другу, скажу тебе… Да что говорить. На вот, почитай лучше.
Железняков протянул Старчуку толстую тетрадь в коленкоровом переплете, на первой странице которой было написано: «Памятная тетрадь».[3]
— Спасибо за доверие. Постараюсь разобраться в твоих записях…
— Спрячь тетрадь получше, а то, как говорят, не ровен час… — сказал Анатолий. — Между прочим, в этой тетради есть такая запись: «Поступок, совершенный 12 июня, сразу сделал переворот в моей жизни».
— О каком поступке ты пишешь? — насторожился Старчук.
— В этот день, Дмитрий, я сбежал с учебного судна в Кронштадте. Со дня на день я ждал ареста за революционную пропаганду среди матросов. Характер подвел. Нагрубил командиру корабля.
— Так ты дезертир… Скажи честно, какие планы у тебя?
— Сейчас думаю только о том, как бы добраться до Ризе или Трапезунда… А там никакая сила меня не задержит. Махну в Персию. Оттуда к океану. Проберусь на китоловные или котиковые промыслы. Избавлюсь от виселицы…
— Короче говоря, решил бежать на Аляску?
В темноте под рострами что-то упало. Друзья насторожились.
Но кругом только шумело море и продолжало яростно хлестать транспорт.
— Да, я решил это твердо, — ответил Железняков.
— Нет, браток, не на тот «румб» положил ты свое судно. Опомнись. А пока пошли спать.
Митрофанов прикрыл плотней двери каюты и сказал Коновалову:
— Говори, я слушаю.
— Вот так и было дело, господин Митрофанов. Увидел я, что нет их в кубрике…
— Дальше, дальше, не тяни! — нетерпеливо перебил боцмана помощник капитана.
— Забрался я под ростры подальше, чтобы ветром меньше пронизывало. Лежу… Ветер мешал. Только и разобрал я, как Викторский сказал Старчуку: «Я убегу. Лишь бы добраться до Ризе или Трапезунда. А там меня только и видели…»
— Не во сне ли ты это видел? — недоверчиво переспросил Митрофанов Коновалова.
Перекрестившись, Коновалов быстро проговорил:
— Вот видит Николай-чудотворец морской, что не вру, господин Митрофанов, клянусь, не вру. Похоже, что он убил кого…
— Хорошо, иди, — пренебрежительно махнул рукой Митрофанов.
Оставшись один, помощник капитана подумал: «Да, Викторский, ты, пожалуй, способен убежать… Но из наших рук ты не ускользнешь никуда… В Новороссийске или в Одессе пусть прощупают тебя в полиции…»
Отстояв вахту и вернувшись к себе в кубрик, Старчук вместо того, чтобы лечь спать, немедленно приступил к чтению «Памятной тетради». Он хотел поскорее ознакомиться с тем, что в ней написано.
Первая запись начиналась словами: «Кто посягает на свободу человека, достоин позора и смерти.
Вплоть до минуты, когда я буду не в состоянии писать, до тех пор не будет белых страниц.
Жизнь скитальца полна треволнений, лишений и суровых переживаний, но прекрасна дикой свободой и вольным взмахом желаний.
Если в жизни случится, Что горе с нуждой, Как гроза, над тобой пронесется, Не робей! И смело вступай с ними в бой, И приветливо жизнь улыбнется… Чем трудней и опасней борьба, Тем приятней и слаще победа».Старчук перевернул следующую страницу.
«Новороссийск. 1916 год. Август.
…Эту памятку я завел для того, чтобы когда все пройдет и когда я буду „там“, то буду вспоминать все, что заставляло перечувствовать глубоко те решительные моменты, которые оставят неизгладимый след в моей жизни. То, что пережил я, теперь для меня лишь сон, длинный, мрачный, ужасный, болезненный, кошмарный. Свобода, воля труда и работа, хотя и до полного изнеможения… Поступок, совершенный мной 12 июня, сразу сделал переворот в моей жизни…
Решительность, смелость!
12 августа. Вечер.
Снялись из Новороссийска. Идем не то в Батум, не то в Трапезунд. Держусь каждую минуту в полной готовности. Много еще испытаний на пути, но они ничуть меня не пугают и не тревожат.
Хорошо жить и бороться! Хорошо умирать, защищая свою независимость. Верю, что я не пройду по жизни маленьким человечком с маленькими волнениями и тревогами.
Мои коллеги — все почти ровесники, славные добродушные парни, хотя у них не то принято за истинную цель, что надо. Я знаю, что никто из них не пойдет вразрез другому, все тесным кольцом будут отстаивать свои права. Но между ними нет человека с волей; а каждый взять инициативу в свои руки не может и не в состоянии…
Тихо, все спят. Иду на вахту».
Далее в дневнике описывались знакомые Дмитрию матросские будни. Но он читал жадно. Его захватила острая мысль друга, поразила наблюдательность.
«23 августа. Рейд Гагры.
Высокие крутые горы покрыты мягкой бархатной зеленью южных горных лесов; там, на их склонах, белыми красивыми пятнами выступают виллы и дачи буржуа. Тихо и хорошо для утомленных. Жаль, все это приобретается на деньги. С берега сообщают, что 108-й[4] близ Батума потоплен подводной лодкой, миной и артиллерийским огнем. Есть раненые и убитые…
24 августа. Рейд Сухум.
Пока до Сухума шли благополучно.
25 августа. Ночь, 11 часов. Порт Батум.
Стоим. Груз до Трапезунда. Там простоим довольно долго…
Поскорее бы только исчезнуть из границ нашего приятного отечества! Поздно, пора спать…
26 августа. Вечер.
Сегодня на „Принцессе“ поистине Содом и Гоморра. Сено, повозки, и в довершение всего на палубы погрузили верблюдов. Пройти в кубрик нет возможности. Лежим на рострах. Снялись с якоря в шесть часов. На юте полно офицеров и сестер милосердия. Идет попойка. Обидно, стыдно и больно за то, что видишь. Все то, что должно быть свято, что должно произноситься с глубоким уважением, — все это попрано, загрязнено ногами, топчется со смехом в грязи и слякоти нашей жизни… На палубу приняты были больные солдаты. Спят вповалку, где и как попало. Идут две сестры милосердия, одна несет бутылку из-под вина, другая одета в сапоги изящного образца, с нею морской офицер.
— У вас есть помещение, где. спать? — спрашивает ее морской офицер.
— Самого ужасного вида! Капитан дал отдельную каюту, но такая ужасная, скверная, неудобная, — вопит она.
Подлость! Люди измученные, больные спят наверху под свежим морским ветром, ей предоставили каюту, и она заявляет претензию!..
29 августа. Рейд Платаны.
Сегодня перешли сюда и встали на якорь. Это от Трапезунда семь миль. Едим сухари и картошку, испеченную в поддувалах. Мяса не было во рту уже неделю.
5 сентября. Рейд Ризе.
Вот уже пятые сутки стоим на якоре…
6 сентября.
Идет дождь, начало слегка зыбить. С одной стороны дело неважно: вышел хлеб, будем глодать сухари.
А дождь все сыплет, уже осень. Где ты, золотая русская осень, с легкими морозами и чистым, звонким, как звук стекла, воздухом?..
Война! Ужас, кошмар. Судьба пишет историю народов кровью. Идет безумная, достигшая крайней разнузданности оргия. Люди гибнут за металл и от металла.
Цари людей, сильные мира сего, упившись властью, тешатся новой игрой, мировой бойней, идущей уже третий год.
Смейтесь! Но хорошо смеется тот, кто смеется последним, а вы смеетесь в последний раз. Уже тянется наводящая на вас смертельный ужас кроваво-красная рука революции…»
В Сухуме «Принцесса Христиана» приняла военный груз и под охраной двух миноносцев направилась наконец к берегам Анатолии. Вот и долгожданный рейд Трапезунда. «Принцесса Христиана» бросила якорь.
«Скоро, скоро я буду у своей цели», — упрямо думал о своем Железняков. Он надеялся ближайшей же ночью добраться к берегу вплавь. Но… судно быстро освободилось от груза и солдат, снялось с якоря и легло на новый курс.
Измученная команда не спала днями и ночами. Вахта казалась беспрерывной.
10 сентября вечером в маленькой скалистой бухточке погрузили воинскую часть с пушками и взяли курс на Ризе. Перед выходом снесли на носилках в прибрежный полевой лазарет Васю Меченого. Неугомонный весельчак едва дышал. Длительное плавание в тяжелых условиях подорвало его и без того плохое здоровье. Не смог достоять свою вахту и кочегар Берадзе, рослый, плечистый грузин. Его вынесли на верхнюю палубу в обморочном состоянии.
Появился боцман Коновалов и громко скомандовал:
— Живо на подъем шлюпок! Матросы запротестовали.
— Подъем шлюпок не наше дело. Для этого есть верхняя команда, объяснил Непомнящий. Измученный непосильными ходовыми вахтами, он сильно осунулся и, казалось, постарел еще больше.
— Да, шлюпки поднимать — это дело боцманской команды! — решительно заявил Железняков.
— Забастовку объявляете? На военном транспорте? Захотели петлю на шею? — закричал боцман.
— Не пугай, мы не из трусливых, — зло отпарировал Железняков.
На шум прибежал Митрофанов.
— Что за сборище? Что случилось? Коновалов вытянулся по-военному.
— Разрешите доложить, господин старшой. Они отказываются идти поднимать шлюпки!
— Кто это «они»? — спросил Митрофанов. — Кто?
— Мы все едва стоим на ногах, — начал было объяснять Железняков, но помощник капитана грубо его прервал:
— Замолчать! Немедленно марш к шлюпкам! А этот все еще валяется? брезгливо посмотрел Митрофанов на лежащего кочегара Берадзе.
Коновалов угодливо поддакнул:
— Вот до чего доводит водка…
Внезапно раздался глухой кулачный удар, и Коновалов рухнул на палубу рядом с кочегаром Берадзе.
— Запомнишь свои шлюпки, гад! — задыхаясь от гнева, сказал Железняков.
Митрофанов быстро скрылся в люке. Вдогонку ему раздались угрозы:
— Дойдет и до тебя черед! До всех вас дойдет!
— Что здесь произошло? — спросил только что подошедший Старчук.
— Ничего особенного, — уже приходя в себя, ответил Железняков. — Знаю, опять будешь ругать меня. Все расскажу потом, потом… А сейчас присмотри за Берадзе. Я пойду в кочегарку, надо помочь его напарнику. Иначе и тот свалится с ног.
В то время как Железняков мысленно уже готовил себя к побегу с парохода, между Каспарским и Митрофановым шел возбужденный спор.
Митрофанов расценивал избиение Коновалова Викторским и отказ кочегаров выполнить приказ о подъеме шлюпок как организованный бунт. Но такое толкование всего происшедшего не устраивало Каспарского.
— Хорошо. Я согласен с вами, Александр Янович. О случае на баке пока умолчим. Не будем также говорить и об агитации Викторского среди солдат. Но нельзя же ему прощать избиение Коновалова. Матросы скоро станут и с нами так расправляться, — горячился Митрофанов.
— Ладно. Сообщим властям о драке. Надо припугнуть Викторского, сдался Каспарский.
— Я думаю, что надо бы заодно и Старчука проверить, — продолжал Митрофанов.
— Старчука? — удивился Каспарский.
— Коновалов говорит, что это он подбивает Викторского на все его выступления против наших порядков, — сказал Митрофанов…
Вскоре после прихода «Принцессы Христианы» в порт Ризе Железнякова и Старчука ввели под сырые каменные своды старинной восточной тюрьмы.
Где-то прогремели железные засовы, и тюрьма погрузилась в мрачную тишину…
Убедившись, что все спят и никто не наблюдает за ним, Анатолий каждый вечер доставал из-под полы свою тетрадь, бесшумно приближался к мигавшему тусклому светильнику, сделанному из жестяной банки, и вел свои записи.
«12 сентября.
Сижу в арестном доме, т. е. хочу сказать, в окружной тюрьме г. Ризе. Сидят много флотских, четыре турка за убийство своего старосты, я и Старчук.
Удивительно для других народов и характерно для России: может отсутствовать провиант, фураж и предметы первой необходимости, отсутствуют школы, приюты и т. п., но зато повсюду, где ступила нога российского администратора, мгновенно выросли полицейские, жандармские управления, тюрьма, арестные и прочие злокачественные учреждения.
В Трапезунде, Платанах и здесь, в Ризе, всюду поражает изобилие полицейских и жандармов.
Взятка — законный грабеж процветает и дает обильную жатву нашим хранителям и блюстителям закона-беспорядка, закона-поработителя…
13 сентября. Арестный дом.
Всю ночь шел дождь. В камере открылись течи, и полно на полу воды. Стекол нет. Весь вечер Старчук рассказывал о своей жизни, о действительной службе, о женитьбе…
Долго не спал, и вся жизнь длинной лентой прошла перед глазами.
Надо трогаться вперед за тем, к чему стремишься…
Быть или не быть? А так жить не хочу…
Только бы вера в людей, в лучшую жизнь не ослабла…
Да здравствует жизнь-море и могучая свобода, как океан!..
Старчук спит… Дождь, свист, и на море шторм…
14 сентября, утро.
Дождь и ненастье. Заснул прошлую ночь поздно, и сон был кошмарный.
Сегодня четвертый день. Насилу привезли горячую пищу, хотя пришлось обращаться к дежурному офицеру.
Что правит миром? Добро или зло? Ложь или истина?
Человеку, как существу высшему, дан разум, даны добродетели и пороки. Все это кто-то перемешал: добро и зло сплелись плотно и неразлучно всюду следуют вместе.
Пошедшему навстречу жизни-шторму не следует бояться гибели. Горе тому, кто испугался вида страшилищ — седых стариков-валов! Будь он полон познаний, все равно погибнет, не пройдя и трети пути.
Кости брошены. Игра началась. Кто победит? Хладнокровие, смелость, решительность!..»
Через несколько часов «Принцесса Христиана» должна отплыть. Уже полностью закончена погрузка, и поднимаются пары. Можно отдавать последние распоряжения об отходе. Но Каспарский все еще не делает этого.
Прибывший транспорт «Принц Ольденбургский» доставил служебную почту. Среди документов, присланных из пароходства, было письмо из морской жандармерии.
Каспарский вскрыл пакет. Часть письма, оказавшись приклеенной к конверту, порвалась. Можно было разобрать только слова: «…дезертир с Балтийского флота, государственный преступник Анато… — Далее сообщались приметы: — Рост 2 аршина 84/3 вершка, объем груди — 197/3 вершка, вес 4 пуда 4 фунта. Правильные черты лица. Глаза голубые. Слегка вьющиеся черные волосы. Взгляд смелый. Характер — гордый. Прямая, твердая походка».
Жандармским управлением предписывалось при обнаружении дезертира сообщить о нем в Новороссийск или в Одессу, установив по пути негласное строжайшее наблюдение за ним.
В каюту вошел Митрофанов.
— Вот, ознакомьтесь, Николай Михайлович, — только что получил с очередной почтой, — сказал Каспарский, протягивая своему помощнику письмо.
Прочитав его, Митрофанов ответил:
— Вне всяких сомнений, речь идет о Викторском. Имя подходит, а приметы прямо с него списаны. К тому же я как-то недавно обратил внимание на его верхнюю одежду — не иначе, как перешитый бушлат.
— Все это, может, в действительности и так, но для нас сейчас главное — скорее дойти до места назначения. А там уж пусть полиция разбирается. Ей видней, что делать с Викторским. Вам же придется немедленно отправиться к начальнику тюрьмы и объяснить, что у нас не хватает кочегаров, а эти арестованные за драку наши матросы срочно нужны для работы на судне. Идем с военным грузом по назначению командующего фронтом.
Старчука и Железнякова вернули на «Принцессу Христиану». Каспарский вызвал их к себе и заявил:
— Надеюсь, что отсидка в тюрьме послужит вам на пользу. Впредь будете вести себя как полагается.
Когда Железняков и Старчук вышли из каюты, Каспарский сказал своему помощнику:
— Теперь я окончательно уверен, что речь идет о Викторском. Я обратил внимание на его глаза. Ничего не скажешь, красивые… такие голубые, словно у ангела небесного…
— Но взгляд у него далеко не ангельский. Настоящий ястреб! иронически улыбнулся Митрофанов.
…Выход в рейс «Принцессы Христианы» несколько задерживался. С берега сообщили, что замечена подводная лодка. Но на рассвете Каспарский решил все же выйти в море.
И снова Железняков нес вахту в жаркой кочегарке.
На следующий день после выхода из Ризе «Принцессы Христианы» Железняков писал в своей заветной «Памятной тетради»:
«17 сентября. Рейд Платаны.
Стоим здесь. Будем выгружаться. В городе отсутствует все. Мясо достать страшно трудно. Команда голодает.
У берега моря стоит памятник с знаменитой надписью:
„Мир праху вашему, дорогие борцы за Русь и свободу народов. Вы спите крепким, непробудным сном далеко от дорогой родины, заброшенные сюда роковой судьбой. Волны морские будут одни напевать песни, и имена ваши золотыми буквами впишутся на страницах русской истории.
16 июня 1916 г.“
Спите мирно, серые чудо-страдальцы! Кто больше вас видел страданий? Кто больше, чем вы, испытал? Кто терпеливее, чем вы, нес всю жизнь тяжелый крест тирании буржуа и купцов?
Всю жизнь, полуголодные, забитые, запуганные, всегда в страхе за себя и свою голодную семью, вы терпеливо шли, неся этот крест безропотно, подчиняясь превосходящей вас силе. Пошли сражаться, и опять над вами висели смерть и издевательства, и вы погибли, а там, в тылу, свистят пули и падают окровавленные матери и дети на грязные мостовые улиц, и топчут их копыта жандармских лошадей. За что?
За то, что голодные осмелились сказать, что им хочется есть, что они голодны. Вы погибли, а вновь пополнивших ряды угощают ложью, вылетающей из не знающих утомления уст краснобаев — мелких газетных бумагомарак. И они смеются до слез, пьяные от успеха, и справляют оргии крови и мяса под музыку скрежета, плача, проклятий обезумевших от горя и голода матерей и умирающих в подвалах детей.
Прав автор надписи на памятнике, с какой бы мыслью он это ни писал: золотыми буквами запишутся имена ваши на мрачных и кошмарных страницах эпохи русской истории. И эти имена громко будут звать живых ко мщению. На долгие годы, века запечатлится в памяти народа кровавый след оргии тиранов-„миротворцев“.
Вот там, на горе, виднеются тесно прижавшиеся друг к другу маленькие белые кресты, словно извиняясь за то, что здесь пришлось им стать, напоминать об измученных телах, нашедших вечный отдых, омрачить этим привыкшие к художественным пейзажам взгляды тиранов-паразитов и их супруг. О, как противно, как больно, обидно становится на душе, когда какое-нибудь из этих „нежных созданий“ начинает причитать, артистически складывая руки, „душевно сожалея“!
Ей, милой паразитке, кажется забавной, интересной, полной поэзии эта кровавая каша, это безумное месиво крови, мяса, костей, и солдаты, „рвущиеся в бой“, и серый офицер, окутанный ореолом храбрости и славы. Так много рыцарей, что у нее глаза разбегаются от колоссальнейшего выбора! А если ей и случится увидеть кусочек суровой жизни, она вскрикивает, отвертывается и… тотчас забывает.
26 сентября. Ночь. Платаны.
Постараюсь изложить свои мысли, которые не дают мне покоя.
Все, что творится вокруг, так ужасно, что порой становится трудно поверить в победоносное шествие народа вперед. Всюду растет произвол, всюду кучки людишек, прикрываясь личиной, именуемой „законом“, грабят, давят, прессуют, осыпают градом глубочайших обид и оскорблений.
Горько, обидно, и злоба закипает неугасимая в груди, когда видишь, на какую простую, глупую, грубую шутку люди попадаются, как сельди в сети.
Человек хочет сделать шаг в сторону от этой сети; он уже готов привести свое намерение в исполнение, как вдруг слышит грозный окрик: „Смотри! Это карается законом“. И люди, подчиняясь этому нелепому закону, убивают друг друга, не зная, для чего и во имя чего; идут сами на смерть, исполняя волю кучки людей, преследующих корыстолюбивые цели. Бесцельно умирают тысячи молодых, сильных людей, которые могли бы принести колоссальнейшую пользу народу; гибнут дети, жены, сестры, дочери и матери, падая и обагряя кровью уличные мостовые под пулями верных защитников закона.
Но в воздухе уже чувствуется что-то новое для нашего народа! Движение медленное, но есть. Надо развить его скорость!
И я верю, — а иначе и жить нет смысла, — что наступит пора, когда человечество, шагая через трупы товарищей и врагов, пройдет тяжкие испытания и среди смрада, зарева пожаров и разрушений увидит ее, всю облитую кроваво-красным светом, великую, единственную и могучую мать свободу».
Вскоре «Принцесса Христиана» пришла в Новороссийск.
Уже вечерело. Железняков и Непомнящий вышли на верхнюю палубу. Здесь хоть на короткое время можно было забыть о тесной, душной кочегарке.
Над широкой бухтой, слившейся с безбрежной темно-синей далью, дул с гор холодный норд-ост. Небо над горами медленно меняло свою окраску. Желтые с известковыми отливами вершины гор постепенно становились синими, потом фиолетовыми. Поднимался туман. Он белыми густыми клубами подбирался к вершинам. Небо затянулось сплошной густой синью. Горы погрузились в темноту.
— Как думаешь, старина, вон до той точки, — указал Анатолий рукой на черневший прямо против рейда край портового мола, — за какое время можно добраться вплавь?
— Если чуть правее взять, там далеко мель тянется. До мелкого места, пожалуй, можно доплыть минут за пятнадцать, двадцать… — медленно произнес Непомнящий. — Только вода холодновата…
— Это ничего!
«В Балтике вода была не теплей», — подумал Железняков, вспомнив, как он бежал с «Океана».
Осмотревшись кругом и убедившись, что поблизости никого нет, Анатолий достал из-за пазухи тетрадь.
— Возьми вот это, Феодосии, и спрячь пока получше. Если вдруг что-либо случится со мной, постарайся передать эту тетрадь по указанному адресу.
В это время раздался чей-то громкий голос:
— Викторский! Живо! К капитану! Непомнящий, спрятав под рубаху тетрадь, с тревогой сказал:
— Это что-то неспроста, если к капитану требуют.
— Ладно, старина, иди в кубрик, потом расскажу, зачем вызывают, — уже на ходу кинул Железняков. Войдя в каюту капитана, Анатолий спросил:
— Вы вызывали меня, господин капитан?
— Да, вызывал. — И после небольшой паузы угрюмо добавил: — Так вот, Викторский, я должен тебя уволить, притом немедленно…
Железняков был готов ко всему, только не к этому.
— За что увольняете, господин капитан? — глядя прямо в глаза Каспарскому, спросил Железняков. Каспарский, выдержав этот взгляд, грубо ответил:
— Это дело не твое, за что я тебя увольняю! И приказываю, чтобы уже завтра утром твоего духу не было на пароходе! — И тут же, вынув из ящика письменного стола деньги, отсчитав двадцать пять рублей, протянул их Анатолию. — Этого хватит тебе на первое время, пока не устроишься где-нибудь, — сказал он уже более мягким тоном.
— Нет, господин капитан, мне полагается больше за проработанное у вас время…
— Ну, хорошо, не будем торговаться. Вот получи, — сказал Каспарский, подавая Железнякову еще десять рублей, — и на этом разойдемся.
— Все же я хотел бы знать, за что вы меня прогоняете с парохода?
— Я капитан и делаю так, как считаю нужным! Повторяю еще раз: немедленно убирайся отсюда! А за что увольняю — узнаешь когда-нибудь… Только предупреждаю, сейчас никому ни слова, что я уволил тебя.
Железнякову показалось, что в строгих, суровых глазах Каспарского мелькнула теплота.
— Ну что ж, господин капитан, прощайте! Может быть, еще и встретимся… — сказал Анатолий, порывисто открыл дверь и вышел из каюты.
Направляясь в кубрик, Анатолий увидел Старчука. Вероятно, его предупредил обо всем Непомнящий.
— Что случилось? Зачем вызывал капитан? — с тревогой забросал вопросами Старчук своего друга.
— Я должен немедленно убираться отсюда…
Оставшись один в каюте, Каспарский задумался: «Мне кажется, что я поступил правильно, уволив Викторского. Ведь все равно в ближайшие же часы он был бы арестован здесь, на пароходе… А с меня хватит и тех неприятностей, которые получились из-за Волгина и Чумака… Потом эта драка Викторского с Коноваловым… Пусть ловят этого красавца где угодно, только не на моем пароходе… А кочегара я потерял хорошего…»
Несмотря на то что Каспарский дал указание свезти его письменное сообщение о Железнякове в портовое полицейское управление только на следующий день, Митрофанов отправил боцмана Коновалова с этим донесением уже вечером. Но полицейские не поспешили, зная, что ночью, да еще с парохода, преступник никуда не денется.
Ранним утром, когда жандармский подполковник в сопровождении двух бравых унтер-офицеров подошли на катере к борту «Принцессы Христианы», Железнякова здесь уже не было…
Итак, я гражданин…
Поезд пришел в Москву ночью.
Шагая от вокзала по темным улицам, Железняков добрался к дому на Бахметьевской, где жили его родные, на рассвете. Во дворе залаяла собака. Это был старый Полкан, любимец Анатолия.
— Полкашка! Ах ты, чертяка! Узнал! Ну спокойно, тише, тише!
И пес, как будто поняв, что нельзя громко лаять, радостно повизгивая, завилял хвостом.
Пришлось тихо, но довольно долго стучать.
— Кто там? — раздался наконец за дверью заспанный голос.
— Открой, Саня! Это я, — узнав сестру, негромко ответил Анатолий.
Трогательной и волнующей была встреча с матерью. На глазах ее от радости при виде сына показались слезы.
— Не плачь, мама, не плачь, дорогая, все будет скоро хорошо, успокаивал ее Анатолий. И тут же сказал сестре:
— Саня, мне нужен новый, как говорят, «железный» документ. Срочно нужен. Ты ведь знаешь, что старому истек срок… Надо повидаться сегодня же с Петровым. Схожу к нему, когда стемнеет…
Старый рабочий со снарядного завода Густава Листа обрадовался, увидев Железнякова.
Узнав обо всем, что пришлось пережить Анатолию и на Балтике, и на Черном море, он успокоил его:
— Насчет документов поможем. Не впервые такое дело… Ты сейчас отдохни денек-другой у меня. Тут безопасней…
Через несколько дней Железняков был снова в пути, направляясь к Черному морю, только уже не в Новороссийск, а в Батум. Он решил устроиться на работу в порту. В случае опасности быть арестованным жандармерией оттуда легче было осуществить план побега за границу.
Все еще находясь под впечатлением от встречи с родными и друзьями в Москве, Железняков записывает в свой дневник:
«3 ноября.
Прощай, Москва! Увижу ли тебя еще раз или нет? Прощай, живи, будь смелая и честная, будь такая же радушная, бодрая и гостеприимная для нас, рабочих, и впредь говори обо всем, что ты ненавидела, также с открытым и ясным челом. Прощай!
Мчусь с поездом, уносящим меня на юг. Что впереди? Позади ничего не осталось. Все впереди!»
На этот раз Анатолий направляется в Батум. Здесь он устраивается мотористом на небольшое буксирное судно. О дальнейшей его жизни повествуют строки дневника.
«29 ноября. Днем.
Проходим Сочи, Адлер, Гагры. Чудные, великолепные виды.
Вот стоит в зелени белый и чистый на вид Афонский монастырь. Но сколько там грязи и разврата!
Ночь, пришли в Сухум.
21 декабря.
Работаем, что называется, полным ходом. Из рейса в рейс. Скоро праздники, но это не для таких, как я…
1 января 1917 года. Батум.
Новый год…
Что подаришь ты мне из трех вещей, которые лежат на пути моем: смерть, свободу или заключение?..
Я не боюсь и смело гляжу вперед, ибо верю, что выиграю…
Да здравствует жизнь! Труд!
Да здравствует борьба!
11 января.
Дождь, зарядивший надолго.
Мокро, грязно и слякотно… Стоим под парами… В кубрике жить нельзя, команда разбежалась, ибо течет полным ходом. Заявляли начальству — не обращают никакого внимания или начинают успокаивать тем, что „сделают“…
При таких условиях всякое желание работать отпадает…
…Занимаюсь перелистыванием книги Джека Лондона, которую читал уже за короткий срок раз шесть, и чтением старой газеты: некоторые места знаю наизусть.
Я люблю читать речи депутатов не оттого, что я слышу в них звуки смелой правды, нет — меня каждый раз приводит в восторг горячая речь оратора.
Почему?
Да потому, что я как живого вижу его, говорящего с увлечением, всей душой стремящегося вложить в мозг слушателя свои убеждения, свои идеи.
Каждая горячая речь приводит меня в восторг…
Ведь в такие минуты мы живем всем своим существом, волнуемся, и каждое слово, каждый звук есть выражение боли, скорби души, исстрадавшейся от лжи и оскорблений.
11 января. Ночь.
Ужасный вечер! Я никогда не чувствовал себя так скверно, так нехорошо, как сегодня. Тоска ужасная, кошмарная тяжелой пеленой окружила меня и начала, как удав, медленно, но упрямо душить. На душе стало сумрачно и хмуро, как в штормовую ночь.
Хотелось бежать, но куда? Стоим на рейде, идет дождь, да и город представляет ночью печальную картину.
О чем тосковал?
Одиночество — вот причина. Я один, как волк среди зимней необъятной равнины…
Передо мною лежит книга „Солнышко красное“. Я перечитываю и радуюсь, что купил. В ней есть многое, что поможет мне остаться человеком. Я как прочту, так делается легче. Вот такие люди, как этот герой Ислам, могут вырвать у жизни кое-что, не принимая ее благосклонные подарки.
О, поскорей катись, время!.. Только не опередил бы меня наш милый надзиратель, виноват, полицмейстер. Да неужели не выберусь?.. Шансы, хотя и маленькие, но на моей стороне.
Вперед! Все для цели. Все для свободы!.. Трудиться, работать и чувствовать, что ты ни от кого не зависишь! О счастливейшая пора, когда ты наступишь?!
13 января. Ночь. 12 часов. Анатолия. Река Хопа. Шторм.
Сегодня пошли и, не дойдя до Вице, отдали якорь в Хопе. На море шторм, тысяча звуков — безумных, диких, грозных. Несется, плачет, рыдает могильным свистом ветер. Он то стихнет на мгновенье, то злым, сокрушающим порывом завертится, закружится в вантах, снастях, точно хочет догнать кого-то. Догнать нет мочи, и ветер в бессильной злобе бросается на все, что встречается ему по пути. Дождь крупными сильными ударами бьет о палубу.
Тепло в каюте — горит „молния“, но кормовое помещение течет. Это ужасно. В сухом помещении можно выдержать очень долгий шторм, не ругая никого. Но как быть, когда мокро, холодно и сыро?
Я люблю штормовую погоду: она навевает неясную грусть, и все, что нарастает на душе зачерствелой корой, уходит куда-то далеко-далеко. В такие минуты я чувствую себя хорошо, — хочется подвига, страшного, рискованного, безумного. И я, ни на секунду не задумываясь, кинулся бы ему навстречу.
Хочется писать много, но качает. Все-таки буду продолжать. Вот моя жизнь сейчас — этот этап — до того тиха и спокойна, что трудно дышать.
Но, кажется, я попадусь здесь, если придут справки, а они их наводят.
За последние дни я чувствую что-то такое, что раньше не наблюдалось или приходило лишь на мгновенье, а теперь на долгие часы плотно и крепко улеглось в душе: это тоска о жизни, тоска и непонятная тревога.
После того как я жил и работал в Москве, все кажется бледным: опять сильно тянет к той жизни…
Я не верю в порывы. Что такое порыв? Мгновенное чувство, заставляющее подняться сразу на значительную высоту и могущее так же быстро низвергнуть гораздо ниже… Порыв в разрешении вопросов общественной жизни, когда они поставлены ребром, — это очень опасная и ненадежная игрушка.
Нет, тут нужно нечто иное, более прочное и могущественное. Нужна явная, разумная сознательность, когда вся воля собрана, когда молча объявлена борьба. Какой враг страшнее — тот, который, нападая, кричит, или тот, кто идет молча, стиснув зубы? Я думаю, что второй, — при встрече с таким врагом волосы на голове зашевелятся.
Когда человек скажет: „Да этого не должно быть, я не хочу работать в таких условиях“ — и начнет медленно, спокойно распутывать узел общественной жизни, то у „художников“, создавших этот узел, на душе станет хуже осенней ночи. Они увидят сразу, что их козыри тут слабы, игра проиграна.
Одна лишь сознательность способна сделать то, что не сделает масса порывов… Сознательность напоминает шквалы морского шторма, которые, равномерно катясь один за другим, сокрушают очертания берега, творят новые или размывают, уносят вглубь старые. Она дает свет, тепло, влагу и жизнь новому, и это новое живет до тех пор, пока оно в колее жизни.
Да здравствует то, чего не сокрушит ни штык, ни пулемет, ни цепь, ни сама смерть!
19 января. Ночь.
Читал сейчас Мэна „Охота за любовью“. Очень дикая книжонка. Я только удивляюсь такого рода писателям, которые гнут из осины оглобли. На что, спрашивается, мне все эти неврастеники миллионеры, на что все эти спекулянты и такие женщины, как Ута Энде, которые для достижения цели отдаются старикам? К чему же такими особами восхищаться? Искусство, где они для славы готовы бегать в ночных рубашках?
Что может быть общего между искусством и раздеванием? И как можно причислять фарсы к искусству? Это же подлость!
В жизни нашего общественного строя все так смешалось, все так перепуталось, что жизнь стала мрачной ночью лжи и самообмана. Люди сами гибнут и губят растущие молодые поколения, воспитанные на кошмарной лжи, обмане, самообольщении, которыми, как проспиртованные препараты, насыщены их отцы.
23 января, г. Батум.
Стоим в ремонте. Каких-нибудь два месяца, и — в путь на север. Эх, черт возьми, да неужели правда?! Вперед, все для того, чтобы только достигнуть цели!
Сижу голодный как волк, денег нет.
25 января, г. Батум.
Черт знает, что делается. Жизнь дорожает каждый час. За последние двое суток только вечером мог поесть горячего — занял денег у заведующего отправками. В городе хлеба нет, и достать его почти невозможно.
Получил письмо от Виктора.[5]
Да, в этом сидит другой человек, нежели во мне, этот скоро встанет на последние мертвые якоря в тихой пристани. Купит герань для окон, занавески, самовар медный, жену заведет…
Сундук его желаний небольшой, а потому он скоро его заполнит; малому кораблю малое и плавание!
26 января.
Ночи стоят чудные, божественные, лунные, в такую ночь лишь петь великие гимны жизни, борьбе и свободе.
31 января. Батум.
Сегодня был вызван в контору. Объявили, что дали прибавку в размере 20 рублей. Следовательно, я получаю 100 рублей. Это очень и очень утешительно, и если бы еще два месяца все обошлось благополучно, тогда я смог бы начать свое победоносное шествие к цели.
Видел Можанова, просил перевода на паровой. Он сказал, что меня переведут обязательно. Это меня утешает еще более, так как есть большие шансы делать рейсы между Трапезундом и Новороссийском, что меня очень радует…
…Читаю газеты изо дня в день. Больше и читать нечего. Но радости мало, лишь гнев и злоба каждый раз сильным вулканом кипят и клокочут в груди. Так много прекрасных слов, высокопарных фраз, после которых, кажется, будет не жизнь на Руси, а нечто вроде рая. А на деле?
Судьба Польши вручена секаторам, явно враждебным всякому… малейшему освободительному движению. Еврейский вопрос лежит под сукном на столе антисемита. Крестьянское равноправие после долгого пережевывания, перевертывания брошено в темный угол архивов, чтобы вновь покрыться пылью. Рабочие организации запрещаются, а общество фабрикантов и заводчиков дальше и шире протягивает руки, набивая плотнее богатство, уложенное в кладовках и банках.
Общественная жизнь трепещет под давлением властной руки бюрократов. Она окружена всевозможными „верными слугами“, во главе которых стоит духовенство.
История повторяется, это правда; во времена французской революции ненависть к церкви достигла апогея, так и теперь наблюдается течение к этому. Общество довольно ясно понимает, что церковь сует свой нос далеко не в ту сторону, куда бы это следовало.
Жизнь отдельных членов общества, особенно семейная сторона, глухо закована в цепи церковным кузнецом. В последнее время громко и усиленно начали говорить о брачном вопросе, о разводе. Вопрос этот большой, и дотрагиваться до него, не давая положительного ответа, я считаю величайшим преступлением, злонамеренным растравлением назревшего нарыва.
Время идет к тому моменту, когда общество станет лицом к лицу с двумя сильными, до безумия лживыми и хитрыми врагами, не стесняющимися в средствах для достижения цели, — правительством и церковью…
2 марта.
Стоим в Сурмине, есть нечего и купить негде. Возмущает халатность командиров, их нерадение к делу.
Вот только сегодня занялись выгрузкой, когда началось волнение; когда же стояла чудная погода, то не выгружали. Эх, Россия, Россия!
Утро. 9 марта. Батум.
Итак, я гражданин. Нечто новое появилось на лице нашей земли. Император Николай отрекся от престола, и буржуазия встала у кормила правления.
Карта Романовых бита. Замечательно то, что план выполнен так точно, определенно, как он был запроектирован: председателем совета министров Львов, военный и морской министр Гучков и т. д. И вот теперь начинается хитросплетенная, тонкая политика капиталистов. Но что получил народ?
Фигуры переставлены, игроки заняли свои места, игра началась — тонкая, ажурная. Эх ты, куцая свобода, как обкорнали тебя!
10 марта.
Идем в Новороссийск».
Узнав, что «Принцесса Христиана» стоит в Новороссийском порту, Железняков направился на судно. Радостной была встреча со Старчуком, Непомнящим и другими товарищами.
— Где же ты сейчас мотаешься? — спросил Дмитрий.
— Плаваю на буксиришке. Только с этим делом кончаю. Еду на Балтику! Там дела веселей идут, — ответил Анатолий.
Старчук одобрительно заметил:
— Я понимаю тебя, Анатолий. Но и тут ты не лишний. Помнишь, как ты призывал ребят на «Принцессе» объединиться для борьбы против судовладельцев, этих наших эксплуататоров? Так вот прошу тебя, дружище, завтра на митинге крепко сказать — ты это умеешь, — как надо бороться за свои права нам, черноморцам.
— Ладно. Выступлю, — сказал Железняков.
Последнюю запись в своем дневнике Железняков сделал 7 апреля.
«7 апреля. Новороссийск.
Жизнь с 9 марта резко повернула течение и усилила свой бег. Было собрание моряков. Выхожу, говорю и начинаю жить той жизнью, о которой мечтал, — жизнью общественного деятеля».
Через несколько дней, тепло распрощавшись с друзьями-черноморцами, Железняков направился к берегам Балтики.
По дороге в Кронштадт Анатолий заехал в Москву. Хотя он и торопился, но все же решил несколько дней побыть с родными и повидать своих старых друзей с Бутырского завода и в Богородске.
Богородцы обрадованно ему сообщили:
— Вот хорошо, что приехал. У нас сегодня как раз митинг в театре «Колизей». Прибыли ораторы из Москвы и Петрограда. Но только меньшевики да эсеры.
— Ты за какую партию стоишь? — спросил у Анатолия один из старых ткачей.
— Пошли на митинг. Там увидим, кто за кого, — ответил Железняков. — Вы мне вот что скажите, братки, как сейчас поживаете при «свободе»? Как Морозов, подобрел?
— По-прежнему душит нас и жиреет. Как был кровопивцем, таким и остался, — сказал один из рабочих, шагавших рядом с Анатолием.
— Пора вам сбросить этого мироеда со своих плеч, — посоветовал Железняков…
Зал театра был переполнен. Митинг только что начался.
Председатель, приезжий меньшевик, призывал одобрить деятельность Временного правительства, чернил партию большевиков.
Железняков поднял руку и крикнул:
— Прошу слова!
Разоблачая клеветнические измышления меньшевистского оратора, высмеяв его призывы выразить доверие Временному правительству, Анатолий говорил о трех веках царского самодержавия в России, о борцах за свободу, замученных в рудниках Сибири.
— Я еще молодой, не видел того, что видели вы, старые люди, сколько тысяч мучеников прошагали по Владимирке на каторгу! Эта дорога близко от вас, рядом проходила.
— Долой большевистского агитатора! — закричали меньшевики.
Но Железнякова не смутили эти выкрики. Он с еще большим пафосом говорил:
— Товарищи, Ленин — это душа народа, это наша вера в будущее, наша опора. Зал гремел от оваций. Моряк закончил свою речь словами:
— Да здравствует Ленин! Долой правительство буржуазии! Да здравствует власть Советов!
Под новый грохот аплодисментов Анатолий спустился со сцены. Рабочие подхватили его на руки и начали качать…
Снова на Балтике
Пароход шел в Кронштадт. Уже далеко за кормой оставалось широкое устье Невы. Несмотря на свежую погоду, Железняков не уходил с верхней палубы. Он был счастлив, что снова видит чернеющие вдали форты Кронштадта и знакомые маяки.
Анатолий всматривался в лица пассажиров. Но все это были незнакомые люди. Среди них было много фронтовиков. Он подошел ближе к ним и стал прислушиваться к разговорам.
Один солдат напоминал Тараса Архипенко. Такие же лохматые брови, такое же смуглое лицо и чуть сутуловатая коренастая фигура. Солдат говорил, по-видимому отвечая на чей-то вопрос:
— Война? К черту! Хватит, надоела она. Все измучились! Теперь скоро сменим пушку на соху! Земли для пахоты бери сколько хочешь. Свобода!
Стоявший рядом с ним другой солдат возмущался:
— Для чего воюем? Для кого?
— Воюем, братец, не для себя, а для буржуев, — отвечал ему светлобровый пехотинец со свежим шрамом на высоком лбу.
Какой-то штатский спросил:
— А как настроение у солдат?
— Доля наша на фронте и сейчас собачья. Офицеры греют солдата по-старому. Держат нас в таком же режиме, что и при царе. А говорят: «Мир хижинам — война дворцам». Откуда же хорошему настроению быть?
— Правильно толкуешь, пехота, — согласился стоявший рядом с солдатом судовой кочегар.
— Зачем двигаете в Кронштадт? Откуда приехали? — предлагая фронтовику закурить, спросил участливо Железняков.
— Я уж говорил тут, откуда едем, — ответил солдат, осторожно беря папиросу загрубевшими пальцами. — Из двенадцатой армии мы. Делегация от полков, что под Ригой стоят. Ходят слухи, будто большевики в Кронштадте открывают пути-дороги для немцев. Петроград с морской стороны без защиты останется. Революция, сказывают, в опасности.
— А вы и поверили такой брехне? — не выдержал Анатолий.
— Да ведь как не поверишь, — ответил светлобровый пехотинец. — Газеты печатают. Комитетчики наши полковые и ротные поясняют…
— Не те газеты читаете! И не тех людей в свои комитеты избираете! Сами вот толкуете, что офицеры держат солдата в старом режиме, а верите их клевете на балтийцев! Балтийцы всегда были на стороне революции, — горячо заговорил Железняков.
Солдаты были явно смущены.
— Да ведь наше дело какое? Наше дело маленькое, — нарушил молчание светлобровый солдат. — Должны выполнять волю собрания. Нас избрали окопники и сказали: «Вот мандаты вам. Езжайте в Кронштадт и проверьте все…»
— Вам правильно сказал товарищ, что все это подлая брехня о Кронштадте, — вмешался в разговор высокий матрос. На ленточке его бескозырки горели позолоченными буквами два слова: «Заря свободы». Увлекшись беседой с солдатами, Анатолий не заметил, когда он подошел.
— Никаких мы путей-дорог немцам не открываем, — продолжал он. — Власть в городе находится в руках Совета рабочих и солдатских депутатов. Он поддерживает в городе строгий революционный порядок.
Солдаты с жадностью ловили слова матроса. В эти дни они слышали столько клеветы на Кронштадт, простое слово очевидца было для них очень важно.
— Нас обвиняют в анархии, — продолжал матрос. — А кто? Буржуазия и ее соглашатели. Все дело в том, что мы не доверяем Временному правительству. Волю народа эта власть не выполняет. Почему до сих пор идет война? Для кого мы воюем?
— Вот и мы об этом говорим. Для кого? — подхватил солдат-фронтовик.
— Войну надо кончать. Мы, кронштадтцы, за ленинские, большевистские лозунги. Мы избрали своих представителей в Центробалт. — Видя, что окружающие не совсем поняли его, матрос пояснил: — Это наш комитет. Он контролирует деятельность командования флотом, пресекает всякую контру.
В это время пароход загудел, подходя к пристани у Петроградских ворот. Пассажиры хлынули к трапу, оттеснили Анатолия от матроса, и он потерял его из виду. А так хотелось его о многом расспросить…
На пристани стояли часовые, проверяли документы.
— Где ты ее взял? — спросил один из них, рассматривая старую флотскую книжку, предъявленную Железняковым.
— Тут ясно сказано. Флот выдал.
— Но это липа, а не документ: По таким бумажкам мы не пропускаем в Кронштадт с тех пор, как дали по шапке царю Николашке, — разъяснил часовой.
Не слушая объяснений, часовые вызвали караульного начальника. Посмотрев документы Анатолия, тот приказал:
— Проводите его к товарищу Пожарову.
Часовой повел Железнякова в город, в Кронштадтский Совет.
— Не беспокойся, братишка, сейчас вот придем к товарищу Пожарову. Он человек понимающий, душевный… — говорил часовой Анатолию.
— Кто это такой, ваш Пожаров? — спросил Анатолий.
— Матрос-большевик, депутат нашего Кронштадтского Совета. Сейчас он во всем с тобой разберется.
Убедившись при разговоре, что перед ним тот самый Железняков, который из-за преследования самодержавия вынужден был оставить военную службу и перейти на нелегальное положение, Пожаров обрадованно воскликнул:
— Так вот ты какой орел! Много, много рассказывал о тебе товарищ Груздев…
— Груздев? Федор? Где он сейчас?
— Сейчас его нет здесь. Выехал на сухопутный фронт. Надо разъяснять солдатам правду о нашем Кронштадте. Ты, наверное, знаешь, читал в газетах, какую клевету распространяют о нас?
— Знаю. Сегодня, когда добирался сюда, на пароходе видел делегацию солдат от двенадцатой армии. Я им твердо заявил, что кронштадтцы никогда не были и не будут предателями революции!
Пожаров одобрительно сказал:
— Вижу, что ты из тех, кто не подведет нас, кто будет драться за нашу революционную балтийскую честь!
Железняков заверил с пафосом:
— Товарищ Пожаров, прошу передать всем членам Центробалта, что матрос Железняков снова в боевом строю и не пожалеет своей жизни для борьбы с контрой!
— Скажи мне, что ты сейчас хотел бы делать, где служить? На корабле или в какой-нибудь береговой части?
С небольшой заминкой Анатолий ответил:
— Думаю пойти в машинную школу сдавать экзамены. Ведь я и в бегах все время не расставался с учебниками. Хочу быть механиком на революционном корабле!
— Молодчага! Будем надеяться, что экзамен ты выдержишь. По нашему настоянию начальник всех морских сил Кронштадта издал приказ: каждый желающий держать экзамен по специальности, даже если он не обучался в школе, но имеет практический опыт, должен быть допущен к экзаменам.
— Вот здорово! — просиял Железняков. — А насчет опыта… — Он показал Пожарову свои руки, покрытые мозолями.
— Все понятно. А к какой партии принадлежишь? — спросил Пожаров.
— В партию я еще не вступил… — тихо ответил Железняков.
Видя смущение Анатолия, Пожаров дружелюбно добавил:
— Ну ладно, об этом мы с тобой поговорим в следующий раз. А вот как быть с новой флотской книжкой? — И после минутного раздумья сказал: Ладно, приходи завтра сюда. Я поговорю о тебе с начальником штаба. Пока же напишу-ка я тебе записку. Иди к начальнику порта, там получишь новое обмундирование, а то ты… в такой робе совсем не похож на военного моряка.
Проходя по улицам и набережным, Железняков видел, как изменился Кронштадт.
Крепость переживала волнующие дни новой жизни. Казалось, даже волны Финского залива стали веселее плескаться у гранитных стенок старинного порта Кроншлот, звонче рассыпались по гаваням корабельные склянки. Всюду красные знамена и плакаты с революционными лозунгами. Сорваны у входов в Петровский парк старые дощечки с надписью: «Вход собакам и матросам запрещен».
Проходя через Якорную площадь, Железняков обратил внимание на памятник адмиралу Макарову. В бронзовой руке прославленного русского флотоводца краснел флажок…
Из порта Анатолий вышел в полной матросской форме и решительно направился к зданию Морского инженерного училища. Объявления, расклеенные по городу, звали матросов и солдат гарнизона на общебазовое собрание.
Исполнительный комитет Кронштадтского Совета собрал представителей всех воинских частей крепости, чтобы обсудить ответы на пять вопросов, заданных от лица Временного правительства приехавшими в Кронштадт министрами Скобелевым и Церетели:
об отношении Кронштадта к центральной власти; о правительственном комиссаре; о военных и морских начальниках; об органах местного самоуправления; об арестованных комиссарах.
Часовые не пропускали Железнякова в зал, требуя предъявить документы.
Собрание уже началось. Слышно было, как в зале выступали ораторы. А представители частей все еще прибывали и прибывали.
Железняков не отходил от двери и настойчиво доказывал, что ему обязательно надо быть на этом собрании.
— Не имеем права пустить тебя, если у тебя нет никакого…
Этот диалог между часовым и Железняковым прервал подошедший Пожаров.
— Что случилось, товарищ Железняков?
— Не пропускают меня, — с досадой сказал Железняков. И прибавил: — Вот так свобода…
— Правильно поступают, — улыбнулся Пожаров. — У нас порядок строгий. И, обратившись к матросу с красной повязкой на рукаве, сказал: — Пропустите товарища.
Матрос приложил руку к бескозырке:
— Есть пропустить, товарищ Пожаров!
Анатолий с трудом протиснулся сквозь плотно спрессованную людскую массу и стал в углу зала. Прения разгорались. Один за другим поднимались на сцену ораторы. Говорили представители большевистской партии и эсеры, меньшевики и анархо-синдикалисты.
Железняков пристально всматривался в ряды, надеясь увидеть кого-либо из своих старых товарищей.
— Как фамилия вон того, в студенческой тужурке? — тихо спросил он стоявшего рядом с ним коренастого матроса.
— О ком спрашиваешь? — спросил тот, продолжая смотреть вперед.
— Да о председателе, — сказал Железняков. Матрос повернул голову и уставился на Железнякова:
— Ты что, товарищ, с луны свалился? Не узнал Рошаля?
Анатолий смутился. Так вот он какой, председатель Кронштадтского комитета партии, любимец матросов!
Еще в Новороссийске он читал, как в буржуазных газетах враги революции клеветали на Семена Рошаля. Но даже самые бессовестные писаки не могли скрывать того, что это большевик железной стойкости, непримиримый к своим политическим противникам, преданный всем сердцем Ленину…
Под выкрики «Позор!», «Предатели!» и пронзительный свист матросов и солдат произносил речь лидер кронштадтских эсеров Брушвит. Анатолий старался пробиться ближе к сцене.
— Не слушайте большевиков, — уговаривал эсер. — Они предатели революции. Их руководители приехали в запломбированном вагоне из Германии.
Дальше уже ничего нельзя было разобрать. Зал взорвался протестующими голосами: «Довольно!», «Долой!», «Демагогия!».
Вместе со всеми кричал и Анатолий. А когда шум начал стихать, он потребовал:
— Дайте слово! — И стал пробиваться ближе к президиуму. — Прошу слова! — повторил он еще решительнее.
Зал притих. Рошаль поднялся с места.
— Вы хотите выступить, товарищ? — обратился он к Железнякову.
— Да. Я хочу ответить этим господам, — кивнул он в сторону Брушвита.
— Вы какой партии, товарищ? — спросил Рошаль. Железняков, не задумываясь, ответил:
— Партии «Долой войну!».
— Вас серьезно спрашивают, — строго сказал Рошаль.
— А я серьезно и отвечаю. Запишите так, как прошу.
Бледное лицо Рошаля осветила улыбка:
— Ну хорошо, так и запишу. С какого корабля?
— С броненосца «Смерть буржуазии!».
— Нет такого броненосца! — крикнул кто-то из притихшего зала.
— Будет! — уже задорно ответил Железняков.
Он был уже почти у самой сцены, но не видел, как сидевший за столом президиума матрос с надписью на бескозырке «Нарова» наклонился к Рошалю и что-то говорил.
Притихший зал снова начал шуметь. Послышались голоса:
— Толком скажи, откуда ты?
— Из какого соединения?!
Рошаль сильно затряс председательским звонком, призывая к порядку.
— Внимание! Товарищи делегаты! Мне только что сообщили, кто этот товарищ. Слово предоставляется матросу, бежавшему от преследования за революционную деятельность с царского флота, товарищу Железнякову!
Как волной, качнуло ряды черных бушлатов и фланелек, серых шинелей и темно-синих кителей. Загремело:
— Ура-а-а! Ура-а-а! Железняков!
Анатолий был ошеломлен таким приемом. Не знал он, что не было на Балтике такого корабля или береговой части, где бы не было известно о его смелом побеге с «Океана» в июне 1916 года.
Рошаль поздравил Железнякова с возвращением и сказал:
— Начинайте, товарищ Железняков. В зале наступила полная тишина.
— Товарищи! — заговорил Железняков. — Я только сегодня вернулся в Кронштадт… Но о вашей героической борьбе все знал, еще будучи на Черном море. Я все слышал, что говорили тут разные эсеры, меньшевики и прочие их друзья, готовые пятки лизать буржуям!
Поднялся беспорядочный шум. Одни кричали: «Правильно!» «Так их, крой, братишка!». Другие надрывались: «Долой!», «Закройся!».
— Тише! — во весь голос крикнул Анатолий. — Чего раскудахтались, курочки буржуйские? Где били вы, когда за нами гонялись жандармы? Своими делами вы помогаете снова посадить на матросскую и солдатскую спину царских живоглотов!
Все, что накопилось на душе, вся горечь обид против насильников и сегодняшних их защитников, — вылилось в этих страстных словах.
Притихнув, делегаты слушали молодого матроса.
Анатолий взглянул в сторону, где перешептывались эсеры.
— Вы кричали здесь, господин эсер, что Временное правительство силой заставит Кронштадт подчиниться, если не выдадим царских офицеров и будем продолжать борьбу за власть Советов. Тонка кишка у буржуев, чтобы справиться с Балтикой! И даже с вашей помощью буржуазии не удастся прибрать к рукам флот! Нет, не будут нас больше перекидывать за борт с колосниками на шее! Не выйдет такое дело!
В зале снова поднялся гвалт. Кто аплодировал, кто свистел, орал: «Долой! Долой!»
— Молодец, Железняков, молодец! — подбодрил его Рошаль.
Распалясь еще больше, Железняков продолжал:
— Никакие старорежимные шкуры, никакие керенские не остановят нас на полпути! Никому не заглушить в наших сердцах готовности биться с буржуазией до последней капли крови! Никаких уступок буржуазному правительству!
Закончив свое выступление, Анатолий хотел сойти со сцены в зал, но Рошаль схватил его за руку.
— Подождите, товарищ Железняков. Садитесь здесь, — указал он на свободный стул. И объявил:
— Слово для предложения имеет товарищ от делегации минного заградителя «Нарова».
Неторопливо шагнул тяжелой походкой к краю подмостков пожилой матрос и сказал:
— От делегации минного заградителя «Наровы» просим считать, что товарищ Железняков Анатолий Григорьевич вернулся на флот служить революции. Товарищ Железняков прошел у нас на Балтике службу на учебном судне «Океан». Теперь надо зачислить его к нам, на «Нарову». Мы надеемся, Центробалт удовлетворит нашу просьбу.
В ответ раздались аплодисменты…
Собрание продолжалось. Анатолий жадно слушал. Через горячие речи большевистских ораторов он входил в жизнь крепости, в которой не был почти год, ему становились понятными и близкими заботы и тревоги кронштадтцев.
И он всем сердцем одобрил ответы, за которые проголосовало большинство Совета:
кронштадтцы признают Временное правительство и подчиняются ему, потому что за это сейчас большинство революционной демократии, но они оставляют за собой право критики правительства, не доверяя ему;
кронштадтцы настояли на выборности комиссара, представляющего Временное правительство;
членам Совета они заявили, что не будут препятствовать общегосударственным органам демократического самоуправления и суда;
большинством голосов собрание отказалось выдать Временному правительству арестованных офицеров-старорежимников.
После собрания Железнякова окружили матросы. Старые знакомые по машинной школе, по службе на «Океане» подходили, жали руку. Вопросам не было конца. Но что он мог им ответить? Да, он вернулся во флот, чтобы служить революции.
Вечер после базового собрания Железняков провел со своим старым другом — матросом Александром Комаровым, с которым начинал военно-морскую службу на Балтике в 1915 году, а затем учился в Кронштадтской машинной школе. Много надо было поведать друг-другу о пережитом.
Комаров рассказал Анатолию, каким штормом пронеслись над Балтикой первые дни Февральской революции.
После получения известия о свержении с престола царя Николая II матросы расправились с командующим флотом адмиралом Непениным и главным командиром порта вице-адмиралом Виреном. Много лет бесчеловечно, издевательски обращались они с матросами. Балтийцы припомнили извергу Вирену, как он собственноручно бил матросов и заставлял их отдавать честь даже своей лошади, они напомнили о тех своих товарищах, что по его воле погибли в сибирской ссылке и тюрьмах. Видя, как матросы рассчитываются с главными заправилами Балтийского флота, их сподручные поспешили скрыться из Кронштадта.
— Мы здесь не дремали, — сказал Комаров.
Друзья направились к живописному Петровскому парку, примыкающему к военной гавани. Она была заполнена кораблями всех классов, среди них находился и минный заградитель «Нарова».
Железняков поведал другу свою тревогу. Он находился на нелегальном положении: буржуазное Временное правительство не отменило введенную при царизме смертную казнь за побег из армии и флота в военное время. Комаров посоветовал ему обратиться к начальнику отряда минных заградителей капитану первого ранга товарищу Ружеку.
— К кому? К Ружеку? — удивленно спросил Анатолий. — Ведь это же старорежимный… Но Комаров успокоил:
— Не все старые офицеры остались верными царскому режиму. Многие из них стали честно служить революции. Вот, к примеру, Ружека назначили начальником отряда минных заградителей Балтийского моря по предложению и настоянию самих команд. Так сами матросы решили. Тебе обязательно, Толя, надо поговорить с товарищем Ружеком…
Утром, когда над «Наровой» подняли флаг, Железняков быстро направился к минзагу и попросил вахтенного доложить о своем приходе председателю судового комитета, тому самому, который накануне вечером возглавлял делегацию наровцев на общебазовом собрании.
Вернувшись, вахтенный сказал:
— Мне приказано провести тебя к начальнику отряда капитану первого ранга товарищу Ружеку.
Это было неожиданным для Железнякова, и он даже немного растерялся. Но, взяв себя в руки, он твердо зашагал за вахтенным.
Навстречу вошедшему Анатолию поднялся из-за стола моложавый на вид офицер. На кителе его не было погон, и только на рукавах блестели широкие золотистые нашивки. Он любезно предложил Железнякову присесть и сразу заговорил по-дружески:
— Мне доложили уже, товарищ Железняков, как участники общебазового собрания вчера горячо приветствовали ваше возвращение на Балтику…
— И до полного разгрома контрреволюции я никуда отсюда не уеду! заявил Анатолий. — Прошу вас помочь мне, чтобы зачислили в команду минзага «Нарова».
— Я поговорю с командиром корабля, — ответил Ружек.
На следующий день ленточка на бескозырке Железнякова блестела названием корабля «Нарова».
Начался новый, самый яркий и плодотворный период деятельности Анатолия Железнякова, период героических подвигов во имя счастья своей Родины.
Железняков близко сходится с руководителями большевистской организации Кронштадта Семеном Рошалем и Тимофеем Ульяновым. Они помогают ему овладеть революционной теорией, приглашают его в партийный клуб на лекции и доклады.
На 1-м съезде представителей Балтийского флота, куда Железняков был избран от кронштадтцев в числе 38 делегатов, началась его дружба с руководителями Центробалта большевиками Дыбенко и Ховриным.
Железняков начинает работать по заданиям большевистской организации…
Широким треугольником между каменной стеной портовых складов, глубоким рвом и величественным собором лежит Якорная площадь. С первых дней Февральской революции непрерывно с утра до вечера бурлило на ней человеческое море.
Чем острее становилась борьба между революционными кронштадтцами и буржуазным Временным правительством, поддерживаемым меньшевистско-эсеровскими предателями революции, тем раскаленнее становилось дыхание митингов.
Здесь выступали самые видные деятели эсеровской и меньшевистской партий — министр труда Скобелев, генерал Корнилов, эсерка Брешко-Брешковская, прозванная «эсеровской богородицей», и многие другие. Но никакие антинародные краснобаи не могли поколебать стойкости балтийских матросов, солдат крепостного гарнизона и рабочих Кронштадта, стоявших полностью за большевиков. Железняков был активным участником происходивших здесь политических боев. Матросы любили его слушать. Речь его была яркой, образной, меткой.
Сломить сопротивление кронштадтцев наконец явился сюда сам «главноуговаривающий» Керенский.
Пока подходили к площади запоздавшие части и рабочие Морского завода, вокруг «важного» гостя и его свиты собралась большая толпа любопытных.
Все с интересом разглядывали человека, именуемого буржуазной прессой «спасителем революции».
Болезненно бледное, с припухшими веками лицо Керенского было аккуратно выбрито. В суконном темно-зеленом френче без погон, в галифе и башмаках с обмотками, военный и морской министр походил на разжалованного прапорщика.
Желая казаться приветливым, Керенский обратился к матросу, на бескозырке у которого золотилась надпись «Гангут».
— Как, товарищ, пойдете воевать, если свободная Россия призовет вас к этому святому долгу революции?
— Смотря какая будет погода, — не задумываясь, ответил гангутовец.
— При чем здесь погода? — возмутился министр.
— Штиль будет — может, и пойдем, — улыбнувшись, пояснил матрос.
В толпе раздался смех.
Не зная, как реагировать на такую явную насмешку, министр почему-то снял фуражку. Под лучами солнца его подстриженная бобриком голова казалась совсем рыжеволосой. Он круто повернулся к командующему Балтийским флотом Вердеревскому:
— Почему не начинается митинг? Адмирал взял под козырек.
— Не могу знать, Александр Федорович. Здесь они хозяева, презрительно кивнул адмирал в сторону матросов.
В сопровождении членов Центробалта и депутатов Кронштадтского Совета к трибуне подошел Семен Рошаль. Он слышал последние слова Вердеревского.
— Сейчас начнем, господа, — сказал Рошаль, поднимаясь на дощатые подмостки, обитые красной материей.
При появлении на трибуне вожака кронштадтских большевиков площадь быстро стала умолкать.
Открыв митинг, Рошаль произнес небольшую речь, в которой изложил непоколебимую волю кронштадтцев бороться за власть Советов и всеми мерами препятствовать продолжению империалистической войны.
Когда стихли возгласы одобрения, Рошаль объявил:
— Слово имеет министр Керенский. Всех очень интересовало, что скажет сам «главноуговаривающий».
Керенский начал с деланным пафосом:
— Приветствую вас, доблестные балтийцы, славные потомки героев Гангута, Гренгама, мучеников Свеаборга, «Памяти Азова», Шлиссельбурга!..
Министр говорил долго и цветисто. Он пересыпал свою речь образными короткими фразами и сверкающими сравнениями. Твердо чеканя слова, оратор почти кричал:
— Храните великие завоевания революции! Истерзанная, истекающая кровью свободная Россия ждет от вас великих подвигов!
Тон его речи был приказной:
— Именем революции!.. Именем свободной России!.. Я приказываю! Я требую!..
Керенский выбросил руку вперед и повысил голос:
— Я зову вас на борьбу за великую свободу! Не на пир, а на смерть зову! Балтийцы, скажите, кто из вас не хочет умереть под священными знаменами свободы?!
— А ты сам хочешь? Попробуй! — крикнул кто-то из толпы.
После минутной паузы Керенский вдруг угрожающе потряс рукой:
— Кронштадтцы, балтийцы, опомнитесь! Большевики толкают вас в пропасть! Вы предаете свободную Россию!
Раздались протестующие свистки и крики:
— Довольно! Долой! Хватит!
— Будя! — почти в упор оратору прокричал стоявший у самой трибуны пожилой бородатый солдат.
Керенский окинул площадь растерянным взглядом и быстро сошел с трибуны. Он хотел тут же уехать, но толпа не дала ему пройти к автомобилю.
— Теперь ты послухай нас, «спаситель России»! Куда бежишь? — преградил путь Керенскому солдат, который кричал «Будя!».
На трибуну поднимались ораторы. Они от имени фракции большевиков Кронштадтского Совета давали отповедь «спасителю революции».
Керенский отступил подальше от трибуны и стал о чем-то перешептываться с Вердеревским.
Семен Рошаль подозвал к себе Железнякова, который находился поблизости.
— Даю тебе слово, Анатолий. Скажи покрепче. Ты это умеешь.
Появление на трибуне Железнякова, с лихо сбитой бескозыркой на волнистой шевелюре, было встречено одобрительными возгласами.
— А ну поддай ему, браток! — кричали в толпе, указывая на Керенского.
— Раскатай его по-нашему, по-балтийски! Анатолий начал сразу с большим подъемом. Речь его неоднократно прерывали овациями. Оратор повернулся к Керенскому.
— Вы тут много говорили, господин министр, о поддержке вашего правительства, о великом долге моряков перед революцией, о ее священных знаменах. Но на наших знаменах объявлен лозунг ясный и правый: «Мир без аннексий и контрибуций!» Вот как сказано, господин министр: «Мир!» А вы все толдычите нам о войне, о защите «свободной России». Кому нужна наша война?.. Товарищи балтийцы, скажите сами министру, чего вы хотите: войны или мира?
— Мира! Мира!
— Пусть воюют те, кому жизнь надоела!
— Кончать войну! Повоевали, будя!
Анатолий вызывающе посмотрел на Керенского:
— Вы слышите, господин министр, что отвечает Балтика? Кто хочет умирать за буржуазию, за ваше капиталистическое правительство, пусть идет на фронт, мы его не задержим! Но матросы будут бороться за мир, за власть Советов!
Керенский метнул злобный взгляд на Железнякова:
— Так могут говорить только взбунтовавшиеся рабы!
Площадь загудела еще разъяреннее:
— Ишь ты, рабовладелец какой объявился!
— По шапке его, защитника буржуев!
Рошаль махнул рукой матросам, окружавшим автомобиль Керенского:
— Отойдите, товарищи!
Толпа начала расступаться, образуя свободный проход от трибуны.
— Пожалуйста, господин министр. Вы можете ехать. У нас к вам вопросов больше нет.
«Спаситель России» кинулся к автомобилю. Поднимая пыль, машина помчалась к Петровской гавани. Там министра ожидал эскадренный миноносец.
Якорная площадь продолжала шуметь речами матросов, солдат и рабочих, повторявших, как слова священной клятвы:
— Советы! Ленин! Мир!
Шел июнь. Представители США, Англии и Франции в Петрограде усиленно нажимали на Временное правительство. Они требовали принятия решительных мер против надвигающейся социалистической революции, немедленного наступления русских войск на Западном фронте.
Посол США Фрэнсис говорил министру Керенскому:
— Наша служба информации сообщает, что большевики с каждым днем усиливают свое вредное влияние. Идеи Ленина наводняют города, села, разлагают солдат в окопах… А вы только уговариваете! Большевиков нужно беспощадно уничтожать!
— Мною принимаются все меры, мистер Фрэнсис, — осмелился перебить посла Керенский.
— Главная ваша ошибка, мистер Керенский, — разъяснил Фрэнсис, заключается в том, что вы проявляете преступную нерешительность… Я еще ранее, в апреле, предупреждал министров Временного правительства, что нужно более решительно расправляться с большевиками.
Посол неторопливо закурил сигару.
— Но вы до сих пор ничего не сделали, как говорится, бьете по воздуху. Расшевелите фронт! Наступлением вы поднимете свой авторитет в деловых кругах и покончите с влиянием большевиков.
— Но… — пробовал возражать Керенский. Фрэнсис зло продолжал:
— Удачное наступление — и вы будете… По бледному лицу Керенского пробежала нервная дрожь.
— А если наступление не удастся? Фрэнсис раздраженно бросил сигару.
— Свалите вину на большевиков, разложивших армию.
Керенский порывисто встал, выпрямился, приняв наполеоновскую позу.
— Хорошо, мистер Фрэнсис. Передайте президенту, правительству вашей страны и нашим союзникам, что я сделаю все возможное… 19 июня начнется наступление против немцев на фронте и против большевиков — в тылу…
Керенский не обманул посла Америки мистера Фрэнсиса. Он дал приказ возобновить наступление русской армии на Западном фронте уже 18 июня, а не 19 июня, как обещал. Вновь загрохотали орудия. Снова полилась кровь.
Проспекты, улицы и площади Петрограда 18 июня были заполнены сотнями тысяч рабочих. Демонстранты несли красные знамена и плакаты с лозунгами: «Долой контрреволюцию!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!», «Долой империалистическую войну!».
По указанию Центробалта из Кронштадта, Ревеля и других морских портов в Петроград для участия в мирной демонстрации прибыли тысячи моряков. Одну из групп матросов-кронштадтцев возглавлял Анатолий Железняков. Эта мощная демонстрация воистину была мирной! Ни одному моряку не было разрешено взять с собой оружие.
Красный Питер был похож на бушующее море. Воздух оглашался революционными песнями и звуками музыки.
Под лучами июньского солнца шествие тянулось к Марсову полю, миновало могилы жертв Февральской революции, растекалось по набережным Невы, площади Зимнего дворца. И казалось, не было шествию конца.
«Когда же наконец прекратится этот непрерывный гул толпы?» — думал командующий Петроградским военным округом генерал Половцев. В этот момент в кабинет вошел его адъютант.
— Вы проверили, господин полковник, как обстоит дело с правительственными лозунгами, которые были вывешены на Марсовом поле и в других местах? — обратился Половцев к адъютанту.
— Все они сорваны, — ответил адъютант.
— Приняты ли меры, чтобы в демонстрации не участвовали солдаты? продолжал Половцев.
— Так точно, господин генерал. Однако несколько полков вышли на демонстрацию в полном составе.
— Это возмутительно! — вскипел командующий. — Вы проверили, какие это полки?
— Московский, Кексгольмский, Волынский…
— Даже Волынский? — прервал Половцев адъютанта.
— Так точно, господин генерал. Половцев, задумавшись, барабанил пальцами по столу. Адъютант почтительно умолк.
Генерал вздрогнул, точно пришел в себя.
— Что же вы замолчали, господин полковник? Продолжайте, я слушаю вас.
— Политические заключенные в «Крестах» предъявили требование об освобождении их.
— Что?! — вскочил из-за стола генерал.
— Да, заключенные угрожают, если их требование не будет удовлетворено, они поднимут бунт…
— Бунт? — обрадованно переспросил Половцев. — Прекрасно. Будет преступлением с нашей стороны, если мы не используем это. Для спасения России от большевизма мы должны идти на все… Передайте мой приказ: усилить охрану политических заключенных и устроить «побег» уголовных… Сделаем так, чтобы можно было обвинить в этом большевиков… Соедините меня по телефону с господином Переверзевым…
Провокационный план был выполнен с молниеносной быстротой. Меньше чем через два часа после разговора Половцева с министром юстиции Переверзевым 460 арестованным за уголовные преступления устроили «побег». А к вечеру все буржуазные газеты сообщали о том, что побег из «Крестов» 460 опасных для общества преступников, которые якобы перебили администрацию и обезоружили стражу, был совершен… по подстрекательству большевиков!
Население Петрограда заверяли, что сильно обеспокоенное его судьбой правительство приняло срочные меры для поимки бежавших и привлечения к суровой ответственности «главных организаторов этого преступления…»
Демонстрация уже давно закончилась, но повсюду были толпы народа. Митинговали. Пели песни. В садах и парках танцевали под гармошки. В городе еще не знали, что на фронте снова загрохотали пушки…
Железняков с группой матросов направился к даче Дурново. Богатый особняк с белыми колоннами стоял в большом парке. Перед главным входом висела вывеска «Клуб рабочих и солдат». На бывшей даче крупного царского сановника разместились теперь правления нескольких профсоюзов.
«Самовольный» захват дачи рабочими организациями вызвал возмущение буржуазной печати, кричавшей о наступлении анархии. Воспользовавшись тем, что небольшую часть здания занял штаб анархистов, министр юстиции Переверзев пробовал предпринять несколько попыток выдворить «захватчиков» дачи военной силой.
Кронштадтцы пошли к даче через Летний сад. Здесь было особенно весело и людно. Отовсюду неслись веселые шутки, задорный смех. Античные скульптуры были украшены красными бантами и лентами.
Матросы разбрелись по парку, а Анатолий пошел в клуб. Там под нестройную музыку нескольких балалаек и гармошек танцевала молодежь. В стороне собралась группа рабочих, обсуждавшая сообщение вечерних газет.
— Неспроста так раздувают этот побег, — хриплым баском говорил пожилой выборжец. — Ишь сволочи! «По подстрекательству большевиков»!
— Ума не приложу, как могло столько человек бежать из «Крестов»? Сидел я там, знаю хорошо эту тюрьму, — сказал высокий старик.
Матросов в зале не было, и Анатолий вышел в сад, прилегающий к даче Дурново. Здесь он встретил своих балтийцев с броненосца «Пересвет». Они также решили переночевать в Питере. С ними был знакомый Железнякову рабочий Прохоров с завода «Феникс».
Постепенно парк опустел. Матросы вместе с Прохоровым вошли в здание клуба.
Вдруг с улицы вбежал один из служащих клуба и, запыхавшись, тревожно сообщил:
— Мы окружены! Дача в кольце войск!
— Товарищи! Спокойствие! — крикнул Железняков, — Сейчас выясним, в чем дело!
Он выбежал на улицу. Кругом все было тихо, но за железной оградой со стороны набережной он ясно увидел, как, раскинувшись в цепь, с винтовками наизготовку медленно продвигались к зданию клуба солдаты. Железняков бросился в парк, прилегающий к даче с другой стороны. Но и там уже все было занято войсками.
Из клуба выбежал пересветовец Семенов.
— Товарищ Железняков! Я хотел позвонить на завод или в союз металлистов, но телефонная линия перерезана…
— Закрыть двери и окна! Забаррикадировать главный вход! — скомандовал Железняков.
В клубе оказалось около шестидесяти человек матросов и рабочих.
— Бери, Анатолий, команду на себя! — сказал Семенов.
Все дружно поддержали.
В подвалах дачи было спрятано несколько старых винтовок, револьверов и ручные бомбы.
— Ребята, стрелять только в воздух!
Юнкера и казаки бросились в атаку на здание.
Железняков увидел, что в углу окна, где стоял пересветовец Семенов, показалось дуло винтовки. Чтоб спасти товарища, Анатолий схватил дуло и рванул его в сторону.
Раздался выстрел. Железняков швырнул в окно на наступающих бомбу. Раздался оглушительный взрыв. Не теряя времени, Анатолий вслед за первой метнул вторую и третью… Но силы были неравные. С треском рухнула дверь, и в помещение ворвались юнкера и казаки.
Анатолия сбили с ног. Кто-то оглушил его прикладом по голове…
Все находившиеся на даче Дурново матросы и рабочие были арестованы.
Железняков несколько часов пролежал без сознания. Очнувшись, он почувствовал ноющую боль в руке. Лицо сильно распухло. Прядь волос с запекшейся кровью прилипла ко лбу. Он хотел приподняться, но жгучая боль в спине и во всем теле свалила его снова. «Где я, что случилось со мной?» пытался вспомнить он.
Послышался лязг железа и крики. Открылась дверь. В нее втолкнули солдата без фуражки. Он упал, но быстро поднялся с пола, подскочил к двери и начал бить по ней кулаками, громко ругаясь.
— Что случилось? — глухо спросил Анатолий. — Где мы находимся?
Солдат подошел ближе к Железнякову.
— Ой, морская душа, у тебя вся голова в крови!
— Где мы? — с трудом повторил свой вопрос Железняков.
— Да не в гостях у кумы, а в подвале под казармами Преображенского полка. Сейчас все расскажу тебе, дай вот только башку забинтую. — Солдат достал из-за пазухи индивидуальный пакет. — Это я еще с фронта сохранил. Вот и пригодился. Не горюй, заживет. Закурим, морская душа, что ль?
Солдат достал из кармана брюк кисет с махоркой и начал рассказывать, как батальон Семеновского полка ночью подняли по боевой тревоге. Офицеры сказали, что из тюрьмы бежали бандиты и спрятались на даче Дурново. Их приказано поймать и вернуть в тюрьму, Но солдаты нашли на даче только рабочих да матросов.
— А тебя-то за что сюда посадили? — спросил Железняков.
— А за то, что не стал бить моряков и закричал своим ребятам: «Хлопцы, что ж мы делаем? Кого бьем?»
Утром донесся шум грузовика, подкатившего к казарме, а через несколько минут в подвал ворвались вооруженные солдаты во главе с капитаном.
Капитан крикнул Железнякову:
— Встать!
Тот медленно поднялся с пола, осторожно натянул на голову помятую и окровавленную бескозырку.
— Прощай, друг! — обратился он к солдату. — Может, еще встретимся. Тогда уж вместе до полной победы будем добивать контру!
— Связать ему руки и — на машину! Живо! — крикнул капитан солдатам.
Железнякова заключили в Петроградскую пересыльную тюрьму «Кресты».
Выступая с разоблачением контрреволюционных методов Временного правительства, «Правда» писала 20 июня: «События на даче Дурново взволновали весь рабочий Петербург. В понедельник с утра в Таврический дворец, в помещение Исполнительного Комитета стали притекать рабочие с фабрик и заводов, требуя ответа, сообщая о начинающихся стачках…»
Одновременно «Правда» напечатала воззвание к рабочим и солдатам с призывом воздержаться от разрозненных выступлений и действовать только по призыву большевистской партии.
21 июня «Правда» опубликовала официальное заявление Центрального Комитета большевистской партии, сделанное еще вечером 18 июня, с требованием немедленно выявить и привлечь к ответственности виновников организации побега заключенных из «Крестов».
Побег уголовников и налет на бывшую дачу Дурново явились частными провокациями, устроенными Временным правительством в порядке подготовки к июльским событиям.
4 июля мостовые Петрограда оросились кровью лучших сынов рабочего класса. Контрреволюционеры разгромили большевистскую печать, рыскали по городу в поисках вождя революции В. И. Ленина.
Керенский приказал распустить Центробалт. В «Кресты» были заключены крупнейшие политические деятели Кронштадта и других портов Балтийского моря. В числе арестованных были Дыбенко, Рошаль, Ховрин и другие. Все они были заключены в тюрьмы. Над Железняковым был совершен суд, который на основании старого царского закона о дезертирах военного времени приговорил его к 14 годам каторжных работ.
Таким чрезмерно суровым приговором буржуазный суд явно мстил балтийцу, непоколебимо следовавшему за большевиками, резко выступавшему против Керенского и его сторонников.
Томясь в тюремной камере, Железняков выразил свое душевное состояние в стихотворении:
Сокол, сокол, Не смейся теперь надо мною, Что в тюрьме я свой жребий нашел. Был я выше, чем ты в небесах над землею, Был я выше, чем ты и орел. Много видел тебе неизвестных светил, Много тайн заповедных узнал; Я со звездами часто беседы водил, Я до яркого солнца взлетал. Быстро день проходил и сменялся другим. И сгорал я мятежным огнем, Был врагами свободы гоним, Были братья мне ветер да гром. Но однажды темной ночью в степи В роковую грозу я ослаб, И с тех пор я сижу здесь, как вор на цепи, Как неверный и пойманный раб. Сокол, сокол, когда соберешься лететь, В беспредельный и горный простор, Не забудь, передай облакам мой привет, Всем скажи, что я цепь изорву, Что в тюрьме моя жизнь — только сумрачный сон. Только призрачный сон наяву.[6]Письма, пересылаемые Анатолием заключенным друзьям, звали их к новым битвам. В одном из таких посланий он так открывал им свою душу: «…Мне душно в этом каменном мешке, друзья! Я люблю море, необъятный простор, шторм, борьбу. Мне свобода нужна для битвы. Я не хочу шагать по миру бездельником. Идет великая битва за коммуну. Надо отдать этой битве всего себя, вместе с сердцем… И в какие бы цепи ни заковали меня враги революции, я уйду отсюда. Вырвусь! Убегу! Меня не удержат эти стены! Кто может сковать волю человека, который бьется за человечество? Еще не изобретена такая сталь, из которой можно выковать цепи крепче моей любви к свободе! Убегу!..»
Сквозь решетку, заслоняющую тюремное окно, прорывался тусклый дневной свет. И небо было безрадостным, угрюмым. «Посмотреть бы теперь на Петроград…» — с тоской думал Анатолий.
Но город увидеть было невозможно, так как единственное окно в камере было устроено так, что заключенный мог видеть только кусочек неба.
— Отсюда трудновато вырваться, Алеша, — перевел Железняков взгляд на пересветовца Семенова, который оказался с ним в одной камере. — Уж больно крепко стерегут нас.
Он снова повернулся лицом к окну. Теперь небо казалось ему еще более хмурым. Но все равно хотелось смотреть на него долго, долго. Будто там, в этом маленьком сером клочке, было видно отражение моря, по которому тосковало его сердце.
Железняков угрюмо молчал. Кто-то открыл окошечко в дверях и торопливо швырнул в камеру скомканную бумагу. Он поднял ее, развернул. Перед ним была страничка газеты «Пролетарий» — центрального органа партии большевиков, издававшейся с 13 августа вместо «Правды», разгромленной буржуазией. Трудно передать, с каким волнением читали друзья опубликованный в газете манифест VI съезда большевистской партии. Последние слова этого исторического документа звучали как команда к бою:
«Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи! Стойко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь в боевые колонны! Под знамя партии, пролетарии и солдаты! Под наше знамя, угнетенные деревни!»
Глаза Анатолия загорелись.
— Ну вот, а мы с тобой горюем, что забыли нас… Нет, Алеша, не забыли…
Товарищи не забыли Железнякова. Они тщательно готовились к организации его побега из тюрьмы. В этом деле особенно проявляли свое участие бывшие политические ссыльные супруги Павловы, вернувшиеся в Петроград из сибирской ссылки в 1917 году, Павлов был старым балтийцем.
Люба Альтшуль, с которой Железняков познакомился на патронном заводе, когда выступал там на митинге, добилась разрешения у начальника тюрьмы на свидание с Анатолием под видом невесты. Ей удалось передать ему небольшие пилки и револьвер.
Вечером 6 сентября улицы Петрограда огласились звонкими голосами продавцов газет:
— Читайте экстренный выпуск «Петроградского листка»! Читайте «Вечернее время»! Дерзкий побег кронштадтцев из тюрьмы! Бежал приговоренный к 14 годам каторги матрос Железняков! Читайте подробности!..
Прыгнув с тюремной крыши, Анатолий упал на мостовую и вывихнул ногу. В первые минуты сгоряча он бежал изо всех сил вперед, помня только о том, что за углом ближайшей улицы его ждет автомобиль. Со всех сторон неслись тревожные крики и беспорядочная стрельба.
На повороте узенького переулка он увидел высокий деревянный забор. Собрав последние силы, Анатолий забрался на него и упал в какой-то двор возле длинной поленницы дров. Только теперь он почувствовал невыносимую острую боль в левой ноге. А шум погони продолжал нарастать. Доносились свистки, крики и выстрелы. Сознание подстегивало: «Беги! Беги!» Крепко стиснув зубы, собрав последний запас сил, он заставил себя поползти вдоль забора.
Уже совсем ослабевшего Железнякова разыскали двое матросов-балтийцев. Они подняли его и понесли к машине.
Машина круто повернула по широкой улице, ведущей к Финскому заливу. Вдали уже виднелся маяк, где их ждали свои люди со шлюпкой.
Ранним утром на следующий день после побега Железняков и Семенов снова были в Кронштадте.
25 сентября в Гельсингфорсе открылся 2-й съезд представителей Балтийского флота.
Заседал он на яхте «Полярная звезда», где работал Центробалт. Председателем съезда был избран только что освобожденный из «Крестов» под залог большевик Павел Дыбенко.
— Товарищи, — начал он первое заседание, — нам нужно избрать секретаря.
— Кого рекомендует Центробалт? — спросил кто-то из делегатов.
— Мы предлагаем кандидатуру товарища Викторского, — ответил Дыбенко. Из рядов спросили:
— Кто он такой? Улыбаясь, Дыбенко ответил:
— Вот у меня в руках его мандат. Слушайте. «Дано сие от комитета команды машинной школы Балтийского флота матросу Анатолию Викторскому в том, что он действительно выбран на съезд моряков Балтийского флота от команды машинной школы, что подписью и приложением печати свидетельствуется. За председателя комитета Русин. Секретарь Уткин». Повысив голос, Дыбенко крикнул: — Товарищ Викторский, прошу представиться съезду!
На общую палубу, превращенную в зал заседаний, слегка прихрамывая, вышел предложенный кандидат.
Минутная тишина. Затем послышались восклицания:
— Железняков! Анатолий! Толя! Многие делегаты встали со своих мест, окружили своего любимца.
— Кто же знал, что ты спрятался под чужой фамилией!
— Очень любит меня наш новый министр-председатель, сами знаете, попадусь в руки — расстрел, — отвечал Анатолий.
Дыбенко поднял руку, призывая товарищей занять места. Когда наступила тишина, он сказал:
— Итак, товарищи, кто за то, чтобы секретарем нашего съезда избрать товарища Желез… — но осекся и, смущенно улыбнувшись, продолжал: товарища Викторского, прошу поднять руку.
Железняков занял за столом президиума место секретаря.
В первый же день своей работы 2-й съезд представителей Балтийского флота обсудил вопрос о текущем моменте и о Демократическом совещании, созванном эсеро-меньшевистскими соглашателями.
Обстановка в стране к моменту съезда резко изменилась. Большевики снова выдвинули лозунг: «Вся власть Советам!» Но это не был уже старый лозунг перехода власти в руки меньшевистско-эсеровских Советов. Большинство в Петроградском и Московском Советах теперь принадлежало большевикам. Поэтому лозунг «Вся власть Советам!» являлся лозунгом восстания Советов против Временного правительства.
С докладом о текущем моменте выступил Железняков. Он решительно высказался против какой-либо поддержки буржуазно-меньшевистской, эсеровской организации так называемого предпарламента. Оратор смело заявил:
— Предпарламент — это новая уловка остановить волнующуюся массу пролетариата, готового смести не только Временное правительство, но и все то, что угнетало его веками.
Речь Железнякова была поддержана аплодисментами делегатов съезда.
В резолюции съезда по этому вопросу говорилось: «Во избежание дальнейших контрреволюционных атак и выступлений, разрушения страны и для достижения скорейшего демократического мира без аннексий, контрибуций и на основе самоопределения наций 2-й съезд представителей Балтийского флота требует от Центрального Исполнительного Комитета немедленно созвать Всероссийский съезд Советов; в случае отказа съезд предлагает Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов взять на себя инициативу созыва Всероссийского съезда Советов, который и должен взять власть в свои руки».
Стоя у окна Зимнего дворца, Керенский смотрел на Неву. Он мечтал быть в этом дворце таким же властным, державным хозяином, как и прежние его владельцы — русские цари. Но…
За дубовой массивной дверью с резными украшениями раздался стук. Вошел подтянутый молодой адъютант.
— Разрешите доложить, господин премьер-министр, явился военно-морской министр господин Вердеревский.
Керенский встрепенулся, сделав шаг вперед, негромко сказал:
— Просите!
Неутешительные вести принес Вердеревский. Он молча положил на стол краткие выписки из газет. В них сообщалось, что 2-й съезд представителей Балтийского флота высказался за немедленный созыв съезда Советов. Такое же решение вынес Кронштадтский Совет.
Нервно схватив выписки, Керенский начал читать: «…Только через Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов может быть организована власть революции…»
— Нет, это непостижимо, чудовищно! Как вы могли допустить такое безобразие? Я категорически запретил после событий этого лета всякую политику в армии, всякие съезды военных! Разве для Балтийского флота мои приказы не обязательны?!
Вердеревский развел руками.
— Напрасно мы освободили Дыбенко! А кто такой Викторский, подписавший вместе с ним резолюцию?
— Не знаю, Александр Федорович…
Керенский гневно оборвал Вердеревского:
— Господин адмирал! Вы военно-морской министр и обязаны знать, какие люди распоряжаются судьбой нашего флота!.. Вы… с ними заигрываете! Вы…
Дождавшись, когда успокоится Керенский, Вердеревский попросил выслушать его о положении на Балтийском море.
— Группа адмиралов предложила мне лично доложить правительству правду о состоянии флота. Весь рядовой состав заражен большевизмом. Нужны радикальные меры.
— Что предлагают флагманы? — насторожился Керенский.
— Они не только предлагают, а уже действуют, Александр Федорович. У флагманов перед глазами прекрасный пример — сдача Риги, «славный подвиг» Корнилова, — цинично ответил Вердеревский.
— Значит, флагманы хотят сдать флот немцам? — горько усмехнулся Керенский. — Эх, фантазеры, фантазеры. Мало их перебили матросы…
— Вы правы, Александр Федорович, сдать флот не удастся! А поставить его под удар, под уничтожение…
— Теперь все ясно. Доложите все подробней.
Керенский оживился, заложив руку за борт френча.
— Немцы скопили две трети всего своего флота для прорыва к Петрограду. Они готовятся высадить десант на Моонзундских островах, — продолжал Вердеревский. — Мы ослабили средства противодесантной обороны, особенно на островах Эзель, Даго, полуострове Сворбе. К моменту подхода немцев наши подводные лодки не выйдут на позиции. Пути движения германских кораблей примерно известны, я приказал не ставить на этих путях минных заграждений… Наконец, мы будем подставлять наш флот под удар частями…
— Достаточны ли германские силы? — спросил Керенский.
Вердеревский открыл папку, вынул бумагу и прочел: «Около 300 кораблей, десантный корпус в 25 тысяч штыков. Эти силы сосредоточены у Моонзунда…»
— Редкая осведомленность! Прямо не узнаю нашей разведки! — воскликнул Керенский. Вердеревский усмехнулся:
— Сведения получены необычным путем… от союзников…
— Знаю, знаю, — перебил Керенский. — Мне кое-что уже сообщил этот старый лис, сэр Бьюкенен[7]… Англичане развязали немцам руки… Прорыв флота союзников к Петрограду для подавления большевизма поставил бы их лицом к лицу с кайзеровским флотом. Что ж, пусть немцы помогут нам…
Несколько минут министр-председатель молча шагал по просторному кабинету, затем, остановившись, театральным жестом заломил руки и простонал:
— Боже милосердный! Что скажет обо мне история!
— Не только история, Александр Федорович, но и современники оправдают вас. На днях вы получите протокол заседания совета флагманов. В этом протоколе будет обоснована неминуемость поражения нашего флота из-за низкой его боевой мощи.
Керенский провел по глазам платочком, подошел вплотную к Вердеревскому и, всхлипнув, сказал:
— Я всецело полагаюсь на вас. Правительство вручает вам судьбу флота. Действуйте, как подсказывает вам совесть истинного сына России. Передайте мою искреннюю благодарность контр-адмиралу Развозову и всем флагманам, болеющим за участь нашей родины. Я согласен на все…
Для прорыва к Петрограду и предотвращения назревающей социалистической революции кайзеровская Германия направила в район Моонзундского архипелага 10 линейных кораблей, 1 тяжелый крейсер, 9 легких крейсеров, 56 эскадренных миноносцев, 6 подводных лодок. Всего со стороны немцев в операциях участвовало свыше 300 боевых и вспомогательных кораблей. Действия флота поддерживали 102 самолета и 6 дирижаблей.
Этим силам противника был противопоставлен русский флот в составе 2 старых линкоров, 3 крейсеров, 3 устаревших канонирных лодок, 12 эскадренных миноносцев, 24 миноносцев — всего не более 100 кораблей и 30 самолетов.
Неравенство сил усугублялось изменническими действиями ряда русских адмиралов и офицеров, занимавших командные посты в Балтийском флоте и в частях гарнизона Моонзундского архипелага.
На моонзундских позициях создалось угрожающее положение. Центробалт развернул энергичную работу по организации отпора врагу. Как только начались операции немецкого флота в Моонзунде, 2-й съезд представителей Балтийского флота на три дня прервал свою работу. Члены Центробалта и многие делегаты съезда отправились на место боев, в Петроград, за оружием. На все военные корабли и береговые части съездом были назначены комиссары.
Одновременно спешно формировались и направлялись батальоны десантников на острова Эзель, Даго и другие пункты Моонзундского района.
На все корабли Гельсингфорской, Кронштадтской, Ревельской баз и на береговые укрепления телеграф донес воззвание съезда:
«Враг приближается… Докажем всему миру, что революционный Балтийский флот, защищая революционную Россию, погибнет, но не отступит перед флотом германского империализма».
В одной из кают яхты Железняков разыскал Дыбенко.
— Товарищ Дыбенко, я хочу знать, когда вы меня пошлете на передний край фронта?
— На фронт успеешь. А сейчас направляйся срочно в Питер. Бузит гвардейский экипаж, не хочет выезжать в Моонзундский район. Ты должен убедить гвардейцев и срочно отправить их в распоряжение комитета морских сил Рижского залива для защиты от немцев подступов к нашему Петрограду.
— Есть так держать! — радостно ответил Железняков и добавил: — Я вместе с гвардейцами отправлюсь на фронт и там…
— Нет, — остановил его Дыбенко. — Ты вернешься сюда и получишь назначение комиссаром на один из боевых кораблей.
— Вот спасибо, Павло. Сейчас же еду в Питер. Гвардейцы встретили Железнякова в штыки. Тон задавал эсеровский комитет экипажа.
— Мы не подчиняемся большевистскому Центробалту, а защищаем законное правительство и выполняем приказы военно-морского министра, — ответили гвардейцы.
Более двух суток Анатолий не выходил из экипажа, пока не сколотил большую группу сочувствующих большевикам и с их помощью не добился своего большая группа гвардейцев выехала на фронт.
Через день Дыбенко и Железняков выехали на крейсер «Рюрик», который сразу взял курс на Моонзунд и прибыл туда в самый разгар боев.
Не удалось изменникам России во главе с Керенским осуществить свой план уничтожения Балтийского флота.
Несмотря на то что русский флот по огневой мощи был значительно слабее вражеского, он не допустил кайзеровский флот к революционному Петрограду.
Балтийцы доказали верность своему патриотическому долгу перед народом, перед революцией.
2-й съезд моряков Балтийского флота продолжал работу. Возмущению делегатов не было предела, когда они узнали о клеветническом приказе Керенского, обвинившего балтийцев в трусости и предательстве. Как секретарю, Железнякову было поручено срочно составить ответ на это наглое послание. Через полчаса ответ моряков был готов.
В ответе Керенскому съезд моряков Балтийского флота требовал немедленного роспуска контрреволюционного Временного правительства и передачи власти в руки Советов. Моряки писали, что ни политическому авантюристу Керенскому, ни другим авантюристам и соглашателям не удастся оторвать флот от большевистской партии.
Вместе с другими моряками от Балтийского флота, единодушно избранными делегатами на II Всероссийский съезд Советов, был и Анатолий Викторский-Железняков.
В дни великого штурма
Вместе с другими моряками, избранными делегатами на II Всероссийский съезд Советов, Железняков приехал в Петроград в самый канун октябрьских событий.
24 октября Анатолия вызвали в Военно-революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов.
Шагая к Смольному, он проходил через Летний сад. По-осеннему шумели липы и тополя. Под ногами шуршали опавшие листья. Мраморные статуи стояли с отбитыми пальцами на ногах, и на них уже не было, как в июне, красных бантов.
Впереди показалось огромное серое здание Смольного. Фыркая и урча, лихо метались взад и вперед мотоциклы с очкастыми водителями-связными. Спешили вооруженные отряды. Галопом, словно в атаку, промчался кавалерийский эскадрон.
— Железняк! — внезапно раздался позади Анатолия знакомый голос.
Железняков обернулся и тотчас оказался в крепких объятиях солдата, вместе с которым сидел в подвале казармы Семеновского полка.
— Жив, здоров? А ну-ка, дай я посмотрю на тебя… — тормошил солдат.
— Откуда ты, голубчик? — обрадовался балтиец, окинув взглядом снаряженного по-походному пехотинца.
— Откуда? Да вон оттуда. — Солдат показал на Смольный. — С комиссаром нашим ходил. Слыхал про такого, Коцюбинского?.. Дело-то вот какое вышло. Полк наш, Семеновский, на митинге принял резолюцию: «Мы ни за большевиков, ни за Временное правительство». Коцюбинский всю ночь не спал да и нам спать не дал. Каждому в башку вколачивал, как нужно с буржуями правильно действовать, как учит Ленин. И добился своего.
— Значит, к черту послали нейтралитет? — улыбнулся Железняков.
— Вот, вот, к черту послали нейтрал… — с трудом выговорил это слово солдат. — А сами пошли в Смольный, вместе с большевиками бить контру…
— Молодцы, правильно сделали, — начал было Железняков, — надо…
— Ой, комиссар ушел! — спохватился солдат. — Будь здоров, Железняк! Еще, может, встретимся! — кинул он уже на ходу и, позвякивая походным котелком, бившимся об винтовку, кинулся бегом догонять свою часть.
«Жаль, что не успел узнать, как он выбрался из тюрьмы, — подумал Анатолий, глядя вслед пехотинцу. — Хороший человек…»
В Военно-революционном комитете разговор был коротким.
— Вам серьезное задание, — обратился к Железнякову секретарь Военно-революционного комитета. — Нужно срочно создать ударный отряд из матросов 2-го Балтийского флотского экипажа. По нашему плану тюрьму «Кресты» займут в начале восстания красногвардейцы Выборгского района и солдаты Московского полка. Ваш отряд будет действовать совместно с Кексгольмским полком. Вы займете левый фланг центрального участка. Ваша задача — выдвинуться от Мойки к Адмиралтейству, обеспечить высадку кронштадтцев, держать связь с кораблями и…
— Идти на штурм? — досказал Железняков.
— Ждите приказов. А пока мы поручаем вам завтра занять здание Петроградского телеграфного агентства. Подберите грамотных людей и возьмите под контроль все телеграммы. Пропускайте только безвредные для революции сообщения, — закончил секретарь ревкома.
Приказ военревкома был выполнен точно в указанное время.
…Наступила ночь 25 октября.
Город придавила тревожная тишина.
Увешанные ручными гранатами и перекрещенные пулеметными лентами, с винтовками за плечами, матросы под командованием Железнякова быстро прошли мимо величественного Исаакиевского собора, вдоль таинственно притихшего Александровского сада и подошли к Дворцовой площади.
Железняков, в сбившейся на затылок бескозырке, забежал вперед колонны и на ходу отдал команду:
— Отряд, стой!
Поправляя маузер, Анатолий быстрым шагом направился к решетке сада.
— Вольно! Товарищи, подходи!
Ряды быстро разбиваются. Матросы продвигаются к командиру, образуя большой полукруг. Стукнули о камни приклады винтовок.
Над Невой вспыхнул луч прожектора. Он пробежал по набережной. Сверкнул на золотом шпиле Адмиралтейства, ударил в стену Зимнего дворца и исчез в ночном мраке.
— «Аврора» осматривается… — сказал кто-то негромко.
Железняков призывает бойцов к вниманию. Он делает жест в сторону Зимнего.
— Вот она, крепость старого проклятого мира! Сюда в эту крепость, по указанию Ленина послан ультиматум правительству Керенского сложить оружие. Но буржуазия все еще пытается спасти свою власть. Все юнкерские училища Петрограда приведены в боевую готовность. Временное правительство, как нам известно, с часу на час ожидает подкрепления с фронта. Керенский приказал арестовать Военно-революционный комитет. Но буржуазии нас не запугать!
— Даешь Зимний! — раздались в темноте голоса.
— Наша задача, товарищи, штурмовать дворец отсюда, с площади. Красногвардейцы и солдаты пойдут с других направлений, — закончил свое выступление Железняков.
Вдруг раздалось несколько винтовочных выстрелов со стороны Морской улицы, расположенной недалеко от Александровского сада. И тотчас у Зимнего затрещали пулеметы.
Отряд замер.
— В цепь! — скомандовал Железняков.
Отряд стремительно принял боевой порядок. Стрельба затихла.
Раскинувшись цепью вдоль здания Главного штаба, находящегося против дворца, матросы с большим нетерпением ждали сигнала о начале штурма Зимнего. На площади загрохотал броневик, посланный наступающими частями.
Снова вспыхнули огоньки выстрелов и раздалось «ура!». Увлекая за собой отряд, Железняков первым бросился вперед:
— За мной, товарищи!
Засверкали молнии выстрелов, засвистели пули. Откуда-то из мглы донеслись первые стоны. Невдалеке от Железнякова упал матрос.
Оглянувшись, Анатолий увидел, что наступал только его один отряд. Тогда он скомандовал:
— Ложись! Ложись! — и про себя выругался: «Черт побери! Поспешили… Сигнала-то с „Авроры“ еще не было…»
Матросы залегли у Александровской колонны, укрываясь за ее широким пьедесталом.
Площадь снова погрузилась в тревожную тишину.
— Кончать бы скорей с контрреволюцией! — слышны возбужденные голоса.
…И вот наконец-то над Невой раздался орудийный выстрел. Это громыхнула «Аврора». Сигнал к общей атаке.
Железняков вскакивает на ноги.
— Ура, за мной, товарищи!
— Ур-р-ра! Полундра! Амба контре! — подхватывают матросы.
Теперь уже не один железняковский отряд атакует Зимний. Мощный людской поток со всех сторон врывается на Дворцовую площадь и неудержимо движется к Зимнему.
Не обращая внимания на трескотню пулеметов, под громкие крики «ура» матросы отряда Железнякова перескакивают через баррикады, опрокидывают пулеметные гнезда юнкеров и вместе с отрядами красногвардейцев и солдат подбегают к стенам дворца. Из окон Зимнего на площадь летят гранаты. Раздаются взрывы.
В растревоженной грохотом и гулом осенней ночи слышны крики людей, осаждающих подъезды дворца:
— Вперед! Не останавливаться!
— Даешь! Полундра!
Наконец многоголосый человеческий поток врывается под дворцовые своды.
На мраморных лестницах стрельба, крики, лязг штыков. С винтовками наперевес матросы и рабочие-красногвардейцы бегут по коридорам, преследуя юнкеров, офицеров — последних защитников Зимнего. Перед Железняковым мелькают знакомые лица старых большевиков-балтийцев — Полухина, Берга, Громова, Мясникова, Ховрина… Вот Антонов-Овсеенко повел группу атакующих в глубь дворца. Железняков с Ховриным последовали за ними.
Они вошли в зал заседаний.
— Именем Военно-революционного комитета объявляю вас арестованными! громко объявил Антонов-Овсеенко, обращаясь к сидевшим за большим длинным столом министрам Временного правительства.
Народу в зале прибавилось. Откуда-то появились штатские, увешанные гранатами.
— Товарищи матросы, удалите посторонних! — приказал Антонов-Овсеенко. Он сел за стол, положил перед собой лист бумаги и обратился к арестованным: — Прошу называть свои фамилии.
Приглаживая рукой золотисто-каштановые волосы, одним из первых поднялся с места человек с аккуратно расчесанной бородкой, коротко сказал:
— Скобелев. Министр труда.
Подтянутый, стройный, скользнув взглядом по матросам, встал адмирал Вердеревский. Медленно приподнялся со своего места, одетый в дорогой костюм, министр — крупный капиталист Терещенко.
Так переписал Антонов-Овсеенко всех 13 министров.
Под конвоем матросов арестованных отправили в Петропавловскую крепость.
Железняков и Ховрин поспешили в Смольный, где заседал II Всероссийский съезд Советов.
Шел пятый час утра. На трибуну поднялся А. В. Луначарский. От имени большевистской фракции он огласил написанное Лениным воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам» о взятии съездом власти в свои руки, о необходимости быть бдительными и стойкими, чтобы разбить двинутые на Петроград генералами Корниловым и Красновым контрреволюционные войска.
Днем 26 октября Железняков принимал участие в операциях против контрреволюции, а вечером снова на заседании съезда Советов.
Буря восторга поднялась в зале, когда на трибуну вышел Владимир Ильич Ленин. Он читал обращение II Всероссийского съезда Советов к народам и правительствам воюющих стран.
И когда Владимир Ильич заговорил о грядущей революции во всех воюющих странах, о предстоящей победе рабочего движения во имя мира и социализма, Железняков с волнением схватил руку Ховрина и прошептал: «Куда б он меня ни послал — все выполню».
— Мы все так поступим! — не менее взволнованно ответил Ховрин.
Матросы — делегаты этого съезда создали морской революционный комитет, в руководящую десятку которого был избран и Железняков.
Отпор контрреволюции
Сбежав из восставшего Петрограда, как затравленный заяц, метался Керенский по фронту. Он уговаривал, умолял, угрожал, обманывал. Но ему удалось привлечь к наступлению на столицу только один спровоцированный генералом Красновым конный корпус.
27 октября генерал Краснов занял Гатчину, а под утро 28 октября, подавив артиллерийским огнем и конными атаками сопротивление разрозненных немного-/ численных отрядов, защитников Царского Села, захватил этот важный стратегический пункт на подступах к Петрограду. Контрреволюционные войска намеревались 29 октября начать штурм столицы при поддержке юнкерских училищ, подготовивших мятеж внутри города.
Поднятые тревожными гудками фабрик и заводов, двинулись на фронт тысячи питерских рабочих, войсковые части, отряды матросов. Ушел на фронт и Железняков.
Для разгрома врага была создана мощная огневая завеса. Артиллерия вызванных из Гельсингфорса военных кораблей готовилась стрелять по путям подхода врага. Рабочие заводов за считанные часы соорудили бронеплощадки с орудиями, бронепоезда.
Поздно вечером 30 октября революционные войска нанесли поражение красновцам, выбили их из Царского Села. В штабе фронта Железняков встретился с Семеном Рошалем. Он был одним из руководителей обороны Петрограда на этом участке. Глядя на осунувшееся, с ввалившимися глазами лицо командира, Анатолий не выдержал:
— Семен Григорьевич, отдохни хоть немного.
— Рано еще думать об отдыхе, — ответил тот. — Надо ехать в Петроград за подкреплением. И тебя, как члена военно-морского ревкома, вызывают туда.
В здании Адмиралтейства — центре всех руководящих военно-морских организаций — Железняков оказался ночью. Войдя в одну из комнат, он увидел спящего на диване Ховрина, — вероятно, тот тоже недавно вернулся с фронта. Тихо, чтобы не разбудить товарища, Анатолий стал рыться в ящиках стола: а вдруг окажется хоть кусочек хлеба? Но поиски были тщетными. Спать приходилось ложиться голодным.
Растянувшись на большом длинном столе, покрытом зеленым сукном, Анатолий, уже засыпая, подумал: «А ведь еще несколько дней назад за ним сидел, может быть, сам Вердеревский, министр…»
Утром Железнякова и Ховрина вызвали к Ленину.
— Неужели нас вызывает сам Ильич? — радовался и удивлялся Железняков.
Он быстро начал расправлять складки на брюках, бушлате. Торопливо почистил сапоги углом расстеленного на полу ковра.
— Ну вот, нашел время, чем заниматься! — проворчал, сразу проснувшись, Ховрин.
— Что ж, по-твоему, можно явиться к Владимиру Ильичу в грязных сапогах? — огрызнулся Анатолий.
— Товарищ Ленин знает, что мы только вчера вернулись с фронта, ответил Ховрин.
Идти было недалеко. Ленин находился в штабе Петроградского военного округа, расположенном поблизости от Адмиралтейства.
В кабинете рядом с Владимиром Ильичем стоял Антонов-Овсеенко.
Дружески поздоровавшись с моряками, Ленин сказал, что вызвал их по очень важному делу: в Москве идет бой с юнкерами. Нужно срочно помочь пролетариату Москвы.
Балтийцам было поручено в течение восьми часов сформировать матросский отряд.
Вместе с матросами должны были выехать и солдаты Лодейно-польского полка, а также отряд красногвардейцев-питерцев, Комиссаром сводного отряда был назначен старый большевик, член Военно-революционного комитета Константин Степанович Еремеев, любовно прозванный балтийцами «дядей Костей». Ховрин был назначен комиссаром одного из отрядов, Железняков его адъютантом.
Возникло неожиданное осложнение с выездом: предатели из Всероссийского исполнительного комитета железнодорожников (Викжель) отказались предоставить поезда.
Десятки вооруженных матросов под командой Железнякова с помощью железнодорожников разыскивали по вокзальным тупикам, запасным путям вагоны, грузили оружие, размещались сами. Подбирались поездные бригады.
В 4 часа утра 2 ноября три эшелона двинулись в путь. На головном матросы, на втором — красногвардейцы, сзади — 426-й Лодейно-польский полк. Газета «Правда» напутствовала бойцов: «Отряды моряков, солдат и красногвардейцев отправились из Петрограда в Москву ускорить победу московского пролетариата и гарнизона. Да здравствует революционная солидарность самоотверженных борцов за дело рабочих и крестьян! Вперед, к победе!»
Заполненные вооруженными матросами и красногвардейцами вагоны гудели веселым шумом. Заглушая лязг буферов и колес, перекатывались по длинному составу песни, в раскатистом хохоте тонули матросские шутки, звенели гармошки.
В штабном вагоне головного эшелона вместе с Еремеевым находились члены Морского военно-революционного комитета Берг и Железняков.
На станции Любань была получена неожиданная весть, что впереди идет неизвестный бронепоезд.
Попыхивая трубкой, Еремеев спокойно продиктовал телеграмму:
«Начальнику станции Чудово. Предлагаю вам задержать и не пропускать до моего прибытия неизвестный поезд, следующий на Москву».
Но в Чудове задержали не бронепоезд, а эшелон самого Еремеева. Ему предъявили телеграмму за подписью Викжеля.
В телеграмме категорически предписывалось начальникам всех станций пропускать вне всякой очереди бронепоезд, идущий под номером 251-бис, и задерживать неизвестные воинские составы, возглавляемые неким Еремеевым, выдающим себя за члена Военно-революционного совета.
— Что-о-о! — широко раскрыл глаза Еремеев, крепко сжимая в зубах мундштук трубки. — Тысяча дьяволов! Да ведь под номером 251-бис идет наш второй состав!
Срочная телеграмма по линии, выстуканная телеграфистом под диктовку Еремеева, требовала от всех руководителей железнодорожных организаций, под угрозой расстрела, во что бы то ни стало задержать бронепоезд. Но бронепоезд мчался все дальше и дальше. Нагоняя на всех страх своими пушками и двадцатью пулеметами, он беспрепятственно проносился вихрем через станции и разъезды. Вскоре выяснилось, что это тот самый бронепоезд Керенского, который обстреливал красные части под Царским Селом. Спасаясь от захвата, он прорвался через станцию Дно по Полоцкой линии на Николаевскую железную дорогу и теперь мчался на помощь московским юнкерам.
Кто-то высказал предположение: возможно, на нем сам Керенский.
Теперь Железнякова нельзя было удержать никакими силами. Он возбужденно ерошил волосы, хватался за наган и готов был на любой риск, лишь бы задержать и разоружить бронепоезд. Он не отставал от Еремеева:
— Товарищ комиссар, Константин Степанович, разрешите захватить бронепоезд.
— Каким образом?
— Нагоним!
— А дальше?
— Разгромим, если не сдастся!
— Из винтовок?
— Да, если нужно, то с помощью винтовок и ручных гранат.
Еремеев дал согласие. Железняков с друзьями стремительно пошел вдогонку бронепоезду на головном эшелоне.
Напрасно пытался враг уйти. Как затравленный зверь, преследуемый опытными охотниками, испуганно удирая, он летел по рельсам, выжимая из паровоза все, что можно выжать. За ним стремительно летел матросский поезд. Перебравшись на паровоз, Железняков бросал тревожный взгляд на приборы, энергично подбрасывал уголь в топку и подбадривал уставшего машиниста:
— А ну поднажмем, братишка, поднажмем! Железняков вглядывался вдаль; ветер бил ему в лицо, хлестал по щекам, рвал волосы. Мелькали телеграфные столбы, поля, рощи, мосты.
С каждым часом расстояние между бронепоездом и матросским составом сокращалось.
Станцию Бологое бронепоезд проскочил с боем. Местные рабочие, получив телеграмму от Еремеева, несмотря на протесты железнодорожных чиновников, пытались задержать бронепоезд. Но он сумел прорваться, круто изменив курс на Липецкую ветку.
Теперь бронепоезд уже не мчался, а полз. В любой момент на каждом километре он мог попасть в западню, приготовленную рабочимижелезнодорожниками. Так и случилось. Не дойдя до станции Куженкино, он остановился. Путь впереди был разобран.
Под прикрытием темноты Железняков с группой матросов почти вплотную подошел к противнику…
Бронепоезд сдался морякам.
— Вот наша первая помощь москвичам, — торжествовал Железняков.
Плененный балтийцами, бронепоезд шел к Москве уже под красным флагом.
Захваченные во вражеском бронепоезде наганы, шашки и прочие трофеи помогли отряду еще более вооружиться для предстоящих новых боев с врагами.
Эшелоны прибыли в Москву 4 ноября. Вокзал был переполнен красногвардейцами из соседних губерний. Они возбужденно рассказывали матросам, как вместе с московскими рабочими вышибали юнкеров из Кремля.
— Значит, мы опоздали? — спросил кто-то из матросов.
— Ничего, ребята, еще и вам хватит работы! — ответил красногвардеец из Иваново-Вознесенска, тоже принимавший участие в освобождении Кремля от юнкеров.
— Вот что нас задержало, — хлопнул коренастый матрос по броне вагона с торчащим грозным стволом орудия. — Хотели враги вам нож в спину воткнуть. Не вышло! Мы их перехватили!
В штабном вагоне Еремеев собрал всех командиров, представил им прибывшего из города члена Московского военно-революционного комитета, который поблагодарил петроградцев за помощь.
— Если б не вы, много хлопот принес бы нам этот бронепоезд. Юнкера так ждали его…
Рассказав коротко о положении в Москве, член военревкома в заключение добавил:
— Много еще затаилось здесь всякой нечисти. Ее нужно выявить и обезвредить. Надеемся на вашу помощь!
Обычно тихая маленькая квартирка Железняковых в Петровско-Разумовском наполнилась шумными, веселыми голосами. Повидаться с родными пришел Анатолий да и друга своего Николая Ховрина привел с собой.
Анатолий много раз принимался целовать сестру Саню, обнимал мать, утиравшую радостные слезы, подбрасывал к низкому потолку малышей племянников — детей сестры.
До поздней ночи шли оживленные разговоры, расспросы о пережитом за время длительной разлуки.
Когда утомленные моряки улеглись спать, истосковавшаяся по сыну мать подошла к нему, присела на край кровати и стала ласково гладить по волосам, тихо приговаривая:
— Соколик мой, родной мой Тошенька… Где ж ты скитался так долго?
Анатолий успокаивал мать и уверял, что все ей расскажет — где был, что делал, как тосковал о ней…
Но мать так и не дождалась исповеди от сына.
Ранним утром балтийцы уже покидали дом, где так тепло и радостно было им провести хотя бы несколько часов. Сгребая в охапку племянников, Железняков говорил им:
— Растите, хлопчики! Вам не придется так мотаться в жизни, как вашему дяде! Эх, и жить будете, бесенята! Без горя и нужды!
Нежно обнимая сестру, Анатолий что-то говорил ей совсем тихо.
Мать припала к широкой фигуре сына, потом поцеловала его дрожащими губами, закрыла лицо фартуком и отошла к окну…
Скрывая волнение и выступившие слезы на глазах, Железняков хлопнул дверью и сбежал по лестнице, догоняя ушедшего вперед Ховрина.
Выполнив свое задание в Москве, матросы-балтийцы и красногвардейцы готовились в обратный путь. Но в конце ноября из Петрограда пришла новая директива.
Выступивший перед отрядом Еремеев сказал:
— Товарищи! Ленин поручает нам срочно направиться на помощь трудящимся Украины. Там создалась угрожающая обстановка. Через Харьков на Дон рвутся контрреволюционные войска. Их надо разгромить. Нашему отряду поручается также доставить оружие рабочим Донбасса. Мы получим его в Туле.
— Даешь фронт!
— На Украину! На Дон! — раздались голоса матросов.
— Добро, товарищи! — сказал Еремеев. — Давайте утвердим штаб. Кого предлагаете в командиры отряда?
— Николая Ховрина! — раздались голоса.
— Одобряю! — поддержал Еремеев. — Я первый голосую за товарища Ховрина.
Начальником штаба избрали Ильина-Женевского. Адъютантом штаба Железнякова.
Отряду было присвоено название: «1-й отряд петроградских сводных войск». В него влилась часть солдат 426-го Лодейно-польского полка. Отряду были приданы четыре броневика, несколько пушек полевой артиллерии, два бронепоезда. Один из них матросы укомплектовали сами — тот, что взяли у белых на станции Куженкино при участии Железнякова.
В Туле приняли для доставки шахтерам 10 тысяч винтовок и 40 пулеметов.
Перед отходом в дальнейший путь команда узнала последние вести с Западного фронта. Главнокомандующий генерал Духонин отказался выполнить предписание Совнаркома — немедленно приступить к переговорам о перемирии с германским командованием. Реакционные офицеры снимали с фронта воинские части и спешно перебрасывали их на Дон к атаману Каледину — этому злейшему врагу Советской власти, который формировал армию для похода на Москву и Петроград.
Следуя дальше, отряд услышал в Курске еще и другие очень важные сообщения: «…Матросами и революционными солдатами арестован и расстрелян в Могилеве злобный враг революции главнокомандующий русской армией генерал Духонин. Окруженная со всех сторон, ставка Духонина сдалась без боя».
Другое сообщение было тревожным: «По Сумской железнодорожной ветке к Белгороду под командой царского полковника Степанова движется несколько эшелонов ударников-духонинцев. Они снялись с Западного фронта после расстрела Духонина и направляются в Новочеркасск к Каледину».
Развив предельную скорость, бронепоезд пришел в Белгород раньше ударных батальонов из ставки Духонина. Матросы и красногвардейцы заняли все пункты на подступах к городу.
Со стороны Харькова прибыл состав с солдатами и красногвардейцами под командованием Николая Руднева, бывшего офицера Черноморского флота, который с первых дней Советской власти стал активным ее защитником.
Ревком Черноморского флота прислал отряд матросов под командой рядового Николая Павлуновского.
Вскоре телеграфист соседней с Белгородом станции Томаровка передал важную весть в штаб бронепоезда: «Пришел первый эшелон. Духонинцы спокойны. Они ничего не знают о вашем отряде».
Было решено немедленно послать к Томаровке бронепоезд, назначив командиром на нем Павлуновского.
— По-моему, надо прицепить два-три вагона с десантной группой, предложил Железняков. — Белогвардейцы могут взорвать путь, и мы окажемся в мертвой зоне.
Предложение Железнякова штаб одобрил, и скоро бронепоезд направился навстречу врагу.
Железняков зорко наблюдал за расстилавшейся далью. Станции все еще не было видно. Миновав возвышенность, поезд стремительно вылетел почти вплотную к цели. Вынырнувшая из-за поворота станция Томаровка была как на ладони. На путях вдоль платформы чернели вагоны.
Бронепоезд дал первый выстрел. Артиллерист-матрос угодил прямо в один из паровозов.
Второй, третий снаряды попали в цепь вагонов, подняв высоко над землей вихрь щепок, земли и железа.
Матросы ликовали.
Застигнутые врасплох, духонинцы стали метаться в панике…
Вскоре на дороге, идущей вдоль железнодорожного полотна, появилась большая группа солдат с поднятыми вверх руками.
— Не стреляйте! Сдаемся! — услышали на бронепоезде.
Солдаты подошли ближе.
— Мы пришли заявить вам, что наш отряд сдается. Прекратите стрельбу!
— Мы прекратим огонь при условии, если вы сейчас же, немедленно сдадите нам все свое оружие, — ответил Павлуновский. — Передайте вашему командиру, что ответ ждем в течение часа, не больше!
Часовую передышку белогвардейцы использовали по-своему. Скрытыми путями они окружили бронепоезд.
К счастью, матросы заметили приближающиеся цепи солдат и стремительно кинулись в атаку на духонинцев.
Ряды белогвардейцев были смяты. Группу офицеров, пытавшихся подорвать железнодорожное полотно, арестовали.
Бронепоезд вышел из окружения, потеряв в бою нескольких товарищей.
Белые убедились, что им не удастся прорваться через Белгород к Дону, они решили двинуться на Обоянь, минуя железную дорогу Харьков — Москва, чтобы соединиться с генералом Калединым в Новочеркасске. С этой целью они заняли деревню Крапивную. Ничего не подозревая, отряд из моряков и красногвардейцев приближался к станции. Неожиданно раздалась стрельба из пулеметов и винтовок. Сразу упало несколько человек.
Ряды отряда дрогнули, смешались, и некоторые бойцы начали отступать.
Железняков, руководивший отрядом, и сам в первый момент был ошеломлен. Но, быстро овладев собой, он крикнул:
— Стой! Ложись в цепь!
Матросы залегли.
Анатолий перебегал от одних бойцов к другим, давал указания на ходу.
Отряд бросился в контратаку. Железняков бежал впереди:
— Даешь золотопогонников!
После двухдневных боев станция Крапивная была взята отрядом, и бронепоезд двинулся дальше.
Радостно встретили харьковские большевики бронепоезд с моряками и красногвардейцами. В штабной вагон явился Артем (Сергеев).
— Вовремя прибыли, товарищи, — говорил он, пожимая руки Ильину-Женевскому, Бергу, Ховрину, Железнякову. — Теперь с вашей помощью быстро расправимся с контрреволюцией, наведем порядок в городе. Кстати, к нам сюда уже прибыли эшелоны с отрядами товарища Сиверса.
Артем кратко рассказал о положении в Харькове, о создании «Комитета спасения отечества и революции».
— Каковы силы, враждебные революции? — спросил Железняков.
— Значительно больше, чем наши. 29-й бронедивизион находится под влиянием эсеров. 1-й Чигиринский «казачий» и 2-й украинский полки присягнули Раде. Невдалеке в Чугуеве — контрреволюционно настроенное юнкерское училище. Железные дороги в сторону Екатеринослава — Крыма и Северо-Донецкая дорога заняты войсками Центральной Рады…
В первую очередь был разогнан соглашательский военно-революционный комитет. Новый ревком возглавил Артем.
Артем, Ховрин, Железняков и Сивере пришли в штаб бронедивизиона. Командование его предъявило большевикам ряд претензий. Оно спрашивало, на каком основании у него требуют сдачи броневиков.
Ховрин резко ответил:
— Казаки генерала Каледина расстреливают тысячи горняков. Мы идем на фронт, и ваши броневики будут там. Здесь же им делать нечего.
— В Харькове тоже не совсем спокойно, — ответил командир дивизиона. И мы должны наблюдать за порядком.
— Какую власть поддерживает ваш дивизион? — спросил Артем.
— Никакую. Мы ни за Временное правительство, ни за Центральную Раду, ни за большевиков. Мы сами по себе! — ответил командир.
Никто не стал спорить с ним. Когда все вышли из штаба, Артем сказал:
— Броневики нужно забрать сегодня же.
Ховрин и Железняков с отрядом матросов окружили штаб дивизиона. Берг возглавил делегацию к командам броневиков для предъявления им ультиматума о немедленной сдаче.
Прошло более часа, а от делегации не было никаких известий. Тогда направили к штабу дивизиона один из броневиков отряда, который несколько раз проехал мимо ворот здания и должен был выяснить — почему задержалась делегация.
В это время Берг со своими товарищами вышел из штаба дивизиона и сообщил:
— Наш ультиматум дивизионом принят.
На следующий день бронепоезд под командой Николая Ховрина мчался к городу Чугуеву. Надо было срочно разоружить юнкерское училище, питомцы которого вместе с другими местными контрреволюционерами разогнали Чугуевский городской Совет рабочих и солдатских депутатов. Став вооруженным контрреволюционным центром, юнкерское училище поддерживало городскую думу, в которой хозяйничали местная буржуазия и чиновники.
Прибыв под Чугуев ночью со своим отрядом, Ховрин приказал бойцам снять орудия с платформы и установить их на вершине горы, господствующей над городом. Затем предстояло отправиться в юнкерское училище и предъявить его командованию ультиматум о сдаче оружия. И наконец, разогнать городскую думу.
В сопровождении двух матросов Железняков пошел в юнкерское училище. Весь отряд напутствовал своих посланцев:
— Никаких уступок контре!
— Требуйте полной капитуляции!
С тревогой ждали на бронепоезде возвращения своих товарищей. Особенно беспокоился Ховрин, он понимал, как опасно было идти в логово врага.
Между тем Железняков уже действовал. Первый этап боевой операции был выполнен сравнительно быстро и без особых осложнений. Не зная, что с бронепоездом прибыло всего 100 моряков, командование 700 чугуевских юнкеров согласилось подписать ультиматум о сдаче оружия.
Дальше Железняков со своими матросами направился к зданию Чугуевской городской думы. Просторное помещение ее было набито народом до отказа. Сюда собрались все местные богачи и чиновники. Появление Железнякова с вооруженными матросами было встречено гробовым молчанием. Все трое прошли сквозь ряды перепуганных думцев и поднялись на трибуну. Раздался властный голос Железнякова:
— Мы требуем немедленного и полного разоружения города и передачи власти в руки трудящихся!
Категорический ультиматум был встречен протестующими криками думцев:
— А-а-а! Насильники!
— Долой их! Арестовать!
На улице затрещали выстрелы. Заговорили пулеметы. И, как бы в ответ на это, за городом начал ухать из орудий матросский бронепоезд.
В зал ввалился отряд вооруженных юнкеров.
Железняков кивнул головой своим матросам:
— Ко мне, товарищи!
Все трое встали плечом к плечу.
— Приготовиться! Гранаты!
Шум и крики в зале нарастали. И тогда Железняков грозно поднял вверх сжатый кулак.
— Тише! Прекратите шум! К порядку, господа! Плохую игру вы затеяли, вызвав сюда этих молодчиков, — указал он на вооруженных юнкеров. — Вы слышите, наш бронепоезд уже открыл огонь!
Зал начал умолкать. Присмиревшие думцы переглядывались испуганно и растерянно.
За стенами здания усилилась перестрелка: это на помощь матросам выступили рабочие.
К утру белогвардейцы были полностью разоружены. И над входом в здание городской думы заалел огромный плакат: «Да здравствует власть Советов!»
В это время в Петрограде назревали крупные события, и правительственным распоряжением балтийцы были возвращены в столицу.
И эти трусы разбежались
Тревога оказалась ложной. Внезапно появившаяся воинская часть прошла мимо, направляясь в сторону морского порта. Постовые сообщили: ничего подозрительного.
Участники конспиративного совещания спрятали оружие и вернулись на свои места. Председатель предоставил слово новому оратору:
— Мы вас слушаем, Абрам Рафаилович, только, прошу вас, потише.
Гоц, один из лидеров правых эсеров, обвел глазами присутствующих и начал решительно:
— Итак, господа, хотя бы и кратко, сформулирую нашу задачу. Нам надо усилить террор против руководителей большевиков. Сегодня мистер Фрэнсис вручил мне довольно солидную сумму денег для поддержки нашей всероссийской боевой дружины. Военная комиссия нашей партии и военный отдел «Союза защиты Учредительного собрания» сообща разработали план восстания. Мы решили начать его 5 января. Якобы в поддержку открытия Учредительного собрания состоится демонстрация. Мы надеемся вывести на улицы Петрограда до ста тысяч человек. Отряды из офицеров и юнкеров займут вокзалы, телеграф, правительственные учреждения. Вызваны нами вооруженные отряды из провинции. Для действий в Таврическом дворце создан отряд особого назначения. Поскольку в Учредительное собрание избраны почти все большевистские руководители, они явятся на первое заседание. Задача особого отряда арестовать…
— И немедленно уничтожить их, — нетерпеливо вставил эсер Сургучев, бывший фронтовой комиссар Временного правительства.
— И последнее, — невозмутимо продолжал Гоц. — В нужный момент подготовленные люди выйдут из рядов демонстрации и предложат от имени народа передать всю власть Учредительному собранию…
Из-за стола встал член военной комиссии Онипко, — в июле 1917 года матросы изгнали его из Гельсингфорса, где он занимал пост военного комиссара Временного правительства при командующем флотом Балтийского моря:
— Будут ли приняты какие-нибудь меры в отношении Ленина?
Руководитель террористической дружины эсеров Паевский вопросительно посмотрел на Гоца:
— Можно ответить?
— Нет, нет! Воздержитесь!.. — Заметив на некоторых лицах присутствующих недоумение, Гоц поспешил оправдаться: — Я прошу не истолковывать мои слова превратно. Мы полностью доверяем всем находящимся здесь. Но есть вопросы, о которых не следует распространяться…
1 января 1918 года, под вечер, Владимир Ильич Ленин вместе со своей сестрой Марией Ильиничной и швейцарским социалистом Платтеном выехали в автомобиле из Михайловского манежа. Там только что закончился митинг, посвященный проводам уходящей на фронт первой регулярной части социалистической армии.
Неожиданно раздался удар в кузов машины. За ним другой, третий. Платтен резким движением руки пригнул голову Ленина. Шофер рванул машину на полный ход. Пули вдогонку впивались в кузов, пронизывая его стенки. Автомобиль был пробит в четырех местах…
ВЧК провела расследование. 2 января члены всероссийской террористической боевой дружины эсеров были арестованы. Планы мятежников, готовившихся силой оружия ниспровергнуть диктатуру пролетариата, были раскрыты.
Для подавления заговора и охраны порядка в день открытия Учредительного собрания был создан Чрезвычайный военный совет.
Таврический дворец, где 5 января должно было открыться Учредительное собрание, подступы к дворцу, район Смольного и другие важные позиции Питера совет поручил охранять морякам. Командовал ими народный комиссар по морским делам П. Е. Дыбенко.
Дыбенко вызвал Ховрина и Железнякова. Объяснил задачу, поставленную перед ними. Подойдя к карте Петрограда, висевшей на стене, он говорил:
— Вот какие пункты займут балтийцы: Таврический дворец — 100 человек; Николаевская академия — Литейная — Кирочная — 300 человек; государственный банк — 450 человек. У Петропавловской крепости будет 4 гидроаэроплана. Таврический дворец за вами. Тебе, товарищ Ховрин, поручается командовать отрядом по охране порядка на подступах к дворцу. А ты, Железняков, расставишь караулы…
— Но где взять столько людей? — спросил Ховрин.
Дыбенко вместо ответа протянул Ховрину текст телеграммы, посланной им на имя Центробалта. В ней говорилось: «Срочно, не позже 4 января, прислать на двое или трое суток 1000 матросов для охраны и борьбы против контрреволюции в день 5 января. Отряд выслать с винтовками и патронами, если нет, то оружие будет выдано на месте. Командующими отрядом назначаются товарищи Ховрин и Железняков».
— Я немедленно выезжаю в Гельсингфорс. А ты, Анатолий, двигай в Кронштадт, — сказал Ховрин.
В ночь с 4 на 5 января Железняков шагал во главе отряда кронштадтцев по торосистой ледовой дороге, проложенной поперек закутанного в молодой снег Финского залива. Впереди уже чернел Ораниенбаум. Ветер доносил оттуда гудки паровозов.
Боясь опоздать к отходу поезда на Петроград, Анатолий дал команду ускорить шаг. Он несколько раз оглядывался на Кронштадт. Мачты военных кораблей, гранитные стенки гаваней и портов, Петроградская пристань — все было знакомым, родным…1 Анатолия охватила какая-то тревожная грусть. Ему казалось, что он навсегда ушел из Кронштадта…
Над Петроградом висело хмурое январское небо. День 5 января 1918 года зарождался в волнении.
Накануне ночью отряды красногвардейцев и матросов разоружили офицерские группы, готовые к утреннему выступлению. Напрасно призывали меньшевики и эсеры к забастовке и демонстрации в честь открытия Учредительного собрания. Питерские рабочие не только гнали с собрания агитаторов из меньшевиков и эсеров, но задерживали и передавали в следственные органы наиболее ярых контрреволюционеров. Всю ночь не сомкнул глаз Дыбенко. Он мчался на автомобиле из одного района в другой, проверяя ход операций по аресту контрреволюционеров. Нужно было встречать моряков.
Пять лет спустя Дыбенко писал об этой ночи: «…На главных улицах Петрограда заняли свои посты верные часовые Советской власти — отряды моряков. Им дан был строгий приказ: следить за порядком в городе… Начальники отрядов — все боевые, испытанные еще в июле и октябре товарищи… Железняков со своим отрядом торжественно выступает охранять Таврический дворец — само Учредительное собрание… Он искренне возмущался еще на 2-м съезде Балтфлота, что его имя предложили выставить кандидатом в Учредительное собрание. Теперь, гордо выступая с отрядом, он с лукавой улыбкой заявляет: „Почетное место займу“. Да, он не ошибся. Он занял почетное место в истории».
…Отряд выстроился у подъезда дворца. В. Д. Бонч-Бруевич, пожимая Железнякову руку, сказал:
— Кровопролитие не нужно рабоче-крестьянской власти. Сумейте вы, сознательные борцы революции, так подействовать на сбитых с толку рабочих и обывателей Петрограда, чтобы они по-братски поняли вас и подчинились распоряжениям законной власти. Но если вы встретите врагов революции пощады им нет, и пусть ваша рука не дрогнет!..
Железняков расставил посты, проверял оружие, указывал, где установить пулеметы, отдавал последние распоряжения.
К Таврическому дворцу, прорезая морозный воздух сиренами, ежеминутно подкатывали автомобили, подлетали с храпом стройные рысаки. Мелькали богатые шубы с меховыми воротниками.
— Кому нужно это собрание? — не выдержал Железняков. — Зачем собирать этих контриков?!
— Ничего. Пусть сами разоблачат себя перед трудящимися, — ответил Анатолию Дыбенко.
…К трем часам дня с высокими сводами круглый зал заседаний бывшей Государственной думы был переполнен. Кроме делегатов сюда пришло много сот «гостей», которых привели с собой представители буржуазных партий.
Рассаживались по традиционному порядку: правые эсеры и кадеты заняли крайнее правое крыло, где при царизме размещались октябристы представители реакционной буржуазии и все черносотенцы. Представители национальных группировок и беспартийные разместились в центре. Большевики и левые эсеры — на крайнем левом крыле.
Хоры были до отказа забиты питерскими рабочими, матросами и солдатами.
Большевистская фракция поручила Я. М. Свердлову как председателю ВЦИК открыть Учредительное собрание и огласить «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Этим должна была подчеркиваться зависимость Учредительного собрания от высшего органа народной власти — Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
Эсеры пытались действовать самочинно. Из рядов, занятых соглашателями, поднялся правый эсер Лордкипанидзе. Он артистически взмахнул рукой, призывая к порядку, и с театральным пафосом начал говорить:
— Граждане! Предлагаю предоставить честь открытия заседания старейшему из собравшихся членов Учредительного собрания!
Быстро пробравшись между шумных рядов, на трибуну взошел седоволосый, с огромной бородой правый эсер Швецов.
Поднялся невообразимый шум. Правая сторона и центр зала аплодировали, а слева и с галереи раздались протестующие крики:
— Долой, самозванцы!
Но вот появился на председательской трибуне Я. М. Свердлов. Властным движением он отстранил Швецова и, когда в зале стих шум, объявил:
— Исполнительный Комитет Советов рабочих и крестьянских депутатов поручил мне открыть заседание Учредительного собрания. Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов выражает надежду на полное признание Учредительным собранием всех декретов и постановлений Совета Народных Комиссаров. Октябрьская революция зажгла пожар социалистической революций не только в России, но и во всех странах. Мы не сомневаемся, что искры нашего пожара разлетятся по всему миру, и недалек тот день, когда трудящиеся классы всех стран восстанут против своих эксплуататоров…
Яков Михайлович после короткой паузы еще громче продолжил свою речь:
— Мы не сомневаемся в том, что истинные представители трудящегося народа, заседающие в Учредительном собрании, должны помочь Советам покончить с классовыми привилегиями…
Раздался бурный взрыв аплодисментов с левой стороны. В рядах остальных фракций царило молчание.
Свердлов продолжал:
— Центральный Исполнительный Комитет выражает надежду, что Учредительное собрание, поскольку оно правильно выражает интересы народа, присоединится к декларации, которую я буду иметь честь сейчас огласить.
Развернув перед собой декларацию, оратор начал читать ее по пунктам…
Пламенные слова документа, написанного Лениным, вызвали огромный подъем среди сторонников Советов.
Контрреволюционное большинство — правые эсеры, меньшевики и кадеты словно онемели.
Закончив чтение, Свердлов объявил Учредительное собрание открытым и предложил избрать председателя. Блок правых эсеров и других контрреволюционных партий получил большинство голосов.
Председателем был избран лидер правых эсеров Чернов. Началось конструирование президиума.
Дыбенко, избранный, как и Ленин, делегатом Учредительного собрания от моряков Кронштадта, послал Чернову записку с предложением избрать Керенского и Корнилова секретарями президиума. Чернов, не поняв насмешки балтийца, развел руками и несколько удивленно заявил: «Ведь Корнилова и Керенского здесь нет».
Когда закончились выборы президиума, Чернов разразился полуторачасовой речью, излив в ней всю горечь и обиды, нанесенные большевиками многострадальной «демократии». В заключение своего словоизвержения он предложил почтить вставанием память тех, «кто пал в борьбе за Учредительное собрание».
В. И. Ленин так передал свои впечатления об этом беснующемся сборище врагов народа: «После живой, настоящей, советской работы, среди рабочих и крестьян, которые заняты делом, рубкой леса и корчеванием пней помещичьей и капиталистической эксплуатации, — вдруг пришлось перенестись в „чужой мир“, к каким-то пришельцам с того света, из лагеря буржуазии и ее вольных и невольных, сознательных и бессознательных поборников, прихлебателей, слуг и защитников…
Это ужасно! Из среды живых людей попасть в общество трупов, дышать трупным запахом, слушать тех же самых мумий „социального“, луиблановского фразерства, Чернова и Церетели, это нечто нестерпимое».[8]
…Заседание продолжалось.
Контрреволюционно настроенное большинство Учредилки отвергло предложение утвердить декреты Совнаркома. Посланцы буржуазии отказались даже обсуждать «Декларацию», показав этим самым свои подлинные контрреволюционные цели. Большевики покинули Учредительное собрание.
Прилегающие к Таврическому дворцу улицы огласились громкими криками. Приближалась демонстрация из эсеровских дружинников, уцелевших от арестов, буржуазной части студенчества, чиновников — членов партий кадетов, эсеров и меньшевиков. Они с бранью, визгом быстро заполнили Литейный проспект. Над пестрыми рядами колыхались зелено-розовые, желтые и белые знамена, плакаты с кадетскими, меньшевистскими и эсеровскими лозунгами.
Железняков окинул взглядом демонстрантов. Ему показалось, что он видит запомнившиеся на всю жизнь лица Сохачевского, Митрофанова… Враги революции! Они были и его личными врагами! Эх, если бы можно было скомандовать дать залп, смести с лица земли эту шваль. Но… нельзя! Приказано не допускать кровопролития. Железняков быстро взобрался на высокую каменную тумбу.
— Внимание!
Его голос утонул в криках толпы.
Железняков повысил голос:
— Внимание!.. Тише!..
Демонстранты постепенно стали умолкать. Выждав немного, Железняков внушительно объявил:
— Прошу не задерживаться и немедленно очистить улицу!
В ответ на это раздались возгласы:
— Не уйдем! Мы приветствуем избранников народа!
— Долой большевиков!
— Да здравствует Чернов!
В воздух угрожающе поднялись трости и кулаки. Громче прежнего, тоном, не терпящим возражений, Железняков категорично потребовал:
— Разойдись!
Толпа надвигалась на него еще более угрожающе. Раздались новые выкрики:
— Разбойники!
— Насильники!
Железняков обратился к стоявшему рядом с тумбой Ховрину:
— Ну что ж, придется… — Железняков не договорил, так как Ховрин понял его мысль и скомандовал матросам, стоящим за решеткой, окружающей Таврический дворец:
— В ружье, товарищи, за мной!
Визжа, ругаясь, толкая друг друга, сбивая с ног, демонстранты бросились врассыпную.
Но через несколько минут мостовая снова заполнилась толпой. Эсеровские дружинники начали стрелять из револьверов.
Матросы рассыпались вдоль ограды, приготовившись к решительному отпору. В их адрес раздавались угрозы, оскорбления.
— Предупреди их еще раз, — сказал Ховрин Анатолию.
Железняков снова поднялся на высокую тумбу:
— Господа! Последний раз требую: разойдись!
И снова сквозь шум и гам донесся чей-то истеричный голос:
— Чего смотреть? Бей его!
Убедившись, что уговорами здесь не возьмешь, Ховрин, заранее предупредивший бойцов, громко скомандовал:
— По врагам революции… пли!
Грянул залп… в воздух.
Улица загудела от панического рева. Демонстранты бросились бежать в разные стороны, топча и разрывая свои знамена и плакаты, оставляя на мостовой шапки, галоши, муфты…
На совещании большевистской фракции Ленин сообщил о решении Центрального Комитета. Все большевики депутаты должны отказаться принимать участие в работе Учредилки и уйти из зала на хоры.
— Правильно, Владимир Ильич! — единодушно одобрили члены фракции.
…Была уже поздняя ночь.
Заседание Учредительного собрания возобновилось речью меньшевика Скобелева, бывшего министра труда, который вместе с другими членами Временного правительства был арестован, а затем освобожден Советским правительством.
За ним выступил эсер Тимофеев. Полились потоки антисоветской грязи.
Представитель фракции большевиков взял слово для очередного заявления. Поднявшись на трибуну, он огласил написанную Лениным декларацию фракции РСДРП (большевиков). Громом аплодисментов встретили собравшиеся на хорах рабочие, солдаты и матросы заключительные слова декларации: «Не желая ни минуты прикрывать преступления врагов народа, мы заявляем, что покидаем Учредительное собрание с тем, чтобы передать Советской власти окончательное решение вопроса об отношении к контрреволюционной части Учредительного собрания».[9]
Покинули зал и левые эсеры. Они долго колебались, прежде чем приняли это решение. Ненадежные попутчики были у нашей партии.
Среди матросов все больше и больше росло озлобление против болтовни контрреволюционных депутатов, порочивших завоевания молодой Советской республики.
Дыбенко отдал приказ караулу закрыть заседание Учредительного собрания.
О настроении матросов сообщили Ленину. Обеспокоенный, он прислал в ночь с 5 на 6 января предписание:
«Предписывается товарищам солдатам и матросам, несущим караульную службу в стенах Таврического дворца, не допускать никаких насилий по отношению к контрреволюционной части Учредительного собрания и, свободно выпуская всех из Таврического дворца, никого не впускать в него без особых приказов.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)».[10]
Твердо помня это указание Владимира Ильича, Железняков обходил помещения Таврического дворца, поднимался на хоры, заглядывал за кулисы, проверял посты. Но чем больше затягивалась контрреволюционная говорильня, тем напряженнее становилась обстановка и возмущение матросов все нарастало.
Шел третий час ночи. С очередного объезда города вернулся оживленный, довольный установленным порядком в столице Дыбенко.
— Товарищ Дыбенко, — обратился к нему Железняков. — Матросы устали, хотят спать, как быть?
— Сейчас заседает Совнарком, как раз решается вопрос о роспуске Учредилки. Как только народные комиссары уйдут из дворца, разгоняй всю контру!
Железняков снова обошел посты и поднялся на хоры. Прислонившись к одной из колонн, он смотрел вниз. Кто-то коснулся плеча Анатолия. Он обернулся. Перед ним стоял Ховрин.
— О чем думаешь, Анатолий? — спросил он.
— Вот о них, кто хочет отобрать у нас власть! — зло сказал Железняков, показывая на сцену, где за огромным столом, важно развалившись в председательском кресле, сидел Чернов. Очередной оратор изощрялся в клевете на Советскую власть и партию большевиков.
— Руки коротки! — отрезал Ховрин.
— Это верно! Но вот все-таки болтают. Как ты думаешь, сколько нам еще можно их терпеть?
Вместо ответа Ховрин спросил:
— Что решил Совнарком?
— Вопрос о роспуске этого сборища, кажется, решен окончательно… ответил Железняков.
— Где товарищ Ленин? — снова спросил Ховрин.
— Владимир Ильич уехал. Вот оставил предписание. Теперь вопрос — как их выкурить отсюда?
Анатолию вспомнилось, как после разгрома рабочего клуба на даче Дурново Чернов заявил в печати: «Солдаты хотели только восстановить порядок».
«Что ж, надо и здесь „только восстановить порядок“», — мысленно решил он.
Было 4 часа 20 минут утра. Железняков обошел посты, еще раз напомнил матросам директиву Ленина не позволять никаких насилий над делегатами и твердой поступью вошел в огромный, ярко освещенный зал дворца, прошел мимо рядов, поднялся на трибуну. Он подошел к Чернову, положил ему на плечо свою сильную руку и громко сказал:
— Прошу прекратить заседание! Караул устал и хочет спать…
Произносивший в это время с большим пафосом свою речь левый эсер Фундаминский застыл на полуслове, уставив испуганные глаза на вооруженного матроса.
Придя в себя после минутной растерянности, охватившей его при словах Железнякова, Чернов закричал:
— Да как вы смеете! Кто вам дал на это право?!
Железняков сказал спокойно:
— Ваша болтовня не нужна трудящимся. Повторяю: караул устал!
Из рядов меньшевиков кто-то крикнул:
— Нам не нужен караул!
Перепутанный Чернов что-то начал торопливо говорить секретарю Учредительного собрания Вишнякову.
В зале поднялся шум. С хоров раздались голоса:
— Правильно! Долой буржуев!
— Хватит!
Слыша эти ободряющие возгласы, Железняков понимал, что, разгоняя сборище врагов, он выполняет волю трудового народа, и это ему прибавило сил и уверенности.
Чернов трясущейся рукой схватился за председательский звонок и, когда шум немного стих, напыщенно произнес, обращаясь к Железнякову:
— Все члены Учредительного собрания также очень устали, но никакая усталость не может прервать оглашения того земельного закона, которого ждет Россия…
С хоров снова раздались возмущенные голоса матросов, солдат и рабочих:
— Опоздали! Земля уже давно без вас роздана крестьянам! Довольно!
Железняков не отступал:
— Повторяю еще раз: караул устал и хочет спать. Прошу подчиниться законной власти! Немедленно очистить зал!
Своды дворца наполнились диким гвалтом. Сотни людей стучали ногами, грохотали деревянными пюпитрами, надрывно ревели:
— Насильники!
— Бандиты!
С хоров кричали матросы и красногвардейцы:
— Контрреволюционеры!
— Буржуям продались!
Стрелки часов показывали ровно 4 часа 40 минут утра.
Обращаясь к бушующему залу, Чернов испуганно прокричал:
— Объявляю перерыв до 5 часов вечера!
Покидая председательскую трибуну, он бросил с пафосом:
— Подчиняюсь вооруженной силе! Протестую, но подчиняюсь насилию!
Через несколько минут Таврический дворец был пуст. Железняков проверил караулы и закрыл все. двери.
Над Петроградом начинался рассвет нового дня.
10 января. Под сводами Таврического дворца открылся III Всероссийский съезд Советов.
Победно гремит «Интернационал».
Открывший заседание съезда Яков Михайлович Свердлов в своей вступительной речи отметил огромное революционная значение роспуска Учредительного собрания и предоставил слово для приветствий. От имени революционного гарнизона Петрограда съезд приветствовал матрос Железняков.
Анатолий долго не мог начать свою речь. Зал гремел приветствиями.
— У революционной армии и флота, — громко чеканил слова Железняков, у всех «чернорабочих революции» еще не заржавели винтовки и хватит сил для того, чтобы задушить капитализм, довести революцию до конца и одержать всемирную победу над угнетателями!
Он подробно рассказал, как он «распустил» Учредительное собрание.
— Когда для нас стало ясно, что другого выхода нет, мы вошли в зал и потребовали разойтись, «ибо мы устали». И эти трусы разбежались!..
Если бы потребовалось применить против врагов революции оружие, у нас не дрогнула бы рука! Чтобы защитить власть Советов, мы готовы на все!..
25(12) января 1918 года «Правда» писала: «В вдохновенной речи своей т. Железняков приветствует истинных борцов за социализм в лице данного собрания и посылает призыв западному пролетариату бороться так же, как боролись, борются и еще будут бороться те, кого обнаглевший ставленник буржуазии осмелился назвать взбунтовавшимися рабами».
Съезд устроил Железнякову овацию. Раздавались возгласы:
— Да здравствует революционный флот! В ответ на это Железняков громко воскликнул, обращаясь к переполненному залу:
— Да здравствует непобедимая революционная армия рабочих и крестьян!
Не было более счастливой минуты в жизни балтийца. Он видел, что вместе со всем народом ему аплодировал Владимир Ильич Ленин.
Словом и маузером
Это заседание Совета Народных Комиссаров состоялось 11 января 1918 года. Спровоцированная Америкой, Англией и другими странами Антанты, боярская Румыния без всяких поводов со стороны России в течение многих месяцев устраивала военные провокации.
Советское правительство приняло ряд мер для предотвращения войны с боярской Румынией, но король Фердинанд, прозванный своими соотечественниками Лопоухий, не унимался. Румынская монархия, пытаясь спасти себя, своих помещиков и банкиров, открыла военные действия против Советской республики. Совнарком выдвинул предложение: создать Верховную коллегию по борьбе с румынской олигархией и направить ее в Одессу с правом решения на месте вопросов внешней политики. В состав этой коллегии вошел и Железняков. Вместе с коллегией решено было послать вооруженный отряд моряков для охраны. Возглавил его член коллегии Железняков.
Торопливо отстукивая версты, специальный поезд мчался к Одессе. В последний раз Железняков этой дорогой ехал к Черному морю в ноябре 1916 года. Тогда у него в кармане лежал фальшивый паспорт. Теперь правительственный мандат. Анатолий был горд этим. Из соседнего купе слышались шутки, споры и смех балтийцев из его отряда. И конечно, многие вспоминали своих товарищей.
— Разошлись ребята по стране, как по океану, — сказал кто-то.
«Да, где только нет сейчас наших балтийских матросов, — подумал Анатолий. — Одни сражаются с гайдамаками на Украине, другие охраняют Смольный, третьи создают большевистские Советы по городам и селам. А многих уже нет в живых».
Сжалось сердце. Два дня назад он узнал, что в городе Яссы бывший царский генерал Щербачев убил Семена Рошаля. Щербачев командовал тремя советскими армиями на Румынском фронте, но, изменив Советской власти, он заключил союз с буржуазной Центральной Украинской радой и с руководителями боярской Румынии, которая захватила Бессарабию и готовилась форсировать Днестр, угрожая Одессе и другим городам молодой Советской республики…
Вот и Севастополь.
Но задерживаться здесь было нельзя. Из Одессы шли тревожные вести: интервенты и белогвардейцы приближались к городу.
— Разрешите мне сейчас не ехать в Одессу, — выступил Железняков на заседании коллегии, — а прямо в Измаил. Там враги могут отрезать Дунайскую флотилию, и погибнут тысячи солдат, ждущих эвакуации по реке.
— Предложение ваше правильное, товарищ Железняков, — сказал председатель. — Поезжайте туда и действуйте от имени коллегии…
К середине января 1918 года в Измаиле скопилось несколько тысяч революционных матросов и солдат, много военного имущества 6-й армии. Единственный путь к морю — вниз по реке — был под угрозой. Захватчики уже подбирались к порту Килия — ниже Измаила.
Прибыв в Измаил, Железняков немедленно приступил к организации спасения людей и ценного военного имущества, принадлежащего Советской России. Последние баржи в сопровождении канонерских лодок «Кубанец» и «Терец» покинули Измаил, когда враги уже ворвались в город со стороны Белграда и Рени.
Ниже по реке, между Измаилом и Килией, путь был прегражден румынскими мониторами. На острове, разделявшем реку на два русла, укрепилось свыше тысячи вражеских пехотинцев. Орудия и пулеметы были наведены на русскую флотилию.
— Прорвемся, товарищи! — раздался громкий призыв Железнякова, стоявшего на носу «Кубанца».
Несмотря на то что русская флотилия была слабее оснащена, она нанесла большой урон белорумынскому отряду. Были выведены из строя несколько катеров и монитор «Катарджи».
Ободренный такими смелыми действиями русских, румынский революционный комитет во главе с матросом Георге Строич и рабочим-судостроителем Греча организовал в Килии антивоенное выступление. Восставшие захватили корабли «Северин», «Браила» и ряд других, подняв на них красные флаги. У офицеров были сорваны погоны. Хотя потом королевские жандармы с помощью белогвардейцев и подавили восстание, но многие румынские комендоры в дальнейших боях отказывались стрелять по советским кораблям.
Положение на Дунае оставалось угрожающим. В поисках вооруженных сил Железняков срочно выехал в Севастополь, там открывался 2-й общечерноморский съезд моряков. Черноморцы постановили: выделить силы для совместного участия в наступлении советских войск против боярской Румынии.
На съезд приехали делегаты революционных команд румынских кораблей, находившихся с начала 1917 года в Одессе, Севастополе, Николаеве и других портах.
— Наш флот, — заявили румынские делегаты, — присоединился к революционной борьбе. Над нашими кораблями реют красные знамена, и теперь эти корабли ходят под новыми названиями. Нет больше «Императора Трояна», есть «Социалистическая революция». Была «Принцесса Елена» — теперь «Освобождение». «Перекрещены» и многие другие корабли.
Все румынские корабли, находящиеся во всех русских портах Черного моря, как военные, так и коммерческие, съезд постановил считать у боярской Румынии конфискованными.
Из Севастополя Железняков срочно отправился в Одессу. Председатель Верховной коллегии ознакомил его с телеграммой В. И. Ленина:
«…Действуйте как можно энергичнее на Румынском фронте…»[11]
Бои шли на дальних подступах к Одессе. Враги тщетно пытались форсировать Днестр. По призыву одесских большевиков свыше 10 тысяч рабочих вступили в сформированную Особую, позже переименованную в 3-ю Украинскую, армию. Свыше 5 тысяч румын вступили в батальон Красной Армии. Стоявший в Одессе корабль «Дуростер» стал штабом революционных военных моряков, а в здании бывшего румынского консульства разместился штаб революционных пехотных частей.
Вместе с председателем коллегии Железняков часто посещал оба штаба, выступая перед солдатами. Он очень близко сошелся с руководителями румынского ревкома Георгием Строичем, Ионом Мунтяну и Бужаром.
17 февраля на Румынский фронт прибыли советские войска, разгромившие в Киеве контрреволюционные банды Центральной Рады.
18 февраля в Одессе была получена телеграмма из Москвы, в которой сообщалось, что ввиду серьезного положения на русско-румынском фронте и необходимости экстренной поддержки революционных отрядов Бессарабии главнокомандующий Муравьев и его Северная армия причисляются в распоряжение Верховной коллегии.
Отряды приднестровских и придунайских партизан удерживали большой плацдарм в Приднестровье. Дунайская флотилия пополнилась несколькими небольшими миноносцами Черноморского флота, что дало возможность высадить десант, отвлекший большие силы белорумын с основных участков фронта.
Войска Особой и Северной армий форсировали Днестр и вклинились в глубь южной Бессарабии. В Тирасполе наши войска форсировали Днестр и продвигались к западу, ближе к Яссам.
Но уже тянулись с запада полчища кайзеровской Германии, готовясь оккупировать Советскую Украину… Немецкие войска начали наступление по всему фронту — от Балтийского до Черного моря. На всю страну разнеслись призывным набатом ленинские слова:
«Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности. До того момента, как поднимется и победит пролетариат Германии, священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита республики Советов против полчищ буржуазно-империалистической Германии».[12] На этот призывный клич рабочий класс ответил усиленным формированием частей Красной Армии.
Немецкое командование рассчитывало, что двинутые на Украину 33 дивизии пройдут от Западного Буга до Дона за 15 — 20 дней, потребовалось им на это около трех месяцев. Потери исчислялись тысячами отборных солдат и офицеров.
28 февраля 1918 года в Одесском городском цирке шло объединенное заседание Совета с представителями от воинских и морских частей, а также предприятий города.
На трибуне, позвякивая шпорами, метался высокий военный. Неестественно ярко горели его глаза. Это был командующий фронтом, левый эсер, бывший полковник Муравьев.[13]
— Режим буржуазии, режим Керенского пал под моим ударом, — вопил Муравьев. — Я стал с того момента безостановочно бороться против буржуазных выступлений и вспышек. Русская революция, подобно Христу, появилась с Востока. На нее смотрит весь мир. Мы — Мессия, мы — Христос, от которого ждет спасения мировой пролетариат.
Я Одессу ни за что не отдам! Я не оставлю камня на камне в этом прекрасном городе. В пепелище я превращу это великолепное здание театра… Да здравствует всеобщий бунт, всеобщий мятеж, ведущий к III Интернационалу, к его победе и счастью.
Меньшевики и эсеры говорили о том, что нельзя разрушать Одессу, лучше объявить город отделившимся от Советской республики, тогда его минует война.
Это предательское предложение меньшевиков и эсеров вызвало у присутствующих бурю протеста. Когда шум и крик немного улеглись, слово получил Железняков. Около двух тысяч людей, собравшихся в цирке, слушали его с напряженным вниманием. Последние слова речи прозвучали как святая клятва:
— Нас, балтийцев, в Одессе всего лишь 15 человек. Но если весь остальной флот не пойдет с нами защищать Советскую власть, то мы выпустим все патроны по врагам, а последними убьем себя… Если красный флаг гордо поднялся, то он не может упасть… 51 революционер, и для меня есть только один исход — или победа, или смерть. Если нужно будет, мы пойдем сражаться босыми и кинем проклятье Одессе, если она не пойдет за нами…
«Бурные аплодисменты собрания приветствуют прекрасную истинно революционную речь тов. Железнякова», — писала большевистская газета «Голос революции» в отчете о заседании.
На следующий день в Новом театре состоялось собрание моряков Одесского порта. Трибуну занял матрос Железняков. Одесские газеты от 2 марта 1918 года приводят его выступление: «Закончилась годовщина нашей революционной борьбы, и мы уклонились от наших прямых обязанностей и, считая, что революция достаточно закреплена, впали в безмерную спячку. Но это ошибка! Мы переживаем эпоху, подобную французской революции, когда французская буржуазия вместе с Германией уничтожила Коммуну. Также в России гайдамаки вместе с австрийцами и германцами напали на нас, дабы уничтожить революцию. Они заняли Киев для того, чтобы отрезать нас от севера. Перед нами одна проблема — победить или умереть. И вот поэтому, чувствуя, что нам придется пережить, я призываю вас организовать отряды и стойко бороться за свою Родину и революцию… Я знаю, что нам, балтийцам, грозит большая опасность, чем вам… Мы, балтийцы, как шедшие в авангарде революции, будем расстреляны раньше вас. Но нам смерть не страшна, ибо мы боролись за прекрасную мечту — за революцию. Нас вспомнит поколение».
Моряки-черноморцы создали под командованием Железнякова большой отряд, готовый в любой момент выступить навстречу врагу.
В начале марта из Севастополя нагрянул в Одессу матросский отряд, именовавшийся «Смерть», во главе с анархистом Косисимовым. Отряд самовольно занял гостиницу «Бристоль» и начал буйствовать. Главари отряда, увешанные с ног до головы оружием, явились в штаб Железнякова с ультиматумом:
— Требуем не препятствовать нам! Через три дня мы отправимся на фронт, а сегодня будем ликвидировать одесскую буржуазию…
Начальник штаба большевик Петр Зайцев, близкий друг Железнякова, резко ответил:
— Знаем, слыхали, чем вы занимались в Севастополе!
Косисимов ответил с бахвальством:
— Да, мы устроили там хорошую варфоломеевскую ночь…
— Убили многих ни в чем не повинных людей, запятнали флот! — гневно оборвал его Зайцев.
— Молчать! — ударил Косисимов кулаком по столу.
Возмущенный наглым поведением распоясавшегося анархиста, Зайцев выхватил наган и крикнул:
— Под прикрытием борьбы с буржуазией вы хотите грабить Одессу, вонзить нож в спину революции!
Вожаки анархистов схватились за свои маузеры.
Услышав шум, в комнату влетел Железняков.
— Убрать оружие! — тоном, не терпящим возражений, потребовал Железняков.
Анархисты на секунду пришли в замешательство. Они впервые видели этого смелого и решительного человека в матросской форме.
— А кто ты есть такой, чтобы приказывать нам? Мы, анархисты, не признаем никаких приказов! — заявил Косисимов.
— Ребята, — переменил тон Анатолий, — прекратите безобразие. Будьте настоящими моряками… Вам надо немедленно, сегодня, отваливать на фронт!
— Не пойдем! Требуем три дня свободы! Надо кровь пустить контре! А потом двинем на немецких сволочей. Не перечь нам! — упорствовали главари анархистов.
Тогда Железняков заговорил строже:
— Сейчас же едем в ваш отряд! Поговорим там с «братишками». «Не может быть, чтобы весь отряд был заражен анархизмом, — думал он. — Собралась кучка вроде этих и мутят воду»,
Переполненный вооруженными матросами большой зал гостиницы «Бристоль» тонул в густом табачном дыму.
Косисимов открыл собрание. Охрипшим голосом он бросал в лицо Железнякову разные оскорбления. Он говорил о Железнякове, что он «продался» буржуазии и пытается «втереть очки».
— Мы есть действительный отряд международной борьбы со всякой контрой, — шумел Косисимов. — И можем ли мы, братишки, спокойно глядеть вот на таких паразитов, как этот, — указывал он на Анатолия, — да еще в нашей матросской робе?!
Из зала кто-то крикнул:
— Фактура! Не можем!
Косисимов повернулся к Железнякову:
— Слыхал?
Кто-то еще буркнул:
— Танцуй, буржуй!
Железняков шагнул к краю сцены:
— Товарищи черноморцы! Прошу внимания!
Косисимов окинул взглядом густо прокуренный зал, моргнул своим сообщникам:
— А ну, послухаем, братишки, что отольет нам этот защитник одесских буржуев.
В беспорядочном гвалте голосов несколько минут ничего нельзя было разобрать.
Анатолий стоял в выжидательной позе.
— Товарищи! — крикнул он. — Прошу внимания!
Огромного роста детина, густо опутанный пулеметными лентами, продрался сквозь ревущую толпу к подмосткам и, потрясая увесистым кулаком, заорал:
— Да кто ты есть, что мы тебе должны внимание наше давать? — обратился он к Железнякову.
Из толпы подбросили:
— Документ покажи!
— Правильно! Документ давай!
Железняков вынул из бушлата старый, помятый бумажник и вытащил из него плотно сложенный лист бумаги со штампом и печатью Совнаркома.
— Нате! Читайте! — гневно выкрикнул он.
Из зала крикнули:
— Пономарчук, читай!
Матрос, который еще несколько минут назад потрясал перед Железняковым кулаком, поднялся на сцену. Он долго и сосредоточенно всматривался в текст мандата и, когда в зале наступила напряженная тишина, медленно, по складам наконец произнес:
— Совет Народных Комиссаров. — Обращаясь в зал, он крикнул: — Перед нами есть действительный военный моряк Балтики, красный матрос революции товарищ Железняков! Понятно?
Зал молчал. Главари растерянно суетились на сцене.
Отряд снова зашумел. Но теперь послышались возгласы:
— Говори, Железняков!
— Давай, закручивай!
— Вот послухаем — тогда решим, кто ты!
Железняков убедительно разъяснил матросам, кому на руку провокация, на которую их толкают.
И из зала уже неслось: «Даешь фронт!»
На следующий день большинство матросов из отряда Косисимова влилось в отряд Железнякова.
Обсуждая создавшуюся обстановку в отряде, Зайцев сказал:
— Нам предстоит не сегодня-завтра сразиться с сильным, крепко вооруженным противником. Бойцов у нас достаточно. Больше полка. А какое у нас вооружение? Пулеметы, винтовки да гранаты. Надо срочно приобрести для отряда хотя бы одну бронеплощадку с орудием.
— Найдем! — уверенно воскликнул Анатолий. — В Одесском порту стоит несколько старых пульмановских вагонов, переоборудуем их.
— Теперь нужно было достать хотя бы одно орудие. Железняков явился на крейсер «Алмаз», стоявший на рейде, собрал матросов и обратился к ним:
— Братишки, выручайте! Дайте одно из дальнобойных орудий с вашего корабля.
Двое суток бойцы отряда Железнякова совместно с командой черноморцев работали по установке орудия на бронеплощадке и возведению защитных стен из мешков, наполненных песком и камнями.
— Порядок! — радостно потирал руки Железняков, любуясь своей крепостью на колесах, и разъяснял матросам, кому и как надо будет действовать.
Штаб армии расположился на станции Выгода — в 40 километрах от Одессы. Отряд под командованием Железнякова разместился на узловой станции Бирзула — в 180 километрах от Одессы.
Вскоре от главнокомандующего армиями Украины поступила телеграмма: «Выгода Раздельная копия Бирзула наркому Железнякову и начвойск Онуфриеву:
Ввиду заключения длительного перемирия с румынами, вы имеете возможность, оставив наблюдательные отряды за румынской армией, остальными силами перейти в наступление против австро-германцев в том случае, если они сами перейдут. Ввиду заключения мира с германцами, приказано занимать позиции, на которых застало перемирие; раз они наступают, то давать им отпор смелым контрнаступлением».
Направляясь полным ходом на передний край фронта и миновав станцию Бирзулу, балтийцы увидели шедший им навстречу немецкий бронепоезд. Окутанный густым дымом, он по сравнению с бронепоездом железняковцев казался гигантским чудовищем. Но Железняков не растерялся. Он дал приказ открыть огонь по врагу. Орудие с крейсера «Алмаз» оказалось дальнобойнее пушек оккупантов и украинских белогвардейцев. А главное, что комендоры-моряки стреляли более метко, чем артиллеристы противника. В результате короткого сражения немецкий бронепоезд, получив несколько попаданий снарядов, начал быстро уползать к северу от Бирзулы.
Вернувшись на станцию, Железняков встретил Зайцева, который ему сообщил о том, что получен приказ от командования 3-й Украинской армии.
— Какой приказ? — спросил Анатолий.
— Ты назначен командующим Бирзульским тылом.
— Какой же это тыл? — удивился Железняков. — Немецкие эшелоны в десяти километрах от станции…
— Но ты хорошо знаешь, что район Бирзула — Слободка — Балта прикрывает армию с запада. В приказе также сообщается, что в твое распоряжение поступает броневик Полупанова, кавалерия сиверцев. Все это нам придется двинуть в контрнаступление… — медленно, как бы обдумывая что-то, сказал Зайцев,
В штабном вагоне собрались все командиры отрядов, подчиненных Железнякову.
— Нам предстоят тяжелые бои, — говорил Железняков. — Прошло время, когда войска сидели месяцами в окопах. Теперь нужно вести маневренную войну. Устраивать засады, взрывать пути, тревожить врага с тыла…
Контрнаступление началось успешно. Тесня противника, советские войска заняли железнодорожные станции Борщи и Слободка.
С радостью узнавали солдаты 3-й Украинской армии вести с разных флангов фронта: из Балты были выбиты гайдамаки, во время боев под Слободкой был сильно поврежден германский поезд. В бою под Бирзулой 7 марта оккупанты потеряли около 1000 солдат.
Однако скоро пришлось отступать. 52-й германский корпус, свободно прошедший через румынскую границу, заходил советским войскам в тыл. Но напрасно надеялись немецкие генералы устроить нашим войскам западню. Со стороны Одессы на выручку своим товарищам шли новые отряды.
Надо было срочно уходить из района Бирзулы, чтобы проскочить к Одессе,
Железняков собрал железнодорожников узла:
— Я хочу напомнить вам, товарищи, слова декрета Совнаркома: «Социалистическое отечество в опасности». Товарищ Ленин требует: всеми силами воспрепятствовать врагу воспользоваться аппаратом путей сообщения; при отступлении уничтожать пути, взрывать и сжигать железнодорожные здания.
Когда отряд Железнякова покидал Бирзулу, там не оставалось ни одной годной стрелки, ни одного целого моста, телеграфные аппараты были сняты и увезены в Одессу, связь всю разрушили.
На станции Раздельная Железняков встретился с командиром румынского революционного батальона, выступавшего против немцев, — Ионом Мунтяну.
Он крикнул ему:
— Буна домниаца, товарищ Ион!
— Какое сейчас утро, товарищ Анатолий? Сейчас кругом ночь.
Со всех сторон двигались к станции враги. Орудие бронепоезда молчало не было снарядов. На исходе были и патроны. Советские отряды поднялись для штыковой атаки. Железняков бежал рядом с Ионом Мунтяну. «Блестаматуле кайзер (проклятый кайзер)!» — кричали румынские солдаты и моряки, вырываясь вперед. Ион Мунтяну что-то хотел сказать Железнякову, но упал навзничь, простроченный пулеметной очередью. Среди бойцов отряда Железнякова, а также румынских солдат и матросов в этом бою было много раненых.
Прощаясь с товарищами, Железняков говорил им:
— Дела, братухи, никуда не годные. Приказано эвакуировать Одессу. Но ничего, всех буржуев все равно раздавим! И Советскую власть отстоим! Не падайте духом, друзья!
Председатель Одесского краевого совнаркома питерский металлист Петр Старостин сказал Железнякову:
— Мы поручаем вам выполнить очень важное задание. В Николаеве нужно взять из Морского управления несколько десятков пудов очень ценного груза. Идите в порт, там сейчас заканчивается погрузка на транспорт «Бештау», который пойдет в Николаев. Прихватите с собой красногвардейцев на помощь.
— Есть! — ответил Железняков. В Николаеве у причала морского полуэкипажа стояли миноносцы «Лейтенант Шестаков» и «Лейтенант Зацаренный». При помощи матросов с «Бештау» их быстро догрузили.
— Можете отправляться в Севастополь, — сказал Железняков капитану транспорта «Бештау».
Немедленно приступил Железняков еще к одной, не менее важной операции. В порту стояли миноносцы, которые не могли уйти из Одессы из-за отсутствия топлива. Железняков помог командам этих кораблей достать несколько десятков кулей брикетов. Этого достаточно было, чтобы миноносцы дошли до Севастополя. На одном из них добрался сюда и Железняков. Через несколько дней он выехал в Москву, где находилось Советское правительство.
— Очень кстати прибыли, товарищ Железняков, — радостно встретил его заместитель народного комиссара по морским делам. — Вам надо немедленно ехать в Кронштадт, к главному комиссару Балтфлота товарищу Флеровскому.
Выйдя от комиссара, Железняков неожиданно встретился с Васо Киквидзе. Познакомился он с ним еще в Харькове, после боев под Белгородом. Киквидзе был из тех людей, кто с юношеских лет безраздельно отдал себя революционной работе, за это его неоднократно подвергали арестам. Октябрьская революция застала его на Юго-Западном фронте. Вчерашний рядовой солдат стал заместителем председателя ревкома одного из армейских соединений.
— Толья, дорогой! — обрадовался Киквидзе. — Ах как ты мне нужен сейчас! Не представляешь, как нужен! — И он подробно рассказал о полученном задании срочно выехать в Поволжье для организации воинской части, которая должна принять участие в обороне Царицына. — Будем вместе громить беляков! Согласен?
— Насчет беляков согласен! Но только я сейчас получил направление на Балтику. Там тоже что-то неладно…
Передовая часть балтийских моряков, называемая «красой и гордостью революции», сражалась на многочисленных фронтах гражданской войны против иностранных интервентов и русских белогвардейцев. В это время в ряды флота проникло много меньшевиков, эсеров, анархистов. Умело играя на трудностях, переживаемых Советской Россией, они вместе с предателями из командования усиливали свое влияние на молодых моряков, еще не осознававших глубоко стоящих перед ними задач по борьбе за укрепление Советской власти. Среди части флота зрело контрреволюционное восстание.
Первой выступила Минная дивизия.
Специально подобранное делегатское собрание этого крупного соединения Балтфлота, возглавляемое офицерами Лисаневичем и Засимуком, 11 мая вынесло резолюцию, требующую свержения Советской власти и созыва Учредительного собрания.
Комиссара Балтфлота Флеровского делегаты постановили не признавать.
На запрос Москвы, почему не выполняется требование о немедленном увольнении из флота Засимука и Лисаневича, участник заговора начальник морских сил Щастный послал издевательский ответ, в котором говорилось, что якобы «типография при штабе командования настолько мала, что запаздывает с печатанием приказов».
Вскоре Щастный был арестован, но шайка Лисаневича и Засимука продолжала открыто вести контрреволюционную агитацию и требовала освободить его. На митинге, устроенном сторонниками заговорщиков, не давали говорить большевикам и сорвали выступление А. В. Луначарского. С Минной дивизии антисоветский заговор перекидывался уже на корабли других соединений.
Коммунистической партией были срочно мобилизованы силы для решительного разгрома пособников контрреволюции.
Рано утром 2 июня полным ходом к Кронштадту подходил миноносец. На мачте его развевался флаг главного комиссара Балтийского флота.
В кают-компании находились Флеровский и Железняков.
Через несколько часов должно было состояться общебазовое собрание представителей от всех команд кораблей и береговых частей Кронштадта. Это собрание должно было обсудить создавшееся положение в связи с антисоветскими выступлениями группы Засимука и Лисаневича.
— Надеюсь, товарищ Железняков, — сказал Флеровский, — что твое выступление на этом собрании сыграет определенную роль. На Балтике любят тебя.
После выступления главного комиссара флота Флеровского и других уже известных на Балтике политических деятелей — Ховрина, Сладкова и Громова участники собрания разделились на два лагеря. Многие поняли, на какой гибельный путь их толкали враги Советской власти, и в своих выступлениях стали поддерживать требования Флеровского — осудить антисоветские действия эсеров из Минной дивизии. Но некоторая часть представителей кораблей продолжала выступать с контрреволюционными речами. Когда Флеровский попытался выступить вторично, то сторонники Щастного и его банды не дали ему высказаться. Железняков решительно встал.
— Разрешите мне, товарищ Флеровский, сейчас выступить.
Балтиец подошел к самому краю подмостков, поднял руку:
— Тише! Замолчите!
В зале постепенно начала воцаряться тишина.
— Не говорить, а стрелять надо бы здесь! — уже не говорил, а кричал Анатолий. — Товарищи, что произошло с вами? Вас считают героями революции! Спасителями флота! Ведь это вы увели флот через льды из Гельсингфорса и Ревеля! Вы же орлы, ребята, черт вас побери! Где же ваши орлиные клювы и цепкие когти, при виде которых буржуазия подыхала от страха?!
Зал безмолвствовал.
— Что же вы молчите?! — еще больше распаляясь, кричал Железняков. — Я только что прибыл с фронта и завтра снова вернусь туда. Что прикажете передать нашей братве, которая сражается с друзьями Щастного — генералами Красновым, Дутовым и прочей мразью?!
Волнуясь, Железняков напомнил, как белые замучили любимца Балтфлота Семена Рошаля и сотни других большевиков-матросов.
— Кто требует освобождения Щастного? Вы забыли, как такие же царские адмиралы бросали нас в тюрьмы, ссылали на каторгу, вешали и расстреливали? А за что? За правду! Нас не миловали! В защиту нас тогда никто из них не выступал. А теперь, когда они покушаются на нашу Советскую власть, находятся люди, желающие помогать им! Позор!
Выступление Железнякова и многих других товарищей отрезвляюще подействовало на присутствующих в зале. Представители Минной дивизии были с позором изгнаны.
Кронштадт по-прежнему оставался верной крепостью большевизма на Балтике.
6 июня Морской генеральный штаб вызвал Железнякова в Москву для назначения на должность комиссара…
Но почетный запрос опоздал. Железняков выехал на Волгу. Там разгоралась битва за Царицын.
Оборона Царицына
Жаркий июньский день. На пыльной площади в центре Тамбова идет обучение молодых бойцов — добровольцев Красной Армии.
В воздухе то и дело раздаются команды:
— Ать, два… Кругом! Ать, два… Рота! Бегом! Ать, два, три! Правое плечо вперед! Стой! Ать, два, три…
Поднимая пыль, лихо скачут на лошадях ординарцы и носятся очкастые мотоциклисты.
Возле здания, где разместился штаб Еланского полка, толпится народ.
Время от времени на крыльце здания появляется человек в военной форме с листом бумаги в руках. Его сразу же окружают, и он громко оглашает список красноармейцев, принятых в полк.
Штаб осаждают желающие попасть в ряды защитников молодой Советской республики. Беспрерывно трещит полевой телефон, стучит пишущая машинка. У каждого стола очередь.
Попыхивая крепким самосадом, высокий человек в старой солдатской гимнастерке дает прикурить стоявшему за ним в очереди крестьянину.
— Повоюем, земляк?
— Да, без войны сейчас не обойтись, белые напирают…
Немного поодаль от очереди человек в рабочей спецовке и черной кепке на голове громко агитирует:
— Кто слаб духом — не суйся! Война, братцы, дело серьезное. Записывайся, кому жизнь новая дорога! Организуйся в общий поход! Или клади голову под шашку белоказацкую! Слыхали, что вчера говорил командир, товарищ Железняков? «Все за молодую свободу!»
От стола, покрытого кумачом, отходит молодой рабочий в лихо сбитой набок помятой железнодорожной фуражке.
— Ишь ты, ухарь какой! — дружески смеются кругом. — Такого только в кавалерию!
— На вид боевой, а на деле каковой?! — пошутил кто-то.
Писарь вызывает:
— Следующий! Фамилия? Имя?
— Соловей Иван.
— По батюшке как? Документ предъявляй! Каких мест?
— Нижнечирской станицы. Казак.
— Далеко залетела пташечка! — замечают шутливо стоящие в очереди.
— Куда не залетишь, чтоб не попасть к белякам!
— Имущественное положение? — спрашивает писарь.
— Это ты насчет чего?
— Ну кто ты, бедняк или середняк? — нетерпеливо уже говорит писарь.
Очередь начинает шуметь:
— Поскорей! Не задерживай!
Снова раздается:
— Следующий!
Ивана Соловья обступают толпой:
— Ну вот и забрился.
— Не знаю, может, откажут еще…
— Нам не откажут, мы трудовой крови, — слышится реплика.
— Хорошо сказано, братцы! — сказал в это время вошедший в комнату Железняков. — Правильно! Мы все трудовой крови!
Писарь вскочил с места, вытянулся и отрапортовал:
— Сегодня записалось шестьдесят добровольцев.
— Отлично! — Железняков прошел в соседнюю комнату.
Десять дней, как Железняков с отрядом моряков в тридцать человек прибыл на Царицынский фронт, в дивизию Васо Киквидзе. Радостно встретил он Железнякова. Долго не размыкались дружеские объятия.
— Как дела сейчас на Балтике?
— Там все в порядке, Васо.
— А вот у нас… — Киквидзе не договорил, вздохнул тяжело и сразу подошел к карте, висевшей на стене. — Ты слышал о мятеже чехословацкого корпуса? Мятежники захватили Пензу, Самару… А здесь вот, у Астрахани, показал он на карте, — лютуют дутовцы. — Водя пальцем по карте, Киквидзе продолжал: — Вот тут с Дона рвутся к Волге красновцы, хотят захватить Царицын, им нужно соединиться с Дутовым… Сейчас Царицын защищают рабочие-волжане и прибывшая с Украины 5-я армия.
— А почему твои отряды не выступают к Царицыну? — спросил Анатолий.
— У нас своя задача. Мы входим вместе с отрядами Сиверса и Миронова в особую группу войск. Прикрываем Тамбов и обеспечиваем связь Царицына с центральными районами России. Сейчас у меня только два полка: 1-й Рабоче-Крестьянский и 6-й Заамурский конный. Твой будет третьим.
На следующее утро Железняков вместе с Киквидзе поскакал в Елань. Там формировался новый полк.
Из окрестных волостей приходили мобилизованные 1896 — 1897 годов рождения, беспрерывно притекали добровольцы, бывшие солдаты старой армии. Из них Железняков подбирал отделенных и взводных командиров. Добровольцев бывших унтер-офицеров Анатолий назначал командирами рот.
Железняков много беседовал с новичками, ободрял их, рассказывал о Петрограде, Кронштадте.
Многие новобранцы пришли в полк босиком — не было никакой обуви. Пришлось срочно организовать пошив ботинок и сапог. Плохо подвозили провиант, не хватало походных кухонь. Железняков созвал жителей Елани и договорился варить пищу для бойцов по домам. Молодые воины и старые солдаты очень быстро привязывались к своему заботливому командиру.
Благодаря энергичным мерам Железнякова Еланский полк был сформирован вовремя и подготовлен к боевым действиям.
Белогвардейцы неожиданно нанесли удар по самому чувствительному месту Царицынского фронта. Они хотели во что бы то ни стало перерезать железнодорожную линию Царицын — Поворино и этим самым отрезать Москву и Петроград от донского и кубанского хлеба. А это значило задушить голодом два крупнейших центра России. Царицын замыкался в кольцо.
Надо было срочно принимать меры. Несколько суток гремела канонада над жаркими просторами края. Свинцовый дождь поливал раскаленную землю.
По распоряжению В. И. Ленина под Царицын выехала комиссия Высшей военной инспекции, возглавляемая Н. И. Подвойским.
Группа войск Киквидзе получила подкрепление. В бой был брошен Еланский полк. К станции Арчеда из Воронежа прибыли батарея Курземского полка, китайская рота, Интернациональный батальон. Из Борисоглебска прислали 500 человек. К станции Бударино было отправлено 3 бронепоезда и 250 стрелков.
Перед группой Киквидзе стояла задача — очистить от белоказаков станции Алексиково и Урюпино, удержать по линии железной дороги станции Арчеда, Серебряково и Филонове.
Враг дрогнул. Смятые героическими красными частями белые полки покатились обратно за Дон.
Но вскоре на группу, в которую входили 3 тысячи войск Киквидзе, 2 тысячи Украинской бригады Сиверса и около 2 тысяч дивизии Миронова, были брошены 32 тысячи казаков, возглавляемых генералом Фицхелауровым.
К 3 августа советские части под напором превосходящего по численности врага оказались оттесненными на линию Красный Яр — Елань — Поворино.
Стойко защищали Елань войска Киквидзе. Полки попеременно занимали окопы, держа круговую оборону. По балкам, руслам пересохших от необычайного зноя степных речушек ползком пробирались по ночам в Елань сотни бедняков и батраков, пополняя убыль в красноармейцах.
С группой смельчаков из старых опытных солдат Железняков много раз совершал ночные вылазки в тыл противника.
Киквидзе, сам безудержно смелый человек, иногда пробовал удерживать иной раз уж очень рисковавшего жизнью Анатолия, но тот только посмеивался: «Я беру пример с тебя, Васо…»
В конце августа левый фланг группы Киквидзе, переименованный в 16-ю дивизию, обнажился. Соседняя дивизия Миронова отступила.
Казаки взяли 16-ю дивизию в полукольцо. 1-й Рабоче-Крестьянский, 6-й Заамурский и Еланский полки стойко отбивали атаки, медленно отходя на новые позиции. Трое суток Железняков не сомкнул глаз.
1 сентября его вызвали в штаб дивизии. Уже в дверях, по расстроенному лицу Киквидзе Анатолий понял, что что-то случилось.
— Читай, — протянул Киквидзе вскрытый пакет.
Анатолий быстро пробежал глазами документ, в котором командующий вновь формируемой 9-й армией приказывал немедленно перебросить в распоряжение штаба армии Еланский полк.
— В такое время, когда дивизия еле держится?! — вспыхнул Железняков. Я не могу оставить…
— Приказ есть приказ, мой дорогой, — мягко сказал Киквидзе. — Я уже послал начальника штаба Медведовского в штаб армии. Пусть доложит обстановку, расскажет о положении в дивизии. Главная моя просьба — это оставить твой полк в моем распоряжении.
— Правильно, Васо. Там, в штабе, должны считаться с тобой, — сказал Железняков.
— Не знаю, не знаю, — задумчиво произнес Киквидзе. — Боюсь, что… И так меня ругали в штабе, что я тебя самовольно назначил командиром полка.
— Кто ругал? — вспыхнул Анатолий.
— Да есть такие там. Особенно трепался Носович… этот старорежимник. Он говорил, как мне передавали: «Что понимает, мол, матрос, в сухопутных делах?»
Не помогло обращение Киквидзе к штабу армии. Еланский полк был переведен на другой боевой участок, недалеко от 16-й дивизии.
Намного стало тяжелее полку после перевода. Не всегда удавалось держать связь со штабом армии, находившимся в стадии формирования. Радовало только то, что Киквидзе недалеко был и часто полк действовал согласованно с дивизией.
Наконец полк получил отдых на двое суток. Железняков волновался. Несмотря на многочисленные рапорты, посланные штабу армии, в полк не прислали походных кухонь. Бойцы питались кое-как.
— Еду в штаб, — заявил Анатолий комиссару полка Черкунову. — Думаю, что справлюсь за день. До каких пор так будет продолжаться?
Командарма в штабе не оказалось. В кабинете распоряжался прибывший в армию помощник командующего Южным фронтом, бывший царский полковник Носович, впоследствии разоблаченный как пособник вражеской агентуры.
— Я вас слушаю, — холодно сказал Носович, вглядываясь в обветренное и усталое лицо Железнякова.
Анатолий подробно изложил цель своего приезда. Перечислил рапорты, посланные им совместно с комиссаром Черкуновым в штаб армии. Резко высказался о саботажниках и выразил уверенность, что бойцы его полка скоро смогут получить горячую пищу.
— Все? — спросил невозмутимо Носович.
— Все! Хватит и этого! — горячился Анатолий.
— А почему вы бросили полк в такой ответственный период? издевательски спросил Носович.
— Во главе полка оставлен мною комиссар. И я уже доложил вам, что сегодня ночью мы получили разрешение отойти в резерв на двое суток. Я снова возвращаюсь к своей просьбе. Прикажите, чтобы кухни для полка были немедленно высланы.
— Ничем не могу помочь вам, — сухо ответил Носович.
Железнякова не смутили ни холодный прием, ни слова относительно отлучки из полка. Но этот бездушный ответ его взорвал, и он повышенным голосом произнес:
— Я категорически требую…
Железняков не закончил фразу.
По тревожному звонку в кабинет стремительно вбежало несколько вооруженных бойцов. Растерявшийся от такого неожиданного оборота дела, Железняков сразу умолк. Он выбежал из кабинета и умчался обратно в свой полк.
Утром следующего дня был передан приказ об отстранении Железнякова от командования Еланским полком.
Густые грозовые тучи, с вечера закутавшие Елань, ночью проливным дождем обрушились на землю. Молния рассекала черный мрак. Канонада, не умолкавшая в окрестностях Елани несколько последних недель, прекратилась.
В маленьком деревянном домике собрались друзья по полку Железнякова. Они бурно обсуждали создавшееся положение.
— Я не понимаю, товарищи, чем вызвано такое отношение к полку, недоумевал Анатолий. — Поведение Носовича меня просто поразило. В том, что в штаб затесались какие-то сволочи, не может быть сомнения! Но ведь так действует помощник командующего фронтом!
Первым заговорил комиссар полка Черкунов:
— Положение на фронте тяжелое. И об этом надо помнить каждую минуту. В полку поднялось брожение. Надо срочно провести по всем ротам и батальонам беседы, разъяснить красноармейцам, что произошло… Бойцам надо сказать всю правду.
Прибывший вместе с Железняковым с Балтики матрос Наумов резонно заметил:
— Но как объяснишь солдатам, что их командир отстранен от командования за заботу о них? Снова заговорил Черкунов:
— Мы разъясним бойцам, что произошло недоразумение и в ближайшее время Железняков снова вернется в строй. А я уверен, что это именно так и будет.
— А если не будет? — сказал Железняков.
— Тогда мы поставим вопрос перед ЦК партии, — ответил Черкунов.
На следующий день раненый Киквидзе пытался успокоить Железнякова, сидевшего у его кровати.
— Не горюй, Толья. Как-нибудь уладим. Черт возьми, и надо же было случиться такой истории, когда меня подстрелили! — Киквидзе взял руку Анатолия. — Я уверен, что все уладится, что виной всему твоя горячность. Ты правильно сделал, что выступил перед бойцами. Пусть они знают все. А теперь вот что, Толья: кати в Балашов к самому командующему фронтом Сытину. Попытайся поговорить с ним. Попроси его от моего имени. Поезжай…
— Попробую…
В тот же день Железняков стоял перед адъютантом Сытина.
— Мне нужно поговорить с командующим.
— Не могу пропустить.
— Мне необходимо объяснить…
— Не могу, не приказано, — отвечал адъютант.
— Вы доложите командующему о моем приезде, тогда он и прикажет! Что вы отвечаете за него: «Не могу, не могу!»
— Нельзя ли повежливее? — возмутился адъютант. — Здесь вам не Кронштадт!
— Что-о-о?! — пораженный такими словами, протянул Железняков, делая шаг вперед. — Здесь не Кронштадт?! Что это значит?! — уже крикнул он.
Испугавшись угрожающего тона Анатолия, адъютант попятился назад:
— Хорошо, сейчас доложу…
Но к Сытину Железнякова так и не пропустили.
Адъютант, выйдя из кабинета, сказал:
— Командующий приказал передать, что если вам надо что-то сообщить, подайте рапорт…
В обстоятельном рапорте на имя командующего фронтом Сытина Железняков смело написал, что думал: «Действия и решения, которые в последнее время принимаются вами и вашим штабом в отношении дивизии Киквидзе и, в частности, в отношении Еланского полка, напоминают мне линию поведения предателя русской армии генерала Сухомлинова во время мировой войны в 1915 году…»
Ответа на свой рапорт Железняков не получил. Через Киквидзе он узнал нерадостное известие:
— Мне сообщили, что из Балашова послан срочный рапорт о тебе… Что-то здесь неладно. Говорят, что к рапорту приложено специальное дело. Тебя обвиняют в самовольном захвате вагона с медикаментами на станции Алексиково…
— С какими медикаментами? — удивился Железняков.
— Было дело такое. Но тут ты ни при чем. Когда еще формировали полк, мои ребята перед отступлением обнаружили в тупике вагон с медикаментами. Чтобы он не достался казакам, его быстро разгрузили и все роздали по полкам, — разъяснил Киквидзе.
— Что еще пишут эти провокаторы?
— Ты помнишь, когда приезжал к нам Подвойский?
— Конечно, помню. Мы тогда еще с ним говорили о Петрограде…
— А через два дня после отъезда от нас Подвойского на него было совершено покушение. При крушении дрезины ему перебило ключицу… Говорят, что Подвойскому написали, будто ты с группой каких-то анархистов виновник покушения…
Железняков настолько был потрясен, что в первый момент не нашелся даже, что сказать. И лишь после того, как понял всю чудовищность услышанного, гневно воскликнул:
— Собачьи головы! Да как же я мог совершить покушение на товарища Подвойского? Мы вместе с ним в прошлом году штурмовали Зимний! А потом вот еще что. Если покушение было где-то под Тамбовом, как же я мог попасть туда?! Ведь ты же знаешь, Васо…
— Знаю, все знаю. Никуда ты не отлучался из Елани. Я уже написал начальнику штаба фронта Ковалевскому о вагоне с медикаментами… и что ты ни в коем случае не можешь быть причастен к покушению на Подвойского.
Бои шли. Железняков рвался на позицию. Просился рядовым. Но Киквидзе доказывал, что надо обождать. Неизвестность томила Железнякова.
— Черкунов советует мне ехать в Одессу. Украина сейчас поднялась на борьбу против немецких оккупантов. Там хватит работы… — говорил Анатолий, сидя у кровати Киквидзе.
Успокаивая своего друга, раненый комдив советовал:
— Подожди. Вот придет ответ на мой рапорт, тогда и решим, что делать дальше.
В это время вошел адъютант и вручил командиру дивизии секретный пакет.
С тревогой следил Анатолий за выражением лица Киквидзе, словно предчувствуя, что дело касается его.
— Толья, ты объявлен вне закона… — только и мог вымолвить комдив. Немедленно добирайся в Москву!
— За что же, Васо?! — сразу не понял Железняков. — Объявили вне закона, как самого ярого контрреволюционера!
Понимая всю серьезность создавшегося положения, Киквидзе вызвал к себе адъютанта:
— Немедленно ко мне комиссара полка! И чтобы была приготовлена моя тачанка!
Как только адъютант вышел, Киквидзе сказал Анатолию:
— Немедленно поезжай в Москву. Ты еще успеешь на тамбовский поезд…
— Васо…
— Да, вот тебе несколько бланков со штампом моей дивизии. Могут пригодиться… Эх, жаль, что товарищ Ленин ранен и ты не сможешь попасть к нему… Но ты не отчаивайся, иди к Свердлову. Проси, чтобы выслали сюда надежного следователя.
Стуча колесами, к крыльцу дома подкатила тачанка комдива.
— Спеши, Толья!
Железняков обнял Киквидзе, и они крепко расцеловались.
— Спасибо тебе за все, дорогой Васо. Прощай…
Анатолий подскочил к домику, в котором жила его любимая девушка. Он познакомился с ней в первые дни командования Еланским полком. После недолгого разговора они уже вдвоем направились в Тамбов. Там Анатолий разыскал на железнодорожных путях вагон комиссара снабжения фронта Петра Зайцева. Зайцев направлялся в Москву. Вместе с ним поехал и Анатолий со своей спутницей.
В Москве поначалу все складывалось не так, как рассчитывал Железняков.
— Удалось тебе поговорить с Подвойским?.. — допрашивал Анатолий Зайцева.
— Был я у Николая Ильича…
— Ну и что?
— Он говорит, что приказ о тебе подписан Троцким. И он ничего…
— А насчет дрезины? — перебил Железняков.
— Ну как тебе объяснить… — замялся Зайцев. — Ему прислали рапорт, в котором сказано, что ты организатор крушения дрезины…
— А письмо Киквидзе?! — уже с отчаянием в голосе крикнул Анатолий.
— Подвойский говорит, что никакого письма от Киквидзе он не получал.
— Как же так? Ведь Васо отправил целое послание начальнику штаба фронта Ковалевскому…
— Ковалевскому? Так ведь он оказался предателем, и его уже расстреляли… Напиши опять Киквидзе, пусть обратится непосредственно к Подвойскому.
Анатолий писал: «…И вот я в Москве, Васо. Пока надежды на быструю реабилитацию нет. Скрываюсь… Хотел идти к товарищу Свердлову — он в отъезде… Ждут его возвращения.
За мое дело взялись несколько друзей-балтийцев. Если нужно будет, обратятся к товарищу Ленину.
Вот пишу тебе, а сердце ноет, будто в него гвоздь забит. Подумай, Васо! За революцию отдаю всю свою молодость, жизнь, а Носович и поверившие ему делают меня каким-то махновцем… На душе ураган. Но я не сдамся и не изменю революции. У меня хотят выбить оружие, которое она дала мне. Но я никогда не выпущу его из своих рук.
Если бы я изменил революции, я презирал бы себя и разбил бы голову о камни. И скрываюсь я сейчас только для того, чтобы сохранить себя для борьбы за счастье народа. Верю, что из этой борьбы выйду победителем, как выходил до сих пор!
Прими от меня, Васо, на память частицу моего горячего сердца. Может быть, еще увидимся с тобой. А пока прощай. Если ж не увидимся, если погибнем, я хотел бы, чтобы нас с тобой похоронили рядом…»
Скоро в Москве с делом Железнякова разобрались. Он был реабилитирован и получил новое ответственное назначение.
Он шел на Одессу…
Дули холодные ноябрьские ветры, лили дожди. Ночью, прикрываясь темнотой, обходя немецко-петлюровские заставы, Железняков с заданием из Москвы пробирался в Одессу. В кармане у него лежали документы на имя Анатолия Эдуардовича Викторса.
Анатолий был не один. Вместе с ним были его жена Елена Винда и проверенные в боях старые фронтовые друзья — Ховрин, Наумов, Черкунов.
В Курске боевая компания разделилась. Наумов и Ховрин поехали по своему назначению, а Железняков, Черкунов и Винда отправились до Льгова поездом. Здесь была граница Советской России. Дальше начиналась оккупированная немцами территория Украины.
Во Льгове наняли лошадей, чтобы добраться до Конотопа. Отсюда до Одессы было добираться трудно. Железняков убедил жену поехать поездом к родным в Киев. Железнодорожное движение на этой линии еще не было закрыто.
Проводив Елену, Железняков с Черкуновым стали прорываться через все преграды к Одессе.
17 декабря 1918 года на одесском рейде стала на якоря соединенная военная эскадра интервентов. Рядом с французскими броненосцами «Мирабо» и «Жюстис», крейсерами «Жюль Мишель» и «Эрнст Ренан», миноносцами «Протэ», «Палаш» и другими кораблями покачивались на волнах английские сверхдредноуты «Мальборо» и «Эмперер оф Индия», итальянский крейсер «Аккордон», греческие военные транспорты.
В городе шли бои между рабочими отрядами и белогвардейцами. На помощь белогвардейцам высадились стрелки 156-й французской дивизии.
За 107 дней хозяйничанья в Причерноморье интервенты повесили, расстреляли и замучили, во время пыток и допросов несколько десятков тысяч рабочих и крестьян.
Поощряемый иностранными интервентами, развернул свою палаческую «деятельность» генерал Гришин-Алмазов — ставленник Деникина, перекочевавший в Одессу из Сибири от Колчака.
Интервенты назначили Гришина-Алмазова военным губернатором Одессы.
Приехав в Одессу, Железняков устроился электромехаником в каботажную гавань порта. Работа здесь нужна была для маскировки. Все свои силы, энергию Анатолий отдавал подпольной борьбе, связавшись с боевой дружиной Григория Котовского. Котовский пользовался авторитетом среди одесских рабочих, а буржуазия его ненавидела. От дружинников требовались выдержка и самообладание.
Однажды, направляясь к Котовскому на явку, Железняков заметил, что следом за ним по лестнице поднимается человек в форме белогвардейского офицера. Пришлось подняться выше этажом и затаиться. Офицер не последовал за Железняковым, а подошел к двери квартиры, где находился Котовский. Дважды стукнул в дверь, затем трижды — в стенку. Дверь открылась, и он быстро вошел в переднюю.
Железняков спустился вниз, постоял минуту около дверей квартиры Котовского, прислушался, затем подал условленный сигнал.
— По-о-знакомь-тесь, — слегка заикаясь, сказал Котовский, впустив Анатолия.
Так познакомился Железняков с сыном рабочего Тюриным. Окончив в 1915 году школу прапорщиков, Тюрин в конце 1916 года попал в тюрьму за революционную работу. Там он встретился с Котовским. Сейчас по заданию боевой дружины Тюрин поступил в офицерскую роту при штабе Гришина-Алмазова. Дружина ежедневно стала знать пароль, пропуск, отзыв в частях гарнизона.
— Итак, за дело, товарищи! — Котовский опустился на диван, рядом с ним сели Железняков и Тюрин.
— Нужны офицерские шинели, — начал Тюрин.
— Бу-у-дут! — ответил Котовский.
— Каким образом?
— Из ресторана «Реномэ». Ты заметил там нового швейцара?
— Это тот, что с бородкой? Его лицо мне показалось знакомым…
— Этот «швейцар» воюет вместе со мной с семнадцатого года, — продолжал Котовский. — Он передал мне, что на завтрашний день хозяин ресторана получил большой заказ.
— Это верно, — подтвердил Тюрин. — Приезжает из Краснодара делегация от Деникина.
Железняков внимательно слушал, о чем говорили Котовский и Тюрин.
— Автомобиль достал? — обратился Котовский к Железнякову.
— Да еще какой! — улыбаясь, ответил Анатолий. — Французский, с трехцветным флажком!.. Операция поручена опытным ребятам…
На следующий вечер к ресторану «Реномэ» со стороны Греческой площади подъехал грузовик. Рядом с шофером сидел Железняков. «Швейцар» быстро закрыл на ключ дверь, выходящую в зал. Дружинники вынесли несколько охапок офицерских шинелей и, захватив с собой «швейцара», умчались.
Надо было пробраться в здание контрразведки. Операцией руководили Котовский и Железняков.
На рассвете, одетые в офицерские шинели и фуражки, дружинники окружили незаметно здание. Оборвав предварительно телефонные провода, Железняков с двумя товарищами пробрались на крышу соседнего дома. Оттуда через слуховое окно — на чердак здания, в котором помещалась контрразведка, и дальше — в коридор черного хода. Внутренние часовые спали, и с ними легко справились.
К входу в здание направились Котовский и еще два товарища из дружины Стригунов и Воронянский.
— Стой! Кто идет? — спросил внешний часовой.
— Свои! — заметил Воронянский.
— Пароль?
— Ледяной поход, — произнес пароль Воронянский. — Отзыв?
— Рос… — Часовой не успел ответить.
Его схватил в свои могучие объятия Котовский.
В оперативной комнате находились трое контрразведчиков. На негромкий, но повелительный окрик: «Я Котовский! Руки вверх!» — один из офицеров ответил выстрелом. Пришлось застрелить всех троих…
В открытых сейфах лежали списки людей, подлежащих аресту. Отдельно папки с секретными документами и формуляры осведомителей. Котовский тут же сжег списки, а Железняков собрал в пачку документы и формуляры.
Операция длилась недолго. Неожиданно раздался стук в дверь. Нетерпеливый голос произнес:
— Какого черта вы заперлись там? Откройте!
— Сейчас! — ответил Железняков.
Дружными выстрелами были уничтожены четверо вернувшихся с «работы» контрразведчиков.
Сняв своих часовых — заслоны на углах кварталов, Котовский увел дружинников.
Интервенты обрушили мутный поток лжи и клеветы на Советскую власть. Воинские части засыпали градом провокационных листовок о большевистских «бандитах», которые якобы пытают и убивают пленных, «национализируют» женщин и даже едят детей…
Большевики вели упорную подпольную работу, разъясняя солдатам и матросам, какую постыдную роль — душителей революции — им предназначили капиталисты. В подпольной типографии печаталась большевистская газета. Она призывала вражеских солдат и матросов: «Требуйте возвращения на родину!»
Распространять газету было большим риском, но Железняков не останавливался ни перед какими трудностями. Он искал разные способы для того, чтобы она попадала по назначению. Не один раз подпольщик проникал в казармы, где размещались французские солдаты. Однажды, повредив водопровод недалеко от казарм, Железняков пришел в казармы под видом водопроводчика и, осмотрев водопроводный люк, заявил коменданту:
— Повреждение довольно серьезное, и за один день его не исправишь, придется завтра снова заглянуть к вам…
Выходя из казармы, Анатолий незаметно оставил принесенные им листовки на французском языке, которые призывали солдат-интервентов: «Бросайте оружие!», «Не верьте клевете на Советскую власть, на большевиков!».
Сменившись с вахты и наскоро переодевшись, Железняков быстро зашагал в сторону небольшого портового домика, расположенного против Военного спуска, — здесь должно было состояться собрание подпольщиков.
На повестке дня стоял очень важный вопрос — как усилить транспортировку революционной литературы в другие порты Черного моря. Вся армия моряков торгового флота должна была быть готовой в любой момент парализовать движение судов и не дать белогвардейцам и интервентам при наступлении Красной Армии воспользоваться торговым флотом.
За соблюдение этой полученной свыше директивы лично отвечал Железняков. Его облекли высоким доверием — избрали председателем подпольного комитета одесских водников.
Прибывший из Москвы и участвовавший в этом заседании Петр Зайцев думал: «Молодец Толя! Сколько дел проворотил за такое короткое время!»
Заседание кончилось. Дружинники стали выходить по одному, чтобы не привлекать к себе внимания встречающихся людей.
— Как тебе понравились «комплименты» Гоца в твой адрес? — спросил Зайцев Железнякова, когда они остались вдвоем.
— Кого? Гоца? — удивленно спросил Анатолий. — Я не понимаю, о чем ты говоришь…
— А разве ты не читал сегодня «Одесские новости»? — И Зайцев протянул товарищу газету. — Ты вспомни, какой день сегодня, и почитай вот это, указал он на статью под крупным заголовком «О годовщине разгона Учредительного собрания».
Пригретый англо-французскими хозяевами в Одессе, Год писал: «…и сегодня, вспоминая эту жуткую обстановку… мне хочется забыть… матросов, чьими руками была распята идея… Пришел матрос Железняков и с бессмысленной жестокостью втоптал в грязь и кровь лучшую мечту… Железо победило идею…»
Статья заканчивалась мечтой о том, что придет некий «другой матрос» и «победит Железнякова». Под статьей стояла подпись: «Член Учредительного собрания Л. Р. Гоц».
— Пусть помечтает, предатель! — зло сказал Анатолий.
— А ты прочти, что еще написано, вот здесь, в объявлении, — указал Зайцев.
Крупными строчками сообщалось, что по случаю годовщины разгона Учредительного собрания состоится вечер под председательством бывшего московского городского головы Руднева. На этом вечере выступят с речами член ЦК партии эсеров Ратнер, члены бывшего Учредительного собрания Вишняк, Гоц и другие. Начало в 8 часов вечера.
— Сейчас у них как раз самый разгар панихиды, — сказал Железняков. — А что, если мне явиться на их волчье сборище и устроить там полундру?
— Да ты с ума спятил, чертова голова! — возмутился Зайцев.
— Ну ладно, не кипятись…
Расклеенные на всех улицах Одессы крикливые афиши извещали о предстоящей инсценировке «суда» над Лениным.
Меньшевики и эсеры — верные лакеи интервентов — вели бешеную травлю большевиков. Они убеждали рабочих, что «демократические» США, Англия и Франция создадут в России рай.
Одной из форм их грязной агитации были так называемые «суды» инсценировки, устраиваемые над величайшими людьми мира. Уже «судили» Маркса и Энгельса. Председательствовал на сборищах лидер эсеров Кулябкс-Корецкий.
В качестве «общественных обвинителей» выступали бывшие крупные адвокаты, думцы, члены Государственного совета, бежавшие от революции на юг. Могли выступать также и желающие из публики.
Железнякову неоднократно хотелось явиться на какой-нибудь подобного рода «суд» и выступить. Но товарищи каждый раз отговаривали его от опасного поступка.
Сейчас же он не хотел слушать никаких доводов.
И товарищи наконец сдались: надо сорвать преступную комедию «суда» над вождем революции.
— Прежде всего нам надо добиться, чтобы среди публики, которая явится на эту подлую комедию, были и наши люди, — сказал Железняков.
— Да, это верно, — поддержал Зайцев. — На такие «суды» рабочие не ходят, а прет больше буржуазия…
Каждый из дружинников обещал привести с собой по нескольку человек подростков с Пересыпи и Молдаванки.
— Если этих ребят хорошо организовать и подготовить, они могут такое там заварить, что небу станет жарко, — сказал Железняков. — Мне эти сорванцы неоднократно уже помогали…
Зал Художественного театра был переполнен. Организаторы «суда» старались распределить билеты по своему выбору, но в зале оказалось много народу, который нужен был Железнякову.
Какой-то крикливый юрист прочел «обвинительное заключение». Выступили «прокуроры» — правый эсер Рихтер и меньшевик профессор Сухов.
Начали раздаваться негодующие выкрики и свистки. Это ободрило Железнякова. Он несколько раз порывался на сцену, но товарищи сдерживали его, уговаривали не торопиться и дождаться более удобного момента для атаки.
Начались выступления «свидетелей».
На трибуну поднялся шестидесятилетний профессор истории Новороссийского университета Щепкин. Он неожиданно для организаторов «суда» решительно
выступил против обвинения Ленина по тем статьям, которые привел «обвинитель». Спокойно и объективно обрисовал он деятельность Ленина, направленную на благо народа. Речь крупного историка, пользовавшегося авторитетом в Одессе, не понравилась устроителям «суда».
Железняков встал с места и поднял руку:
— Хочу высказаться!
Твердой походкой он прошел к сцене и поднялся к кафедре.
— Господа судьи и граждане Одессы! — начал Железняков. — Мы только что выслушали обвинительное заключение против вождя большевистской партии и главы Советской России. Согласно оглашенному обвинительному заключению и речам господ прокуроров, товарищ Ленин, оказывается, виноват в войне, в тех тяготах, которые легли страшным грузом на рабочую спину. По утверждению выступавших, причиной того, что Украина оказалась под сапогом интервентов, что рабочих хотят сделать колониальными рабами…
Словно ошпаренный кипятком, внезапно вскочил председатель «суда». Перебив оратора, он закричал испуганным старческим визгом:
— Извините, этого не сказано в обвинении! По залу и сцене прокатился тревожный шум.
— Вы говорите, что сказанного мной нет в вашем обвинении! Но в нем нет и того, что главные виновники войны — кровавые собаки Пуанкаре и Клемансо, Ллойд Джордж и Черчилль, Вильсон и Морган и тысячи иностранных банкиров! А также разгромленные Октябрьской революцией русские помещики, фабриканты и вы. продажные лакеи капиталистов! — гневно говорил Железняков.
Ошеломленные «судьи» и «прокуроры» соскочили с мест. Раздались испуганные голоса:
— Остановите его! Остановите!
— Кто он такой?!
— Где охрана?!
Казалось, что в зале внезапно взорвалось несколько бомб. Рев и гул захлестнули ряды, сцену. Все перемешалось. В «судей» полетели комья грязи, кто-то ловко запустил камнем в люстру. Перепуганные насмерть «судьи» и «свидетели» бросились к выходам, давя и тесня друг друга.
Железняков почувствовал, как кто-то рванул его сзади, и в этот же момент знакомый голос повелительно бросил:
— Бежим!
Сбив с ног нескольких человек, Анатолий бросился за кулисы. Рядом раздался голос второго товарища:
— В окно!
Железняков прыгнул в темноту какого-то двора. По рядом слышались голоса:
— Викторе! Вперед! Вперед!
Перепрыгивая через препятствия, все бросились в сторону порта. Улицы огласились тревожными свистками полицейских, криками и беспорядочной стрельбой. В помещении театра рабочие и подростки с Пересыпи и Молдаванки швыряли в разные стороны все, что попадалось им под руки:
— Получайте! Мы вам покажем «суд»!
Железняков и Черкунов получили задание направиться в Харьков для информации Центра о положении дел в Одессе и получения новых указаний. В Харькове находилось тогда правительство Советской Украины.
На обратном пути Железнякову и Черкунову было поручено доставить Одесскому подпольному комитету большую сумму денег. Вместе с ними выехали в Одессу черноморец Александр Бугаенко, харьковский рабочий Григорий Борзенков, Чикваная, знакомый Железнякову еще по Елани, и группа комсомолок, направлявшихся в Одессу на подпольную работу. В этой группе находилась и жена Железнякова — Елена Винда.
Поезд прибыл на станцию Водопой. Все вышли из вагона.
У входа в здание вокзала лежал труп убитого железнодорожника.
Крутом не было ни души. С трудом удалось разыскать дежурного по станции.
— Кто в Николаеве? — спросил Железняков.
— Немцы, — ответил дежурный. — Вообще сам черт не разберет, что творится, — продолжал дежурный. — Говорят, что сегодня часть города занята григорьевцами. Они ворвались со стороны Херсона. А тут вот запросился к нам со станции Долинская немецкий эшелон.
— Скоро он придет? — спросил Железняков.
— По времени должен быть на подходе, — ответил дежурный.
И Железняков решил остаться на станции. Окинув взглядом товарищей, он скомандовал:
— Приготовить гранаты! В цепь!
Все разбежались вдоль платформы, занимая места за удобными прикрытиями.
Поезд уменьшил ход и остановился против вокзала. Это был небольшой состав с немецкими солдатами. Многие из них стояли в тамбурах, висели на подножках.
Воцарилась тишина. Тревожные секунды… Но вот двери станции с шумом распахнулись. Высоко подняв голову, твердой походкой вышел на платформу Железняков, в руке у него был наган.
— Выходи! — крикнул он, обращаясь к прибывшим на поезде.
Голос его звучал уверенно и властно.
Из окна переднего вагона высунулась тучная фигура в форме немецкого офицера.
— Кто находится на станции? — спросил он на ломаном русском языке.
— Выходи! — приказал Железняков. — Николаев в руках красных!
Перепуганный офицер застыл. Но солдаты уже выскакивали из вагонов. Подняв руки вверх, они кричали:
— Сдаемся! Сдаемся! — Вероятно, им хотелось скорее вернуться на родину.
— Оружие складывать сюда! — показал Железняков на перрон у самого здания вокзала. — Строиться возле паровоза!
Немногочисленный отряд Железнякова провел сдавшихся немецких солдат и офицеров в станционный зал, закрыв за ними двери на ключ.
Дежурный по станции проводил Железнякова в кабинет начальника и помог ему связаться по селектору с соседними станциями: Гороховец, Грейгово, Кульбакино.
Анатолий начал сразу:
— Слушайте! Говорит матрос Железняков. Срочно передайте партизанам, что на станции Водопой захвачен немецкий поезд. Солдаты и офицеры разоружены!
Через несколько дней после многих мытарств группа Железнякова прибыла в Одессу.
Это был самый тяжелый период в жизни прославленного героического черноморского города. Безработными оказались десятки тысяч рабочих. Увеличивалась разруха. Даже такая газета, как «Одесские новости», существовавшая за счет интервентов, вынуждена была писать: «Никогда еще Одесса не переживала такого трагического, кошмарного момента, как теперь… Голод достигает небывалых размеров. Сотни тысяч семейств не только лишены возможности питаться горячей пищей, они мечтают о сухом куске хлеба, сделавшемся недоступным даже для средних классов. Нет не только хлеба, но и картофеля, кукурузной муки, нет бобов, нет вообще пищевых продуктов, а если они и имеются, то в ограниченном количестве и продаются по баснословным, совершенно недоступным даже для среднего достатка ценам…»
Под руководством коммунистов росло сопротивление трудящихся юга. Центральный Комитет партии послал в Одессу стойких большевиков, опытных подпольщиков.
Работа подпольщиков по разложению войск противника приносила свои плоды. Французские солдаты и матросы все чаще и чаще начинали выражать недовольство, неповиновение, готовили восстание.
С севера наступала Красная Армия. В районах Одессщины, Херсонщины и Николаева действовали партизанские отряды. Усиливали борьбу городские боевые дружины; участились диверсии, налеты на склады с оружием.
Узнав через свою контрразведку, что смелые, дерзкие налеты проводятся каким-то неуловимым матросом Железняковым, интервенты и белогвардейцы расклеили на многих улицах Одессы объявление, в котором говорилось, что за поимку матроса Железнякова властями города будет выдана награда в 400 тысяч рублей.
Прочитав это объявление, Железняков сказал своим товарищам: «Дешево оценили мою голову. Я еще покажу им!»
Лихие дела боевой дружины все умножались.
Вскоре Железняков узнал, что на заводе Российского общества пароходства и торговли (Ропит) строятся два бронепоезда по заказу деникинской армии. Встретясь с большевиками котельного цеха, Викторе договорился с ними об оттягивании сроков окончания работы.
Не догадывались деникинцы, что рабочие подготовляли все необходимое для быстрого выпуска этих бронепоездов к приходу частей Красной Армии.
«Не хватает стали. Нет креплений для орудийных установок. Не готовы детали для оснащения бронеплощадок», — отвечали мастера цеха заказчикам. А в кладовых завода копили все необходимое для быстрой сборки бронепоездов.
Предчувствуя скорый конец своего господства, интервенты вешали и расстреливали всех подозреваемых в сочувствии большевикам, бросали в тюрьмы сотни и тысячи людей. Они зверски убили членов иностранной коллегии Жанну Лябурб, Жака Елина, Михаила Штиливкера и многих других лучших сынов большевистской партии. Выданный провокатором, был замучен Смирнов-Ласточкин.
К концу марта 1919 года одних только французских войск в Одессе было около 30 тысяч. Кроме них здесь находились две греческие дивизии, много сотен бело-польских легионеров, часть белорумынских дивизий, тысячи белогвардейцев, а также итальянские, английские и другие войска. На одесском рейде стояла большая эскадра.
После длительных, упорных боев с белогвардейцами и интервентами Красная Армия 6 апреля 1919 года заняла город Одессу.
На бронепоезде
Опустел, затих порт, ограбленный, опустошенный интервентами. Но, уйдя из Одессы, они все же оставили эскадру у Тендровской косы, лежащей недалеко от порта. Англо-французские пираты блокировали подход к Одессе со стороны Днепра и Крыма, продолжая захватывать или топить любое судно, пытавшееся пробраться к городу.
Портовики поднимали со дна бухты затопленные суда, налаживали каботажное плавание. Начиналось восстановление промышленности. В порту собирали уголь, обломки железа для оживления давно бездействующих цехов и мертвых вагранок.
Несмотря на исключительно тяжелое положение в городе с продовольствием, рабочие завода Ропит, получая в день по полфунта гороха, трудились по две смены, чтобы поскорее закончить сооружение бронепоезда.
…Железняков рвался в бой. В освобожденной Одессе он уже не находил для себя дела, он спешил на фронт.
Об этом желании Железнякова узнал К. Е. Ворошилов. Учтя боевой опыт балтийца, его назначили командиром бронепоезда имени погибшего в боях командарма 3-й Армии Худякова.
Первые боевые испытания на посту командира бронепоезда имени Худякова Железняков блестяще выдержал в боях с бандами Григорьева, восставшими против Советской власти.
Разбитые на севере, в Екатеринославе, Александрии и Знаменке, григорьевские банды появились в районе Холодного Яра, в Явкине, Заселье и других местах, готовясь захватить Знаменский железнодорожный узел, чтобы повторить по всему югу свой кровавый марш грабежей, насилий, расстрелов и виселиц.
Получив боевое задание, бронепоезд имени Худякова направился к Вознесенску. Стремительно неслась грозная бронированная крепость навстречу врагу. Скоро должна была показаться занятая григорьевцами станция.
Команда бронепоезда была на местах в полной боевой готовности. Начальник артиллерии матрос Казаков лично осматривал каждое орудие. Все было готово к бою. Командир башни Александр Романов в десятый раз внимательно проверял рычаги, винты, прицелы. С беспокойством и огорчением он часто повторял:
— Жаль, не успели достроить все башни! Кабы…
Но товарищи отвечали:
— Со всеми-то башнями что! Со всеми мы будем воевать хоть против целой дивизии!
Железняков не отрывался от бинокля. Он заметно волновался: удастся ли выдержать боевой экзамен? Сколько раз он участвовал в больших сражениях, был под губительным огнем, проводил бойцов по труднопроходимым местам. Он знал пулемет и пушку, мог быть артиллеристом и сапером. Но сейчас он впервые самостоятельно вел в бой бронепоезд, сейчас предстояло разбить крупное вражеское соединение.
Под Белгородом и Чугуевом на бронепоезде, захваченном у белогвардейцев, он больше обходился пулеметами, винтовками и гранатами. На только что отстроенном бронепоезде орудия были посложнее, и он только теоретически знал, как выбирать хорошую огневую позицию.
Железняков связался по переговорной трубке с Казаковым и Романовым:
— Уж вы не подкачайте, братцы!
— Будь спокоен, Железняк, начнем лупить, небу жарко станет! — донесся глухой голос Романова.
— Поменьше хвастай. Лучше проверь все еще раз. Чтоб ни одного снаряда мимо цели! Слышишь?
Сквозь лязг колес и громыхание буферов в трубке прогудел ответ:
— Слушаюсь, товарищ командир!
Еще раз убедившись в готовности артиллерии, Железняков снова приник к переговорной трубке, связывающей командирскую будку с пулеметными бортами:
— Пелит, Володин, Камарницкий!
— Слушаем!
— Как с пулеметами? Все в порядке? Запас воды достаточный? Лент хватит?
— У нас полный порядок! — ответил за всех Володин.
Решительный момент наступил как-то сразу. Бронепоезд приблизился к станции. Грянул выстрел. Недалеко у полотна железной дороги вздыбился черный фонтан земли.
«А, так вот они где!» — подумал Анатолий, пригибаясь под куполом своего командирского поста.
Торопливо прильнув к трубке, он скомандовал находящимся в башне:
— Орудия, к бою! По станции!
Вблизи полотна один за другим взорвались новые снаряды. Грохот и звон стали заглушили команду.
Железняков напряженно всматривался, где расположились вражеские орудия, чтобы вернее определить сокращающееся расстояние между собой и противником.
— Ага, вот они… Орудие № 1! Вправо по водокачке — огонь!
Полоснуло пламя. Рывок и треск. Глухо звякнули буфера.
— Крой беглым!
Снова блеск пламени, рывок, треск и звон стали.
— Разнесем! — торжествовал Анатолий.
У водокачки один за другим поднялись черные столбы земли.
— Молодец, Романов!
Не отрывая взгляда от приближающейся станции, Железняков крикнул в будку машиниста:
— Полный вперед!
С грохотом, стремительно ворвался бронепоезд на станцию, минуя первые постройки, гремя и опрокидывая огневые точки врага.
Противник не ожидал такого молниеносного натиска. Бандиты ждали пехотных частей красных, кавалерии, бронеавтомобилей, но только не бронепоезда.
Увлеченный атакой, Железняков уже лично отдавал команду пулеметчикам:
— Очередями по сто патронов — огонь! С рассеиванием по фронту!
Раскаленный воздух гудел от пуль и криков.
Удирая в панике, григорьевцы прятались по огородам, по переулкам местечка, убегали в степь.
Бугаенко и Просин во главе двух десантных групп спешили охватить местечко с флангов. Бойцы неслись наперерез убегавшим бандитам. Впереди, обгоняя товарищей, бежал матрос Богобрат.
Раненый Якобсон метался на раскаленной броне-площадке, неистово ругаясь:
— Все равно не уйдете, проклятые! Всех перебьем! Перевязывая ему ногу, Казаков успокаивал:
— Не горюй, друг, еще навоюешься!
Далеко за станцией участилась стрельба.
Железняков не сомневался, что бандиты не уйдут живыми от его бойцов.
Восстановив взорванный за станцией железнодорожный путь, наладив телефонную связь, поврежденную григорьевцами, и убедившись, что местечко окончательно очищено от них, Железняков двинулся дальше.
О дальнейшем пути этого боевого похода он через несколько дней коротко сообщал в Одессу:
«На следующий день мы были в Вознесенске, Простояли сутки и тронулись дальше, под Елисаветград, чтобы и там усмирять григорьевские банды, вздумавшие для развлечения рвать пути и спускать под откос паровозы…»
Немалую роль сыграл бронепоезд имени Худякова в разгроме Григорьева.
Вскоре Совет Народных Комиссаров Украины писал в своем обращении: «Ликвидация григорьевского мятежа закончена. Его грозной военной силы в 90 тысяч штыков, 52 орудия, 16 бронепоездов, 100 пулеметов, сотни тысяч снарядов и миллионы патронов, которую изменник Григорьев, подкрепленный врагами Советской власти, бросил на нас и думал взять Екатеринослав, Полтаву, Киев, низложить Советскую власть, — больше нет. Кременчуг, Знаменка, Елисаветград, Пятихатка, Користовка, Александрия, Бобринская, Николаев, Херсон, где всего несколько дней назад распространялась власть Григорьева, освобождены. Авантюрист-атаман и его приспешники с остатками своих отрядов спасаются в лесах и деревнях».
Бронепоезд имени Худякова направился в Николаев для ремонта и модернизации.
Железняков был вызван в город Вознесенск, где находился штаб 3-й Украинской армии. Ему были вручены награды для отличившихся в боях командиров подразделений и бойцов бронепоезда — пять карманных золотых часов, 10 пистолетов, кожаное обмундирование. Реввоенсовет издал приказ о награждении бронепоезда Красным знаменем.
Пламя гражданской войны с каждым днем все сильнее охватывало страну. Авантюра Григорьева казалась мелкой и незначительной по сравнению с гигантским контрреволюционным походом генерала Деникина, двинувшего свои армии на Украину.
Под знамена защитников Советской Украины срочно мобилизовывалось все, что можно было мобилизовать. Бронепоезд имени Худякова, отремонтированный в Николаеве, был передан в распоряжение командующего 14-й армией К. Е. Ворошилова.
Железняков получил приказ срочно направиться в город Кременчуг…
Вокзал и перрон в Николаеве заполнены народом. Здание украшено красными флагами. Рабочие и железнодорожники прощаются с бойцами, провожая их на защиту родной земли. Среди отъезжающих и железняковцы.
Откинув люк над командирским мостиком, Железняков кричал провожающим:
— Прощайте, друзья! Прощай, Николаев!
Бронепоезд мчался мимо залитых солнцем ковыльных степей. Изредка проплывали зеленые балки, небольшие курганы да холмы. В лощинах по склонам балок зеленели разоренные, обезлюдевшие села с заброшенными садами и давно не беленными мазанками…
Железняковцы прибыли на Екатеринославский фронт в самый тяжелый момент. Под сильным нажимом превосходящих сил противника части Красной Армии с боем отходили на север, оставляя одну станцию за другой.
24 июня красные войска оставили Синельникове. 25 июня покинули Белгород. Положение с каждым днем становилось тяжелее и тревожнее.
1 июня «Правда» на первой полосе напечатала: «За Харьковом пал Екатеринослав. Генерал Деникин, вешатель рабочих, занимает пролетарские центры Украины.
Через Советскую Украину царский генерал и его казацкие орды прокладывают путь в Советскую Россию.
Пролетариат в опасности! Крестьянство в опасности!
К оружию! К работе! К борьбе!»
2 июля «Правда» напечатала на всю полосу: «Союзники, призвали Колчака. Колчака мы разбили. Деникин — последняя надежда буржуазии. Разбить Деникина — значит кончить войну.
Кто хочет прочного мира — все под ружье, все на казачьи банды царского генерала!»
Придавленный тяжелым зноем пыльный Кременчуг переживал тревожные дни. Конница генерала Слащена угрожала городу.
Немедленно после прибытия бронепоезда в Кременчуг Железняков направился в штаб 14-й армии.
— Командир бронепоезда имени Худякова Железняков прибыл в ваше распоряжение, товарищ командарм, — доложил Анатолий Ворошилову. — Разрешите немедленно выйти на фронт!
Подойдя к большой географической карте, висевшей на стене, Ворошилов провел карандашом ломаную линию между синими и красными кружочками:
— Екатеринославское направление вклинивается в левый фланг Деникина. Мы должны вернуть Екатеринослав, это ослабит нажим белогвардейцев на севере. Мне уже сообщили, что ваш бронепоезд — это настоящая передвижная крепость.
Железняков взял под козырек:
— Разрешите, товарищ командарм, выйти на позицию.
Крепко пожимая руку матроса, командарм ответил:
— Разрешаю.
Грохоча колесами и буферами, бронепоезд несся к намеченной цели.
Далеко позади осталась станция Херсонская. Снова вокруг широко расстилалась степь, покрытая курганами. Легкие облака плыли по небу. Миновав глубокую балку, покрытую зеленым гаем, стремительно вылетели из-за невысокого холма на равнину. Впереди показались дымки шрапнельных разрывов. Приближались к позиции. Солнце жгло. Душил раскаленный воздух.
Бронепоезд подошел в тяжелый момент, когда под натиском деникинцев красноармейцы 49-го, 50-го и имени Т. Г. Шевченко полков, сформированных в Одессе, отступали, двигаясь разрозненными рядами по обеим сторонам железнодорожного полотна.
От ураганного артиллерийского огня противника, непрерывных его конных атак красноармейцы прижимались к железной дороге, изредка залегая, чтобы отогнать залпами наседавших кавалеристов врага, затем снова поднимались и двигались к Кременчугу.
На возвышенной местности были видны многочисленные скачущие всадники. Их замысел был ясен — они хотели выскочить вперед, к станции Користовка, глубоко вклиниться в тыл отступающей красной пехоты и встретить ее яростной рубкой.
С другой стороны белогвардейцы сыпали в степь, раскаленную зноем, тысячи снарядов и форсированно наступали цепями.
Прильнув к наблюдательным окнам бронепоезда, пулеметчики мысленно высчитывали сокращавшееся расстояние между бронепоездом и цепями противника: «2 тысячи метров… 1500 метров…»
Впившись глазами в стойки прицела, ловко переставляя хомутики на нужные деления, пулеметчики напряженно ждали команды…
— Ну держись, золотопогонники!..
Белогвардейцы не сразу заметили появление бронепоезда. Благодаря дымовым фильтрам, он шел без обычного «спутника» — густого облака дыма. Захваченная врасплох артиллерия противника не причиняла бронепоезду ущерба своим рассеянным шрапнельным огнем.
Когда же участились разрывы вражеских снарядов у полотна дороги, Железняков скомандовал машинисту:
— Полный вперед!
Поднимая облако пыли, далеко на правом фланге показалась вражеская конница. Миновав свои отступающие части, бронепоезд с полного хода врезался в передовую линию противника.
Легкий нажим руки командира — и на бронеплощадках загорелись сигнальные огни, сразу заухали орудия обеих башен. Зататакали хором 26 пулеметов.
Орудия били беглым огнем. От орудийных толчков бронепоезд вздрагивал, лязгал сталью.
Вздыбленная снарядами и ливнем пуль земля покрывалась огнем, дымом и пылью. По вагонам и паровозу почти непрерывно шлепали куски земли, стукались осколки, цокали пули.
Надо было подавить вражеские батареи, замаскированные среди пышных деревьев, за отдельными холмиками. Железняков приник к переговорной трубке:
— Ориентироваться по вспышкам у деревьев! Беглый огонь!
Первый же залп взметнул у одного из холмиков кучу земли, подрезал несколько тополей и обнажил батарею. После второго залпа она замолчала. Когда рассеялась пыль, видны стали разметанные колеса трехдюймовок. Группа ездовых, подскочив с упряжкой, пыталась увезти одно уцелевшее орудие.
Железняков потянулся к трубке, чтобы отдать команду. Но громыхнула лобовая башня — значит, Романов тоже заметил возню у пушки.
Разгоряченные боем инструкторы громко давали команды расчетам:
— С рассеиванием вправо до балки и по кольцу от 16 до 16!
Убедившись, что пули ложатся метко по цели, Железняков командовал:
— Так держать!
Деникинцы дрогнули. Цепь их разорвалась и покатилась назад. На поле оставались орудия, убитые, раненые.
Железняков видел, как стягиваются ряды отступавшей ранее красной пехоты.
Вдогонку за отступающими белогвардейцами понеслась немногочисленная красная кавалерия.
Бронепоезд остановился. Замолчали раскаленные пулеметы. Только орудия еще не унимались, изрыгая огонь и забрасывая снарядами отступающих в панике деникинцев.
Железняков откинул люк над командирским мостиком. Его вспотевшее, разгоряченное лицо обвеял теплый ветерок. Из степи несло запахом травы и каких-то цветов…
Воспользовавшись перерывом, артиллеристы и пулеметчики выпрыгнули с бронеплощадок, разбрелись по обеим сторонам железнодорожной насыпи.
Анатолий подошел к паровозу:
— Давайте условный сигнал разведке. Пускай скачет сюда. Узнаем, куда дальше бить.
Зашипел пар, и над степью пронзительно и протяжно завыл гудок, сливаясь с гулом удалявшейся на запад канонады.
Брешь во фронте белогвардейцев была пробита. Наступление противника прекратилось. Теперь требовалось заставить его откатиться за станции Пятихатка и Верховцево к Днепру. Там врага можно будет зажать между железной дорогой и рекой. К взаимодействию с бронепоездом и пехотой уже приготовилась Днепровская военная флотилия.
Но деникинцы разгадали план советского командования. Против бронепоезда, двигавшегося, словно огромный таран, к Пятихатке, было сосредоточено свыше десяти батарей, много пулеметов.
Части 14-й армии были встречены артиллерийским огнем. Наступавшая при поддержке бронепоезда пехота укрылась за железнодорожной насыпью.
Железняков действовал осмотрительно. Отведя поезд за выемку, он выслал разведку из конного десанта. Вместе с конниками поехали старшие артиллеристы башен, они определили ориентиры. Начался обстрел вражеских батарей и станции с закрытых позиций.
Деникинцы применили отчаянный маневр. Собрав большую группу конников, они бросили их на красную пехоту, залегшую за насыпью. Расчет их был простой — бронепоезд не успеет быстро отойти, и конница очутится в мертвой зоне, тогда ей не страшны орудия и пулеметы.
Железняков быстро нашел выход. Он отдал команду. Бронепоезд на полном ходу помчался в сторону вражеских батарей, проскочил вперед километра два. Отсюда вражеская конница оказалась как на ладони — ее можно было в упор расстреливать с правого борта поезда.
Белые не выдержали шквала огня. Красноармейцы поднялись в контратаку. Артиллерия перебросила огонь на батареи и станцию. После нескольких залпов к небу взметнулись столбы дыма, раздались взрывы.
Замедлив ход, бронепоезд пошел к Пятихатке. А вдруг белогвардейцы подорвут железнодорожное полотно? Железняков поставил вперед смотрящих на головные платформы.
Кругом гремело:
— Даешь беляков!
Это пехота, раскинувшись в цепи по обеим сторонам насыпи, бежала за бронепоездом. Но Железняков, ворвавшись на станцию, не стал задерживаться на ней, чтобы не дать врагу сконцентрировать силы для контратаки. Он знал, что в Пятихатку уже вошли красные пехотинцы, что они выбивают из домов застрявших там деникинцев, закрепляют позиции у вокзала.
Так 11 июля 1919 года была занята крупная узловая станция Пятихатка.
Через два дня напор деникинских полков был сломлен по всему екатеринославскому направлению.
12 июля части 14-й армии вели бои за Верхнеднепровск, заняли станцию Верховцево, захватив при этом три паровоза и много военного имущества противника.
На каждой отвоеванной станции железняковцы поднимали красные флаги на водонапорных башнях.
Бронепоезд имени Худякова, взаимодействуя с Днепровской военной флотилией на левом фланге и с пехотой на правом, прорывался к Екатеринославу.
16 июля наши части повели наступление на Сухачевку — предместье города. Здесь было огромное скопление деникинских частей. На рассвете были зажжены постройки на небольшой станции Запорожье. Это был сигнал для общего наступления.
Утро гудело канонадой. По намеченной цели открыли огонь стоявшие в глубоком тылу красные батареи и корабли Днепровской флотилии. Бронепоезд пошел полным ходом прямо на Сухачевку, на станции он врезался между двумя белогвардейскими эшелонами и, не дав врагу опомниться, ударил с обоих бортов из всех пулеметов. В рядах противника началась паника. Треск пулеметов, взрывы гранат, гул рвущихся вблизи снарядов — все смешалось.
Железняков понимал, что нельзя давать врагу опомниться, надо гнать его к городу, прижать левый фланг к реке, под огонь Днепровской флотилии.
Но вдруг случилось нечто неожиданное. Паровоз словно подбросила какая-то гигантская сила. По бронированной крыше застучали обломки. От сильного толчка Анатолия откинуло к стенке.
Он крутанул ручку телефона. Полное молчание. Железняков тревожно крикнул в переговорную трубку:
— Что произошло?!
— Повреждена башня в лобовой бронеплощадке — снаряд пробил броню. Убит наповал первый наводчик Коваленко, тяжело ранен пулеметчик Чумак… ответил кто-то из команды.
— Как остальные товарищи? — с беспокойством спросил командир.
— Есть контуженные и легко раненные, но продолжают вести огонь.
Рассыпавшись в цепи, белогвардейцы начали переходить в контратаки. Артиллерия открыла беглый огонь по бронепоезду.
Железняков отдал команду:
— Полный назад! Пулеметчикам открыть огонь вдоль линии! Не подпускать к полотну ни одной белой сволочи! Ромадов, открыть огонь по белогвардейской артиллерии!
Грохоча вагонами, бронепоезд пополз назад.
Вдруг у самого хвоста состава ударил вражеский снаряд. В воздух взлетел огромный столб земли и пламени. На несколько метров разметались рельсы…
Бронепоезд оказался отрезанным от своих частей.
Не теряя хладнокровия, Железняков приказал немедленно восстанавливать путь. Зазвенели сброшенные на землю запасные рельсы. Двое из ремонтной партии упали, сраженные вражескими пулями. Но рельсы были уже на месте.
Пыхтя и фыркая, весь гудящий от стука работающих пулеметов и залпов орудий, бронепоезд загрохотал по восстановленному пути.
Громкое «ура!» прокатилось по вагонам.
25 июля бронепоезд пришел на станцию Эрастовка, к месту расположения своей базы. Надо было в срочном порядке отремонтировать одну из башен, выведенную из строя вражеским снарядом. Да и боевые запасы надо было пополнить. На станции в постоянной тревоге за мужа вместе с больными и ранеными бойцами находилась жена Железнякова, помогавшая команде в качестве медицинской сестры.
Команда бронепоезда могла хоть немного отдохнуть.
Опустились сумерки. Анатолий и Елена пошли погулять к небольшому пруду вблизи станции.
За прудом чернели мазанки небольшого селения. Слабый свет костра, горевшего около станции, напоминал горящую головню, забытую кем-то в степи. Где-то вдали лаяли собаки. Казалось, будто никогда здесь не было вблизи ни фронтов и ничего такого, что нарушало бы этот ночной покой.
Анатолий размечтался. Какой радостной скоро будет жизнь, говорил он жене…
Вернулись поздно. Крепкий сон сковал командира. Внезапный стук в дверь вагона разбудил его.
— Телефонограмма!
Железняков вскочил. Командование сообщало о том, что противник, сосредоточив огромные силы, перешел в наступление…
Через час, прорезая предрассветную мглу, бронепоезд снова грохотал по рельсам навстречу врагу.
Утром 26 июля деникинцы, сконцентрировав огромные силы, пошли напролом. Упорно сражались красные воины. Но силы были неравны. Стремительным обходным движением противник захватил станцию Верховцево. Бронепоезд очутился в кольце врага. Казалось, единственное спасение для команды — отстаивать свою крепость или взорвать, а самим спасаться вплавь через Днепр.
Но Железняков твердо заявил:
— Будем прорываться, товарищи!
Команда единодушно ответила:
— Будем прорываться!
Белогвардейские орудия били прямой наводкой по полотну железной дороги. Пулеметы поливали вагоны бронепоезда свинцовым дождем. Противник хотел во что бы то ни стало захватить бронированную крепость.
Метко били с бронепоезда артиллеристы из последнего уцелевшего орудия. В три часа дня бронепоезд с боем ворвался в Верховцево.
Бой разгорался.
Положение бронепоезда становилось все более опасным. В пулеметах уже кипела вода, боеприпасы были на исходе, белогвардейцы подходили ближе и ближе. Кольцо сжималось.
— Товарищи, вперед! — крикнул Железняков. Он, пренебрегая опасностью, высунулся из командирской рубки и начал стрелять по врагам из нагана.
Эта смелость стоила герою жизни. Железняков был смертельно ранен. Падая, он отдал последний приказ:
— Бронепоезд не сдавать, товарищи!
Приказ командира был выполнен. Бронепоезд не сдался.
Команда его билась до тех пор, пока не вырвалась из окружения.
В течение шести часов упорно боролось со смертью здоровое, молодое сердце Анатолия. Доставленный в тыл, тяжело раненный балтиец, окруженный фронтовыми товарищами, умер на руках своей любимой жены.
— Да здравствует Советская Социалистическая Республика! — Эти слова были произнесены им с последним вздохом.
Железнякову было всего лишь 24 года.
Эпилог
В широко известной песне о «Матросе-партизане Железняке» есть такие слова:
В степи под Херсоном Высокие травы, В степи под Херсоном — курган. Лежит под курганом, Заросшим бурьяном, Матрос Железняк — партизан.В действительности же прах Железнякова специальным поездом был доставлен в Москву и с воинскими почестями захоронен на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой его фронтового друга, легендарного героя гражданской войны Васо Киквидзе. Такое желание высказал балтиец в письме к своему другу после отъезда из Елани.
О гибели Железнякова газета «Известия ВЦИК» писала: «Пал геройской смертью матрос Железняк, смелый боец, ненавидимый всеми врагами за разгон белоэсеровской Учредилки, бессменный фронтовик гражданской войны».
В заметке «Вечная слава», напечатанной в «Правде» 3 августа 1919 года, друзья Железнякова заявляли, выражая волю всех красных моряков, красноармейцев и всех трудящихся: «Мы клянемся, что дело, начатое тобой, доведем до конца и жестоко отомстим за твою честную молодую жизнь».
Светлый образ бесстрашного борца за счастье народа Анатолия, Григорьевича Железнякова вдохновлял воинов Советской Армии и Военно-Морского Флота на самоотверженную борьбу с немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Отважно сражался с фашистами на Азовском море боевой монитор «Железняков».
Во время героической обороны города-героя Севастополя прославилась на всю страну своими боевыми подвигами команда бронепоезда «Железняков».
Славное имя героя-балтийца носил один из отрядов белорусских партизан. Этот отряд народных мстителей часто появлялся в самом глубоком тылу гитлеровцев и уничтожал их без всякой пощады.
Боевые корабли, носившие имя Анатолия Железнякова, в дни Великой Отечественной войны были на Балтике, на Днепре и в других военно-морских флотах и флотилиях. И везде команды этих кораблей стойко, по-железняковски, били фашистских оккупантов, мужественно защищая советскую отчизну.
Газета «Красный Балтийский флот» нередко печатала крупными буквами призывы к защите Ленинграда:
«Балтийцы! Бейте фашистов так же крепко и беспощадно, как бил всех врагов Советской власти матрос Железняков!»
И в годы мирного строительства в Советском Союзе. многие боевые корабли Военно-Морского Флота носят славное имя прославленного героя-балтийца Анатолия Железнякова.
Хорошо сказал грузинский поэт А. Мирцхулава:
Далеким прошлым станут наши дни, Но не умрут героев имена В грядущем будут вновь звучать они, Героя смерть — рождению равна…Примечания
1
«Царскими подарками» иронически называли матросы в старом флоте удары боцмана медной цепочкой от своей дудки.
(обратно)2
«Духами» в царском флоте называли кочегаров.
(обратно)3
Публикуемые здесь и выше выдержки из дневника А. Железнякова печатаются дословно, лишь с некоторым сокращением. Дневник, названный Железняковым «Памятной тетрадью», велся им с августа 1916 по апрель 1917 г.
(обратно)4
По-видимому, речь идет о транспорте № 108.
(обратно)5
Младший брат Железнякова.
(обратно)6
Впервые опубликовано в журнале «Красный флот» № 1 — 2, 1923 г.
(обратно)7
Посол Англии в России в 1910 — 1918 годах.
(обратно)8
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 229.
(обратно)9
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 228.
(обратно)10
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 50, стр. 26.
(обратно)11
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 50, стр. 41.
(обратно)12
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 357.
(обратно)13
Летом 1918 г. Муравьев предал Советскую республику, пытаясь открыть фронт белогвардейцам, и был расстрелян большевиками Поволжья.
(обратно)


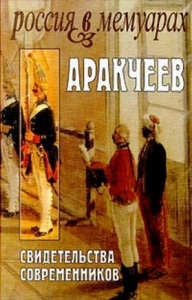

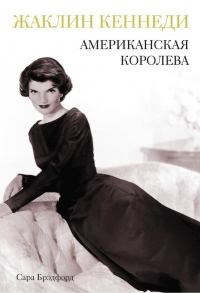

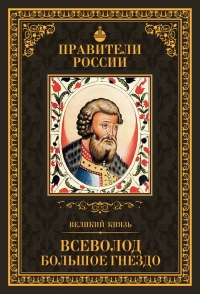

Комментарии к книге «Матрос Железняков», Илья Егорович Амурский
Всего 0 комментариев