Павел Николаевич Зырянов Адмирал Колчак, верховный правитель России
Памяти моих родителей, оренбургских казаков Николая Семеновича и Елены Павловны Зыряновых, очевидцев и участников многих событий, описанных в этой книге.
Пролог
Февраль 1920 года. Маленький деревянный городок Чита на востоке Сибири. Вдоль занесенных снегом улиц теснится народ. Мужчины больше молчат, женщины жалостливо охают, кто-то всхлипывает. В город вступает армия, преодолевшая тысячеверстный «ледяной поход», по дорогам и руслам замерзших рек. Если только можно назвать армией этих оборванных и завшивевших людей, обмотанных тряпьем, в разбитых валенках. Мохнатые, заиндевевшие лошаденки, невероятно худые, тащат подводы с больными и умирающими, в основном тифозными. Но на заросших солдатских лицах светится радость: «Слава богу! Дошли».
– Вот… каппелевцы, – тихо роняет кто-то из толпы.
Гроб с телом генерала Каппеля, скончавшегося в пути, лежит на одной из подвод…
– Колчаковцы… – поправляет другой.
Адмирал Колчак тоже покинул эту землю. И кто знает, куда теперь вынесла его родная ему водная стихия. Или продолжает нести к берегу Ледовитого океана, где в сумраке полярной ночи еле различим остов оставленной когда-то шхуны «Заря», где чертится силуэт острова Колчака…
Ударил колокол, и над Читой поплыл похоронный звон. Это тело Каппеля внесли в церковь. Началась панихида по мёртвому генералу, выведшему армию из гибельного похода, по всем павшим, недошедшим и неотпетым. По Колчаку.
* * *
За несколько месяцев до этих событий, весной 1919 года, оставляя охваченную Гражданской войной Россию, переправлялся через Днестр девятилетний мальчик по имени Ростислав, сопровождаемый офицером, другом семьи. Мальчику запомнилось, как пришлось бороться с сильным течением, которое сносило лодку к левому берегу – к берегу покидаемой Родины. А на правом берегу он видел крепостные стены Хотина, с которыми были связаны его семейные предания.
Отец мальчика, Александр Колчак, в то время сражался в далёкой Сибири. После его гибели ещё несколько лет доживал свой век в Петрограде, в глубокой нужде, старый адмирал А. Ф. Колчак. После его смерти в России не осталось Колчаков. Всего же они прожили под её небом чуть больше 180 лет, если считать с 1739 года, или около 125, если считать с 1793 года.
Много лет спустя Ростислав Колчак, умудрённый уже опытом человек, французский офицер, побывавший в немецком плену, с горечью писал в воспоминаниях: «Так из рода в род повторяются нашествия иноплеменников, из рода в род жёны должны спасать детей из горящих городов, от бомбардировок, голода, грабежей, расстрелов… По-видимому, разорение, бегство в чужие страны, перемена подданства, языка и даже веры явления нормальные…»[1]
Впрочем, младшая ветвь рода осталась в России, но под давлением обстоятельств вынуждена была сменить фамилию. Они стали Александровы.
Глава первая «Желание плавать и служить в море»
Фамилия Колчак турецкого происхождения. В переводе на русский язык она означает «боевая рукавица». Соединённая со стальной пластиной, такая рукавица защищала правую руку, а левая прикрывалась щитом. Основатель рода Колчаков, Илиас-паша Колчак, был комендантом турецкой крепости Хотин. В 1739 году, когда совершился поворот в его судьбе, ему было, по-видимому, более 70 лет.
С 1736 года императрица Анна Иоанновна вела войну с турецким султаном. Начиная военные действия, русские фельдмаршалы грозились дойти до Константинополя. Но кампания разворачивалась вяло. Русские войска то брали крепости, то оставляли их. И только под конец войны, в 1739 году, были одержаны важные победы. Пройдя через польскую территорию, армия под командованием графа X. А. Миниха вошла в Северную Молдавию и 17 августа близ деревни Ставучаны встретилась с турецкой армией. Сражение закончилось тем, что турки обратились в бегство. Бежала и часть хотинского гарнизона, участвовавшая в бою. Брошенный турецким командованием на произвол судьбы и не имевший достаточных для сопротивления сил, Хотин сдался 20 августа. Колчак-паша сначала выслал русскому фельдмаршалу ключи от города, а потом явился сам и отдал свою саблю.[2]
В известной оде М. В. Ломоносова, прославляющей Анну Иоанновну, есть такие строки:
…Пред Росской дрожит Орлицей Стесняет внутрь Хотин своих. Но что? В стенах ли может сих Пред сильной устоять Царицей? Кто скоро толь тебя, Калчак, Учит Российской вдаться власти, Ключи вручить в подданства знак И большей избежать напасти? Правдивый Аннин гнев велит, Что падших перед ней щадит.[3]Как видно, Ломоносов знал, что императрица милостиво обошлась с комендантом Хотина. Колчак-паша и его сын Мехмет-бей, привезённые в Петербург, разместились в специально отведённом для них дворе на Петербургской стороне, где уже жительствовал другой пленный паша – очаковский. Вместе с Колчак-пашой были поселены и другие пленные турецкие офицеры.
Трёхбунчужный хотинский паша едва успел расположиться на новом месте, как с Турцией был заключён мир и пленные получили свободу. Однако он не стал возвращаться в Блистательную Порту, где его непременно посадили бы на кол за сдачу крепости. Не хотелось ему, видимо, оставаться и на чуждом ему Севере. А потому он уехал на Правобережную Украину, входившую тогда в состав Польши, в имение одного польского магната, с которым имел давние дружеские связи. Через несколько десятилетий, когда паши-невозвращенца уже не было в живых, эти места оказались в пределах России. И в русских анналах вновь появляются Колчаки.
По семейным преданиям, они получили русское подданство и дворянство при императрице Елизавете Петровне, около 1745 года. Однако Р. А. Колчак оговаривается, «это, может быть, не совсем так».[4] Скорее всего Колчаки оказались в России не ранее второго раздела Польши в 1793 году. И, строго говоря, не доказана родственная связь «новых» Колчаков, начиная с Лукьяна, с хотинским комендантом и его сыном. Хотя в истории очень многое «строго не доказано» и многое принимается на веру.[5]
В 1803 году, на основе Бугского полка, было образовано Бугское казачье войско, которое охраняло границу России по Днестру. В этом войске служил сотник Лукьян Колчак, получивший земельный надел в Ананьевском уезде Херсонской губернии, недалеко от Балты. У сотника было два сына – Иван и Фёдор, которые впоследствии поделили ананьевское имение. Иван Лукьянович продал свою часть, уехал в Одессу, купил дом и поступил на гражданскую службу. Фёдор Лукьянович стал военным и дослужился до полковника. На основании материалов очередной ревизии 40-х годов XIX века указом Сената от 1 мая 1843 года Колчаки были утверждены в потомственном дворянстве и внесены в родословную книгу дворян Херсонской губернии.[6]
Старшая ветвь рода, обосновавшаяся в Одессе, в свою очередь дала несколько разветвлений, ибо Иван Лукьянович стал отцом многочисленного семейства. У него было несколько дочерей (сколько – неизвестно) и три сына – Василий, Пётр и Александр. Все трое стали военными. Пётр, избравший военно-морское дело, дослужился до капитана 1-го ранга, Александр – до генерал-майора. От него пошла средняя линия Колчаков, помещиков Тамбовской губернии.
Старший сын Ивана Лукьяновича, Василий, родился 1 января 1837 года. Воспитывался в Одесской Ришельевской гимназии, где в те годы были ещё живы традиции основавших её французских эмигрантов. Хорошо знал французский язык и любил всё французское, хотя именно с французами ему вскоре пришлось воевать.
Родители, как видно, готовили его к гражданской службе. Но началась Крымская война. 30 сентября 1854 года, в 17-летнем возрасте, В. И. Колчак вступил на службу в морскую артиллерию Черноморского флота в звании кондуктора (младший офицерский чин). Ему поручили конвоировать транспорт пороха из Николаева в Севастополь. Доставив опасный груз в осаждённую крепость, юноша там и остался. Вчерашний гимназист попал в самое пекло – на Малахов курган. С 15 апреля по 27 мая 1855 года он состоял помощником командира батареи, прикрывавшей гласис – пологую насыпь впереди наружного рва, с уклоном в сторону противника. «Наблюдение за правильностью стрельбы и исправностью земляного бруствера у амбразур; снабжение каждого орудия потребным количеством снарядов и зарядов; ежедневный отчёт в убыли прислуги да требование новой и размещение её по орудиям – вот, изо дня в день, мои занятия на батарее… – вспоминал он впоследствии. – Как я остался цел, и до сих пор понять не могу». 27 мая его контузило осколком бомбы. Несколько дней пролежал в госпитале, а 5 июня вернулся на тот же гласис, теперь уже как бывалый воин.
4 августа, когда на Малаховом шли ежедневные бои, было замечено, что французы приготовили в траншее недалеко от батареи большое количество тур и фашин. Очевидно, неприятель задумал устроить ложемент (небольшое укрепление) поближе к батарее. Командир приказал Колчаку сжечь заготовленные приспособления. Среди дня, под неприятельским огнём, сделать это было непросто. С отрядом солдат Василий Иванович перенёс две небольшие мортиры поближе к французской траншее, укрылся за земляной банкет (невысокую насыпь) и сделал несколько пристрелочных выстрелов. Одна из гранат попала аккурат в кучу тур (больших плетёных корзин для земли), разорвалась, и огонь мгновенно разметался по всей траншее. Заклубились черно-синие облака дыма. Французы попытались забросать огонь землёй, но из-за того же банкета по ним открыли огонь солдаты, вооружённые штуцерами (новейшим стрелковым оружием). Между тем в городе подумали, что пожар вспыхнул на самом Малаховом кургане. На место прибыл начальник штаба князь В. И. Васильчиков. Узнав, в чём дело, он вызвал Колчака и собственноручно повесил ему на грудь знак отличия Военного ордена (солдатский «Георгий»).
Севастополь держался, пока держался Малахов курган. 27 августа, во время последнего штурма, В. И. Колчак был ранен и взят в плен. Над курганом взвилось французское знамя. 28 августа 1855 года русские войска оставили Севастополь.
Вместе с другими пленными В. И. Колчак был отправлен на Принцевы острова в Мраморное море. В октябре того же года, ещё во время плена, его произвели в прапорщики. В марте 1856 года Крымская война закончилась и молодой офицер вернулся на родину.
В ноябре 1898 года в Севастополе проходили торжества по случаю открытия памятника П. С. Нахимову. Было приглашено много участников легендарной обороны, в том числе Василий Иванович. Он вновь увидел знакомые очертания севастопольских бухт, Малахов курган, когда-то залитый кровью и заваленный телами, а теперь покрытый зеленью, всмотрелся в лица боевых товарищей, в его душе вспыхнуло, как вчерашний день, всё далёкое былое – и по возвращении домой он засел за книгу воспоминаний. Живо и интересно написанная, она вышла в 1904 году, к 50-летию начала севастопольской обороны.[7] В это время уже шла осада Порт-Артура.
После Крымской войны Василий Иванович окончил двух-годичный курс в Институте корпуса горных инженеров и был командирован для практики в уральский город Златоуст.
Дальнейшая судьба В. И. Колчака связана с Обуховским сталелитейным заводом – с самого начала работы этого предприятия в 1863 году. Время от времени печатались небольшие брошюры Колчака о сталелитейном производстве, а в 1903 году вышла его объёмистая книга (384 страницы и 49 чертежей) по истории Обуховского завода. В вводной части повествовалось о состоянии судовой артиллерии в России и за границей накануне Крымской войны. Затем освещалась история завода, начиная с 1861 года, когда предприниматель Н. И. Путилов, получив от полковника П. М. Обухова право на изготовление стали по его способу, купил участок земли на берегу Невы за городской заставой, получил от Морского министерства заказ на нарезные орудия для кораблей и развернул производство. В 80-е годы завод перешёл в Морское ведомство. В конце книги сообщалось, что в настоящее время на заводе трудится около четырех тысяч рабочих и инженеров. К числу заводских строений принадлежат каменная церковь и больница на 36 кроватей в общей палате и шесть в отдельных комнатах. Морское ведомство приобрело две десятины земли и построило на ней жильё для рабочих и служащих. При заводе открыты библиотека для инженеров и техников, читальня для рабочих, школа для их детей с вечерними классами и воскресными чтениями для взрослых. Составлены хор певчих и оркестр из рабочих. Их силами устраиваются спектакли и концерты, в заводском саду по воскресеньям играет музыка, а зимой заливается каток.[8]
В нашем распоряжении имеется послужной список В. И. Колчака, датированный 19 марта 1888 года. Во время его составления Василий Иванович, в чине подполковника, состоял в комиссии, «учреждённой в С.-Петербурге для приёма на флот орудий и снарядов». В том же документе, в графе с вопросом «Есть ли за ним, за родителями его или, когда женат, за женою недвижимое имущество, родовое или благоприобретённое», стоит краткий ответ: «Не имею».[9]
Как настоящий одессит, В. И. Колчак был чужд многих дворянских предрассудков. Жену выбрал не из дворян и тоже одесситку. Ольга Ильинична Посохова была дочерью потомственного почётного гражданина. В это состояние обычно приписывали людей с образованием, но без дворянства. Вообще же семья Посоховых вышла из донских казаков. Ольга Ильинична была моложе Василия Ивановича на 18 лет. Отличалась набожностью, спокойным, тихим и строгим характером. Они поженились, как видно, в начале 70-х годов и поселились близ Обуховского завода, в селе Александровском. В 1874 году у них родился сын Александр, а на следующий год дочь Екатерина. Ещё одна дочь, Любовь, умерла в детстве.
Василий Иванович медленно рос в чинах. Генерала получил вместе с отставкой в 1889 году. После этого он ещё 15 лет работал на заводе, заведуя пудлинго-прокатной мастерской. По семейным воспоминаниям, Василий Иванович был человек сдержанный, с изысканными манерами и ироничным складом ума.[10]
Судя по портретам, Василий Иванович был мало похож на своего сына. Он был полнее и «круглей». В лице не было той резкости, которая стала характерной для сына, когда он достиг зрелого возраста. И всё же, несмотря на пропуски в родословной, что-то турецкое угадывается в облике отца и сына. Если сын был более похож на турка-воина, то отец на турка-администратора, турка-мудреца. Так что фамилия с тюркскими корнями всё же напомнила о себе.
* * *
Ещё один документ, на этот раз полностью:
Свидетельство
По указу Его Императорского Величества от С.-Петербургской духовной консистории дано сие свидетельство о том, что в метрической 1874 года книге Троицкой церкви с. Александровского С.-Петербургского уезда под № 50 показано: Морской Артиллерии у штабс-капитана Василия Иванова Колчак и законной жены его Ольги Ильиной, обоих православных и первобрачных, сын Александр родился 4-го ноября, а крещён 15 декабря 1874 года. Восприемниками его были: штабс-капитан морской Александр Иванов Колчак и вдова коллежского секретаря Дарья Филипповна Иванова.[11]
Крёстным отцом будущего верховного правителя был его дядя, младший брат отца, а крёстная – лицо неизвестное.
В тот день поздней осени, когда родился Александр Васильевич Колчак, Солнце находится в созвездии Скорпиона.
Скорпион – одно из самых красивых и интересных зодиакальных созвездий. Только частью оно видимо в наших широтах. Оно восходит на небосвод, когда заходит Орион. Созвездие Скорпиона связано со многими мифами о чудовище, погубившем героя. Сердце Скорпиона – огненно-красная звезда 1-й величины Антарес. В древности она считалась вещей звездой. На точку восхода Антареса ориентированы знаменитые древнегреческие храмы Зевса на острове Эгина и Аполлона в Дельфах. В 1860 году в созвездии Скорпиона на несколько дней вспыхнула «новая» звезда 7-й величины. Вообще же Скорпион и соседний с ним Стрелец обильны «новыми» звёздами.
Астрология – удивительный свод наблюдений. Официального статуса науки она не имеет, ибо никто не может экспериментально доказать влияние на человеческую жизнь течения по небосклону далёких светил. И всё же астрология в состоянии помочь человеку понять самого себя, своих близких. И не обязательно близких по времени и пространству людей, но по духу, по обращенным к ним мыслям. Не следует отбрасывать знания, построенные на интуиции. Напрасно историки не используют астрологию, хотя бы как литературный приём, для характеристики своих героев и внутреннего их мира.
Астрологи относят Скорпиона к знакам воды. Однако в отличие от Рыб, предпочитающих уплывать от опасности, от Рака, склонного к глухой обороне, Скорпион всегда готов принять бой, пасть или победить. «Всё или ничего» – девиз Скорпиона. Страстный, импульсивный, раздражительный и обидчивый, Скорпион смотрит на жизнь как на цепь сражений. После поражения быстро восстанавливается и вновь начинает бой. У Скорпионов трудный характер, но они хорошие и верные друзья. Они честны и порядочны.
Судьба Скорпиона во многом зависит от жизненных обстоятельств. Если они благоприятны, он идёт от успеха к успеху. Но полоса неудач может растянуться на всю жизнь и закончиться трагически. Антарес может предвещать насильственную смерть. Но и в этом, самом крайнем случае Скорпион, как ни странно, не будет побеждён. Показав миру недюжинную отвагу и мужество, он переходит в область легенд. А это для Скорпиона родная стихия.
Таинственное и неизвестное влечёт Скорпиона, как магнит. Неведомые земли, неизученные области науки, сокровенные уголки человеческой психики, глубины древней философии, непередаваемые откровения мистики – во все эти области Скорпион может совершить смелые и опасные путешествия. Это могут быть путешествия как в прямом смысле слова, так и воображаемые, умственные, в рабочем кабинете. Во втором случае их успех зависит во многом от того, насколько обеспечена спокойная обстановка жизни и труда. В своей профессии Скорпион отличается упорством и настойчивостью, выдержкой и выносливостью, терпением и методичностью.
Скорпион многосторонне талантлив. Он может найти своё призвание в мире искусств и художеств, в области наук, прежде всего физико-математических, на государственной службе, в политике и военном деле. И особенно в мореплавании.
Многие выдающиеся люди рождены под знаком Скорпиона: государственные деятели и политики (Жорж Дантон, Чан Кайши, Индира Ганди), военные (бургундский герцог Карл Смелый, наполеоновский маршал Жак Макдональд, немецкий фельдмаршал Альберт Кессельринг), учёные (русский энциклопедист Михаил Ломоносов, математик и философ Жан Д'Аламбер, астроном Вильям Гершель, открывший Уран), философы и религиозные проповедники (Мартин Лютер, Вольтер), писатели и поэты (Фридрих Шиллер и Фёдор Достоевский), художники (Василий Верещагин), музыканты (Никколо Паганини, Александр Бородин, Имре Кальман), шахматисты (Александр Алёхин, Михайл Таль) и, наконец, мореплаватели: Джеймс Кук, Иван Крузенштерн, Михаил Лазарев, Нильс Норденшельд.[12]
Несмотря на общие представления о крайней воинственности Скорпиона, череда военных в приведённом списке выглядит не очень убедительно. Самый же блистательный ряд дали учёные, музыканты и, конечно же, мореплаватели.
* * *
«О детстве великих людей мы знаем до обидного мало, – писал Арсений Гулыга, известный мастер биографического жанра, – ведь никто не думает, что именно из этого ребёнка выйдет что-то путное, никто не собирает свидетельств его духовного роста».[13] Особые трудности возникают, если великий человек не оставил воспоминаний.
Александр Васильевич Колчак оставил воспоминания, правда, в довольно своеобразной форме. Это его восьмидневный допрос в Иркутске в январе-феврале 1920 года. Однако о раннем его детстве из этого документа можно почерпнуть лишь самые краткие сведения. «Я православный, – говорил Колчак, – до времени поступления в школу я получил семейное воспитание под руководством отца и матери».[14] Религиозное воспитание, по-видимому, исходило больше от матери, которая часто водила детей в церковь недалеко от завода. Политикой она не интересовалась. А Василий Иванович придерживался очень консервативных взглядов в политике. На его мировоззрение неизгладимый отпечаток наложило николаевское царствование.
30 апреля 1885 года Василий Иванович написал прошение на имя директора 6-й Петербургской классической гимназии:
«Желая, чтобы сын мой Александр был подвергнут испытанию наравне и в одно время с учениками во вверенном Вам учебном заведении…покорнейше прошу о том распоряжения Вашего, причём имею честь сообщить, что он подготовлялся к поступлению в 1-й класс и до сего времени обучался дома. При сём прилагаю метрическое свидетельство… свидетельство о привитии оспы и 10 руб. в пользу экзаменаторов».
Чтобы поступить в первый класс (а не в приготовительный), нужно было сдать экзамен, за который взималась плата. На том же документе стоит помета за чьей-то подписью: «Деньги 10 р. получил».[15]
Родителям свойственно направлять детей по пройденной ими самими тропе. Мы помним, что и Василий Иванович свой жизненный путь начинал с гимназии. Остаётся лишь гадать, хотел ли он, чтобы его сын стал военным. Чтобы стать офицером, надо было идти в юнкерское или морское училище, инженером – в реальное. Гимназия же предполагала занятия науками или службу по гражданскому ведомству.
26 июля того же года Василий Иванович написал на имя директора гимназии новое прошение:
«Желая дать образование сыну моему Александру Колчак во вверенном Вам учебном заведении, имею честь просить распоряжения Вашего о том, чтобы он был помещён в I классе, в который выдержал экзамен в мае месяце с. г. При этом желаю, чтобы сын мой… обучался в назначенных для того классах обоим новым иностранным языкам, буде окажет достаточные успехи в обязательных для всех предметах, в противном же случае французскому языку и кроме того рисованию за особую установленную по сему предмету плату…»[16]
Из всех петербургских гимназий Шестая была, наверно, самой демократичной по составу учащихся. Маленький народ, собравшийся в одном классе с юным Колчаком, представлял все основные классы и сословия тогдашней России: крестьянство, мещанство, купечество и предпринимателей, дворянство. Около трети были сыновьями чиновников, преимущественно мелких. Офицеры, чьи дети учились в этом классе, тоже были в небольших чинах. Александр Колчак, сын подполковника, и Вячеслав Менжинский, сын статского советника, будущий чекист, составляли как бы «сливки общества» – важнее ни у кого отцов не было. Один из лучших учеников в классе был потомком дворового мужика.
Кстати говоря, успеваемость у гимназистов была явно не на высоте. Общество было настроено против классического образования, гимназисты об этом знали, учиться не хотели, учителя же оценок не «натягивали», за уши никого не тащили, а потому около трети класса оставалось на второй год. К сожалению, не блистали в этом отношении и «сливки общества». У Колчака в табели успеваемости за 2-й класс (1886/87 учебный год) оценкой в 5 баллов отмечено только поведение, да и то за первое полугодие, а затем по поведению появились четвёрки. Относительно успешно шло постижение Закона Божия и географии: здесь тройки перемежались с четвёрками, а за год выведены были четвёрки. Хуже всего обстояло дело с немецким и французским языками, по которым Колчак получал в четвертях тройки, тройки с минусом и двойки. Письменный переходной экзамен Колчак едва ли не провалил: двойка по русскому языку, тройка с минусом по латинскому, тройка по математике, тройка с минусом по немецкому и двойка по французскому. По русскому и французскому языкам назначены были устные испытания, на которых получены были тройки, и окончательный балл по обоим предметам определили как три с минусом. Педагогический совет принял решение о переводе в следующий класс.
Плохая успеваемость, возможно, отчасти объяснялась дальностью гимназии от места жительства. Она находилась на Фонтанке, вблизи нынешней площади Ломоносова. Пансиона не имела. А у Колчаков, людей небогатых, вряд ли был собственный выезд. Можно предположить, что именно из-за дальности расстояния Колчак пропускал много уроков: только в 1-й четверти 2-го класса – 66, все по уважительным причинам. Потом, правда, это количество сократилось, но отметки лучше не стали.
Вячеслав Менжинский, тихий и застенчивый мальчик с большими ушами, тоже не радовал родителей своими успехами. По русскому языку и Закону Божьему его отметки были немного лучше, чем у Колчака, по остальным предметам примерно такими же. В первом классе Менжинский оставался на второй год.[17]
Колчак проучился в гимназии ещё один год. По-видимому, не привлекала его гимназия, не заинтересовали преподававшиеся в ней предметы. Он мечтал о другом, и не случайно оценки по географии были выше прочих. В 1888 году, «по собственному желанию и по желанию отца», как сказано в стенограмме допроса, он поступил в Морское училище.[18]
* * *
15 декабря 1752 года указом императрицы Елизаветы Петровны был основан Морской шляхетский кадетский корпус. С его учреждением упразднялась Московская школа, или Академия в Сухаревой башне.
Морской корпус разместился в Петербурге на Васильевском острове, в двухэтажном дворце, ранее принадлежавшем Миниху. Фельдмаршал, пленивший Колчак-пашу, впал в немилость и коротал свои дни в далёком Пелыме.
В 1766 году окончил Морской корпус и был произведён «в мичмана» (как говорят и пишут моряки) капрал Фёдор Ушаков, знаменитый флотоводец времён Екатерины П. В числе выпускников 1788 года были Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский, в 1803–1806 годах руководившие первой русской кругосветной экспедицией. Впоследствии И. Ф. Крузенштерн был назначен на должность директора Морского корпуса и долгие годы его возглавлял.
В 1808 году из корпуса вышел М. П. Лазарев, в 1818-м – П.С.Нахимов, в 1825-м – В. А. Корнилов. За немногими исключениями, весь цвет русского военного флота был взращён в этих стенах. В разные времена ежегодный выпуск составлял 40–60 человек. В среде русского дворянства появились родовые кланы с давними морскими традициями. Выходцы из этих семей из поколения в поколение учились в Морском корпусе: Невельские, Тимирёвы, Лермонтовы, Веселаго, князья Ширинские-Шихматовы, Головнины, Куроедовы, Врангели и др.[19] «Моряки старинных фамилий, влюблённые в далёкие горизонты», – писал о них Михаил Кузмин, поэт русского Серебряного века.
В 1867 году Морской корпус был переименован в Морское училище. Оно стало более доступным для выходцев из других сословий. Однако в 1891 году, уже при Колчаке, училище вновь стало называться Морским кадетским корпусом.
В корпусе многое было сделано для того, чтобы кадеты приобщались к традициям этого старого и заслуженного учебного заведения, к традициям русского флота. В корпусной церкви на стенах были установлены чёрные мраморные доски с именами воспитанников, павших в сражениях. Кадет Колчак мог видеть 17 таких досок. На последней из них были написаны имена офицеров, погибших в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. На серых мраморных досках были высечены имена выпускников, погибших при кораблекрушениях и исполнении служебного долга. На мраморных досках в здании самого училища золотыми буквами записывались имена тех, кто был первым в своём выпуске.
В Морское училище принимались мальчики в возрасте 12–14 лет. Курс обучения был шестилетний. За это время воспитанники завершали среднее образование и получали высшее военно-морское. По окончании пятого года обучения кадеты производились в гардемарины. В строевом отношении воспитанники училища составляли батальон, а каждый курс – роту. В училище было пять кадетских рот и одна гардемаринская.[20]
Воспитанники находились на полном казённом содержании, жили в самом корпусе (училище). По воскресеньям в отпуск увольняли только тех, у кого в Петербурге были родители. Ещё со времён Крузенштерна сложился довольно жёсткий распорядок дня: в 6 часов 30 минут побудка, затем гимнастика и утренний чай, в 8 часов первый урок. Каждый день было три урока, по полтора часа. Строевые учения – тоже полтора часа. Свободного времени полагалось три часа в день. После вечернего чая желающие могли идти ко сну, а с 11 часов все должны были спать.[21]
Долгие годы училище возглавлял контр-адмирал А. П. Епанчин, продолжавший крузенштерновские традиции. В 1882 году его сменил контр-адмирал Д. С. Арсеньев, слывший «паркетным адмиралом». Он был участником нескольких военно-дипломатических миссий, а затем многие годы служил воспитателем при великих князьях Сергее и Павле Александровичах. Новый начальник первым делом, во избежание «дурных влияний», ограничил отпуск воспитанников в город. Затем он обратил внимание на то, что их головы слишком забиты морскими науками, что они в большинстве своём слабо разбираются во всём, что выходит за эти рамки. Они неотёсанные увальни, не умеют вести себя в обществе, особенно дамском. Адмирал же был убеждён, что морской офицер должен уметь показать себя не только в бою, но и в свете.
С приходом Арсеньева в старших классах стали преподавать высшую географию и статистику, русский язык, литературу и Закон Божий. В первой (старшей кадетской) роте ввели внеклассные лекции по русской истории, а в гардемаринской – по всеобщей. В училище приглашались известные учёные для чтения популярных лекций. Так, например, в конце 1889-го – начале 1890 года профессор Петербургского университета СП. Глазенап прочитал цикл лекций по астрономии.[22]
Воспитанники неодинаково относились к этим новшествам, которые ломали принятое в училище расписание, сокращая свободное время и время, отведённое на приготовление уроков. Конечно, в эти часы многие воспитанники били баклуши, но наиболее развитые занимались по собственной программе. Некоторые интересовались историей, особенно военно-морской, читали описания плаваний и путешествий. Другие знакомились с новинками литературы. Третьи строили модели кораблей. Теперь, когда свободного времени стало меньше, многое из этого пришлось оставить.
Чтобы обучить кадет хорошим манерам, Арсеньев ввёл уроки танцев. Однажды он сам явился на такой урок. По ходу объяснений понадобилось показать, как держать даму в вальсе. Адмирал вызвал одного из воспитанников и, подхваченный набегающими волнами музыки, забыв обо всём на свете, закружился с ним, красным от смущения, в пленительном и томном танце. Несмотря на неуклюжесть партнёра, начальник училища показал высший класс. Только воспитанники опять же начали сомневаться и спорить между собой: адмиральское ли дело танцы?[23]
На разных курсах в Морском училище всегда было много родственников – родных, двоюродных, троюродных братьев, племянников. Однажды колчаковский однокурсник Георгий Гадд явился к врачу с высокой температурой, а тот его выгнал, даже не выслушав: ты почти каждый день ко мне ходишь! Лекарь был новый и не знал, что в училище состояли четверо или пятеро Гаддов, к тому же достаточно друг на друга похожих. Родственные связи, конечно же, помогали самым юным воспитанникам освоиться в незнакомой обстановке.
Александр Фёдорович Колчак (первый из Колчаков в Морском училище, впоследствии адмирал) был выпущен в 1878 году. Так что у его двоюродного племянника не было в училище никого, кто мог бы прийти на помощь, кто связывал бы с оставленным миром семьи и детства. Преодолеть одиночество, особенно острое в первый год, Колчаку помогала дружба с одним из однокурсников. Такой дружеской близости у Колчака за всю жизнь, наверно, больше ни с кем не было, и недаром даже на допросе, за несколько дней до гибели, он вспомнил о нём, не называя по имени: «…Шёл я всё время первым или вторым в своём выпуске, меняясь со своим товарищем, с которым поступил в Корпус…»[24]
Этот друг юности Колчака – Дмитрий Филиппов, самый младший из шестерых детей вдовы губернского секретаря, харьковской помещицы. Из слов Колчака можно понять, что они познакомились ещё до поступления в училище. Скорее всего, так и было, ибо вдова имела жительство в здании Обуховской больницы.[25]
В Морском корпусе (училище) Колчак сильно переменился. По-видимому, начал взрослеть, появилось чувство ответственности, да и сама учёба стала осмысленным делом: ведь он учился там, где хотел, и тому, чему хотел. Они с Филипповым действительно выделялись на курсе своими успехами.
В 1944 году в нью-йоркском журнале «Морские записки» была опубликована статья «Выпуск Колчака». Её автор, контр-адмирал и известный в эмиграции писатель-маринист Дмитрий Никитин (псевдоним – Фокагитов), закончил Морской корпус на три года раньше Колчака, которого, несомненно, знал. Брат его Андрей, скончавшийся в 1944 году, учился вместе с Колчаком. И в упомянутой статье рассказ временами ведётся как бы от имени покойного брата (и скорее всего с его слов). К такому приёму вряд ли решился бы прибегнуть мемуарист, далёкий от литературы; профессиональному писателю это не казалось чем-то необычным или недопустимым. Вот этот рассказ.
«В третьей роте корпуса идёт вечернее приготовление уроков. Ярко горят керосиновые лампы, и за своими конторками, уставленными вдоль длинной комнаты… сидят кадеты и зубрят. Среди лёгкого, как шелест листьев, шума, неизбежного, когда несколько десятков людей занимаются наукой, до меня доносится чей-то негромкий, но необыкновенно отчётливо произносящий каждое слово, как бы отпечатывающий каждый отдельный слог голос: „Прежде всего ты должен найти в пятой таблице величину косинуса…“
Кадет среднего роста, стройный худощавый брюнет с необычным, южным типом лица и орлиным носом поучает подошедшего к нему высокого и плотного кадета. Тот смотрит на своего ментора с упованием… Ментор этот, один из первых кадет по классу, был как бы постоянной справочной книгой для его менее преуспевающих товарищей. Если что-нибудь было непонятно в математической задаче, выход один: «Надо Колчака спросить»…
Моя конторка в нескольких шагах от Колчака. Я смотрю на него и думаю: «Где я видал раньше подобное лицо, аскета с горбатым носом и горящими пламенем фанатизма глазами?» И вдруг вспомнил: это было на картинке, где был изображён Савонарола, произносящий одну из своих знаменитых речей».[26] Автор не без оснований указал на портретное сходство между Колчаком и знаменитым флорентийским проповедником, казнённым в 1498 году.
Кроме учёбы, воспитанники любого учебного заведения, а военного тем паче, оцениваются ещё с одной стороны – по поведению. И в этом отношении Колчак и Филиппов имели разные показатели.
Кадеты и гардемарины не всегда вели себя безупречно. Случалось, они разговаривали, пересмеивались и шалили в строю и на занятиях, спали после побудки, курили в ватерклозете, дерзко отвечали на замечания офицеров, писали на стенах нехорошие слова, а во время плавания оставляли вахту, ни у кого не спросясь, не выходили на аврал (особенно ночью), возвращались из города пьяными. И за всё это сидели под арестом. Каждый такой случай заносился в кондуитный журнал. Похождения некоторых личностей в этом журнале занимают несколько страниц. У других единственная страница так и осталась пустой.
За шесть лет учёбы у Колчака появилось четыре записи в кондуитном журнале. 10 сентября 1890 года он не сразу встал, когда вошёл начальник корпуса. Строгий арест на трое суток был наложен самим Арсеньевым. 22 февраля 1891 года Колчак опоздал в класс на 10 минут. 17 декабря того же года он громко разговаривал в спальне (наверно, с кем-то спорил) и не обратил внимания на замечание дежурного офицера – получил строгий выговор. А 29 мая 1892 года, почти в 18-летнем возрасте, вдруг расшалился во время занятий и был оставлен без обеда. Деятельность Филиппова описана в журнале гораздо подробней. Он часто шалил, как видно, ещё был и любителем поспать, а потому неоднократно опаздывал на утреннюю гимнастику.[27] Мальчик, видимо, был сибаритом и тем напоминал покойного отца, который не закончил университета, остался в малых чинах и преуспел только в создании большого семейства. Так что друзья были очень не похожи.
По окончании зимних занятий, после небольшого отпуска, все воспитанники, за исключением самых младших, отправлялись в плавание. Училище имело целую эскадру: фрегат «Князь Пожарский», корветы «Скобелев», «Боярин», «Баян» и миноноску № 47. Правда, такая эскадра мало кого могла устрашить. «Князь Пожарский», парусник с паровым двигателем, был спущен на воду ещё в 1867 году. Деревянный корвет «Боярин» был чистым парусником.
Колчак впервые вышел в море в 1890 году. 12 мая воспитанники прибыли в Кронштадт. Младших определили на «Князь Пожарский». На этом корабле поднял свой флаг командующий эскадрой контр-адмирал Ф. А. Геркен. (Вместе с Колчаком учился его сын Алексей, не отличавшийся успехами.) Кадетам, первый раз участвовавшим в плавании, ставилась задача: ознакомиться с жизнью и службой на корабле, получить общие сведения по морскому делу. Особое внимание обращалось на то, чтобы научить водить шлюпку под парусами. Это должно было развить глазомер, находчивость и отвагу.
Кадет, явившихся на борт корабля, встретил его командир, капитан 1-го ранга В. П. Мессер. Это был настоящий морской волк. Суть его приветственной речи можно было изложить в нескольких словах: все должны хорошо учиться, а кто не захочет, того я заставлю. Но командир по старой морской привычке украсил свою речь такими выразительными оборотами, которые многие кадеты слышали первый раз в жизни. Это было тем более в диковинку, что в корпусе офицеры изъяснялись с воспитанниками всегда подчёркнуто корректно.[28] Но на море свой язык – это кадеты сразу поняли.
Эскадра посетила Бьорк (ныне Приморск), Гельсингфорс (Хельсинки), Ревель (Таллин). Младшие воспитанники усиленно занимались на шлюпках. В конце июля состоялись общие для всех рот гребные и парусные гонки. Затем было произведено десантное учение. 6 августа отряд вернулся в Кронштадт.
Вряд ли первое плавание оставило у юного Колчака приятные воспоминания. Лето на Балтике выдалось холодным. Шли дожди, штормило. На «Князе Пожарском» во время спуска шлюпки одному из воспитанников канатом перебило четыре пальца. Другой воспитанник был уличён в воровстве – его тотчас же списали с фрегата, а потом исключили из училища.
Главное же, Колчак воочию увидел, с каким тяжёлым, изнурительным трудом связано морское дело. Даже адмирал Геркен в своём отчёте отмечал, что юноши подвергаются почти непосильной нагрузке. «Программы летних занятий воспитанников настолько обширны, – писал он, – что положительно воспитанники заняты по разным отраслям целый день и не имеют времени для отдыха. Такие усиленные занятия, не думаю, чтобы были полезны, беря во внимание то, что в продолжение зимы воспитанники тоже усиленно занимаются и от зимних занятий до кампании имеют отдыха не более 10–12 дней, а затем после кампании до зимних занятий их отпуск простирается не более 20 дней». Командующий также сообщал, что ежедневная одежда кадет и гардемарин, состоящая из фланелевых рубах и суконных брюк, так износилась, что её приходится чинить каждый день. В таком же виде и их сапоги.[29]
Наряду с этим воспитанники не могли не заметить, в каком приниженном положении находились матросы. С. С. Фабрицкий, товарищ Колчака по Морскому корпусу, вспоминал, что во флоте в те времена «царила ещё жестокость в обращении с подчинёнными, процветали линьки и рукоприкладство и шла беспрерывная, виртуозная ругань».[30]
Морская служба сразу же повернулась к Колчаку своей суровой, будничной стороной. Но юноша проявил характер и выстоял, воспринимая хорошее и, как увидим далее, не воспринимая плохое.
Едва началась следующая морская кампания, 1891 года, как адмирал Геркен получил телеграмму от полковника Колчака: «Вследствие тяжкой болезни моей жены прошу разрешить отпуск моему сыну на три недели». Командующий наложил резолюцию: «Уволить на 4 дня». Василий Иванович похлопотал в министерстве, и сыну увеличили отпуск до семи дней. Свидание с сыном, видимо, помогло Ольге Ильиничне. Но с этого года она начала болеть. 28 июня молодой Колчак прибыл в порт Ганге (Ханко) в Финляндии и присоединился к эскадре. 27 июля он участвовал в гребной гонке (старшина Стеценко, гребцы Никитин, Зенилов, Михайлов, Лосев, Колчак, Кузнецов).[31]
Как рассказывал брат одного из этих гребцов, упоминавшийся выше Д. В. Никитин, в роте, где состоял Колчак, числился и великий князь Алексей Михайлович, самый младший из шестерых сыновей Михаила Николаевича, брата Александра П. Он участвовал в двух или трёх плаваниях, но в последнем сильно простудился, заболел и больше уже не бывал ни в корпусе, ни в плаваниях.[32]
Учебная программа Морского корпуса предусматривала однодневную экскурсию гардемарин на Обуховский сталелитейный завод для ознакомления «с последовательными процессами полной фабрикации орудий… а также и с приготовлением стали».[33] Колчак бывал у отца на заводе много раз, а во время каникул, наверно, и ежедневно. «Пребывание на заводе, – рассказывал он впоследствии, – дало мне массу технических знаний: по артиллерийскому делу, по минному делу…» Одно время Колчак увлёкся мыслью досконально изучить заводское производство. Начал с самых азов – со слесарного дела, которому его обучали обуховские рабочие. Знакомство с ними пробудило у юноши интерес к социальным вопросам. По-видимому, он успел даже что-то прочитать на эту тему. Но возобновились занятия в корпусе, и все прочие дела пришлось оставить.
Известный английский изобретатель и пушечный король Уильям Джордж Армстронг, приезжавший на Обуховский завод, предложил молодому Колчаку поехать в Англию, пройти школу на его заводах и стать инженером. «Но желание плавать и служить в море превозмогло идею сделаться инженером и техником», – вспоминал Колчак.[34]
Когда он перешёл в гардемаринский класс, его произвели в фельдфебели (одного из немногих на курсе) и назначили наставником в младшую роту. Среди вверенных его попечению кадет был Михаил Смирнов, оказавшийся рядом с Колчаком в последние годы его жизни. В воспоминаниях Смирнова очерчен ещё один ранний его портрет: «Колчак, молодой человек невысокого роста, со сосредоточенным взглядом живых и выразительных глаз, глубоким грудным голосом, образностью прекрасной русской речи, серьёзностью мыслей и поступков внушал нам, мальчикам, глубокое к себе уважение. Мы чувствовали в нём моральную силу, которой невозможно не повиноваться, чувствовали, что это тот человек, за которым надо беспрекословно следовать. Ни один офицер-воспитатель, ни один преподаватель корпуса не внушал нам такого чувства превосходства, как гардемарин Колчак».[35] (Психологи, наверно, заметили, что подростки обычно находят объект восхищения и образец для подражания не среди людей среднего возраста, с их точки зрения стариков, а среди людей, более близких им по возрасту.)
Наступил 1894 год, отмеченный в судьбе Колчака несколькими событиями, печальными и знаменательными. После тяжёлой болезни, в возрасте 39 лет, умерла его мать. На престол вступил император Николай II, с которым Колчаку впоследствии довелось несколько раз встречаться. В этом же году Колчак заканчивал Морской корпус.
По завершении занятий гардемарины должны были отправиться в месячное плавание, а затем сдавать выпускные экзамены.
11 августа корвет «Скобелев» снялся с якоря на кронштадтском рейде. До конца месяца всё шло хорошо. Практика заканчивалась, «Скобелев» повернул обратно в Кронштадт, куда должен был прийти 4 сентября. Но во время этого последнего перехода на Балтике резко испортилась погода. Из-за сильного волнения начались перебои винта. Пришлось прекратить пары и вступить под паруса. Между тем волнение перешло в свирепый шторм. Командир приказал спустить некоторые паруса. Корабль черпал левым бортом. Мачты начинали «хлябать» в своих основаниях. Старые бронзовые пушки грозили сорваться с мест. Командир уже подумывал о том, что придётся срубить мачты и выкинуть за борт пушки. Но было ещё одно обстоятельство, о котором знали только он, командир, старший офицер и механик: на судне «тронулись» котлы и водяные цистерны. С этим ничего поделать было нельзя. Без мачт и с поломанным двигателем судно превратилось бы в игрушку волн.
С большим трудом удалось добраться до Либавы (ныне Лиепая) и там переждать бурю. В Кронштадт пришли 7 сентября. Когда корвет ввели в гавань, на его борт поднялись адмиралы Арсеньев и Мессер – тот самый Мессер, который пять лет тому назад очень красочно приветствовал кадет, явившихся на первую свою морскую практику. Теперь он возглавлял экзаменационную комиссию.[36]
Самым страшным экзаменом считалось морское дело. И результаты этого экзамена, самого первого, действительно оказались обескураживающими. Глядя на ведомость, можно подумать, что гардемарин впору было не представлять к офицерскому званию, а возвращать назад, в кадеты. Едва ли большинство удовлетворительно ответило на половину поставленных вопросов. Даже Филиппов отвечал неважно (14 из 22 вопросов). Начальство и сами гардемарины объясняли провал тем, что экзамен был назначен внезапно, сразу по возвращении. И только Колчак не был застигнут врасплох. Единственный из всей роты, он ответил на все 15 заданных вопросов.
На следующих экзаменах гардемарины выглядели гораздо лучше. По машинному, штурманскому делу и по артиллерии Колчак также ответил на все вопросы, но на этот раз он не был единственным. А на экзамене по минному делу Колчак удовлетворительно ответил только на четыре из шести заданных вопросов. Теперь кое-кто отвечал и получше.[37] Так бывает, что дело, которое впоследствии становится для человека его коньком, предметом гордости, поначалу не очень даётся.
После экзаменов был составлен, в порядке убывающей успеваемости, список выпускников 1894 года. Первым в выпуске должен был быть Колчак, но он, как говорят, запротестовал, считая, что это место принадлежит Филиппову.[38] Успехи в учении у того и другого были примерно одинаковы, но у Филиппова хуже обстояло с поведением. Колчак, видимо, возмутился тем, что данные из кондуитного журнала определяют место в выпуске. В итоге Колчак в списке оказался после Филиппова. Как утешение, он получил премию адмирала П. И. Рикорда – одну из денежных премий, вручавшихся нескольким лучшим выпускникам.[39]
К выпуску 1894 года был причислен и великий князь Алексей Михайлович, курса фактически не закончивший. Тем же приказом от 15 сентября 1894 года, коим выпущенные гардемарины были произведены в мичманы, он тоже получил чин мичмана и занял место во главе списка. Филиппов стал вторым, а Колчак третьим. В таком виде этот список перепечатан из сборника приказов по флоту в книге Н. Коргуева.[40]
Алексей Михайлович умер в Сан-Ремо от туберкулёза в феврале следующего года в возрасте 20 лет. Остаётся неясным, чьё имя попало на мраморную доску в Морском корпусе. Филиппов в своих послужных списках писал, что именно его имя было запечатлено золотыми буквами. А Колчак говорил, что он вышел вторым. Великого князя они, видимо, считали просто «причисленным».
* * *
В конце 1894 года мичманы Колчак и Филиппов были зачислены в Петербургский 7-й флотский экипаж. Потом Филиппова назначили на крейсер «Дмитрий Донской», который отправился в Тихий океан. В 1898 году Филиппов получил чин лейтенанта, а по возвращении из заграничного плавания вышел в запас и женился. В 1904 году, в связи с началом Русско-японской войны, его призвали из запаса и зачислили в 18-й флотский экипаж. В военных действиях он не участвовал и вскоре по окончании войны вышел в отставку.[41] Справочник «Весь Петербург» на 1909 год (с. 822) указывает, что отставной лейтенант Д. Д. Филиппов имел жительство на Екатерининском канале и работал инженером на Балтийском судостроительном и механическом заводе.
А. В. Колчак в марте 1895 года был назначен для занятий штурманским делом в Кронштадтскую морскую обсерваторию, а через месяц его определили вахтенным офицером на только что построенный броненосный крейсер «Рюрик».[42] 5 мая 1895 года крейсер вышел из Кронштадта в заграничное плавание.
Путь через южные моря от Кронштадта до Владивостока тогда совершался примерно за полгода. Это значит, что «Рюрик» пришёл во Владивосток в самую хорошую пору, когда прекращаются летние проливные дожди и устанавливается прозрачная и тихая дальневосточная осень. И когда крейсер преодолел извилистый и трудный вход, открылся вид на просторную бухту Золотой Рог, способную вместить огромный флот, и на молодой город, хаотично раскинувшийся по её берегам. В центре возвышались каменные строения – собор, дом главного командира, дом губернатора, морской клуб, гостиница «Тихий океан», железнодорожный вокзал в русском стиле. Через центр пролегала и единственная в городе мощёная улица – Светланская, названная в честь фрегата «Светлана». Остальная часть города – деревянные дома – была в беспорядке разбросана по холмам и балкам. Окружающие город сопки когда-то покрывал густой строевой лес. Но его давно вырубили. На сопках появились глинистые обрывы и пролегли овраги. По горам вокруг бухты опытный глаз военного различал крепостные форты. Укреплён был и остров Русский, запиравший вход в бухту.
Зимой, когда бухта начинала покрываться льдом, Тихоокеанской эскадре приходилось отходить на юг. По соглашению с японским правительством она зимовала либо в Нагасаки, либо в каком-то другом японском порту. В те годы русские военные корабли так часто посещали Японию, что трудно сказать точно, когда впервые Колчак увидел эту страну. Может быть, ещё по пути во Владивосток предстала пред ним Япония эпохи Мэйдзи, открытая уже для европейцев, но во многом ещё старая, патриархальная (все в кимоно), не техницизированная, как сейчас, очаровательно гостеприимная, с гейшами, назначение которых для грубых европейцев так и осталось не вполне понятным, с пёстрыми знамёнами, развевающимися у каждой лавки и балагана и зазывающими туда, как в рай земной, с мягкими очертаниями гор и прихотливыми изгибами бухт, с уникальным соединением двух религий – буддизма и шинтоизма. Уже тогда Колчак заинтересовался философией буддизма, разделившегося на множество направлений, от созерцательных до откровенно воинственных. Он даже попытался изучить китайский язык, чтобы читать в подлиннике буддийские тексты. Побывал в городке Камакура (недалеко от Токио), где находится огромная статуя Будды в позе «тихого созерцания».[43] Япония одновременно и привлекала, и отталкивала Колчака. Кажется, до конца своих дней он не смог разрешить для себя «японскую загадку».
Во Владивостоке или Нагасаки Колчак познакомился с Дмитрием Ненюковым и Георгием Дукельским, лейтенантами с крейсера «Память Азова». Ненюков (впоследствии адмирал) вспоминал о Колчаке: «Он уже и тогда обращал на себя внимание своими познаниями в морском деле и порывистостью своего характера. Он чрезвычайно интересовался военно-морской историей и знал все морские сражения, как свои пять пальцев. Его в шутку называли мичманом Нельсоном…»[44] Знакомство с Дукельским переросло в дружбу. Уроженец Тифлиса, Дукельский был старше Колчака на четыре года. Как и Колчак, он был вторым в своём выпуске. Как и Колчак, интересовался морской историей, и его, по словам того же Ненюкова, называли «маленьким Фаррагутом».[45] (Маленьким, как видно, за невысокий рост.)
Эскадра совершала длительные плавания в Японском и Жёлтом морях. Колчак заинтересовался гидрологией этих морей, главными течениями, свирепыми дальневосточными тайфунами. Изучил двухтомный труд адмирала С. О. Макарова «Витязь и Тихий океан». Но кроме этой книги и нескольких лоций не обнаружил ничего. «Я убедился, что сведения о природе этих морей крайне недостаточны даже для целей навигации, не говоря уже про массу возникавших вопросов более теоретического характера», – отмечал он в набросках воспоминаний, написанных в 1903 году, во время второй арктической экспедиции.[46]
Постепенно Колчак расширил область своих интересов, перечитав всю доступную ему литературу по гидрологии Тихого океана. Особенно заинтересовала его северная часть океана – Берингово и Охотское моря. А в перспективе он думал об исследовании южных полярных морей, как бы «заброшенных» русскими мореплавателями после знаменитой экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, а также о рывке к Южному полюсу. Эта неосуществлённая мечта не покидала его всю жизнь. О ней он упомянул и в арктической записке, и во время допроса.[47]
Молодой офицер начал делать собственные наблюдения над морскими течениями, хотя этому мало способствовала обстановка военного корабля, да ещё флагманского, на котором находился командующий эскадрой адмирал Е. И. Алексеев.
Дальневосточная эскадра при Алексееве имела грозный, внушительный вид, но в действительности приближалась к грани развала. Корабли подолгу не ремонтировались, многие офицеры находились в дальних морях уже по пять-шесть лет и страшно устали, некоторые командиры кораблей отличались явной некомпетентностью, а младшие флагманы (командующие соединениями) привыкли к тому, что адмирал решает всё сам и с них ничего не спрашивает.[48]
В 1897 году Колчак подал рапорт с просьбой перевести его на канонерскую лодку «Кореец», которая отправлялась к Командорским островам для охраны промыслов. Он полагал, что там он сможет вплотную заняться исследовательской работой. Но начальство рассудило иначе.
В составе эскадры числился старый парусный клипер «Крейсер» с одним двигателем. Из-за своей тихоходности он уже не мог ходить с эскадрой. А потому было решено превратить его в учебное судно для подготовки боцманов и унтер-офицеров. Со всей эскадры было собрано сто самых лучших и грамотных матросов. На «Крейсере» их разделили на четыре вахты, и офицер, назначенный в каждую из них, должен был вести занятия по морскому делу, проводить артиллерийские стрельбы и минные учения. Одним из этих офицеров стал Александр Колчак. Другим – Алексей Геркен, его товарищ по корпусу, одиннадцатый в выпуске, если считать с хвоста (всего же в выпуске было 62 человека).
В воспоминаниях командира «Крейсера» Г. Ф. Цывинского можно найти самый высокий отзыв о Колчаке, во многом совпадающий с приведёнными словами Ненюкова. «Это был, – писал Цывинский, – необычайно способный, знающий и талантливый офицер, обладал редкой памятью, владел прекрасно тремя европейскими языками, знал хорошо лоции всех морей, знал историю всех почти европейских флотов и морских сражений».[49] Цывинский, однако, не пишет, почему такой перспективный, полезный для флота офицер на его корабле занимался обучением боцманов и унтер-офицеров. Впрочем, не от капитана это зависело. Кого прислали, тот и учил. Прислали бы Спинозу, учил бы Спиноза.
Местом якорной стоянки для «Крейсера» был избран корейский порт Генсан (современный Вонсан). В этом глухом городке Алексей Геркен сразу же заскучал: ни отелей, ни ресторанов, ни театров. Европейцев на берегу всего трое – и то один из них русский, неотёсанный сибиряк, а другой, француз-миссионер, надолго уходил в глубь страны для проповеди. И лишь третий, датчанин, женатый на китаянке и служивший в корейской таможне, охотно приходил на корабль и приглашал к себе в гости.
По климату Генсан во многом напоминал Владивосток: те же ежедневные летние дожди и жара. В бухте, как в бане, нечем дышать. Лишь выйдя в открытое море, можно было вздохнуть полной грудью. Такие выходы Колчак использовал для продолжения своих гидрологических исследований – хотя бы урывками, не в ущерб занятиям с будущими боцманами.
В сентябре уползли туманы и наступила осень, совсем как в Крыму: созрел виноград, появились груши, арбузы и дыни. Но в октябре закончился учебный сезон и корабль пошёл во Владивосток сдавать воспитанников. Капитан Цывинский, как и Геркен, был недоволен Генсаном. Большой любитель светских развлечений, он постарался сделать так, чтобы «Крейсер» больше не возвращался в этот порт.
Зиму 1897/98 года «Крейсер» вместе с эскадрой провёл в Нагасаки. Там же стояли два английских крейсера. Их командиры вели себя по-джентльменски, играли с русскими офицерами в кегли в «Боулинг-клубе», но все знали, что крейсеры присланы для наблюдения за русской эскадрой.
Начинался новый раунд борьбы за раздел сфер влияния в Китае. Западные страны и Япония старались захватить стратегически важные пункты на побережье Китая. Одним из таких пунктов был Порт-Артур.
До середины 80-х годов мало кто знал рыбацкое поселение Люйшунь на берегу Жёлтого моря. Китайское правительство обратило внимание на стратегическое значение этого пункта и приступило к строительству морской крепости, которая должна была прикрывать побережье Маньчжурии и Пекин от неприятельского десанта. Строительство вели британские инженеры. Они и дали новому городу европейское название – Порт-Артур. Китайцы продолжали именовать его по-своему.
Порт-Артур был надёжно защищен со стороны моря. Не только мелкие неприятельские суда (миноносцы и канонерские лодки), но и грозные броненосцы не могли безнаказанно подойти к крепости: тяжёлые крупповские орудия, размещённые в фортах на высоких прибрежных утёсах, стреляли не в защищенный бронёй борт, а в палубу. Правда, береговым батареям не хватало дальности действия. Со стороны суши Порт-Артур был ограждён целым поясом фортов и батарей. Но эта система развёртывалась в спешке и не была достаточно продумана и приспособлена к местности. Большим упущением, в частности, было отсутствие долговременных укреплений на господствующих высотах – горе Высокой и Большом Орлином Гнезде.
В 1894 году вспыхнула война между Китаем и Японией. Военные действия вскоре переместились к Порт-Артуру. Японское командование решило брать крепость с суши, тем более что положение Порт-Артура на оконечности Ляодунского полуострова облегчало его сухопутную блокаду. 24 октября 1894 года началась высадка японских войск на полуострове, километрах в пятидесяти от крепости. Развернувшись, а затем преодолев бездорожье и не очень организованное сопротивление китайских войск, японская армия подошла к Порт-Артуру. С рассветом 20 ноября началась бомбардировка крепости, продолжавшаяся весь день. Утром следующего дня японцы пошли на штурм. Одновременно отряд японских миноносцев проскочил в гавань, произвёл пальбу и переполох и благополучно скрылся. Наступающие колонны действовали не всегда согласованно, однако к 4 часам дня, после ряда ожесточённых, но разрозненных схваток, город был взят. Ворвавшиеся в город войска обнаружили изуродованные трупы своих товарищей, незадолго до того взятых в плен. Рассвирепев, японские солдаты учинили побоище, не давая пощады никому, кто попадался на пути, даже женщинам и детям.
Победа под Порт-Артуром была не полной, потому что китайский флот заблаговременно ушёл. Правда, один из русских военно-морских экспертов, В. К. Витгефт, считал, что японцы умышленно выпустили из крепости неприятельские корабли, чтобы ослабить её оборону.[50]
Война закончилась в 1895 году поражением Китая. Одним из пунктов унизительного для него договора стала передача Японии Порт-Артура. Однако дипломатический демарш России, Германии и Франции заставил Японию возвратить эту крепость. Предварительно японцы постарались причинить ей максимальные разрушения.
В 1897 году командующим Тихоокеанской эскадрой был назначен герой Русско-турецкой войны 1877–1878 годов контр-адмирал Ф. В. Дубасов. В морской среде он пользовался большим уважением. Адмирал обладал даром слова, умел говорить с офицерами и матросами, умел пробудить в них живой интерес к тому делу, которое в данный момент считал важным и нужным для Отечества. За это его любили, прощали ему и вспыльчивость, и крутой нрав. Дубасову удалось привести в относительный порядок эскадру, расстроенную при Алексееве. Несколько кораблей было отправлено в ремонт, а офицеров-«долгоплавателей» вернули на Балтику. Взамен были присланы свежие силы.[51]
В том же 1897 году Германия захватила в Китае бухту Киао-Чао (Цзяочжоу). Узнав об этом, Дубасов отправил в Петербург телеграмму, испрашивая разрешение немедленно занять Порт-Артур.[52]
Трудные переговоры о долгосрочной аренде Россией этой крепости велись в Пекине уже не один месяц. Русские дипломаты старались убедить китайское правительство, что это необходимо для защиты Китая от Японии. Усилия дипломатов поддерживало Военное министерство. Однако управляющий Морским министерством адмирал П. П. Тыртов считал, что для зимней стоянки был бы более удобен какой-то порт на корейском берегу, ближе к открытому океану, а Порт-Артур не лучший вариант. Министр финансов С. Ю. Витте доказывал, что занятие Порт-Артура ухудшит отношения с Китаем, а между тем Дальний Восток приходится соединять с Сибирью по его территории (в то время начиналось строительство Китайско-Восточной железной дороги от Читы до Владивостока через Маньчжурию). Поколебавшись, Николай II встал на сторону военных и дипломатов.[53]
Тем временем Дубасов, опасавшийся, что Порт-Артур вот-вот захватят англичане, послал телеграмму на «высочайшее» имя – всё с той же просьбой разрешить немедленно занять крепость. Содержание ответа адмирал не сообщил никому. Из эскадры было выделено три корабля, и командир отряда получил запечатанный конверт, вскрыть который должен был по выходе в море. Выделенные для экспедиции корабли стали разводить пары. Был пущен слух, что в Корее беспорядки и русская миссия в Сеуле просит усилить охрану.
Английские крейсеры ночью тихо исчезли из гавани. Русский отряд вышел из Нагасаки утром. Через двое суток он подошёл к Порт-Артуру и обнаружил там два английских крейсера, которые загораживали фарватер. Дубасов отправил в Петербург телеграмму, требуя, чтобы наша дипломатия заставила англичан уйти. Между тем в английских газетах, издававшихся на Дальнем Востоке, началась шумная кампания против России.
Обстановка разрядилась, когда в Пекине была, наконец, достигнута предварительная договорённость об аренде Россией Порт-Артура сроком на 25 лет, а английский броненосец «Центурион» без всякого предварительного соглашения занял китайский порт Вэйхайвэй. Крейсеры ушли на соединение с броненосцем, и Дубасов вывел всю эскадру из Нагасаки в Порт-Артур. 13 марта 1898 года она вошла на артурский рейд, а на следующий день был высажен десант. 15 марта состоялось подписание конвенции между Россией и Китаем об аренде Квантунского полуострова (южная оконечность Ляодунского полуострова) с Порт-Артуром. 16 марта на Золотой горе был поднят русский флаг. В городе тогда проживало 4 тысячи китайцев и около 300 европейцев.[54]
Дубасов сразу же сделал Порт-Артур главной стоянкой русской эскадры. Между тем крепость находилась в том же полуразрушенном виде, в каком вернули её японцы. Срочно были составлены сметы на многие миллионы рублей, но из Петербурга деньги поступали с большими задержками. Государственная казна была отнюдь не такой бездонной, какой она казалась военным.
«Крейсер» не участвовал в занятии Порт-Артура, но в этом же году ему довелось дважды там побывать. Здешний пейзаж разительно отличался от Нагасаки и даже от Владивостока. До самого горизонта тянулись вереницы голых сопок, на которых летнее солнце быстро выжгло всю зелень. Внутренний рейд был мелковат для больших кораблей, поэтому эскадра стояла на внешнем рейде, открытом для всех ветров. Когда ветер дул с берега, на корабли несло тучи песчаной пыли.
С внешнего рейда город не был виден, заслоняемый высокой и обрывистой Золотой горой. На катере или на джонке (лёгкой китайской шлюпке), миновав узкий проход между Золотой горой и Тигровым полуостровом, можно было попасть на внутренний рейд и в порт.
С внутреннего рейда открывалась панорама Порт-Артура, типичного китайского города, в который ещё не успела вторгнуться европейская архитектура. Центральные улицы пестрели китайскими и японскими лавками. А дальше по отлогим склонам гор тянулись узкие улочки, мощённые крупным булыжником и застроенные китайскими фанзами, крытыми черепицей или камышом. Во многих фанзах промасленная бумага или бычий пузырь заменяли оконное стекло.
Российских извозчиков в городе ещё не было. У выхода из порта, в ожидании пассажиров, толпились рикши с лёгкими двухколёсными колясками. Завидев возможного клиента, они с криком его окружали, хватали за руки, тащили каждый в свою сторону. Русские сначала стеснялись ездить на рикшах. Но потом нашлись самые решительные и не стеснительные. За ними потянулись и остальные. Освоившись, стали даже поторапливать рикшу, когда дела заставляли спешить. «Говорят, человек ко всему привыкает», – с сожалением отмечал В. А. Мустафин, судебный чиновник, проживший в Порт-Артуре несколько лет.
Матросов отпускали с кораблей в город только по праздникам. Непременное в таких случаях пьянство нередко переходило в дебош. Офицер, завидев издалека шумную компанию матросов, спешил свернуть в переулок или зайти в какой-нибудь дом: встреча не сулила ничего хорошего. Уже тогда начиналось падение дисциплины на флоте.[55]
Дубасов выглядел уставшим и похудевшим. Возможно, он понимал, что совершил ошибку, перебазировав сразу чуть ли не всю эскадру в необорудованный и незащищённый порт. Посетив адмирала, командир «Крейсера» принёс радостную весть. Дело в том, что «Крейсер», как и «Рюрик», числился в составе Балтийского флота, а на Дальнем Востоке считался в командировке. Теперь начальство решило, что её срок для «Крейсера» истёк, и осенью настанет время возвращаться в родные воды. 5 ноября «Крейсер» отсалютовал новой «русской твердыне» на Дальнем Востоке и отправился в обратный путь. 6 декабря Колчак и Геркен были произведены в лейтенанты.
На подходе к Шанхаю штурман посадил судно на мель. Когда представился подходящий случай (в Коломбо на Цейлоне), командир списал неудачливого штурмана с корабля и отправил пароходом в Россию. Старшим штурманом был назначен А. Ф. Геркен, а Колчак стал его помощником.[56] Конечно, произошла явная несправедливость. Но трудно было обижаться на товарища по корпусу и по плаванию. Алёша Геркен был славный парень. И не его вина, что он сын адмирала.
В это время Колчак уже во многом иначе, чем прежде, смотрел на военно-морскую службу и на флотские порядки.
Главное, что не устраивало его, заключалось в том, что служба носила характер «чего-то показного, чего-то такого, что не похоже на жизнь». «На таких судах служат, но не живут, а мнение моё, – писал он, – что на судне надо жить, надо так обставить всё дело, чтобы плавание на корабле было бы жизнью, а не одною службою, на которую каждый смотрит, как на нечто преходящее, как на средство, а не как на цель».[57] Конечно, Колчак вовсе не считал, что на судне надо завести семью и растить детей. Вынужденная холостая жизнь во время плавания, иногда очень долгого, – с этим ничего не поделаешь. Хотя не все выдерживали такую жизнь, и она, по свидетельству многих, в конце концов портила людей. Но Колчак, по-видимому, имел в виду такую жизнь, какую, например, ведёт учёный в экспедициях, которые иногда тоже затягиваются. Но учёный при этом занят сутью дела, а не формальным исполнением обязанностей. Он не подсчитывает с тоской и скукой, сколько ещё дней осталось до возвращения.
Главный недостаток сложившегося на флоте положения Колчак видел в недостаточной подготовке личного состава и «ничтожной практике» плавания на современных боевых кораблях. Учиться в Морском корпусе было очень трудно. И тем не менее по выходе во флот офицер оказывался слабо подготовленным. Этот печальный парадокс получался из двух причин. Во-первых, морская практика кадет и гардемарин проходила на таких старых посудинах, которые давно пора было списывать. Современный боевой корабль, чудо новейшей техники, будущий офицер рисовал лишь в своём воображении. Во-вторых, в подготовке преобладал «бригадный метод», хотя тогда не было такого выражения. Во время практических занятий малоспособные и ленивые прятались за спины своих энергичных и более знающих товарищей. А потом старые моряки рассказывали анекдоты о мичманах, которые на корабле ничего не знают и не умеют, словно не бывали в плавании.[58] Но вступали в действие негласные правила продвижения по службе, и некоторые такие мичманы выходили из-за спины своих товарищей и опережали их.
Колчак вспоминал, что во время плавания в Тихом океане он не раз «подумывал о выходе из военного флота и о службе на коммерческих судах». Но перевесило уважение к военному званию: «Я всегда был военным моряком и военно-морское дело ставил на первое место».[59]
Лучшим выходом из создавшегося положения Колчак считал участие в научной экспедиции. Ещё в плавании он узнал, что в составе русско-шведской экспедиции готовится к уходу на Шпицберген транспорт «Бакан», а ледокол «Ермак» собирается в самостоятельное путешествие в глубь Арктики. Последнее было особенно заманчиво. «Ермак», только что построенный в Англии мощный ледокол, шёл под руководством вице-адмирала С. О. Макарова. Конечно же Колчак знал о его знаменитой лекции «К Северному полюсу напролом», прочитанной в 1897 году в Русском географическом обществе.
Балтийское море встретило «Крейсер» холодом и туманами. Петербургская метеорологическая обсерватория телеграфировала, что кронштадтский рейд закрыт льдом. Пришлось повернуть на Ревель. Осторожно пробираясь между льдинами, «Крейсер» 29 апреля 1899 года вошёл на ревельский рейд.[60] Там Колчак увидел транспорт «Бакан», готовый к отплытию. Выяснилось, что его экипаж уже укомплектован и попасть туда нет возможности.[61]
Вскоре Финский залив очистился от льда, и вечером 5 мая, выкинув длинный вымпел, «Крейсер» подошёл к Кронштадту. Матросы, поднявшись на марсы, прокричали «ура». Но рейд был почти пуст, и мало кто ответил на приветствие вернувшегося из дальнего плавания парусника. Капитану сообщили, что 9 мая он должен быть в Петербурге и стать на Неве у Балтийского завода. Произойдёт спуск на воду крейсера «Громобой», а затем «высочайший» смотр вернувшегося из плавания корабля.
…Под гром салюта обойдя вокруг спущенного на воду «Громобоя», императорский катер подошёл к «Крейсеру». На палубу поднялись Николай II и его многочисленная свита. Великих княгинь и княжон возглавляла вдовствующая императрица Мария Фёдоровна (царствующая императрица Александра Фёдоровна по причине беременности не смогла приехать). Николай II, невысокий и худощавый, терялся среди своей свиты, состоявшей из очень представительных людей во главе с генерал-адмиралом, главным начальником флота и морского ведомства великим князем Алексеем Александровичем, дядей царя, 49-летним красавцем атлетического телосложения. Все важные назначения на флоте производились лично им или по его докладу императором. Управляющий министерством назначал в основном боцманов и мотористов.
Много лет спустя, будучи уже давно в отставке, Витте вспоминал, как однажды, ещё при Александре III, он ожидал прибытия царского поезда. На встречу пришли великие князья и многие сановники. Чинную обстановку ожидания нарушали два мальчика, которые шалили и бегали между встречавшими. Наконец великий князь Владимир Александрович, выведенный из терпения, схватил одного из проказников за ухо и сказал внушительно: «Я тебе говорю – перестань шалить». Мальчик, которому надрали ухо, был наследником престола. Витте тогда подумалось, как бы впоследствии великому князю не пришлось пожалеть об этом.[62]
Жалеть не пришлось. Когда через 11 лет на престол взошёл Николай II, великие князья ничего не потеряли. Владимир Александрович продолжал командовать войсками гвардии и Петербургского военного округа. Алексей Александрович держал в своих руках флот. Сергей Александрович был московским генерал-губернатором. Влияние их на царя и на ход государственных дел выходило далеко за пределы их должностей. Александр III в своё время назначил на эти должности своих братьев, чтобы с их помощью управлять страной. Теперь, похоже, они управляли страной при помощи своего племянника, которому недавно драли уши. Правда, молодой царь иногда пытался учинить бунт, как, например, после давки на Ходынке. Но в конце концов всё оставалось по-прежнему. За Ходынку пришлось расплачиваться московскому обер-полицмейстеру, уволенному в отставку.
Колчаку удалось разглядеть царя лишь тогда, когда он принимал рапорт командира корабля, а затем обходил фронт офицеров. Осмотрев судно, император зашёл с капитаном в его каюту, а потом удалился, приветствуемый матросами, выстроившимися на реях, и салютом из 31 выстрела. Личному составу был разрешён трёхмесячный отпуск. Плавание закончилось.[63]
Колчак посетил адмирала Макарова в день прибытия в Кронштадт, вечером 5 мая. Разговор, видимо, был коротким. 8 мая «Ермак» должен был отправиться в своё первое арктическое плавание. Конечно же ничего уже нельзя было сделать. Офицер не может просто так перейти с судна на судно: необходима санкция министерства, а её за три дня не получишь.
Вместо «Бакана» и «Ермака» Колчак попал на хорошо знакомый ему фрегат «Князь Пожарский», учебное судно Морского корпуса, совсем обветшавшее, не имевшее даже электричества. Это было, писал он, «для меня худшее, что только я мог представить в этом роде».[64] Все планы рухнули. А в военной педагогике Колчак не видел своего призвания. Он свёл воедино и обработал результаты своих наблюдений над течениями в Японском и Жёлтом морях (статья была опубликована в специальном журнале), а затем бросил занятия по гидрологии, решив, что на военной службе они бесперспективны.
На «Князе Пожарском» Колчак сблизился с лейтенантом Борисом Строльманом, окончившим Морской корпус на два года раньше его. У них были примерно одинаковые настроения: бросить всё и уехать. Поискать «типов и ощущений», стать на стезю авантюризма, как откровенно и с иронией впоследствии писал Колчак. Говорили даже о поездке на золотые прииски Клондайка, «не для золота, конечно, а просто чтобы найти обстановку». В конце концов решено было подать прошения о переводе на Тихий океан, выйти там в запас и отправиться вместе, «куда хотели».
Когда закончилось учебное плавание, Строльман вдруг куда-то исчез, и Колчак его более не видел. (Следы Строльмана не прослеживаются и по документам: по-видимому, он ушёл из флота.) Оставшись один, Колчак предпринял ещё одну попытку попасть в экспедицию. В Академии наук, как он знал, готовился проект Русской полярной экспедиции, которая должна была пройти из Кронштадта Северным морским путём до Владивостока. Руководителем экспедиции был назначен известный полярный исследователь Э. В. Толль. В сентябре 1899 года Колчак побывал у него, но получил неопределённый ответ.
Колчак не любил неопределённость. Он перешёл на броненосец «Петропавловск», отправлявшийся на Дальний Восток, с тем чтобы в подходящий момент выйти в запас, остаться в неведомой стране и начать там другую жизнь. Как видно, 25-летний Колчак почувствовал тот многократно описанный в русской литературе «синдром Печорина», когда молодой человек ощущает в себе «силы необъятные», но в условиях устоявшейся рутины не может их применить. И тогда возникает желание бросить вызов судьбе.
Правда, служба на новейшем броненосце, всего лишь два года назад вступившем в строй, первое время увлекла молодого офицера. Но вскоре он увидел, что и здесь «есть служба, но нет практики, нет возможности плавать и жить».
Осенью 1899 года в Южной Африке началась Англо-бурская война. Общественное мнение России стало на сторону буров. У всех на устах была песня:
Трансваль, Трансваль, страна моя, Ты вся горишь в огне…И Колчак решил принять участие в этой войне – конечно, на стороне буров. «Я думаю, что каждый мужчина, слыша и читая о таком деле, – писал он, – должен был испытывать хотя бы смутное и слабое желание в нём участвовать. Став снова на точку зрения искателя ощущений, я испытывал неодолимое желание идти туда, где работают современные орудия с лиддитовыми и пироксилиновыми снарядами, где происходит на деле всё то, что у нас на броненосце делается лишь „примерно“». Как видно, не только романтическое желание помочь бурам двигало молодым офицером. Как человек военный, он хотел кроме того приобрести опыт современной войны, совершенствоваться в своей профессии.
За несколько дней до Рождества «Петропавловск» пришёл в Пирей. Колчак почему-то не любил Грецию, Пирей – особенно. Очень возмущался, что русские суда всегда там долго стоят.
В Пирее, когда выпадал досуг, он предпочитал сидеть в каюте и обдумывать план своего участия в африканской войне. Однажды в такой момент ему принесли телеграмму, подписанную лейтенантом Ф. А. Матисеном. Колчаку предлагалась должность вахтенного офицера на шхуне «Заря», отправляющейся в Русскую полярную экспедицию. Вне себя от восторга, он тут же дал ответную телеграмму о своём согласии. Впоследствии Колчак писал, что на своё участие в этой экспедиции он смотрел как на подготовку к будущим антарктическим исследованиям.[65]
Командир корабля Н. Р. Греве не стал удерживать офицера, но сказал, что броненосец вскоре должен уйти в Порт-Саид. Хлопоты о переводе могут затянуться. Поэтому самое лучшее сразу же подать рапорт о выходе в запас. Но всё решилось иначе. Президент Академии наук великий князь Константин Константинович (известный поэт К. Р.) обратился с ходатайством в Морское министерство, и вскоре на корабль пришла телеграмма, предписывающая лейтенанту Колчаку немедленно выехать в Петербург. В первых числах января 1900 года он отправился на пароходе из Пирея в Одессу, а в середине этого же месяца прибыл в столицу.[66]
В его биографии закончилось спокойное течение событий, которое он сам прервал, захотев борьбы и тревог, захотев настоящего дела. Вольно или невольно, случайно или неслучайно события соединялись и развёртывались в первую из четырёх трагедий, составивших его жизнь.
Глава вторая В ледяном безмолвии Арктики
Близ арктического побережья Восточной Сибири, к северо-востоку от устья Лены, расположен архипелаг Новосибирских островов. Он состоит из трёх групп: на юге – Ляховские острова, к северу – собственно Новосибирские, ещё дальше на северо-восток – небольшая группа островов Де-Лонга (до революции они считались отдельным архипелагом).
Новосибирские острова известны с начала XVIII века, когда в тех краях побывали экспедиции отважных казаков. Они и открыли Ляховские острова, плоские и низкие, зимой почти сливающиеся с окружающими ледяными полями, летом – покрытые буровато-зелёной тундрой. Центральные острова архипелага (Котельный, Фаддеевский, Новая Сибирь) имеют более изменчивый ландшафт. Долго ходили легенды, будто там можно встретить ледяные утёсы, деревянные горы, а по берегам рек валяются кости мамонтов. Особо мрачные поверья были связаны с островами Де-Лонга, открытыми довольно поздно. Но об этом чуть ниже.
Из множества легенд, связанных с Новосибирскими островами, есть одна, самая главная, о которой слышал едва ли не каждый.
В 1811 году сибирский промышленник («охотник») Яков Санников побывал на Фаддеевском острове. С северного его берега, в ясную погоду, он разглядел вдали силуэт неизвестной земли. До неё было вёрст 45. Широкая полынья не позволила преодолеть это расстояние.[67] С тех пор призрак Земли Санникова тревожил не одно поколение полярных исследователей. Хотя уже в 1822 году лейтенант П. Ф. Анжу, побывав с экспедицией в тех краях, попытался «закрыть» эту землю. Но он не смог неопровержимо доказать свои выводы, поскольку путь на север преградила всё та же знаменитая Восточно-Сибирская полынья.[68]
В 1878 году шведский мореплаватель Нильс А. Норденшельд на шхуне «Вега» предпринял попытку пройти вдоль северных берегов Евразии из Атлантического океана в Тихий. О Норденшельде долгое время не было известий, и издатель газеты «Нью-Йорк геральд» Гордон Беннетт решил снарядить экспедицию на его поиски. Лет десять тому назад этот же издатель отправил сотрудника своей газеты Генри Стенли на поиски пропавшего в африканских джунглях Д. Ливингстона. Эта экспедиция, успешно закончившаяся, прославила тогда и Стенли, и Беннетта и принесла крупный доход газете. Новой экспедицией, на паровой яхте «Жаннетта», руководил 35-летний лейтенант Джордж Вашингтон Де-Лонг.
В 1879 году «Жаннетта» отправилась навстречу Норденшельду. Пройдя Берингов пролив, она вскоре нашла зимнюю стоянку «Веги», и Де-Лонг узнал об успешном ходе экспедиции. После этого Де-Лонг предпринял самостоятельное путешествие по направлению к острову Врангеля, но через несколько дней «Жаннетта» попала в крепкие ледовые объятия. 21 месяц несли её льды в своём неторопливом движении на северо-запад, и путешественники как бы невольно делали одно открытие за другим. Так были открыты маленькие острова Жаннетты и Генриетты к северо-востоку от Новосибирских островов. 30 июня 1881 года ледяная стихия наконец закончила свои игры с попавшим в её ловушку кораблём: в результате мощного сжатия «Жаннетта» затрещала по швам и ушла на дно. Но моряки успели снять на лёд сани, лодки и провизию.
Четыре недели путники тащили за собой тяжёлые сани, прокладывая дорогу на юг, к берегам Сибири. А льды уносили их на северо-запад. 28 июля американцы увидели в тумане скалистые и обрывистые берега. Они знали, что это не желанный сибирский берег, что это – их новое открытие. Восемь дней 33 путешественника отдыхали на новооткрытой земле, которую назвали Землёй Беннетта, так и не узнав, каковы её размеры и не является ли она форпостом неведомых земель, расположенных далее на север.
На юг от Земли Беннетта лежало свободное от льда море. Самая значительная часть экспедиции, под командой Де-Лонга, разместилась на катере. Инженер-механик Мелвил возглавил команду вельбота – узкой длинной шлюпки с острой кормой. Мичман Чип повёл шлюпку-шестёрку. 12 сентября разразился шторм, который разметал шлюпки в разные стороны. Шестёрка погибла, а катер и вельбот в разных местах достигли устья Лены. Мелвил со спутниками был спасён эвенками. Из отряда Де-Лонга остались в живых только двое. Остальные, включая лейтенанта, умерли от голода и истощения.[69]
Открытую Де-Лонгом землю нанесли на карту. Впоследствии оказалось, что это самый большой остров в группе Де-Лонга. Он долго оставался неисследованным, и за ним закрепилась мрачная слава: живыми он не отпускает.
Дальнейшее изучение Новосибирских островов связано с именем Э. В. Толля.
Экспедиция под несчастливой звездой
Барон Эдуард Васильевич Толль родился в 1858 году в Ревеле. Окончил университет в Дерпте (позднее этот город переименовали в Юрьев, а сейчас он известен как Тарту). Дерптский университет был тогда своеобразным островком немецкой учёности в пределах Российской империи. Даже преподавание долгое время велось на немецком языке. Впоследствии Толль говорил, что слабость здоровья помешала ему стать врачом, и он вышел из университета зоологом.[70] По-видимому, Толль имел в виду свои слабые нервы и повышенную впечатлительность.
Первую свою экспедицию, в Алжир и на Балеарские острова, Толль предпринял как зоолог. Но затем его интересы сместились в область палеонтологии и геологии. Эти новые для него науки он осваивал с немецкой основательностью, прослушав соответствующий курс в Горном институте.
В 1884 году Толль получил предложение принять участие в экспедиции под руководством А. А. Бунге, которая имела целью исследовать побережье Ледовитого океана от устья Лены до Яны и Новосибирские острова. В 1886 году Толль впервые побывал на этих загадочных островах. Кости мамонта он обнаружил не только на Котельном, но и на Большом Ляховском. В Деревянных же горах на острове Новая Сибирь (сложенных, как оказалось, вовсе не из дерева) Толль открыл залежи бурого угля. Что же касается ледяных скал, то – да, некоторые острова в архипелаге действительно, как убедился Толль, в значительной части состоят из ископаемого льда – такого льда, который обнаруживается среди земных пластов и сохранился, вероятно, от ледникового периода.[71]
На остров Беннетта Толль тогда не смог попасть: помешала всё та же полынья. Но в ясную погоду с берега острова Котельного, к северо-северо-востоку от него, он разглядел однажды контуры неизвестной земли. На далёком горизонте явственно вырисовывались обрывистый берег и столообразные горы. Расстояние до них Толль на глаз определил в сто с лишним вёрст. Это не мог быть остров Беннетта, ещё более удалённый от Котельного и расположенный немного в другой стороне. Это была легендарная Земля Санникова. Сопровождавший Толля эвен Джергели, семь раз летовавший на Новосибирских островах, говорил, что неоднократно видел эту землю. «Хотел бы ты на ней побывать?» – спросил Толль. «Раз наступить ногой – и умереть!» – воскликнул Джергели.[72] С этого времени на географических картах Земля Санникова стала изображаться пунктирной линией на предполагаемом её месте.
Вернувшись из экспедиции и работая над подведением её итогов, Толль заболел тяжёлой формой неврастении с расстройством речи. В 1890 году ему пришлось лечиться на заграничном курорте.[73] На Новосибирские острова он снова попал в 1893 году. На этот раз он выполнял просьбу норвежского мореплавателя Ф. Нансена, который отправлялся на шхуне «Фрам» на восток вдоль берегов Сибири. Опасаясь участи Де-Лонга, Нансен просил заложить ряд продовольственных складов на Новосибирских островах. Толль выполнил просьбу. По ходу плавания, правда, эти склады не понадобились. Землю Санникова Толль на этот раз не видел, но она не выходила у него из головы. И постепенно пришло решение попробовать добраться до неё морским путём.
«Это втягивает, – говорил Толль. – Если вы раз побываете в полярных странах, заинтересуетесь ими, вас будет туда тянуть». Не один Толль, многие полярники говорили о властном притяжении Арктики. Вернувшись из второго путешествия, Толль начал пропагандировать план морской экспедиции в район Новосибирских островов и Земли Санникова. Дорогостоящий проект долгое время не утверждался, несмотря на все хлопоты. И только в 1899 году дело сдвинулось с места. 31 декабря Николай II, по докладу министра народного просвещения, утвердил Толля начальником экспедиции, снаряжаемой Академией наук «для исследования земли Санникова и других островов, расположенных за Новосибирским архипелагом», и дал санкцию на учреждение особой комиссии для снаряжения этой экспедиции.[74] В ходе работы над окончательным планом было решено, что после обследования района Новосибирских островов экспедиция продолжит путь на восток, обогнёт мыс Дежнёва и закончит путь во Владивостоке. Вспомогательная экспедиция должна была заложить на Новосибирских островах такие же склады, какие сделал Толль для Нансена, и провести ряд исследований на островах и на ближайшем побережье. В целом это комплексное исследовательское мероприятие было названо Русской полярной экспедицией. Её руководителю Э. В. Толлю в то время исполнился 41 год.
Для целей экспедиции было закуплено судно, однотипное норденшельдовской «Беге» – «Харальд Хаарфагер», парусный барк с паровым двигателем, прежде использовавшийся для охоты на тюленей у берегов Гренландии. Дальность путешествия и предполагаемая зимовка жёстко ограничивали численный состав экспедиции. Было взято всего семь палубных матросов. Поэтому пришлось снять некоторые элементы парусного вооружения, и барк превратился в шхуну (или баркентину), которой дали новое имя – «Заря». Когда уменьшили площадь парусов, возросла зависимость от запасов угля.
Приказом по Академии наук от 8—10 марта 1900 года был утверждён окончательный список участников экспедиции, которых подбирал сам Толль.
Командиром судна стал 33-летний лейтенант Николай Николаевич Коломейцев, в прошлом – многолетний участник экспедиции по описи Белого моря. В 1893 году он ходил в составе экспедиции лейтенанта Л. Добротворского в устье Енисея. Перед назначением на «Зарю» был офицером на крейсере «Варяг», построенном в США и недавно прибывшем в Петербург. Колчак прежде не был знаком с Коломейцевым, но слышал о нём как об отличном моряке.
Первым помощником Коломейцева был назначен лейтенант Фёдор Андреевич Матисен, выпущенный из Морского корпуса на два года ранее Колчака, вместе с Дукельским и Строльманом, и плававший с Колчаком на «Рюрике». В 1899 году он принимал участие в экспедиции на Шпицберген, куда не попал Колчак.
Третий офицер, А. В. Колчак, был самым молодым участником экспедиции (если не считать матросов).
Старшим же по возрасту был врач Герман Эдуардович Вальтер, специалист в области бактериологии. В 1899 году он участвовал в научно-промысловой экспедиции у Мурманского побережья и к Новой Земле под начальством профессора Н. М. Книповича. Вальтера и Толля связывала давняя дружба. В экспедиции Вальтер вёл некоторые работы в области зоологии.
Старшим зоологом был назначен сотрудник Зоологического музея Академии наук Алексей Андреевич Бялыницкий-Бируля. Ему было 36 лет, ранее он вёл работы на Соловецких островах, а в 1899 году побывал на Шпицбергене. Толль считал его одним из лучших знатоков полярной морской фауны.[75]
Настойчиво добивался включения в состав экспедиции 28-летний кандидат физико-математических наук Фридрих Георгиевич Зеберг, сын лютеранского пастора, преподаватель физики в училище при реформатских церквах Петербурга. Он был готов занять даже должность кочегара на «Заре». Но Толль решил, что он будет гораздо полезнее как астроном и магнитолог.
Из числа офицеров и научных сотрудников лишь двое, Колчак и Зеберг, прежде не бывали в Арктике.
Команда состояла из 13 человек: боцман Никифор Бегичев, старший механик Эдуард Огрин, матросы Семён Евстифеев, Сергей Толстов, Алексей Семяшкин, Иван Малыгин, Василий Железников, Николай Безбородов, машинист Эдуард Червинский, старший кочегар Иван Клух, кочегары Гавриил Пузырёв и Трифон Носов, повар Фома Яскевич.[76]
Вспомогательная экспедиция, которую возглавил геолог К. А. Воллосович, состояла из 11 человек. В неё, в частности, вошли политические ссыльные – студент О. Ф. Ционглинский и инженер-технолог М. И. Бруснев.
* * *
Приехав в Петербург в середине января 1900 года, Колчак на другой же день явился к начальнику экспедиции. Толль высказал пожелание, чтобы Колчак, кроме обязанностей вахтенного офицера, взял на себя часть научных работ. Поскольку он прежде уже занимался гидрологией, этот участок был за ним закреплён. Кроме того, ему следовало расширить свои знания в области астрономии и магнитологии и для этого позаниматься в Павловской магнитной обсерватории. Но прежде, как считал Толль, надлежало закончить комплектование команды, а для этого съездить к поморам в Архангельскую губернию.
Через несколько дней после возвращения в Петербург Колчак уехал в Москву, а оттуда в Архангельск. Там он встречался с губернатором, побывал в городе Онеге и других поморских местах. Поездка оказалась не очень удачной, поскольку поморы уже выходили на промысел. Удалось нанять трёх человек. Двое из них потом отпали из-за своего застарелого ревматизма, а третий, Семён Евстифеев, участвовал в плавании и был полезным работником. Толль считал его лучшим своим матросом. Начальнику экспедиции всегда приятно было узнавать, что его матросы интересуются чем-то в области науки и культуры. Он с удовольствием отмечал в дневнике, что Евстифеев собирает и издаёт северные былины, Толстов пишет стихи, а Огрин читает Дарвина.[77]
Вернувшись в Петербург, Колчак поселился с Матисеном на одной квартире, начал занятия в обсерватории и закупку снаряжения для гидрологических исследований. Экспедиция находилась под «высочайшим» покровительством президента Академии наук великого князя Константина Константиновича и имела достаточно средств для приобретения всего необходимого. Гидрологическое снаряжение было заказано в Англии, Швеции и России. Колчак обратил особенное внимание на то, чтобы оно отвечало условиям глубоководной работы, которая намечалась по выходе «Зари» через Берингов пролив в северную часть Тихого океана. Для работ на больших глубинах Русская полярная экспедиция была снаряжена получше нансеновской.[78] С этим же расчётом готовил снаряжение и зоолог Бялыницкий-Бируля, который ставил своей задачей показать последовательное изменение морской фауны Ледовитого океана от Атлантики до тихоокеанских вод. «Как оказалось впоследствии, – писал Колчак, – нашим почти одним планам сбыться не удалось, и теперь становится прямо жаль, когда думаешь, какое ценное и редкое научное снабжение по гидрологии и морской зоологии осталось неиспользованным».[79]
В начале апреля была собрана вся команда. Коломейцев в это время был уже в Ларвике, маленьком норвежском городке близ Христиании (Осло), где на эллинге известного судостроителя Колина Арчера шло переоборудование «Зари». (Там же, кстати говоря, был построен нансеновский «Фрам».) По железной дороге, через Финляндию и Швецию, в Ларвик выехала и вся команда. «Работали мы дружно и весело», – вспоминал Колчак. В две-три недели судно было проконопачено, подвергнуто обжиганию и покрыто тиром – специальным составом из древесной смолы, сала и сурика. Правда, по выходе из дока обнаружилась небольшая течь, но тогда все решили, что для деревянного судна, только что проконопаченного, это обычное явление.
Из Ларвика «Заря» проследовала в Христианию, чтобы загрузиться углем и взять заказанное здесь снаряжение. «Я не стану описывать ни город, ни впечатления, которых в общем было мало, так как мы были слишком заняты судном», – писал Колчак. Он вообще не был любителем осматривать достопримечательности, если к этому его не подталкивала какая-то завладевшая им идея, как, например, интерес к буддизму, который заставлял его в Японии посещать древние храмы и тщательно осматривать раритеты в антикварных лавках старого Токио и Киото.
Ещё в Петербурге Толль настоятельно советовал Колчаку по прибытии в норвежскую столицу разыскать Ф. Нансена и посоветоваться с ним по вопросам гидрологии. Знаменитый путешественник побывал на «Заре», а Колчак посетил его университетскую лабораторию. Нансен в это время готовился к отъезду в зоологическую экспедицию в северную часть Атлантики на специально оборудованном судне.[80]
Переход из Христиании в Петербург для опытных моряков был обычным делом, и в один из майских вечеров «Заря» становилась на бочку близ Николаевского моста на Неве. Никто на «Заре» ещё не привык к слабой её машине и нехватке рабочих рук. А потому подать на бочку канат стоило больших трудов. Поданный и закреплённый было канат лопнул. Пришлось отдать якорь, а потом опять возиться с бочкой.
Рядом стояла большая яхта под флагом императорского Яхт-клуба. Несколько молодых людей на её борту очень веселились, наблюдая, как соседи пытаются сладить с бочкой. Слышались колкие шутки, язвительные советы и смех – особенно когда лопнул канат. Колчак ещё раз подивился нравам русской аристократии. За границей он привык к более добрососедским отношениям на рейде.[81]
Вскоре на «Заре» побывал Николай П. Вот как описывал он в дневнике этот день: «29 мая. Понедельник. День рождения Татьяны: ей три года. В час дня поехал с Мишой в крепость на панихиду по Петре Великом в присутствии преображенцев, семёновцев и 1-й батареи Михаила Павловича (бомбардирская рота). Оттуда поехали на Английскую набережную и осмотрели стоявшую у пристани шхуну „Заря“. Она приготовляется для северного плавания на Ново-Сибирские острова с экспедициею Толя. Вернулся в Царское в 4 часа прямо на теннис, где Алике уже играла со всеми. Обедали вдвоём и покатались. Вечером убил двух ворон».[82]
Упоминаемый в дневниковой записи Миша – брат царя Михаил Александрович, в то время – наследник престола. Алике – императрица Александра Фёдоровна.
Этот год для царя был беззаботным и безмятежным. Так же, как и предыдущий. Как и последующие вплоть до 1904 года. А потом словно всё обрезало.
Более подробно посещение царя описано в отчёте Н. Н. Коломейцева:
«29 мая мы были осчастливлены высочайшим посещением государя императора. Его величество подробно осматривал „Зарю“ и в конце обратился к начальнику экспедиции барону Толлю с милостивым вопросом, не нужно ли чего-нибудь для экспедиции. А нужда была обстоятельная. Нам не хватало угля. Вследствие монаршей милости уголь нам отпущен из складов морского ведомства, так же как и много материалов, которых нельзя было достать в продаже. Морское ведомство открыло нам свои магазины, чем мы и воспользовались».[83]
Через несколько дней «Зарю» посетил и великий князь Константин Константинович. Интересно, что в «полярной записке» Колчака эти визиты не отмечены. Почему – трудно сказать. Хотя в той же записке говорится, что «Зарёй» интересовались адмирал Макаров, полковник А. Н. Крылов (в будущем – выдающийся кораблестроитель, механик и математик), капитан А. К. Цвингман (командир макаровского «Ермака», в будущем – портартурец) и другие «компетентные в морском деле представители».[84]
Всё это можно было бы принять за скрытые антидинастические настроения, но скорее всего молодой Колчак просто не придавал большого значения форме государственного правления, а великие князья и сам император казались ему чисто декоративными фигурами.
Судно загружалось различными продуктами и материалами, оседало, и течь увеличивалась. Большого значения этому не придавалось. Да и некогда уже было доискиваться, где проходит вода. Раздражали лишь частые поломки помпы.
В это же время появились трения между Толлем и Коломейцевым. Началось с того, что последний предложил придать «Заре» статус военного судна. В этом случае вся власть на корабле переходила к командиру, а начальник экспедиции становился как бы его подчинённым. Вполне понятно, что Толль отклонил это предложение. Колчак тоже считал, что военные распорядки мало применимы к условиям научной экспедиции.
Тогда Коломейцев начал настаивать на том, чтобы были чётко разграничены права и обязанности командира судна и начальника экспедиции. Толль уклонялся от решения этого вопроса и, по-видимому, полагал, что лучше исходить из практики научных экспедиций: ведь всё же Нансен распоряжался на «Фраме», а не его капитан. Колчак мало интересовался всем этим, считая, что в общем деле не нужны формальные инструкции: работа всех объединит.
Накануне отплытия в Академии наук состоялось заключительное заседание под председательством Константина Константиновича. Присутствовали Толль, Коломейцев и Колчак. Коломейцев ещё раз поставил вопрос о точном определении его прав и полномочий. В результате была составлена коротенькая инструкция, мало что прояснившая.[85]
В тёплый ясный день 8 июня 1900 года «Заря» отошла от пристани на Неве и взяла курс на Кронштадт. «Нельзя сказать, чтобы проводы „Зари“ были особенно торжественны, – с оттенком горечи писал Колчак, – нас провожало небольшое общество добрых и близких знакомых – и только: вообще в Петербурге, не говоря уже про Россию, многие не знали про нашу экспедицию, но так как большинство „интеллигентного общества“ едва ли знает о существовании Новосибирских островов, а многие едва ли найдут на карте Таймыр или Новую Землю, то было бы странно претендовать на иное отношение».[86]
Отплытие в хорошую погоду, говорят, не очень благоприятная примета. И когда «Заря» выходила в море, какая-нибудь несчастливая звезда, невидимая в солнечном сиянии, наверно, посылала ей свои лучи. Но начиналось всё хорошо.
В Кронштадте «Зарю» гостеприимно встретил главный командир порта и военный губернатор города адмирал С. О. Макаров. Два дня «Заря» загружалась углем, принимала инструменты и взрывчатые вещества. Вечером перед отъездом Толль был приглашён к Макаровым на обед, а на следующий день адмирал с супругой сам явился на «Зарю» и проводил её до выхода за бочки Большого рейда.[87]
Один за другим появлялись и исчезали знакомые с первых кадетских плаваний мысы и маяки. На капитанском мостике поочерёдно сменялись Коломейцев, Матисен и Колчак. Самая тяжёлая вахта, с 12 ночи до 4 утра, называлась «собачьей» – она была несколько укороченной. Режим на три вахты был не из лёгких. На военном судне обычно стояли на пять вахт, а при четырёх уже начинали роптать.
Под рубкой и капитанским мостиком находилась кают-компания. В неё выходили двери кают, где жили офицеры и научные сотрудники (четыре с левого борта и три с правого). В каждой каюте – небольшой столик, койка, умывальник, круглый иллюминатор. В кают-компанию свет проникал сверху – через люк со стеклянной рамой. Посреди стоял большой дубовый стол. На стенах висели портреты Константина Константиновича и Ф. Нансена. Великий князь подарил экспедиции пианино. В свободные часы Матисен исполнял произведения Шопена, Шуберта, Чайковского. Мог по памяти, без нот, воспроизвести финальную сцену из оперы «Кармен». Однако Толлю больше нравилась игра доктора Вальтера: «У него спокойный, звучный, гармонический удар, совершенно отвечающий его характеру». Но доктор редко садился за пианино.
В кают-компании размещалась и судовая библиотека, частью закупленная, частью подаренная друзьями и знакомыми Толля. Преобладали книги по полярной тематике – на пяти языках. Было много художественной литературы, которой охотно пользовалась команда. В. Н. Катина-Ярцева, присоединившегося к экспедиции много позже, поразило полное отсутствие книг по истории, философии и социологии. Видимо, они не интересовали Толля и его друзей.
Через маленькую переднюю из кают-компании можно было выйти на шканцы, то есть на среднюю часть судна, около грот-мачты. Другая дверь вела на бак (в носовую часть палубы), где размещались лаборатории. В одной из них Колчак сложил глубинные термометры, градуированные цилиндры и другую свою технику. Здесь он впоследствии работал. По соседству располагались лаборатория Толля, фотолаборатория, где возились с фотопластинками Матисен и Бируля, и зоо-ботанический кабинет, где занимались Бируля и Вальтер.
Лестница с бака вела на нижнюю палубу, в кубрик, где обитали палубные матросы и рулевые во главе с Бегичевым. Рядом с кубриком находился камбуз. Там орудовал повар Фома. Кочегары и машинисты облюбовали себе тёмное помещение рядом с машинным отделением.[88]
Машина на «Заре» была слабая и не очень надёжная. Небольшая поломка случилась уже в Финском заливе. В Ревеле пришлось заняться срочной починкой. Здесь, в родном своём городе, Толль сошёл с судна, переправился через залив и поездом проехал в Христианию. Ему хотелось ещё раз посоветоваться с Нансеном. Из норвежской столицы он выехал в Берген и здесь встретил «Зарю».[89]
В Бергене, не желая подвергать перегруженное судно риску попасть в шторм, Толль и Коломейцев наняли лоцмана, чтобы пройти между шхер до северной оконечности Норвегии. Колчак, впервые здесь побывавший, надолго запомнил красоту норвежских пейзажей. «Местами шхеры удивительно красивы, – писал он, – и представляют оригинальные картины своими высокими отвесными скалами, нередко суживающими проход до какого-то узкого ущелья, по стенам которого тонкими нитями и пыльными столбами струятся потоки воды и небольшие водопады…»[90] Не очень ловкий стилист и человек с виду немного суровый, Колчак часто описывал природу, показывая порою настоящее литературное мастерство.
Дальше к северу шхерный пейзаж становился всё более мрачным. Безлесные вершины утёсов и скал напоминали о близости Арктики. В Тромсё «Зарю» покинул лоцман.
«Путешественники ехали без приключений». Эта знаменитая гоголевская фраза на иного пылкого читателя, быть может, навеет скуку, но для самих путешественников она звучит, как музыка. Приключения мешают работе и расстраивают планы. Они никому не нужны.
В Тромсё начались приключения, хотя, наверно, и не такие, каких ожидает пылкий читатель. Около недели пришлось ждать заказанные в Англии угольные брикеты. Обитатели кают-компании плавали на байдарках, ходили в прибрежный лес тренироваться в стрельбе и обсуждали вопрос об обстановке в Арктике. (Норвежцы утверждали, что в этом году лёд спустился далеко к югу.) Команда, отпущенная на берег, занималась другими делами.
Наконец брикеты прибыли, их погрузили на борт. Но – опять задержка. Матрос Малыгин напился на берегу, устроил дебош и попал в полицейский участок. Дипломатичный Матисен поехал его выручать. Вызволенный из участка и доставленный на борт, матрос держался петухом, словом и делом показывая, что командир ему столь же не страшен, как и норвежские полицейские. Коломейцев доложил об этом Толлю, заявив, что провинившегося матроса надо высечь или списать с судна. В русской армии и на флоте в то время ещё существовали телесные наказания. Но гуманист Толль не мог этого допустить. Колчак тоже считал, что на научном судне такое ни к чему. Было решено списать Малыгина на берег в первом же русском порту.
Вскоре выяснилось и другое. Алексей Семяшкин, очень хороший матрос, заразился в Тромсё венерической болезнью. Доктор Вальтер настоял на его списании. Немногочисленная команда «Зари», таким образом, должна была уменьшиться на двух человек.[91]
10 июля утром «Заря» миновала едва видимый в тумане мыс Нордкап и вошла в арктические воды. Горы постепенно выровнялись, начались серые и безжизненные плато Кольского полуострова.
11 июля судно вошло в обширную Екатерининскую гавань и встало на рейде Александровска-на-Мурмане. Этих названий сейчас нет на географических картах. В эпоху, когда отовсюду изгонялись имена царей, Екатерининскую гавань переименовали в Кольский залив, а Александровск стал Полярным. Современного Мурманска во времена Толля не было. На его месте лопари (саами) пасли своих оленей. В годы Первой мировой войны к незамерзающей гавани провели железную дорогу. Там, где закончился её путь, немного южнее Александровска, в 1915 году возник город Романовна-Мурмане, потом переименованный в Мурманск.
Со стороны моря Александровск-на-Мурмане выглядел, как игрушечный: церковь, новенькие домики, прямые улицы. Стоило, однако, сойти на берег и посмотреть на местный люд, как впечатление менялось: город населяли в основном ссыльные уголовники. Каков это народ, обнаружилось сразу, как только нескольких из них наняли на погрузку угля. Работали они настолько плохо и с таким отвращением, что через час или два пришлось всех рассчитать и грузить уголь самим – матросам, офицерам и научным сотрудникам.
«Заря» снова осела, течь пошла маленьким фонтанчиком, заработали помпы – это было уже привычное дело. Но Толль и Коломейцев знали, что путь предстоит длинный, а уголь расходуется со страшной быстротой. Все надежды возлагались на поморскую шхуну, приобретённую во время подготовки экспедиции. Она должна была доставить уголь из Архангельска к Югорскому Шару – проливу, который отделяет Баренцево море от Карского. Но в Александровске от архангельского губернатора была получена телеграмма, что шхуна натолкнулась на льды, потерпела аварию и вернулась назад. Сделали запрос в Архангельск и получили ответ, что повреждения незначительные и шхуна через два дня выйдет. Опытный Коломейцев сразу понял, что если за два дня можно исправить повреждения, значит, настоящей аварии не было. Команда не очень заинтересована в деле и тянет волынку.[92] Попадать в зависимость от таких людей было неприятно. Но, с другой стороны, губернатор лично занимался этим делом и знал, что экспедиция находится под «высочайшим» покровительством.
После погрузки угля команде разрешили сойти на берег. В ближайшем кабаке она устроила пышные проводы двум списанным матросам. Пиршество закончилось дракой с местными пропойцами. Дело дошло до ножей, но, к счастью, никого не зарезали.
Офицеры, на многое успевшие насмотреться, не придали этому инциденту большого значения. Матросы вовремя вернулись, никто на борту не бесчинствовал, никто не принёс спиртного – значит всё в порядке. Но Толль, узнав, что его матросы, такие славные ребята, схватились за ножи, сразу изменился в лице, не зная, что сказать и как поступить. Заметив это, Коломейцев не удержался от саркастического замечания насчёт либерализма и его печальных последствий. Толль вспыхнул, как порох. После этого, как рассказывал Колчак, они в течение двух часов «в очень вежливой форме наговорили друг другу кучу всякой дряни». В конце концов Толль заявил, что он списывает Коломейцева с судна, а тот ответил, что не желает оставаться на «Заре» дольше утра и передаёт свои обязанности старшему после себя офицеру – Матисену.
Между тем наутро предполагалось отплытие. Матисен предпочитал ни во что не вмешиваться. Он был, по словам Колчака, «как всегда, слишком благоразумен». Колчак же решил, что дело принимает плохой оборот: «Если с первых дней плавания начинаются списывания, да ещё командира, то это обещает полное разложение всей экспедиции». Колчак попытался поговорить с Толлем, а потом с Коломейцевым, но, видимо, он был неважный дипломат. Тогда он пошёл к Толлю и заявил, что вместе с Коломейцевым просит списать и его. Колчак знал, что это конец экспедиции: с одним офицером судно дальше не пойдёт. Неизвестно, как отнёсся Толль к этому ультиматуму, но к делу подключились мудрый Вальтер и тихий Зеберг. До утра из каюты Толля, на разных интонациях, доносилась немецкая речь. Матисен тоже, наконец, оставил политику невмешательства, и вдвоём с Колчаком они взялись за Коломейцева.
Под утро состоялось примирение в несколько, как писал Колчак, театрально-трогательной форме.[93] Уже это говорило о том, что оно непрочно. Слишком они не подходили друг для друга – грубоватый и далёкий от науки Коломейцев и сентиментальный, впечатлительный и нервный Толль.
Утром обстановка на судне как-то сразу изменилась, тучи рассеялись: на борт взяли 60 ездовых собак, которые ожидали «Зарю» в Александровске. Им отгородили место на шканцах, но собачий лай разносился по всему судну. «Грязь, вонь и шум первые дни на палубе, конечно, были невообразимые, – вспоминал Колчак, – но ко всему можно привыкнуть, и через несколько дней мы уже не обращали на это особенного внимания».[94] Вместе с собаками были взяты и два каюра – Пётр Стрижев и Степан Расторгуев. С последним Толль был знаком по прежним экспедициям. Обоих зачислили на место списанных матросов, но первое время от них было мало толку.
18 июля, во второй половине дня, «Заря» покинула Екатерининскую гавань. Жизнь вернулась в налаженный круговорот дел. Команда завтракала в 7 часов, в 12 обедала, в 6 ужинала. В кают-компании в семь только пили чай или кофе, в полдень завтракали, затем следовал «файф-о-клок» (только не в пять, а в три часа). В 6 часов был обед. Вечером сходились пить чай.[95] В те времена у простого народа и у образованных классов был разный распорядок дня.
Во время обеда и ужина в кают-компании завязывалась беседа, в которой, как писал Толль в своём дневнике, всегда активно участвовали Бируля и Колчак, «человек очень начитанный». Матисен в шутливой манере пытался вовлечь в разговор Вальтера, своего соседа за столом. Доктор отвечал всегда остроумно, выстраивая к тому же русские предложения на немецкий лад. Все смеялись. Вообще же доктор, человек несколько замкнутый, редко участвовал в беседах.
После вечернего чая, когда никто уже не спешил, Колчак и Коломейцев рассказывали о своих южных плаваниях. Матисен и Колчак иногда начинали спорить. Толль писал, что они «неизменно придерживаются противоположных мнений». Колчак начинал горячиться и раздражаться, но добродушный Матисен умел не доводить полемику до точки кипения, и между офицерами сохранялись дружеские отношения.[96]
О том, как проводила досуг команда, можно было судить по доносившимся из кубрика звукам гармоники или напевам под гитару.
По праздникам на нижней палубе с утра совершалось богослужение. Матросы пели молитвы. Колчак, за священника, читал Евангелие. Видимо, не случайно именно на него были возложены эти обязанности. В дальнейшем, во время зимовки, если Колчак находился в отъезде, за священника был матрос Толстов.[97]
«Наш гидрограф Колчак – прекрасный специалист, преданный интересам экспедиции, – писал Толль. – Руководство драгированием он также взял на себя. Бируля тоже прекрасный работник, кроме того, он располагает к себе благородством своего характера».[98]
Первую гидролого-зоологическую станцию Колчак и Бируля провели на следующий день после выхода из Екатерининской гавани.
Застопорена машина, судно останавливается. Колчак опускает в воду термометры. Берёт пробу воды с разных глубин. Боцман Бегичев заводит над морем стрелу с тяжёлой драгой. Корабль делает тихий ход назад, невидимая под водой драга волочится по дну. Потом боцман умело подхватывает её, поднимает и опускает на палубу. В драге копошатся обитатели морских глубин. Жидкая грязь растекается по палубе. Вокруг драги собирается чуть ли не вся команда, с интересом разглядывая морских тараканов и прочую нечисть.[99]
Бегичев оказался отличным помощником при драгировании. Между ним и Колчаком возникла даже взаимная симпатия, тем более что они были одногодки. Тянулся к Колчаку и матрос Железников, который в дальнейшем стал постоянным его спутником при топографических работах.
И всё же при проведении станций Колчак всегда испытывал такое чувство, будто по его вине задерживается судно. Коломейцев смотрел на эти занятия с плохо скрываемым недовольством. Просить его в такие минуты о какой-то помощи было делом бесполезным и неприятным.[100]
Сделать топографическую съёмку побережья, измерить глубину – это Коломейцев понимал и делал. Но извлечение с морского дна разных тварей с задержкой судна и с грязью на палубе – это в его глазах, как видно, представлялось надуманной затеей, выдаваемой за науку.
Несколько дней «Заря» шла по спокойному морю при слабом ветре. Но при подходе к острову Колгуеву задул свежий норд-ост и пошла волна. Время от времени палубу заливало водой, собаки принимали солёный душ. Толль относился к качке спокойно, а Бируля, Зеберг и доктор страдали от морской болезни. 22 июля «Заря» прошла мимо северной оконечности Колгуева. В разрывах тумана были видны глинисто-песчаные обрывы его берегов. Кое-где лежал снег. Желтовато-синие тёплые струи Гольфстрима постепенно исчезали, уходя вглубь. Морская вода становилась мутной и зелёной – чувствовалась близость Печоры.
Рано утром 25 июля на горизонте обрисовались невысокие обрывистые берега острова Вайгач. На ровной, как зеркало, поверхности моря остановилось, как бы в нерешительности, несколько льдин. Но Югорский Шар был свободен. Толль и Коломейцев разглядели с капитанского мостика мыс Гребень, у которого была назначена встреча с угольной шхуной. Никакой шхуны там не было.[101]
«Заря» обогнула мыс и остановилась в соседней бухте. Здесь же стоял пароход «Пахтусов», на котором полковник А. И. Вилькицкий по заданию Главного гидрографического управления производил обследование побережья Ледовитого океана и устья Печоры. Руководители двух экспедиций обменялись визитами. На «Пахтусове» лишнего угля не оказалось.
Ещё на подходе к Югорскому Шару Толль решил не ждать шхуну. Он горел желанием как можно скорее обогнуть мыс Челюскин – крайнюю северную точку Евразийского материка. Это дало бы возможность зазимовать на восточном Таймыре – в самой неизученной области на всём протяжении Северного морского пути. Если бы мыс Челюскин до конца навигации миновать не удалось, пришлось бы зимовать на западном Таймыре, гораздо более обследованном.
Обстановка в Югорском Шаре ещё более укрепила начальника экспедиции в принятом решении. Насколько мог видеть глаз, пролив был свободен от льда. Коломейцев, как отмечено в «полярной записке» Колчака, был обеспокоен неполным запасом угля. Но там же говорится, что ни Толль, ни Коломейцев «не хотели терять времени и хорошей погоды, чтобы пройти Югорский Шар»: «Вперёд на всех парах!» «Предполагаю, что Карское море свободно!» – писал в дневнике Толль.
Каково было в тот момент мнение Колчака, остаётся неясным. Через год в своей записке он с неудовольствием отметил: «…Мы вечно куда-то торопились, как на пожар…»[102]
В тот же день, 25 июля, «Заря» снялась с якоря и вошла в Карское море.
Толль имел склонность к рискованным решениям. Иногда ему каким-то чудом везло. Но чаще, по крайней мере в этой его последней экспедиции, одно такое решение впоследствии цеплялось за другое, и все вместе они вели экспедицию к трагическому исходу.
Вечером пал туман, но Колчак, стоявший на вахте, разглядел впереди широкую светлую полосу. Каждый полярный навигатор знал эту примету. И действительно, вскоре появились поля разбитого льда, среди которых в тумане трудно было маневрировать. На следующий день судно попало в ледовую западню, из которой нескоро выбралось.
Коломейцев, вложивший в обустройство корабля много сил, писал, что «Заря» показала себя как отличное судно, послушное рулю, обладающее хорошей поворотливостью и малой инерцией. При угрозе столкновения с льдиной можно было с полного хода сразу дать задний.[103]
Но «Заря» не была ледоколом. Поля однолетнего льда она крошила и раскалывала с ходу. Но натыкаясь на многолетний массив, судно сотрясалось всем корпусом, а на льдине оставалось только грязное пятно от форштевня. (Форштевень – брус, составляющий продолжение киля в носовой части.)
Стали действовать осторожнее, отклоняясь на юг и обходя ледяные поля. Издалека были видны пологие холмы полуострова Ямал. 30 июля на горизонте показался остров Кузькин, на восточном берегу которого находится бухта Диксона, названная по имени коммерсанта, финансировавшего экспедицию Норденшельда. (В дальнейшем, когда на острове развился порт, к нему перешло название гавани, а первоначальное название острова было забыто.) На Диксоне решено было остановиться, чтобы почистить котёл и дать отдых команде.[104]
Когда бросали якорь, кто-то вдруг крикнул: «Медведи! Белые медведи на берегу!» Они отчётливо выделялись желтовато-белыми пятнами на тёмном фоне скал. «Три медведя! Четыре! Пять!» – досчитав до пяти, доктор Вальтер, заядлый охотник, бросился в каюту за ружьём.
Отдыхающие медведи встречали охотников, почёсываясь и позёвывая. А некоторые, заслышав шум и выстрелы, шли полюбопытствовать из глубины острова. Стреляли почти все. Даже повар Фома успел отличиться. Охотники часто не могут вовремя остановиться: было убито 10 медведей (лишь пятерым удалось убежать). Медвежатина была подана к столу, но восторгов не вызвала. «Если точно определить вкус медвежатины, то я должен сказать по совести, что мясо вкусно, но противно», – писал Толль. До отхода «Зари» успели разделать и переправить на судно только пять туш, остальные пришлось бросить.[105] После этого Толль стал придерживать охотничьи страсти: к чему бить больше, чем можно унести?!
5 августа «Заря» снялась с якоря и взяла курс к берегам Таймырского полуострова. Судно поднималось в высокие широты. Ледовая обстановка становилась всё труднее. Когда достигли Таймыра, плавание в открытом море стало невозможным. Удавалось продолжать путь только в шхерах, между высокими и плоскими островками. Но в многочисленных проливах подстерегала мель. Однажды просидели на какой-то банке чуть ли не сутки, испробовали все способы, чтобы сняться, работали до изнеможения всем составом экспедиции. Съехали на глубину только с приливом. После этого часов на шесть Толль разрешил всем отдыхать.[106]
Борьба со льдом приняла изнурительный и безнадёжный характер. Судно пыталось пробиться на северо-восток, а льды теснили его назад. Несколько раз «Заря» оказывалась запертой в какой-нибудь бухте или фиорде. Однажды простояли 19 дней. Собирались уже остаться здесь на зимовку, но вдруг распахнулись ледовые двери, вспыхнули новые надежды, судно снялось с якоря. И снова в бесплодной борьбе со льдом сжигались тонны драгоценного угля.
Только теперь Толль по-настоящему оценил, как повезло в своё время Норденшельду. Тогда дули северо-восточные ветры, было гораздо холоднее. Но эти же ветры удерживали у берегов тёплые воды, приносимые в Арктику Обью и Енисеем. За одну навигацию «Вега» обогнула мыс Челюскин и дошла чуть ли не до Чукотки. Теперь было относительно тепло, но юго-западные ветры угоняли далеко в океан воды великих сибирских рек, а с тыла, из океана, к берегам Сибири заходили тяжёлые многолетние льды.[107]
Между тем тундра пустела. Уходили на юг стада оленей, улетали птицы. В ночь на 4 сентября путешественники впервые увидели северное сияние, протянувшееся с юга на северо-запад полосой слабо полыхающих желтовато-зелёных лучей. А в другой раз, тоже вечером, в кают-компанию вбежал вахтенный: «Впереди виден огонь!» Все бросились на палубу. Неужели это «Ермак», пробившийся к полюсу «напролом», возвращается назад? Может, адмирал Макаров поделится углём? Сквозь полосу тумана был виден далёкий пурпурный огонёк. Приглядевшись, Зеберг сказал, что это Венера.[108]
22 сентября 1900 года «Заря» остановилась на зимовку близ бухты Колина Арчера,[109] названной Нансеном в честь того самого судостроителя, на верфи которого переоборудовалась «Заря».
* * *
На Таймыре экспедиция оказалась полностью оторванной от человеческой цивилизации. Здесь не было даже ненецких кочевий. Сами ненцы, по рассказам Толля, объясняли это тем, что их не пускают туда медведи: «Когда мы приходим, они собираются вместе и прогоняют нас». Белых медведей они считали как бы особым народом, имеющим свою территорию.[110]
Начало зимовки было отмечено небольшой пирушкой. В кают-компании пили шампанское и коньяк, команде выдали пиво. После этого Толль установил строгий закон: спиртное только по праздникам.
«Заря» вскоре вмёрзла в лёд. Собак переселили на берег, стали ходить на лыжах и строить из снега метеорологическую станцию. Потолок и стены в ней завесили парусами, чтобы не капала сверху вода, когда нагревался воздух от человеческого дыхания и керосиновой лампы. С судна на станцию протянули телефон. Дежурство на станции было круглосуточное, показания приборов снимали каждый час.
И всё же Толля не оставляла мысль побывать на восточном Таймыре. Чтобы добраться туда кратчайшим путём, надо было пересечь по тундре с запада на восток полуостров Челюскина. Эта экспедиция намечалась на весну 1901 года. Но без промежуточного склада достичь восточного берега было невозможно. И Толль решил заложить такой склад до наступления полярной ночи.
10 октября собрались в путь две тяжело нагруженные нарты. На одной ехал Толль, а каюром был Расторгуев, на другой – Колчак с кочегаром Носовым. Провожать вышла вся экспедиция. Раздался свист, и собачья стая с диким воем рванула вперёд. Толль успел вскочить на полозья, а Колчак ловко взобрался на высоко нагруженные сани, как на грот-мачту, и уселся на самом верху.
Эта первая поездка была, как блицкриг, самой короткой и удачной. И это несмотря на то, что продвигались только днём, три-четыре часа, что морозы доходили до 30 с лишним градусов. В палатке же было -20. Отсыревшая от пота одежда превращалась в твёрдый панцирь, и её нельзя было снять без посторонней помощи. Спали в мешках. Когда утром из них вылезали, кто-нибудь обязательно задевал за косую стенку палатки, и на головы сыпался густой иней. Это заменяло умывание, от которого в походных условиях пришлось отказаться.
15 октября путешественники достигли залива Гафнера, где у высокой скалы заложили продовольственный склад. Отсюда весной намечалось начать путь в глубь полуострова. Наутро, перед отъездом, Толль увидел у склада куропатку. Схватился за ружьё, но она улетела. Днём раньше видели оленя, который пробирался на юг. Откуда они здесь в такое время? Зимуют ли в этих местах или возвращаются оттуда, где были летом? Но ведь там, дальше на север – только океан, только льды… Или…
Возвращение было столь же молниеносным. Только 18 октября вдруг закружилась метель. Но путешественники были уже в хорошо знакомом Таймырском проливе (между полуостровом Таймыр и одноимённым островом, гораздо меньших размеров). До «Зари» было недалеко, и собаки, почуяв жилище за много километров, неслись вперёд, не сбавляя хода. Когда буря неожиданно стихла, все увидели «Зарю» во льдах. Поездка длилась девять дней. Колчак, делавший в пути астрономическое определение некоторых пунктов, существенно уточнил прежнюю карту, сделанную по данным экспедиции Нансена.[111]
На следующий день по возвращении началась полярная ночь. В середине дня на несколько часов светало. Это были какие-то странные, призрачные сумерки. Не было солнца, не было и теней. Со всего хода можно было влететь в сугроб или угодить в яму. Столбик наружного термометра теперь редко поднимался выше 30 градусов. В снежной лаборатории поддерживалась температура от -2 до +3. В кают-компании все привыкли к 8 градусам тепла.
В самую стужу и пургу начали щениться собаки. Материнского тепла не хватало, чтобы защитить новорожденных, и они погибали. Нескольких беременных сук перевели на судно. Однажды между двумя собаками вспыхнула яростная драка. Не поделили одного щенка, очень крупного и красивого. В драке он был разорван на части. И потом больше жалела его, выла и тосковала как раз та собака, которая не была его матерью. Хотя у неё были и собственные щенки. У «братьев меньших» шла своя жизнь, не всегда понятная людям.
Признанным вожаком собачьей стаи был ненецкий пёс Грозный, с остроконечными ушами, узкими глазами и неопределённого цвета тёмной шерстью. Доказав своё превосходство каждому из рвавшихся к власти кобелей, он установил было свою единоличную диктатуру. Но однажды несколько псов объединились в коалицию и в свою очередь задали трёпку Грозному. На смену диктатуре пришло нечто, напоминающее конституционную монархию.
Судьба экспедиционных собак почти всегда была трагична. В лютую зимнюю стужу или во время пронизывающей пурги многие из них замерзали, оказавшись сбоку в клубке тесно прижавшихся друг к другу собачьих тел. Другие погибали в длительных поездках от голода и изнеможения. Очень часто случалось и так, что по обстоятельствам экспедиции приходилось освобождаться от стаи, полностью или частично. Собак, ставших ненужными, расстреливали или травили стрихнином. Такое было и в экспедиции Толля, а позднее – и Колчака. Редкая собака, по особенному своему счастью, возвращалась из экспедиции. И если уж академик И. П. Павлов в своей лаборатории поставил на пьедестал бронзовую собаку, то надо бы и где-нибудь за полярным кругом воздвигнуть памятник Собаке, оказавшей Человеку неоценимые услуги в познании Арктики.
Где-то в середине зимы Вальтер обнаружил у Бегичева и ещё у трёх матросов признаки цинги. Были приняты быстрые и решительные меры, победившие болезнь. Но Бегичев был убеждён, что помогли не лекарства, прописанные строгим доктором, а привычные для народа средства. Имея доступ к запасам спирта, боцман приносил в кубрик сосуд явно не аптечных размеров, и команда после отбоя приступала к лечению. Когда цинга прошла, Бегичев, по его уверению, перестал похищать спирт, а офицеры так ничего и не заметили. Но однажды Огрин позвал его попробовать «коньяк». Оказалось, что это тот же спирт с добавлением экстракта клюквы. Машинисты подделали ключ и давно уже наведывались в запретное хранилище. Матисен однажды натолкнулся на пьяного кочегара, но тот сказал, что у него был собственный запас.[112] Кают-компания и кубрик жили во многом разной жизнью. У кубрика было много тайн, так и оставшихся нераскрытыми.
Тем временем в кают-компании многие углубились в чтение литературы о полярных странах. Только Матисен и Зеберг остались в стороне. Последний – по причине постоянной занятости магнитными и астрономическими измерениями и связанными с ними математическими расчётами. А Матисен – по отсутствию интереса. Толль высказал пожелание, чтобы каждый сделал доклад по полярной тематике, а также прочитал популярную лекцию для команды. В феврале 1901 года Колчак сделал для команды доклад о Великой северной экспедиции, а позднее Бируля рассказал о природе южных полярных стран.[113] Для матросов это было в диковинку. В те времена для нижних чинов на флоте не устраивалось ни лекций, ни общеобразовательных курсов. Только неграмотных учили читать и писать.
Заядлые охотники не теряли надежды выследить какую-нибудь дичь. Доктор Вальтер, в белом маскировочном халате, в шапке, повязанной белым платком, едва ли не каждый день выходил для обозрения пустынных окрестностей. Однажды, возвращаясь на судно вместе с Толлем, он проговорился о давней своей мечте – совершить на собаках поездку на полюс. Главное – получить средства. Толль обещал своё содействие. Вальтер сдержанно ответил, что будет удовлетворён, если он не станет возражать.[114] Доктор не любил приставать с просьбами и чувствовать себя кому-то обязанным. Оставалось непонятным, каким образом, при таких своих правилах, он надеялся найти средства.
Зимовка сближает людей. Или же подводит черту в их отношениях. Нам неизвестно, были ли во время зимовки новые стычки между Толлем и Коломейцевым. Дневник Толля впервые был опубликован в 1909 году в Берлине на немецком языке (язык оригинала). Готовя его к печати, Эммелина Толль, вдова путешественника, оговаривалась, что она опустила некоторые «не заслуживающие внимания мелочи совместной жизни членов экспедиции».[115] «Мелочей» в дневнике осталось вполне достаточно. Но, как видно, тщательно вымарано всё, что касалось конфликта с Коломейцевым. Колчак, писавший обо всём без утайки, довёл изложение в «полярной записке» только до прихода «Зари» в бухту Диксона. Известно, однако, что Толль, вопреки субординации, нередко давал поручения матросам через голову командира корабля, а Коломейцев был этим недоволен.[116]
В середине ноября у Толля возник план разрешения угольного вопроса путём посылки Коломейцева на материк для организации угольных баз в гавани Диксона и на острове Котельном. «Лейтенант Коломейцев в смысле распорядительности, опыта, приобретённого им во время плавания по Енисею в 1893 году, прекрасно подходит для этой миссии…» – писал Толль в дневнике, словно перед кем-то оправдываясь. Угольная база на Диксоне была нужна разве что для обратного плавания. По-видимому, Толль уже тогда оставил мысль пройти через Берингов пролив и собирался повернуть назад после открытия Земли Санникова. Что же касается угольной базы на Котельном, то устройство таковой было крайне проблематичным, и Толль, конечно, это понимал. В спутники Коломейцеву Толль определил Расторгуева, своего давнего знакомого, которым тоже не был доволен: он вдруг запросился в отпуск.[117]
Коломейцев выслушал начальника экспедиции, не моргнув глазом и не выразив никаких чувств. Расторгуев же выглядел растерянным и обиженным: он вовсе не собирался в отпуск сейчас, когда экспедиция забралась так далеко на север. Он рассчитывал расстаться с ней позднее, когда «Заря» подойдёт ближе к человеческому жилью. Теперь же им, по словам Толля, предстояло преодолеть расстояние около 550 километров по безлюдной тундре (фактически потом оказалось больше).
Коломейцев и Расторгуев отправились в путь 21 января 1901 года – немного раньше появления солнца. Коломейцев попрощался с командой, передал корабль Матисену, обнял товарищей, обменялся рукопожатием с Толлем, захватил почту, и нарты тронулись. Предполагалось по океанскому побережью достичь устья реки Таймыры и по её руслу пройти через полуостров.[118]
Коломейцев и Расторгуев вернулись 3 февраля. Подвёл пустяк: в примусе засорился канал, прочистить который можно было только специальной иглой, которую забыли захватить. А без примуса нельзя было ни вскипятить чай, ни приготовить пищу из концентратов или дичи.
Переждав разыгравшуюся пургу, Коломейцев и Расторгуев уехали 20 февраля. Толль на этот раз попрощался только с Расторгуевым, который, жалобно на него посмотрев, попросил, в случае его гибели, переслать небольшой пакет его близким в Якутск. «Хорошо, – шутливо сказал Толль, – а если я погибну, то прошу тебя переслать мой пакет в Дерпт». После отбытия Коломейцева и Расторгуева Толль, однако, заметил несколько подавленное настроение у членов экспедиции, особенно у офицеров.
18 марта, к величайшему неудовольствию Толля, оба снова вернулись. Реки Таймыры не оказалось на том месте, где она была обозначена на карте. Путники пошли было по другой реке, которую приняли за Таймыру, но очень скоро подошли к её истокам. Свирепствовала пурга, путешествие было трудным и опасным. Коломейцев и Расторгуев едва не погибли от нехватки продовольствия и собачьего корма.[119]
Между Толлем и Коломейцевым состоялся длительный и нелёгкий разговор, оказавшийся безрезультатным. Доктору Вальтеру пришлось взять на себя роль посредника, хотя после недавнего желудочного расстройства он чувствовал себя неважно. Доктор сообщил, что Коломейцев предлагает идти другим путём, более известным и надёжным. Толль считал этот путь длиннее, но не стал возражать. Отпраздновав Пасху на «Заре», Коломейцев и Расторгуев выступили 5 апреля. С Расторгуева Толль взял обещание присоединиться летом к вспомогательной партии Воллосовича, а затем вернуться на «Зарю».
В мае 1901 года, преодолев 768 вёрст по таймырской тундре, Коломейцев и Расторгуев добрались до Дудинки. На всём протяжении пути Коломейцев вёл маршрутную съёмку, которая внесла существенные изменения в карту Таймырского полуострова.[120]
Западное побережье Таймыра казалось местом довольно изученным, но по ходу зимовки обнаруживались всё новые загадки. С одной из них столкнулся Коломейцев: где устье Таймыры? Другая возникла как бы сама собою.
Однажды в конце осени зимовщики поехали на один из островов измерять глетчер. Вдруг собаки сорвались с привязи и вместе с нартами куда-то умчались. Каюры, бросившиеся вдогонку, заметили вдалеке стадо оленей. Собаки вернулись, но остались вопросы: почему олени всё ещё не откочевали на юг? Или они как раз туда и перебираются откуда-то с севера? Толль вспомнил одинокого оленя, которого они с Колчаком видели близ фиорда Гафнера, и куропатку, вспорхнувшую с заложенного склада. А в книге Норденшельда «Плавание на „Веге“» его поразило замечание о том, что у мыса Челюскин путешественники видели стаи птиц, летевших с севера на юг, покинув какую-то неизвестную землю.[121]
23 февраля 1901 года по распоряжению Толля лейтенант Матисен и каюр Стрижев отправились в разведку на север. Матисен, как всегда, был весел, а Стрижев вообще отличался жизнерадостным нравом. Толль невольно противопоставил их паре Коломейцев – Расторгуев.
Матисен и Стрижев вернулись через две недели. Оба выглядели весёлыми и довольными. Они прошли на север через архипелаг Норденшельда до 77 градуса. Затем почему-то повернули на запад, наткнулись на торосы и вдруг обнаружили, что собачий корм на исходе. Стрижев, как видно, кормил собак сверх нормы, чтобы поскорее вернуться.
Если бы с крайней северной точки своего путешествия Матисен и Стрижев повернули на северо-восток, то примерно через 150 километров они увидели бы большой остров. Ныне он известен как остров Большевик. Б. А. Вилькицкий, в 1913 году первым подошедший к его берегам, назвал его островом Цесаревича Алексея. Если бы Матисен и Стрижев продолжили своё движение строго на север, примерно через 225 километров они наткнулись бы на остров Октябрьской Революции, как именуется он ныне. Вилькицкий назвал его Землёй Николая П. В Арктике очень многое переименовано.
Толль остался недоволен поездкой Матисена. Через три дня он отправил его в новое путешествие, на этот раз с Носовым. Эта поездка длилась 10 дней. Матисен нанёс на карту два островка из архипелага Норденшельда, а затем наткнулся на очень тяжёлые торосы. Не преодолев их, он повернул назад.[122] Если бы вместо Матисена пошли такие одержимые люди, как Толль и Колчак, результаты могли быть иными. Но Толль не стал менять планы. Склад у залива Гафнера уже заложен – значит надо идти на Восточный Таймыр. А с началом навигации впереди маячила «заветная цель». Погнавшись за призраком Земли Санникова, Русская полярная экспедиция в 1901 году прошла мимо настоящего, большого открытия.
Не только Толль, но и вся экспедиция верила в эту «заветную цель». 4 марта, когда отмечался день рождения начальника экспедиции, Колчак произнёс тост, выразив пожелание отметить следующий день рождения на Земле Санникова.[123]
6 апреля Толль и Колчак отправились в санную поездку на полуостров Челюскина.[124] К этому времени выявилась нехватка собак: 22 пали в течение зимы, восемь ушли с Коломейцевым, другие не успели отдохнуть после путешествий Матисена. Для поездки на полуостров Челюскина в наличии оказалось 12 здоровых собак. Этого было достаточно для одной нарты, но Толль взял две, по 300 килограммов на каждой. У Толля каюром был Носов, у Колчака – Железников. Все четверо шли рядом с нартами и порой сами впрягались в постромки. И всё же собаки тащили тяжело и медленно. За первый день прошли всего 16 километров.
На следующий день Толль отослал матросов назад, несколько облегчил груз, заложив склад на берегу моря, и взял на себя обязанности каюра. Это было нелёгким делом. Толль должен был всё время выкрикивать командные слова, чтобы держать стаю в постоянном напряжении, говорить им на якутском языке (русского они не понимали) разные небылицы («Скоро будем дома!», «Там много вкусного корма!» и т. п.), распутывать постромки и следить за направлением движения. Едва прекращалось выкрикивание команд и небылиц, собаки останавливались. Они останавливались и тогда, когда на нарту садились оба путешественника – груз становился не по силам. Поэтому Толлю и Колчаку попеременно приходилось бежать рядом с нартой.
Чтобы лучше использовать день для астрономических определений и не так страдать от жары (даже на морозе собаки бежали с высунутыми языками, а люди обливались потом), Толль отвёл для поездок вечер и часть ночи, а день – для работы, отдыха и сна. Расставив палатку, поужинав, сделав дневниковые записи и покурив трубку, в 3 часа утра Толль и Колчак ложились спать. В 8 или 9 часов просыпались, варили концентраты (гороховое пюре с олениной), пили чай, делали астрономические измерения или топографическую съёмку побережья, а потом отправлялись в путь.
Солнце и снег. Чистейший саван бесконечной полярной зимы. На многие вёрсты – никаких признаков жизни. У Толля началась снежная слепота. От беспрестанного крика он охрип. К череде мелких неприятностей сначала старались относиться с юмором. Однажды, остановившись на ночлег, обнаружили отсутствие свёртка с зимней одеждой. Его нашли, вернувшись наутро назад, но целый день был потерян. Ещё один день был потрачен, чтобы переждать вьюгу. Третий день был малопродуктивен, потому что сначала сани провалились в трещину и их пришлось разгружать, чтобы вытащить, а потом они повредились о край тороса. После этого пришёл черёд для неприятностей покрупнее.
Подъехав к заливу Гафнера, они не сразу узнали местность – настолько за зиму всё изменилось. Когда же нашли ту самую скалу, возле которой были зарыты продукты, то увидели на этом месте восьмиметровый сугроб. Толль недоумевал, как же это он, бывалый полярник, мог устроить склад как раз с той стороны, куда наметает снег.
Первое время снег раскапывал Колчак, пребывая, по словам Толля, в «трудовом экстазе». Начальник же экспедиции ходил обозревать окрестности и охотился на куропаток. Затем и Толлю пришлось взяться за лопату. Сначала была срыта вершина холма, а затем образовалась шахта. Чем дальше, тем труднее шло дело. Снег слежался и стал твёрдым, как рафинад. За час удавалось выкопать только один кубометр. Раскапывание склада длилось целую неделю. Потом эту работу пришлось бросить.
Колчак выглядел подавленным. На волне успеха он мог творить чудеса, а неудачи всегда ввергали его в самое скверное настроение, которое он не умел скрывать. Стали думать, что делать дальше. Собаки исхудали и утомились, корма для них осталось немного, запасы керосина тоже были невелики. Не хотелось, однако, отправляться в обратный путь, почти ничего не сделав. Колчак, как мореплаватель и географ, предлагал пройти дальше вдоль побережья, делая его съёмку. Толль, как геолог, считал более интересным всё же заглянуть в глубь полуострова. Колчак, привыкший к военной дисциплине, не возражал против решения начальника.
Четыре дня они шли в глубь страны, не всегда понимая, идут ли по льду какого-нибудь фиорда или по тундре. Вокруг расстилалась однообразная пустыня, с подъёмами и спусками, с байджарахами (характерными для тундры конусовидными холмами) и гранитными валунами. Собаки везли всё хуже и хуже. Теперь уже никто не садился на нарту. Наоборот, при подъёмах Толль и Колчак сами впрягались в лямки. При спусках же ослабевшие собаки не могли бежать достаточно быстро, попадали под сани, и вся упряжка превращалась в катящийся клубок, в который заматывало и людей.
Долгое время не попадалось высокой горы, с которой можно было бы осмотреться. Тёплая погода приносила с собою тяжёлые туманы. Когда холодало – горизонт тонул в мглистой дымке. Ориентироваться становилось всё труднее. В конце концов направление движения было совсем потеряно. Толль решил, что будет разумнее, если он, выспавшись и подкрепившись, совершит однодневную экскурсию на восток.
1 мая, при ясном солнце и лёгкой позёмке, он сделал 11-часовой марш на лыжах. Потом взобрался на холм, съел сухарик со шпиком и осмотрелся. Полуночное солнце, как записал он в дневнике, «осветило однообразный холмистый ландшафт – ни одной характерной горы, ни одной гряды на бескрайней пустыне». Вершины некоторых холмов уже оголились от снега, и там путешественник находил только песок, щебень и валуны, обросшие лишайником. «Эта безотрадная пустыня угнетает своей безжизненностью», – писал он.
Повернув назад, Толль вскоре потерял свою лыжню, заметённую снегом. К счастью, не было тумана, и лыжный след впереди удалось разглядеть. Толль приехал на стоянку с окончательным решением возвращаться.
Первый переход в обратную сторону был удачным. При ясной и безветренной погоде прошли 15 километров, разбили палатку, залезли в мешки. Толль, на которого напала бессонница, мог наблюдать, как меняется погода: сквозь палатку перестало просвечивать солнце, похолодало, в зашнурованную дверь начал задувать ветер. Потом он стал раскачивать палатку, которая вскоре промокла и обледенела. Сыро стало и внутри палатки.
Пургу пережидали три дня. Питались в основном бульонными таблетками и сахаром с клюквенным экстрактом. Примус зажигали не более как на полчаса в сутки, чтобы сварить гороховые концентраты и согреть чайник. Колчак производил вычисление маршрута, Толль делал записи в геологический дневник.
На четвёртый день пурга стихла. Но едва тронулись с места, снова замело. Так повторялось несколько раз: сносная погода словно заманивала в путь, а потом начинала свистеть вьюга. Встречный ветер спирал собакам дыхание и мешал слышать голос каюра. Крошка, самая слабая из собак, падала и волочилась. Её кавалер Леска (пёс, названный почему-то именем женского рода) пытался ей помочь, поднимал её за сбрую. Но Крошке едва ли уже можно было помочь, и тогда Леска схватил свою подругу за горло. Окровавленную собаку с трудом удалось отнять. Её положили на сани и довезли до стоянки. Потом её пришлось всё-таки пристрелить.
Толль и Колчак сократили обычный свой рацион наполовину, а когда случалось пережидать пургу, то и до четверти. Колчак сильно ослабел, как заметил Толль. Сам он тоже очень устал. Из-за недоедания сильнее чувствовался холод, начались головные боли. Приходилось бороться с вялостью и апатией.
После Крошки очередь наступила Печати. Это была отличная собака-вожак. У неё обнаружилась какая-то болезнь, но собака тянула изо всех сил. Наутро она не смогла сойти с места, и её привязали сзади саней. Она бодро бежала, даже пыталась тянуть сани, но потом её пришлось положить сверху на поклажу.
Прежде, на зимовке, Колчак обращал на собак мало внимания. Расшалившихся щенков он без церемоний хватал за голову, за заднюю лапу, за что попало и швырял обратно в коробку, а то и за дверь. Теперь же он проникся уважением к этой мужественной собаке и предлагал довезти её до «Зари». Но она отказывалась есть, уже не вставала и жалобно визжала. Её тоже пришлось пристрелить.
Леска, накануне едва не разорвавший горло Крошке, тоже выбился из сил. Его положили на нарту, где он уснул и больше не проснулся. Двух собак пришлось оставить на дороге, в надежде, что они отдохнут, соберутся с силами и нагонят. Ни одна из них не прибежала.
Теперь пришлось самим тянуть лямку наравне с оставшимися собаками. У Колчака открылось второе дыхание, и Толль с удивлением отмечал, что он выглядит бодрее и энергичнее его. Толль, выбившись из сил, порою готов был устроиться на ночлег где попало, а Колчак настаивал на том, чтобы пройти необходимое расстояние и найти подходящее место.
Начальнику экспедиции снились сытые обеды у старых друзей в далёком Дерпте. Когда же он просыпался, его начинал мучить вопрос: «Спрашивается, каковы будут результаты всех пережитых трудностей и неимоверных лишений? Пока произведена только съёмка побережья на небольшом протяжении к северо-востоку, причём установлено, что очертания берега, данные Челюскиным, правильнее тех, которые дал Нансен. Далее, брошен беглый взгляд в глубь полуострова, на скрытый за туманами пустынный тундровый ландшафт. О геологии этих мест не удалось составить себе ясного представления. И это немногое стоило нам полных лишений 40 дней тяжелейшей работы и жизни нескольких собак!» Толль пришёл к выводу, что май, когда за полярным кругом несутся вьюги, предвестники весны, самое неподходящее время для путешествий в глубь тундры.
Погода наконец установилась. Но продовольствие почти закончилось (банка паштета и кубический дюйм сала были оставлены на случай непредвиденной задержки). Все надежды возлагались на склад, заложенный на месте первой стоянки.
Когда вошли в Таймырский пролив, вожак стаи Туркан, почуяв не то жильё, не то старый след, с радостным воем что есть сил потащил сани вперёд. Приободрились и другие собаки. Впрочем, стая сразу останавливалась, едва Толль и Колчак выходили из упряжки. Участие в собачьей гонке на пустой желудок становилось всё труднее. Делали остановки, выкуривали по трубке, и силы вроде возвращались.
Никто толком не понял, как проскочили склад. Толль писал, что подвело меняющееся освещение, изменившее видимые вдалеке очертания берега. Когда хватились, склад был уже километров на пять позади. Решили не возвращаться. За два километра до цели собаки и люди побежали из всех оставшихся сил. 25 километров были пройдены за один переход.
В 7 часов утра 18 мая путники подошли к «Заре». Закончилась 41-дневная поездка. Первым навстречу вышел Стрижев, «радостный и свежий, как всегда». Затем появился Матисен, «полный и цветущий». Бируля и Зеберг были в короткой экспедиции. Вальтера только что оставил в покое суставный ревматизм, и он не выходил из каюты.
Первые три дня по возвращении Толль и Колчак чувствовали себя как в тумане. В основном ели и спали. У Толля отекли ноги, и он дней двадцать почти не сходил с корабля. А Колчак быстро вошёл в обычное своё состояние. 29 мая он отправился с доктором и Стрижевым в поездку, чтобы забрать продукты из склада, мимо которого проскочили, и закончить съёмку этой части побережья. Поездка была не из лёгких: подтаявший снег уже не держал человека, и в него проваливались по пояс, а перед самым возвращением путников накрыл сильнейший ливень. Вернувшись из поездки, Колчак закончил подробную съёмку рейда «Зари». Тогда же Бируля сделал съёмку другой части берега.[125] Один из островов в Таймырском заливе Толль назвал именем Колчака.
Наступала весна. Тундра почернела, с берега доносилось журчание ручьёв. Прилетело множество птиц, запели пуночки – полярные жаворонки. В вазочке на столе в кают-компании появились скромные северные цветы – лютики, альпийская купка. Однажды Толль увидел Матисена и Колчака сидящими у фонографа. Голос неизвестной певицы исполнял романсы Мендельсона. Здесь, в экспедиции, уже около года никто не слышал живого женского голоса.
Последнее приключение, в которое попал Колчак на этой зимовке, могло окончиться плохо. Бируля и Колчак, взяв с собою двух матросов, пошли спускать в трещину драгу. С ними увязался Грозный. Когда работа была в разгаре, откуда ни возьмись два медведя – медведица с подросшим сыном. Оказалось, никто не взял ружья. Матросы побежали на судно за винтовками, а Грозный отважно бросился навстречу медведям. Они испугались и нырнули в трещину. Более получаса, не переставая лаять, не выпускал он медведей из воды. Медведица, правда, ухватила его и утащила под лёд, но он сумел вынырнуть. Тем временем прибежали матросы и застрелили медведей. Толль потом возмущался: «Что за легкомыслие выходить невооружёнными!»[126]
«Заря», освободившись от льда, покачивалась в широкой полынье.
Но выход из бухты всё ещё был заперт. Между тем Толля не оставлял в покое вопрос: где устье Таймыры? В начале августа Толль, Зеберг и несколько матросов отправились на каяке в экспедицию. Устье было найдено на 100 километрах севернее, чем оно обозначалось на карте. Тогда же раскопали наконец склад в заливе Гафнера и забрали часть продуктов, сколько можно было увезти на каяке. 10 августа путешественники вернулись на «Зарю».
А 12 августа вокруг «Зари» началась подвижка льда. И её понесло к выходу из бухты в открытое море. Команда на ходу спешно поднимала пары.[127] Если бы Толль опоздал на два дня, он остался бы на берегу. Не нагонять же судно на каяке среди двигающегося льда! На этот раз всё обошлось благополучно, несмотря на склонность Толля к рискованным решениям.
* * *
Рано утром 19 августа 1901 года Матисен разбудил Толля и сообщил, что «Заря» пересекает долготу мыса Челюскин. Разволновавшийся Толль быстро оделся и вышел на палубу. Тусклый свет пробивался сквозь облака. «Заря» обходила широкий ледяной пояс, отделяющий море от берега. И когда берег стал близок, Колчак, захватив инструменты для определения широты и долготы, прыгнул в байдарку. Вслед за ним на берег отправился Толль. Внезапно вынырнувший морж едва не опрокинул лодку с начальником экспедиции.
На берегу соорудили гурий, около которого все сфотографировались. Толль подавил в себе желание совершить экскурсию в глубь полуострова, где виднелись конусообразные сопки. «В настоящее время, – записал он в дневнике, – наш единственный лозунг: „Идти вперёд!“»
В полдень все были на борту «Зари», украшенной флагами и вымпелами. Толль распорядился дать салют в честь Челюскина, и вскоре «Заря» отправилась в дальнейшее плавание. Колчак и Зеберг, сделав подсчёты, определили долготу и широту мыса, на котором была сделана остановка. Он оказался немного восточнее настоящего мыса Челюскин. Безымянный мыс был назван по имени «Зари». Норденшельд в своё время тоже «промахнулся»: так появился мыс «Веги», к западу от мыса Челюскин. После норденшельдовской «Веги» с вспомогательным судном «Лена» и нансеновского «Фрама» «Заря» стала четвёртым судном, обогнувшим северную оконечность Евразии.[128]
С началом навигации, когда Матисену и Колчаку пришлось делить вахты на двоих, у них началась нелёгкая жизнь. Колчак вынужден был свести свою научную работу «к самым необходимым и крайне узким размерам».[129] «Оба офицера нуждаются в восстановлении своих сил не менее, чем котёл нашей „Зари“ в ремонте», – отметил Толль в своём дневнике.[130]
Обогнув мыс Челюскин, «Заря» вышла в море, которое когда-то называлось Сибирским, затем морем Норденшельда. Ныне оно известно как море Лаптевых. Колчак называл его Сибирским. Море было свободно от льда. Своими свинцовыми водами и низкими берегами оно напоминало Балтику. Но отсутствие встречных судов, навигационных знаков и маячных огней говорило о том, что «Заря» попала в неизведанные воды. Здесь действительно никого ещё не было, ибо маршруты Норденшельда и Нансена пролегали южнее. Толль распорядился держать курс прямо на предполагаемое место Земли Санникова.
Несколько дней донимала утомительная качка. В кают-компании сыпалась со стола посуда, в лабораториях бились склянки. А в ночь на 29 августа разыгрался нешуточный шторм. «Заря» ложилась на борт, и волна накрывала шканцы, собаки барахтались в воде. В кают-компании с грохотом перевернулся огромный дубовый стол. В каютах перемешались книги, бумаги, посуда, одежда. Колчак в эту ночь стоял на вахте и управлял кораблём. Вернувшись с вахты, голодный и продрогший, он не смог даже напиться чаю.
После шторма полосами пошёл туман, так что не сразу удалось определить местонахождение судна. Мимо плыли разбитые штормом льдины. Земля Санникова нигде не показывалась. Днём 30 августа «Заря» подошла к кромке сплошного льда.
Толль стоял на шканцах и обсуждал с Матисеном создавшееся положение, когда доктор воскликнул: «Посмотрите, не земля ли это?!» Все повернули бинокли в ту сторону, куда он показывал. В этот момент опустилась пелена тумана, и на горизонте появилась величественная стена скалистого мыса. Округлой формы ледник возвышался над ним, словно купол древнего храма.
– Остров Беннетта, мыс Эммы, – уверенно сказал Матисен.
Толль и сам уже понял, что это остров Беннетта. Но если бы не рассеялась вдруг туманная дымка, его бы никто не увидел. «Теперь совершенно ясно, – записал Толль вечером в дневнике, – что можно было 10 раз пройти мимо Земли Санникова, не заметив её».[131]
До Беннетта было около 14 миль. Справа был заметен свободный проход. Но вскоре всё застлал тяжёлый туман, затем наступили ранние осенние сумерки. Два последующих дня были потрачены на поиски подходов к острову. Ближе 12 миль подойти не удалось. Только однажды в разрыве низких облаков ещё раз показались часть мыса и вершина горы. Фронт тяжёлых льдов оттеснил «Зарю» к югу. Пришлось взять курс на Котельный.
На проплывающих льдинах отдыхали, резвились и дрались моржи. Колчак не мог оторвать взгляда от этих усатых великанов, которые ему страшно нравились. А Толль обдумывал план экспедиции на остров Беннетта. Чтобы определить точно координаты главных пунктов острова, необходим астроном. У Зеберга после поездки к устью Таймыры распухли ноги и появилась одышка. Значит, надо взять Колчака, хотя не следовало бы оставлять судно с одним офицером. Хотелось бы взять также доктора, «не только как врача и охотника, но и как прекрасного товарища». Но Вальтер тоже начал жаловаться на одышку.[132]
Плоские берега острова Котельного показались много скучней скалистых очертаний Беннетта. 3 сентября «Заря» вошла в Нерпичью бухту и направилась в маленькую гавань, защищенную отмелью от натиска льдов. На берегу виден был домик, сколоченный из плавника, а ещё ближе – человек, который махал рукой. Все поняли, что это К. А. Воллосович. Но встретиться с ним удалось не ранее чем через два дня.
«Заря» долго не могла пробиться к месту своей стоянки. Мешали встречный ветер, сильное течение и льды. Несколько раз садились на мель. Попытка Колчака закрепить на косе завозной якорь однажды едва не кончилась гибелью вельбота среди напирающих льдин. Только быстро принятое офицером решение перерубить канат и выбросить тяжёлый якорь за борт спасло вельбот. (Впоследствии Колчак разыскал на дне и поднял якорь.) 5 сентября судно наконец прошло через узкий канал и прочно обосновалось в своём убежище.
Воллосович переправился на борт, и в его честь кают-компания была залита электрическим светом. Вспомогательный отряд Воллосовича заложил на Новосибирских островах несколько складов для «Зари» и провёл ряд геологических, ботанических и зоологических исследований. Вслед за Воллосовичем подъехали другие участники его экспедиции – два якута, один из которых, Василий Горохов, в своё время, мальчиком ещё, сопровождал Бунге. Якуты приехали на корабль, всё осмотрели, на всё подивились, но жить предпочли на берегу, в поварне, в более привычной обстановке. Побывали на «Заре» и Ционглинский с Брусневым, которые затем уехали к местам своих зимовок.
Инженер-технолог Михаил Иванович Бруснев принадлежал к числу первых русских марксистов. В советское время его имя упоминалось во всех учебниках истории. В 1901 году шёл шестой год его ссылки. Он собирал для гербария образцы скудной растительности восточносибирской тундры и насаживал на иглу мелких представителей её фауны. Но в отчётах на имя президента Академии наук великого князя Константина Константиновича не упускал случая «подпустить» насчёт «кулаков-торговцев», которые держат в кабале местное население, а наёмных охотников, которых в Сибири все называют промышленниками (от слова «промышлять»), именовал по-научному – рабочими.
Во время бессонницы у Толля рождались «прекрасные планы». Один из них был изложен Матисену наутро после первой встречи с Воллосовичем: почистить на «Заре» котёл, разобрать и погрузить на неё домик, что на берегу, поговорить с якутами насчёт зимовки на Беннетте, а затем сняться с якоря и подойти к острову возможно ближе. Если льды не пропустят, добраться до берега на собаках. «Заря» вернётся на Котельный, а летом заберёт зимовщиков с Беннетта.
Матисен не пришёл в восторг от «прекрасного плана». Во время шторма, сказал он, ослабла ось винта и усилилась течь, ручные насосы с ней не справляются, а паровую помпу надо чинить – на весь этот ремонт и чистку котла потребуется не менее шести дней. Толль призадумался, а вскоре, 10 сентября, вопрос решился сам собою: подул северо-восточный ветер, похолодало, по воде пошла шуга (мелкий лёд). Закончилась вторая навигация и началась вторая зимовка – в Нерпичьей бухте острова Котельного.
* * *
Вокруг поварни Воллосовича вырос маленький хуторок: домик для магнитных исследований, метеорологическая станция и баня. Строительного материала было достаточно. Могучая Лена выносила в море из таёжных глубин многие кубометры плавника, а летние штормы выбрасывали их на острова.
В бане не было шаек. Вместо них использовались большие консервные банки. Для матросов стало любимым развлечением выскочить из бани нагишом, поваляться в снегу и бежать обратно. В этих развлечениях участвовал и Колчак. Кончилось тем, что у него произошло воспаление надкостницы с высокой температурой – первый случай за время экспедиции, когда он заболел. После этого Толль запретил подобные свирепые забавы.[133] Но зато смягчил сухой закон: спиртное теперь выдавалось раз в неделю – по воскресеньям.
С тех пор как «Заря» прошла через место предполагаемой Земли Санникова и не нашла её, среди членов экспедиции укрепилось скептическое к ней отношение. Говорили, что это был просто мираж, столь частый в этих широтах.[134] Для Толля необнаружение Земли Санникова было большим разочарованием и ударом по самолюбию. Конечно, он не считал, что вопрос о ней решён окончательно, но вполне допускал, что экспедиция, которой он руководит, её не найдёт. А поскольку пройти Беринговым проливом и дойти до Владивостока тоже не получалось, то результаты экспедиции представлялись ему слишком малыми. В таком случае только обследование не изученного почти острова Беннетта, как, видимо, полагал он, позволит достойно отчитаться о результатах экспедиции и вписать её в историю науки.
Толль, конечно, знал, что и без экспедиции на далёкий остров достигнуты реальные результаты – прежде всего в описании побережья и промерах глубин. Насколько это было важно, легко понять, сравнив на картах современные очертания Таймырского полуострова с теми, которые изображались в начале XX века. Ни Норденшельд, ни Нансен не вели систематических съёмок и промеров.[135] Конечно, Русская полярная экспедиция тоже не засняла всего побережья, но в некоторых местах на карте были отображены результаты точных съёмок. А промер глубин «Заря» вела на всём пути своего следования.
Толль это знал. Но этого ему казалось недостаточно. Этим он отличался от Матисена, своего любимого капитана, всегда готового довольствоваться малым.
Толль несколько раз менял планы. Ему стало казаться, что с Землёй Санникова ещё не всё потеряно. Наконец он решил с началом полярного дня отправить Матисена на поиски Земли Санникова, а по его возвращении поехать самому на эту землю, если она будет открыта, в противном же случае – на остров Беннетта. Ехать вместе с Толлем согласился Зеберг, к Новому году выздоровевший. Надо было также взять с собой двух якутов-промышленников. Предполагалось, что отряд отправится в путь в феврале или марте.[136]
Эти решения принимались в тяжёлой внутренней борьбе. Толль сознавал, что он должен достойно довести экспедицию до конца, но в то же время ощущал в себе начавшийся упадок сил. В начале ноября он записал в дневнике: «Зима, которая, как я ожидал, пробудит во мне интерес к работе, наступила, но большого желания работать у меня нет!.. Довольно! Я должен взять себя в руки, чтобы следовать к намеченной цели, которую надо во что бы то ни стало достигнуть». Потом появилась другая запись: «Этой зимой я не ощущаю того желания работать, как в прошлую». И наконец, в середине декабря ещё одна запись: «Моя работа плохо продвигается. Тревожные думы не покидают меня ни днём, ни ночью». Чтобы отдохнуть от тревожных дум и внутренней борьбы, Толль ложился на медвежью шкуру в своей каюте и мечтал «о далёком».[137]
На глазах всей экспедиции угасал доктор Вальтер. У него частил пульс, отекали ноги, его сотрясал кашель, стало заметно старческое дрожание рук, ног и головы. Он говорил, что всё началось в августе, на Таймыре, когда он с места охоты притащил на спине годовалого оленя. Но ничего, успокаивал он всех и себя, скоро всё пройдёт. Когда наступало обманчивое улучшение, отправлялся на охоту. Решительно запротестовал, когда Толль предложил освободить его от дежурств на метеостанции. Вообще же стал ещё более замкнут и молчалив.
Толль видел, что момент для эвакуации доктора на материк уже упущен. Это было для него ещё одной причиной внутренних терзаний. Чтобы развлечь доктора, он заводил с ним приятные беседы о возвращении на родину: через Нагасаки, Коломбо, Бриндизи (в Италии), Мюнхен, Берлин. Доктор охотно поддерживал эти разговоры. А однажды вдруг сказал Толлю, что он точно подсчитал, сколько потребуется снаряжения и продовольствия, чтобы с Беннетта дойти до Северного полюса. «Это получается так дёшево, – говорил Вальтер, – что я мог бы предпринять это путешествие на свои собственные средства».[138]
По вечерам они играли в шахматы в кают-компании. Известно, как раздражает шахматистов посторонний шум. Между тем в кают-компании разгорались споры «на философские темы». Активное участие в них принимал Колчак, который не умел во время споров говорить тихо. В конце концов Толль послал двух главных «философов», Колчака и Бирулю, на один из складов, чтобы привезти мяса. «Философы» охотно отправились в путь. В это время Колчак больше всего сблизился именно с Бирулей. С Матисеном у него, как уже говорилось, всегда были разные взгляды.
Вернулись они через неделю, бодрые и оживлённые. Колчак побывал на протекающей по острову реке Балыктах. В сильный мороз, заметил он, река местами промерзает до дна. Потом, под напором течения, лёд трескается, и вода течёт поверх него, пока опять не замёрзнет.[139] Впоследствии с этим явлением столкнулись солдаты его армии в своём знаменитом «ледяном походе». В том походе, в котором ему не довелось участвовать.
На следующий день после возвращения Колчака и Бирули, 21 декабря 1901 года, умер доктор Вальтер. Это произошло утром, во время его дежурства на метеостанции. В полдень 23 декабря, когда полярная ночь на какое-то время растворилась в призрачных сумерках, его похоронили на вершине холма над западным мысом гавани.
Потом оказалось, что у доктора было кровохарканье, которое он скрывал. Толль приказал сжечь все его вещи, кроме бумаг.[140] Так и осталось неизвестным, отчего он умер. По-видимому, у доктора образовался целый «букет» болезней.
Рождество и Новый год прошли при подавленном настроении, несмотря на устройство ёлки и праздничной лотереи для матросов. У Воллосовича вскоре обнаружились признаки неврастении, и Толль разрешил ему уехать – на второй зимовке экспедиция не была в такой изоляции, как на первой.
29 декабря Толль записал в дневнике: «Я несказанно устал! Как охотно я передал бы все свои обязанности в другие руки и отошёл от этой работы. Но мой долг довести экспедицию до конца». По-видимому, у Толля назревал нервный срыв, который он считал недопустимым для начальника. 2 января 1902 года он сообщил Матисену, что едет вместе с Воллосовичем, но не дальше первого жилья на побережье.[141] Эта поездка ранее не планировалась. Она не вызывалась какой-либо внешней необходимостью. Была только внутренняя необходимость для Толля преодолеть свой нервный кризис.
15 января Толль и Воллосович, в сопровождении каюров из числа якутов, покинули зимовье. Толль остановился в якутском поселении на мысе Святой Нос, а Воллосович поехал дальше. Невидимый «телеграф» передавал по тундре вести быстро и безотказно. Толль пользовался известностью и популярностью среди местных жителей, и вскоре к нему за сотни вёрст потянулись старые его знакомые, чтобы засвидетельствовать любовь и почтение. Приехал и старый Джергели. На встречу с Василием Гороховым приехал его тесть Николай Протодьяконов. Первый был якут, а второй – эвен (ламут). В те годы происходило быстрое сближение якутов и эвенов, причём последние перенимали якутский язык и обычаи.
Толль предложил Николаю и Василию ехать с ним на Беннетт. Оба согласились, хотя не без колебаний. Тем более что некоторые старые якуты считали план Толля рискованным. И только Джергели говорил, что на Беннетте столько птиц, сколько комаров в тундре.[142]
Тот же стоустый «телеграф» принёс весть, что Расторгуев, обещавший вернуться на «Зарю», заключил выгодный контракт с американской экспедицией и уехал на Чукотку, не оповестив об этом Толля.[143] 30 марта Толль вернулся на зимовье.
Тем временем Коломейцев хлопотал об устройстве угольных складов. Вопрос о складе на Диксоне решился легко. Доставка же угля на Котельный, по сделанным расчётам, должна была обойтись не менее чем в 75 тысяч рублей. Комиссия по снаряжению Русской полярной экспедиции выразила готовность отпустить такие деньги, и Коломейцев выехал в Иркутск договариваться с пароходной фирмой Громовой. Фирма согласилась предоставить на это дело пароход «Лена», хотя и на очень жёстких условиях. Однако Комиссия изменила решение, отказав в отпуске денег на том основании, что стоимость доставки угля дороже самой «Зари».[144] С фирмой Громовой была достигнута договорённость лишь о том, что пароход «Лена» дойдёт до устья Лены, чтобы забрать участников экспедиции. В начале февраля на зимовье была получена телеграмма президента Академии наук о том, чтобы экспедиция ограничила дальнейшие свои задачи исследованием Новосибирских островов и окончила плавание в устье Лены.[145]
Матисен отправился на поиски Земли Санникова лишь по прибытии Толля. Пока Матисен отсутствовал, за капитана был Колчак. Период его командирства был отмечен резкой стычкой с Бегичевым. Колчак послал куда-то вахтенного, а потом, забыв об этом, начал его искать. Наткнулся на боцмана и в резкой форме спросил, где у него вахтенный. «Вы сами…» – начал было Бегичев, но Колчак его уже не слушал. Произошла бурная сцена. Некоторое время спустя переполненный обидой Бегичев подошёл к Колчаку и сказал, что служить на судне больше не будет. «Почему?» – спросил Колчак. «Потому что у нас с вами вышло недоразумение». По воспоминаниям Бегичева, Колчак отвечал: «Брось ты это помнить, я уже давно забыл, и, наверно, у нас с тобой никогда этого и не будет. Я сознаю, что я виноват, сам послал вахтенного». – «Ну, мы с ним помирились», – добавил Бегичев.[146] Колчак был вспыльчив, но отходчив. И не считал зазорным признать свою неправоту, в том числе и перед подчинёнными.
17 апреля Матисен вернулся с докладом, что прошёл семь миль от северной оконечности острова Котельного и наткнулся на полынью. Над ней висел туман, вдали ничего не было видно, и он повернул назад.[147]
В конце апреля на зимовье приехал новый врач – В. Н. Катин-Ярцев, политический ссыльный. Первым делом он провёл медицинский осмотр членов экспедиции. Все осмотренные оказались здоровы. Цинга на этой зимовке не обнаружилась. Толль уклонился от обследования, заявив, что он здоров. Впоследствии Катин-Ярцев опубликовал интересные записки о заключительном этапе Русской полярной экспедиции.
29 апреля Бируля в сопровождении трёх якутов выехал на остров Новая Сибирь. Он должен был провести там всё лето вплоть до прихода «Зари», которая должна была забрать его партию по пути на остров Беннетта.
В начале мая в краткую поездку на маленький остров Бельковский ездили Колчак и Стрижев. Колчак произвёл съёмку острова, астрономически определил несколько пунктов. К северу и западу от Бельковского он также наткнулся на полынью.[148]
После этого засобирались в путь Э. В. Толль, Ф. Г. Зеберг, Н. Протодьяконов и В. Горохов. Перед отъездом Толль написал для Матисена пространную инструкцию. В ней, между прочим, говорилось:
«Что касается указаний относительно Вашей задачи снять меня с острова Беннетта, то напомню только известное Вам правило, что всегда следует хранить за собою свободу действий судна в окружающих его льдах, так как потеря свободы движения судна лишает Вас возможности исполнить эту задачу.
Предел времени, когда Вы можете отказаться от дальнейших стараний снять меня с острова Беннетта, определяется тем моментом, когда на «Заре» израсходован весь запас топлива для машины до 15 т угля.
Представляя себе приблизительно ту же картину, которую мы видели в прошлом году, именно пояс непроницаемого льда около 14 миль, окружающий южный конец острова Беннетта, Вы, приставая к границе пака, отправите партию нескольких опытных и смелых людей к мысу Эмма. Если обстоятельства дозволят, то было бы желательно с ними же отправить некоторое количество консервов к острову Беннетта для устройства депо для будущих экспедиций…
…Если поиски наших следов приведут к отрицательным результатам или Вы, вследствие неимения 15 т угля, будете принуждены взять обратный курс, не сняв меня с партией, то Вы с этим количеством угля дойдёте на «Заре», по меньшей мере, до острова Котельного, а идя частию под парусами, быть может, и до Сибирского материка».[149] На момент отъезда Толля в трюмах «Зари» находилось примерно 70 тонн угля.
Кроме того, Толль вручил Матисену пакет с надписью «Вскрыть, если экспедиция лишится своего корабля и без меня начнёт обратный путь на материк, или в случае моей смерти». Когда вскрыли впоследствии этот пакет, в нём оказалось письмо на имя Матисена о передаче ему всех прав начальника экспедиции.[150] Возможно, Толль понимал, что отправляется в опасный путь несколько поздновато. Но он твёрдо решил, что «дорога к дому лежит только через остров Беннетта». Поездка на материк предотвратила нервный срыв, но душевные силы полностью не восстановились. Возникло настроение фатализма: «Что должно свершиться, то сбудется!»
Перед самым отъездом Толль получил несколько писем из дома. «В письмах, – записал он в дневнике, – опять много выражений уверенности в моих силах и в успехе дела, но напрасно все так думают – у меня нет больше сил! Остаётся только надеяться, что общее доверие и любовь должны подкрепить меня и влить новую энергию».[151]
Среди прочего груза Толль захватил с собой томик Гёте. Он любил немецкую и скандинавскую литературу.
Вечером 23 мая Толль и его спутники уехали на трёх нартах, имея при себе запас продовольствия чуть более чем на два месяца.[152] Толль объехал на собаках северные берега островов Котельного и Фаддеевского, переправился на остров Новая Сибирь и остановился на прибрежном льду близ мыса Высокого. Отсюда открывался прямой путь на остров Беннетта. Когда ветер взломал льды – льдину, на которой находился лагерь, понесло в нужном направлении. Четверо с лишним суток Толль и его спутники плыли на этом своеобразном корабле. Заметив, что льдина отклоняется от курса, путешественники пересели на байдарку и 21 июля высадились на остров Беннетта.[153] Труднейший путь занял около двух месяцев. К этому времени почти закончилось взятое с собой продовольствие. Толль должен был теперь думать о ежедневном пропитании, об исследовательской работе и об обратной дороге. «Действительно, предприятие его было чрезвычайно рискованное, шансов было очень мало, – говорил впоследствии Колчак, – но барон Толль был человек, который верил в свою звезду и в то, что ему всё сойдёт, и пошёл на это предприятие».[154]
* * *
В течение всего июня «Заря» оставалась на внутреннем рейде. Только к 1 июля, освободив, при помощи взрывов, судно от сковывающего его льда, удалось выйти на внешний рейд. Затем скопившийся лёд увлёк судно в своём неторопливом движении на юго-восток.
В кают-компании осталось только три человека – Матисен, Колчак и Катин-Ярцев. Разговоры за чаем и обедом по-прежнему вращались в основном вокруг полярных сюжетов, обсуждали также произведения Лескова и Боборыкина, чьи книги были в судовой библиотеке, посмеивались над поваром Фомой, взятым в экспедицию из петербургского ресторана и пытавшегося готовить изысканные блюда из скудного набора продуктов. Чтобы как-то скоротать время, стали выпускать «Журнал кают-компании», помещая туда шутливые сочинения в прозе и стихах. Перу Колчака в этом рукописном издании принадлежит заметка «Ожесточение нравов гг. членов Русской полярной экспедиции». В стиле газетной разоблачительной «сенсации» автор описывал попытки своих коллег выкормить двух совят, принесённых кем-то на борт корабля: «Мы не можем пройти молчанием печальные явления, имевшие место в последние дни на борту шхуны „Заря“. Я говорю о невероятных истязаниях, которым подвергаются две молодые совы, влачащие уже второй месяц ужасного существования».[155] Один из этих совят, начав летать, вскоре, к несчастью своему, залетел к собакам и был ими съеден. Судьба другого неизвестна.
31 июля был первый закат солнца – закончился полярный день. К этому времени «Зарю» отнесло к Ляховским островам. Только 3 августа закончилось это невольное путешествие, и на следующий день шхуна вернулась в Нерпичью бухту.
Несколько дней ушло на судовые работы. 8 августа снялись с якоря. Тем временем стало холодать, начались туманы и снегопады, в тихих заводях вода покрывалась ледяной коркой. Как писал Катин-Ярцев, достигнуть Беннетта с самого начала было мало надежды. Более определённо надеялись добраться лишь до Новой Сибири, чтобы снять партию Бирули.[156]
Но с Новой Сибири Бируле и самостоятельно было легче добраться до материка, чем Толлю с Беннетта. И не только потому, что остров Беннетта гораздо дальше. Новая Сибирь находится в пределах моря Лаптевых, сравнительно мелководного. Могучие айсберги достают здесь до дна, зацепляются за него и останавливают движение льда. К северу же от Новой Сибири глубина значительно возрастает. Здесь уже открытый океан, среди которого и высится остров Беннетта. Здесь идёт вековечное движение воды и льда. Летом океанские течения уносят лёд, образуя громадную полынью, осенью она заполняется отдельными льдинами и ледяным крошевом, а зимой – движущимися массами льда.
Судя по запискам Катина-Ярцева, первоначально «Заря» намеревалась пройти проливом между островами Бельковским и Котельным. Но вход в пролив был закрыт, и дрейфующий лёд стал оттеснять её к югу. Тогда Матисен решил обогнуть Котельный с южной стороны, пройти Благовещенским проливом (между островами Фаддеевским и Новая Сибирь) и подойти к мысу Высокому, где должен был ждать Бируля.
Благовещенский пролив, мелководный, с быстрым течением, считался опасным для мореплавания. Здесь «Заря» сильно повредилась. Днище наскоро зачинили, течь уменьшилась, но при дальнейшем движении судно натолкнулось на сплошную массу разбитого льда. До мыса Высокого оставалось около 10–15 миль. «Увидели на берегу Бирулину избу, – вспоминал Бегичев. – Но подойти к берегу командир побоялся, хотя был редкий лёд. Я предложил командиру: дайте мне вельбот и трёх человек. Я сниму с острова Бирулю и его людей. Но он сказал: людей на судне очень мало, и посылать шлюпку для снятия Бирули он не может». Если вдруг надвинется лёд, растолковывал командир своему боцману, то судно лишится половины матросов, а у Бирули прибавятся лишние рты, для которых у него может не хватить провизии.[157] В Благовещенском проливе, с его быстрыми и переменчивыми течениями, ледовая обстановка действительно могла неожиданно измениться. Но Матисен, возможно, всё же переосторожничал.
Возник план обойти Новую Сибирь с юга. Это удалось сделать, и 16 августа шхуна полным ходом пошла на север. Навстречу летели стаи гусей – наверно, с Беннетта. Вечером следующего дня лёд и сгустившийся туман заставили «Зарю» остановиться. Затем целый день был затрачен на поиски прохода среди ледяных полей – всё оказалось тщетным. Пришлось повернуть назад. Теперь Матисен собирался повторить попытку зайти с запада, но не между Котельным и Бельковским, а западнее Бельковского.
Погода совсем испортилась – снег, дождь, туман, разбитый лёд, среди которого встречались и многолетние поля. Утром 23 августа «Заря» повернула на юг. В бункерах оставалась предельная норма угля (15 т), о которой говорилось в инструкции Толля. «Если бы даже путь к Беннетту и был проходим, нам не хватило бы угля на плавание туда и обратно. Но, судя по развернувшейся перед нами картине сплошного льда с полыньями в нём, нельзя было не прийти к заключению, что и эта попытка была бы повторением трёх предшествовавших», – свидетельствовал Катин-Ярцев.[158] Ни в одной из этих попыток «Заря» не подходила к острову Беннетта ближе чем на 90 миль.
Матисен не мог повернуть на юг, не посовещавшись с Колчаком. Надо думать, что и последний не видел иного выхода. Впоследствии он никогда не отмежёвывался от этого решения и не осуждал его.
Из числа авторов, писавших на эту тему, не в пользу Матисена высказался, пожалуй, только профессор В. Ю. Визе, видный специалист по Арктике и полярник. «Это решение, – писал он, – стоило жизни Толлю и его спутникам».[159] Визе, впрочем, учитывал тяжёлую обстановку, в которую попала «Заря».
Мнение Визе вызвало возражения Н. Н. Зубова. «Рисковать зимовкой в открытом море среди льдов, – писал он, – притом рисковать после уже проведённых двух зимовок с недостаточным запасом угля и провизии, было нельзя… Никто из современников, знавших обстоятельства дела, Матисена не осуждал».[160]
25 августа «Заря» входила в залив Буорхая. Вдалеке виднелись наполовину покрытые снегом Хараулахские горы – северные отроги Верхоянского хребта. Наутро шхуна подошла к берегу в бухте Тикси («тикси» по-якутски – пристань). На берегу увидели палатку и людей. «Заря» отсалютовала из пушки и выкинула флаг. С берега ответили салютом из ружей. Вскоре состоялась встреча с Брусневым и тремя промышленниками, среди которых оказался и Джергели. Старик приехал повидаться с Толлем, был очень огорчён его отсутствием и высказывал желание ехать за ним на оленях, когда замёрзнет море.[161]
Пароход «Лена» ещё не приходил. Матисен решил попробовать провести «Зарю» в дельту Лены. Шлюпку-четвёрку перевезли на оленях в Быковскую протоку, и Колчак, взяв с собой боцмана и двух матросов, начал делать промеры. Поиски фарватера нужной глубины шли около трёх дней и не дали результатов. «Быть может, и есть где-нибудь проход, но это, поди, надо искать целое лето, а за три дня что можно сделать!» – писал Бегичев. И всё же Колчак привёз на «Зарю» радостную весть – на подходе был замечен пароход «Лена».[162]
30 августа в бухту Тикси вошла «Лена» – тот самый вспомогательный пароход, который вслед за «Вегой» обогнул мыс Челюскин.
Спешно решались последние вопросы. Колчак подыскал в бухте укромный уголок, куда отвели «Зарю», которую приходилось покинуть. Бруснев оставался в селении Казачьем, ближайшем к арктическому побережью торгово-экономическом центре. Он должен был приготовить оленей для партии Толля, а если он не появится до 1 февраля, то в начале весны выехать на Новую Сибирь и ожидать его там.
Опасаясь раннего ледостава, капитан «Лены» отвёл на сборы только три дня. «Лена» стала борт о борт с «Зарёй», и началась ускоренная перегрузка. Матрос Безбородов, второпях разряжая винтовку, произвёл нечаянный выстрел и попал в ногу кочегару Носову. Пуля была с развёртывающейся оболочкой, знаменитая дум-дум, печально прославившаяся во время Англо-бурской войны.
Катин-Ярцев, вбежав в кубрик, увидел Носова в луже крови. Выходное отверстие от пули было вчетверо больше входного. На «Лене» Носову была отведена самая просторная каюта. Прежде чем его переносить с нижней палубы «Зари» на верхнюю «Лены», устроили репетицию с здоровым матросом. Безбородов не знал, куда себя деть, ходил как в воду опущенный, а Носов его утешал, уверяя, что рана пустяковая.
2 сентября «Лена» снялась с якоря. «Заря», на которой остался один человек, отсалютовала ей флагом. У всех подошёл к горлу комок. Не знали, но догадывались, что это последний салют «Зари».
Речные суда редко поднимались в дельту Лены, лоцманской карты не существовало. Очень скоро пароход основательно сел на мель. Заговорили о том, что придётся ждать замерзания реки и идти по льду, а запаса провизии может не хватить. Решили ввести общий для всех паёк. Бульонных плиток осталось совсем немного, и их предназначили для Носова. Продовольственным диктатором со стороны экспедиции избрали Колчака. Так впервые, в трудный момент, его наделили диктаторскими полномочиями. Правда, его соправителем был назначен представитель фирмы А. И. Громовой.
Первая колчаковская диктатура продолжалась недолго. Приливная волна приподняла судно, и с мели удалось съехать. Пароход медленно поднимался вверх по реке. Боясь опять наскочить на мель, лоцманы вели судно только днём. У Носова начался сепсис, и 10 сентября он умер.
12 сентября пароход прибыл в посёлок Булун – первый значительный населённый пункт на Лене. Здесь, вблизи церковной ограды, был похоронен Носов.
Город Жиганск, расположенный чуть выше полярного круга, казался даже поменьше Булуна. Когда-то это был приличный городок, но однажды его разграбили и сожгли ссыльно-поселенцы, и с той поры он никак не мог оправиться.
Зима шла по пятам за утлым пароходиком и нагоняла его. Пустынные берега Лены покрывались снегом, хотя уже закончилась тундра и началась тайга.
30 сентября «Лена» подошла к Якутску, и здесь пассажиры сошли на берег. Пришлось дожидаться санного пути.[163] Коротая время, Колчак зашёл в местный музей, познакомился с его хранителем П. В. Олениным, политическим ссыльным. Из Якутска, через тайгу, горы и перевалы, ехали на почтовых лошадях. К сожалению, нам неизвестна точная дата первого приезда Колчака в Иркутск – город, ставший впоследствии для него судьбоносным. Видимо, где-то в ноябре удалось добраться до этих мест, где вырывается из Байкала могучая Ангара и вливается в неё маленькая Ушаковка. А в начале декабря 1902 года Колчак возвратился в Петербург.
Бросок на остров Беннетта
Известия, привезённые в Петербург Матисеном и Колчаком, встревожили друзей Толля и научную общественность. 9 декабря 1902 года состоялось заседание Комиссии для снаряжения Русской полярной экспедиции. Пригласили Матисена, Колчака и Воллосовича. Матисен и Колчак доложили о проделанной за два года работе. Доклады были приняты к сведению, но прения сосредоточились на вопросе о том, что следует сделать для выяснения судьбы партий Толля и Бирули и оказания им помощи. Необходимо было составить план действий и сделать запрос об отпуске средств.
Вскоре Матисен был вызван к Константину Константиновичу. Великий князь и президент Академии наук сообщил о планах послать «Зарю» к острову Беннетта для вызволения Толля. Спросил, не согласится ли Матисен возглавить экспедицию. К его удивлению, Матисен не только не дал согласия, но и стал убеждать великого князя в безнадёжности и опасности такого мероприятия: «Заря» слишком потрёпана и нуждается в серьёзном ремонте, а в Тикси нет ни сухого дока, ни мастеров, а кроме того, к Беннетту на судне и не подобраться ближе, чем в 1901 году. В заключение Матисен в довольно категоричной форме заявил, что не может браться за дело, в успех которого не верит, не может понапрасну подвергать риску жизнь вверенных ему людей. Лучше послать на поиски ледокол «Ермак».
Великий князь был явно озадачен. Ссылка на «Ермак», видимо, показалась ему попыткой перевалить опасное дело на другого человека. Он сухо попрощался с лейтенантом и, не сумев скрыть своего недовольства, прямо при нём, не успевшем ещё уйти, сказал своему секретарю что-то насчёт «измельчавшей» молодёжи, которой впору плавать только в Маркизовой луже (часть Финского залива от Петербурга до Кронштадта).
7 января 1903 года под председательством великого князя состоялось специальное совещание для решения вопроса о помощи Толлю, Бируле и их спутникам. Были приглашены некоторые члены Комиссии для снаряжения экспедиции, а также Матисен и Воллосович. Колчака почему-то не позвали.
Открывая заседание, Константин Константинович поставил вопрос, сможет ли «Заря» подойти к Беннетту на достаточно близкое расстояние и возможно ли будет с корабля послать на остров десант на шлюпках.
Матисен повторил в основном то, что сказал на аудиенции, добавив, что десант вряд ли будет успешен – уйдёт и не вернётся.
Матисену возражал академик Ф. Н. Чернышев, видный геолог и палеонтолог, недавно возглавлявший Шпицбергенскую экспедицию, в прошлом – морской офицер. План, изложенный в начале заседания великим князем, по-видимому, принадлежал Чернышеву. Он предлагал взять на «Зарю» нескольких опытных мезенских поморов с их лодками, которые используются для зимнего промысла.
Полной неожиданностью для присутствовавших было выступление Воллосовича. Он заявил, что в создавшейся обстановке можно обойтись без «Зари». Опытный офицер может отправиться на Мезень, нанять поморов и переправиться по суше вместе с ними и их лодками на мыс Святой Нос. А оттуда можно совершить переход на остров Беннетта, частью перетаскивая лодки по льду, частью же используя их для переправы по открытой воде.
Воллосович не был моряком, и вряд ли такой смелый и оригинальный план, опирающийся на опыт экспедиции Де-Лонга, он мог разработать самостоятельно. Скорее всего имели место консультации с Колчаком. И, по существу, Воллосович излагал его план.
Академик Чернышев, несколько озадаченный, высказал сомнение, возможно ли на мезенских лодках пройти расстояние от Новой Сибири до Беннетта. Во всяком случае, сказал он, экспедиция на «Заре» даёт больше шансов на успех, хотя обойдётся дороже.
Константин Константинович, которому явно понравился шлюпочный план, осведомился, кому же можно было бы поручить его исполнение, если бы пришлось на нём остановиться.
Слово взял секретарь Комиссии В. Л. Бианки (отец известного писателя Виталия Бианки, певца русской природы). Он сказал, что, по его сведениям, лейтенант Колчак готов возглавить такую экспедицию. Великий князь дал указание переговорить с Колчаком. Матисену же поручил заняться разоружением «Зари» – забрать с неё ценное снаряжение и инструменты и подготовить судно к продаже какой-либо частной фирме.
Дело, казалось, было решено, но через несколько дней вдруг встал вопрос о посылке «Ермака». После совещания 7 января директор Главной физической обсерватории академик М. А. Рыкачёв позвонил в Кронштадт С. О. Макарову и рассказал о состоявшихся прениях. Адмирал тотчас же выразил готовность с началом навигации отправиться на «Ермаке» к острову Беннетта. Макаров и Рыкачёв действовали очень быстро. Первый из них набросал ряд пунктов в доказательство того, что «Ермак» может отлично работать во льдах Ледовитого океана и «проникнуть в такие места, которые ещё никогда не были посещены человеком и остаются совершенно неизученными». Рыкачёв же 10 января 1903 года обратился к председателю Комиссии для снаряжения экспедиции академику Ф. Б. Шмидту с письмом, в котором доказывал, что «единственным средством спасения Толля и его спутников было бы снаряжение за ними ледокола „Ермак“». К письму были приложены макаровские тезисы.[164]
Надо отметить, что Макаров активно включился в дело не только из желания помочь попавшему в беду другу. Был ещё один важный стимул – реабилитировать «Ермак». Дело в том, что первые две попытки использовать ледокол в полярной обстановке были малоуспешны. В 1899 году в районе Шпицбергена, сцепившись с торосистым льдом, «Ермак» получил значительную пробоину. В 1901 году, после ремонта и укрепления корпуса, «Ермак» вновь отправился в Арктику, имея целью обогнуть Новую Землю с севера. Однако, не дойдя до мыса Желания, северной оконечности Новой Земли, ледокол попал в ледяную ловушку. Чего только ни делали – долбили лёд кирками, поливали его кипятком – ничего не помогало. На место расколотой и растаявшей льдины из-под днища выныривала другая, побольше. В ловушке просидели целый месяц.
Потом, правда, ветер переменился, льды раздвинулись, но время было упущено, запасы угля истощились, и мыс Желания остался в области благих пожеланий.[165] После этого «Ермак» был приписан к Петербургскому порту для проводки судов в зимнее время.
Идея Макарова – использовать ледоколы для навигации в Арктике – была здравой и перспективной. Но адмирал сильно погорячился, выдвинув лозунг «К Северному Полюсу – напролом!». Такие экскурсии стали возможны лишь с появлением сверхмощных атомоходов.
После навигации в 1901 году «Ермак» был отремонтирован и усовершенствован. Возникли ещё некоторые идеи по его усилению, изложенные в макаровских тезисах. Сам Макаров набрался опыта арктических плаваний, а на должность командира «Ермака» был назначен такой опытный полярный навигатор, как Н. Н. Коломейцев. И адмирал вновь рвался в бой. Ему казалось, что предстоящая экспедиция на Новосибирские острова предоставляет уникальный шанс спасти не только Толля, но и идею использования ледоколов в Арктике.
Макаров и Рыкачёв, несмотря на поспешность своего вмешательства, всё же несколько запоздали. 9 января Комиссия уже направила Колчаку приглашение на должность руководителя спасательной экспедиции. Однако план Макарова и Рыкачёва Комиссией был рассмотрен и – отклонён. Главные возражения сводились к тому, что Норденшельдово море (море Лаптевых) довольно мелко, слабо обследовано, имеет множество банок, а вблизи Новосибирских островов глубины такие, что садилась на мель и зарывалась винтом в ил даже «Заря». Если «Ермак» сядет на мель, кто его будет стаскивать? Если же он опять попадёт в ледяную ловушку, то как прокормить его многочисленную команду во время зимовки?[166] Академик Чернышев, оказавшись перед выбором – «Ермак» или экспедиция на шлюпках, – склонился на этот раз, видимо, в пользу Колчака и в дальнейшем активно ему содействовал. 16 января Колчак получил первые суммы, выделенные на проведение спасательной экспедиции.[167]
Ответственное поручение, данное Колчаку, заставило его отложить свадьбу с Софьей Фёдоровной Омировой. Познакомились они в 1899 году. Сначала свадьбе помешала первая экспедиция, теперь – вторая.
Получив деньги, Колчак выехал в Мезень, а оттуда – посёлок Долгощелье на берегу Белого моря, где собирались промышленники (охотники) перед уходом на тюлений промысел. Эта поездка была удачней, чем в прошлый раз. Колчаку удалось завербовать в экспедицию шестерых поморов, четверо из которых сопровождали его на самой опасной стадии путешествия.
В Архангельске Колчак получил известие, что партия Бирули в декабре минувшего года совершила благополучный переход с Новой Сибири на материк. О судьбе Толля Бируля не имел сведений. 31 января Колчак дал телеграмму Бируле в Якутск: «Поздравляю с счастливым возвращением. Иду на помощь Толлю. До свидания».[168] Свидание состоялось очень нескоро.
Вместе с Колчаком участвовать в спасательной экспедиции согласились его старые сподвижники – Бегичев и Железников. При этом боцман подверг беспощадной критике составленный Колчаком план. Ему казалось большой глупостью тащить поморские лодки с Мезени на Святой Нос – чуть ли не через всю Россию. От лодок, говорил Бегичев, к концу пути «не останется и праха». А между тем на «Заре» есть очень прочный дубовый шестивесельный вельбот. «Но он тяжёлый», – с сомнением сказал Колчак. «Мы с Железниковым вытаскивали его на лёд», – отвечал Бегичев.[169] На это возразить было нечем. Матросам лучше было знать, что тяжело, а что под силу. А Колчак умел прислушиваться к советам, даже если они исходили от простых людей.
Колчак срочно написал в Якутск П. В. Оленину, приглашая его присоединиться к экспедиции. В этом же письме он просил его приобрести собак, закупить для них корм и постараться переправить вельбот с «Зари» в устье реки Яны, откуда предполагалось совершить бросок на Новосибирские острова. На надлежащее согласование своих распоряжений с начальством у Колчака порой совсем не было времени, а потому он нередко совершал явные самоуправства – и в Петербурге, ещё не отправившись в поход, и потом в Сибири. Назначил Оленину довольно высокий оклад, прибавил жалованья поморам – и в письме к Ф. Б. Шмидту попросил возможно скорее «устроить» эту ассигновку. Чиновники из аппарата Академии наук возмущались «нахальством» самоуверенного лейтенанта, но задним числом оформляли должным образом почти всё, что он «нагородил».[170]
9 февраля 1903 года Колчак выехал в Иркутск, не пред полагая, что ему придётся совершить кругосветное путеше ствие, чтобы вернуться в родной город. В те дни он был словно освобождённая пружина: неутомим, стремителен, то чен в своих действиях. Первый раз в жизни он получил са мостоятельное и ответственное задание. Впервые (а ему бы ло уже под 30) он был не на вторых и третьих ролях.
К 8 марта все участники экспедиции собрались в Якутске.[171] Отсюда лежал трудный путь по реке Алдан и его притоку Нёре, через Верхоянский хребет и по реке Сартангу до Верхоянска. Затем путешественники перевалили через хребет Кулар и 10 апреля достигли селения Казачьего на Яне – на границе леса и тундры. Казачьи избы, купеческие дома, якутские юрты, небольшая церковь – всё утопало в глубоких снегах.
Оленину удалось закупить достаточное количество собак. Однако с собачьим кормом было плохо: в Казачьем и по всей Яне случился неулов рыбы. Собаки за зиму отощали и для дальнего путешествия не годились. Не стесняясь в средствах, Колчак закупил оленины и начал откармливать стаю.
Между тем от Бегичева и Оленина, отправившихся на «Зарю», было получено известие о затруднениях с доставкой вельбота. Колчаку пришлось брать лучшего каюра и лучшую собачью упряжку и срочно ехать в Тикси.
На «Заре» он застал только Матисена. Оказалось, что вельбот находится уже в пути. Колчак переночевал в своей каюте, побродил по кораблю, на котором были уже видны следы запустения, и отправился вслед за вельботом, попрощавшись с верной «Зарёй» – на этот раз навсегда. Ни одна из судовладельческих фирм её не купила. Оставленное судно было выброшено бурей на берег. Остов и обломки «Зари» можно было видеть ещё в 30-е годы.[172]
В первых числах мая экспедиция собралась в Аджергайдахе – самом северном поселении на материке, где в прошедшем году около двух месяцев жил Толль. В состав экспедиции входило 17 человек. Основной костяк, так называемая вельботная команда, состоял из семи человек, считая и Колчака.
5 мая начался переход на Новосибирские острова. В путь тронулись 10 нарт с продуктами, боеприпасами, одеждой и прочими вещами. Каждую нарту тащили 13 собак, а 36-пудовый вельбот был поставлен на две нарты, которые тянули 30 собак. За короткое время отдыха и последних приготовлений не удалось как следует откормить стаю. Тащила она с трудом, несмотря на то, что вся экспедиция шла в лямках и тянула наравне с собаками. Идти приходилось лишь по ночам, когда подмораживало, и только шесть часов – после этого собаки идти отказывались.
Сильно мешали торосы. Сквозь сплошные их стены прорубались с помощью топоров и иных орудий, а потом едва ли не на руках протаскивали вельбот через пробитую узкую щель. Корм для собак вскоре кончился – охотились на диких оленей, перебиравшихся в попутном направлении с материка на острова. 23 мая экспедиция добралась, наконец, до Котельного.[173]
Остановились в поварне Михайлова стана на южном берегу острова. Название произошло от протекающей вблизи Михайловой речки. А домик, достаточно высокий (можно стоять не наклоняясь), с застеклёнными окнами, построил Воллосович со своими промышленниками, дожидаясь «Зарю». Тогда же были построены амбар и метеобудка.[174]
В отчёте Колчака об экспедиции, основном источнике для настоящего повествования, содержится поэтичное и вместе с тем очень точное описание смены времён года на далёком Севере. Велик соблазн привести полностью этот фрагмент: «В ночь на наш приход была сухая зимняя пурга, а на другой день сразу настала короткая полярная весна. Днём температура поднялась выше 0°, началось таяние снега, появились проталины на тундре, начался прилёт гусей, уток и куликов, а через два дня вскрылись тундренные речки… Лёд в море посинел, стали оседать и разваливаться торосы, снежная вода образовала целые озёра на толстом саженном льде, промыла по льду русла для целой сети ручьёв и стала стекать под лёд, трещины стали расширяться в полыньи – наступило полярное лето с его постоянными туманами, дождями с мокрым снегом, с морозом и инеем по ночам и редкими ясными тёплыми днями… Грязно-бурая тундра стала покрываться цветами альпийских растений, птицы уже стали выводить птенцов и собираться в стаи, готовясь к отлёту на юг, а лёд всё ещё стоял неподвижно, несмотря на целую сеть трещин, полыней, промытых водой каналов и озёр».[175]
В ожидании, когда тронется лёд, члены экспедиции готовили вельбот к плаванию, занимались охотой и рыбной ловлей. Колчак на досуге начал писать свою «полярную записку» – о подготовке и ходе Русской полярной экспедиции. В предыдущем изложении эта записка многократно цитировалась. Закончить её не удалось – 18 июля крепкий штормовой ветер отогнал от берега лёд, и Колчак велел грузить вельбот. Охотники остались на берегу, вельботная команда двинулась в путь.
Вот первая запись в полярном дневнике Колчака, до сих пор не опубликованном:
«В 11 1/5 ч. мы окончили погрузку вельбота, который отвели в устье Михайловской речки, где было меньше прибоя благодаря нескольким осевшим на мель льдинам. Крепкий NW (норд-вест) до 18 м, временами дует штормовыми порывами; у берега прибой и небольшое волнение, несмотря на наветренное положение его. Погода ясная, солнце, иногда закрываемое быстро несущимися облаками. Отвалив от берега, я поставил сейчас же паруса и пошёл вдоль берега к Медвежьему мысу…
Через 1 ч. около 12 ч. 30 м. мы подошли к Медвежьему мысу, лёд постепенно приблизился к берегу, и сейчас же за мысом, где обрывистые скалы переходили в галечное прибрежье, лёд подходил вплотную к берегу; убрал паруса и пристал к берегу – дальше идти нельзя. Выйдя на берег, я поднялся на ближайшие тундровые холмы, прошёл на Ost до первой речки и осмотрел состояние льда. Лёд был сильно пожат О-ми (остовыми, то есть восточными) ветрами, дувшими без перерыва… две недели на берег; края годовалых полей с вмёрзшими мелкими обломками были выдвинуты на берег, нарастив перед собой кучи чёрной гальки…»[176]
Путники продвигались на восток вдоль южного побережья Котельного и Фаддеевского островов. По сути же дела – это один остров, разделённый на две части низменным песчаным пространством, которое Толль назвал землёй Бунге, а Колчак называл «небольшой полярной Сахарой». Штормы и приливы выбрасывали сюда много плавника.
Когда льды вплотную придвигались к берегу, приходилось искать проходы в ледяных полях. В том и заключалось преимущество вельбота, что он мог проскочить там, где застряло бы даже такое подвижное судно, как «Заря». Бесконечные прибрежные отмели вскоре заставили прокладывать курс по другую сторону широкой полосы льдов и торосов, опоясывающих берег. Тогда возникли трудности с отдыхом и просушкой, ибо вскоре после выхода в море погода ухудшилась.
Безостановочно повалил снег. Его густые хлопья застилали всё на вельботе влажным мягким покровом, который таял, попадал под одежду и вызывал дрожь и чувство холода, более сильное, чем в морозные дни. Время от времени приходилось причаливать к берегу, чтобы развести костёр и обогреться. Но вытаскивание на берег вельбота по прибрежным отмелям было настоящим мучением. Ледяная вода доходила до пояса, ноги увязали в иле. Иногда, правда, провалившись в ил чуть не до колена, нога ощущала твёрдое основание. Это был придонный лёд. Колчак считал, что таким льдом, очень древним, доисторического происхождения, выстлана значительная часть моря Лаптевых.
На берегу ставили палатку, разводили костёр, сушили одежду. А потом приходилось опять бродить в ледяной воде, выталкивая вельбот на глубокое место.
Наконец решили, что легче натаскать плавника на какую-нибудь льдину и прямо на ней развести костёр, чем причаливать к берегу. Около суток пришлось провести на одной из таких льдин, когда начался шторм и снег повалил настолько густо, что сквозь него ничего не было видно. Только слышался грохот напирающего льда, а торос, давший приют путешественникам, жалобно стонал и охал, давал трещины и грозил развалиться.[177]
26 июля на берегу Фаддеевского острова партия Колчака встретилась с партией Толстова, матроса с «Зари», летовавшего там с четырьмя промышленниками в надежде повстречать Толля и его спутников. Однако нигде – ни на северных берегах Фаддеевского и Котельного, ни на земле Бунге – не было найдено следов пребывания Толля.[178]
Теперь встала задача пройти по Благовещенскому проливу и высадиться на мысе Высоком – крайней северной точке Новой Сибири.
Насколько трудно плавание в проливе, знали ещё по навигации 1902 года. Вдоль его берегов тянутся широкие отмели, а извилистый фарватер имеет ширину не более одной-двух миль. Приливы и отливы, а также действие ветров создают в проливе, имеющем воронкообразную форму, стремительные течения то в одну, то в другую сторону. Массы разбитого льда носятся из одного конца пролива в другой, напоминая грандиозный ледоход. Летний пейзаж дополняют огромные торосы, севшие у берегов на мель, подтаивающие, принимающие грибообразную форму и увешанные бахромой сосулек.
«…Мы провели, – писал Колчак, – около трёх суток на этом 25-вёрстном пространстве в самой тяжёлой, серьёзной работе, осложняемой туманом и снегом, то выталкивая вельбот на стоячие льдины, чтобы избежать напора и не быть увлечёнными стремительно несущимися массами льда, то снова спуская его на воду. Эта работа оставила у нас впечатление наиболее трудной части нашего плавания на Беннетт».[179]
На мысе Высоком Колчак повстречал Бруснева. Он был один, поскольку его промышленники охотились в глубине острова. Бруснев сообщил, что ещё в марте, прибыв на Новую Сибирь, он нашёл на этом мысе записку Толля от 11 июля 1902 года, в коей сообщалось, что его партия отправляется на остров Беннетта. Бруснев попытался пройти по льду в этом же направлении, но в 30 километрах от берега натолкнулся на полынью.[180]
Колчак и его спутники отдыхали у Бруснева один день, а затем взяли курс на остров Беннетта. Когда вернулись промышленники, они сначала отказывались верить, что здесь был Колчак и поехал дальше. Им казалось невозможным путешествие на лодке по Ледовитому океану.[181]
От мыса Высокого путь пролегал по открытому морю. Двигались то греблей, то под парусами. Изредка встречались мощные льдины, на которых располагались на отдых. Иногда приходилось устраиваться на ненадёжных обломках. Один такой обломок в последнюю ночь перед приходом на Беннетт неожиданно треснул, и вельбот едва не был потерян. Всего же путь с мыса Высокого до Беннетта занял около двух суток.
4 августа путешественники увидели чёрные, отвесно спускающиеся в море скалы с белыми пятнами залежей снега. Вокруг них летало множество птиц. Некоторые из них безбоязненно подплывали к вельботу. Кое-где на льдинах отдыхали тюлени. Сквозь необыкновенно прозрачную морскую воду, на глубине 8–9 метров было видно дно, усеянное обломками и валунами. Вельбот остановился у песчаной отмели, и путники вышли на берег.[182]
Как было заранее условлено с Толлем, Колчак повёл своих спутников к мысу Эммы. Здесь была найдена бутылка, в которой обнаружили записку Толля и план острова. Изучив план, Колчак понял, что поварня Толля находится на другой стороне острова. Чтобы попасть туда, надо пройти через два ледника – большой и малый. Колчак взял с собой двух человек, а остальным велел устраивать лагерь.
Через большой ледник прошли без особых затруднений. Малый же, более крутой и пересечённый трещинами, пришлось обходить с моря. Переход едва не закончился трагически.
Как рассказывал Бегичев, он шёл впереди, Колчак – за ним, а замыкал помор И. Я. Иньков. Бегичев перепрыгнул через очередную трещину и пошёл дальше, а Колчак не рассчитал прыжок и ушёл под воду. Несколько секунд его не было видно, но потом показалась его ветровка. Бегичев ухватился за неё и вытащил командира. Но лёд под ним подломился, и Бегичеву опять пришлось его вытаскивать. Подбежал Иньков. Колчака перенесли к берегу, Бегичев переодел его в своё бельё. Потом раскурил трубку и вложил её пострадавшему в рот. Тогда он очнулся. Так едва не подтвердилось сложившееся вокруг острова мрачное поверье, будто он требует человеческих жертв.
Мокрая одежда Колчака лишь отчасти подсушилась на солнце. Окончательно она высохла только во время ходьбы. Бегичев предлагал Колчаку вернуться в лагерь вместе с Иньковым, но Колчак не отпустил боцмана одного. Пошли дальше все вместе.
Обогнув отвесную скалу, путники вышли к устью небольшой речки. Здесь увидели избушку. Подошли, отворили дверь, лейтенант заглянул внутрь – и отпрянул. «Они умерли», – прошептал он. Но Бегичев, вглядевшись в полумрак, понял, что в поварне никого нет, а по углам – заледеневший снег, который Колчак принял за мёртвые тела.[183]
В поварне нашли ящики с поломанными инструментами. В одном из ящиков оказалась последняя записка Толля.
Это был краткий отчёт о проделанной на острове работе. Толль сообщал, что площадь острова составляет около 200 квадратных вёрст, высота над уровнем моря – не выше 1500 футов (457,3 метра). Далее описывалось геологическое строение острова, сообщалось, что в долинах встречаются «вымытые кости мамонта и других четвертичных животных». Перечисляя нынешних обитателей острова, Толль называл медведей, моржей и оленей (стадо в 30 голов). С севера на юг пролетали гуси. Откуда они летели, не было видно, так как горизонт был застлан туманом.
Записка заканчивалась словами: «Отправляемся сегодня на юг. Провизии имеем на 14–20 дней. Все здоровы». И дата: 26 октября 1902 г.[184]
Размышляя над тем, что же могло заставить Толля покинуть остров в столь неподходящее время, когда наступила полярная ночь, Колчак пришёл к выводу, что только отсутствие пищи. И действительно, построив из плавника поварню, экспедиция обеспечила себя жильём. Плавник мог служить и топливом. А вот что касается продуктов, то, как догадывался Колчак, «по какому-то недоразумению партией барона Толля не было использовано удобное время для охоты и не было сделано никаких запасов». В поварне обнаружилось, например, 30 дробовых патронов. Конечно, в октябре они были уже не нужны. Но если они не были использованы, значит, в тех же пролетавших над островом гусей никто не стрелял. На острове были найдены три медвежьи шкуры. Мяса этих животных, писал Колчак, хватило бы на несколько месяцев. Но, как видно, оно было брошено на льду. Для удовлетворения текущих потребностей велась, надо полагать, только охота на оленей, о чём и сообщал Толль в записке. Колчак не обнаружил на острове оленьего стада. По-видимому, оно ушло осенью и больше не возвращалось.[185] Вслед за оленями пришлось уходить с острова и людям.
Загадка Толля становится разрешимой, если сопоставить дату его прихода на Беннетт, 21 июля, со временем ожидавшегося прибытия «Зари» – середина августа. В середине августа улетали на юг и птицы – как мы помним, они летели навстречу «Заре», когда она пробивалась на север. За несколько недель до предполагавшегося прихода «Зари» можно было успеть сделать только что-то одно: обустроиться и заготовить продукты на зиму или же бегло обследовать остров. Благоразумие подсказывало первое. Но этот выбор делал неизбежной зимовку. Дальняя и опасная поездка на Беннетт оказалась бы бессмысленной, если бы Толль и его спутники заготовили запасы, а потом сели на «Зарю» и уехали, не обследовав остров.
Далее, надо учитывать ещё два обстоятельства. Во-первых, наилучшее время для самостоятельной эвакуации – это февраль-март, когда заканчивается полярная ночь, слабеют морозы, а знаменитая полынья в основном ещё скована льдом, окна открытой воды сравнительно невелики. Во-вторых, геологические исследования, столь важные для Толля, лучше проводить летом, когда обнажаются выходящие на поверхность пласты. Следовательно, эвакуация снова откладывается – либо на конец лета, когда на утлой байдарке легко попасть в шторм, либо на конец следующей зимовки. Ещё две зимовки – это для Толля, истосковавшегося по дому и ощущавшего в себе упадок сил, должно было представляться, как подлинный кошмар.
При этом Толль не мог распорядиться и так, чтобы послать своих спутников на охоту, а самому заняться геологией. Собранную геологическую коллекцию Толль не смог взять с собой, покидая остров. Колчак смог взять лишь небольшую её часть. Только в 1913 году ледоколы «Таймыр» и «Вайгач», подойдя к Беннетту, забрали всю коллекцию. Очевидно, чтобы перетащить эти камни со всех сторон острова в одно место, требовались усилия всех участников экспедиции.
Имея склонность к рискованным решениям, Толль, как видно, пошёл на риск и в этот раз. Была сделана ставка на приход «Зари». Все силы сосредоточились на исследовательской работе. Когда выяснилось, что «Заря» не придёт, стрелять птиц было уже поздно. А медведи, по капризу судьбы, не всегда напрашиваются на выстрел, когда в них надобность. После ухода оленей оставаться на острове было нельзя.
Бруснев, узнав от Колчака точную дату ухода Толля, нарочно задержался, чтобы понаблюдать за морем в это время года. «Из наблюдения над замерзанием моря у берегов Новой Сибири, – писал он, – я вынес убеждение, что плавание по нему в октябре и ноябре невозможно. В густом тумане, который всегда стоит над полыньёй, решительно ничего не видно. Там, где к полынье можно подойти по толстому береговому льду, видно, что вода покрыта сверху массой ледяных кристаллов, „салом“, так что представляет из себя полужидкую массу, по которой не пойдёт даже самая лёгкая байдарка». Бруснев оговаривался, что олени всё же как-то проходят с Беннетта на Новую Сибирь. Видимо, есть «мосты», разделяющие одну полынью от другой. Но немало животных и гибнет, добавлял он.[186]
Отряд Бруснева обошёл все острова Новосибирской группы. Следов партии Толля нигде обнаружено не было. По-видимому, она погибла при переходе с Беннетта на Новую Сибирь, в ледяном аду полярной ночи.
Вполне возможно, что Толль на посту руководителя экспедиции действовал не всегда безошибочно. Но Русская полярная экспедиция под его руководством проделала большую и полезную работу, хотя сенсационных открытий не было. И, как писал Колчак, имена Толля и его спутников присоединились «к длинной записи смелых людей, положивших свою жизнь в борьбе, во имя научных исследований, с природой арктической области».[187] К этому высказыванию можно присоединить слова самого Толля: «Я посвятил свои силы призванию, к которому меня влекло не только научное побуждение, но и возможность способствовать успеху истинной гуманности, конечной цели каждой науки».[188]
Колчак провёл на Беннетте три дня. За это время он побывал во всех трёх его концах. (По своей форме остров напоминает прямоугольный треугольник, катеты которого вытянуты по широте и долготе.) Северо-восточной оконечности Беннетта Колчак дал наименование полуострова Эммелины Толль, юго-восточной – Чернышева. Самую высокую гору на острове Толль назвал именем Де-Лонга. Другую вершину, более отлогую, Колчак назвал горой Толля. Двум ледникам на вершинах этих гор Колчак дал имя Зеберга. К сожалению, писал Колчак, во время купания испортился анероид, и это не позволило точно определить высоту ледников.[189]
Приближалась осень, надо было торопиться с отъездом, чтобы не разделить участь Толля. Выяснив относительно его судьбы всё, что было можно, Колчак решил покинуть остров при первом же попутном ветре. Такая возможность предоставилась очень быстро, так что времени для более детального обследования острова не оказалось.
7 августа вельбот отошёл от берегов Беннетта. В море уже появилось много льда, а на подходе к Новой Сибири мореплаватели попали в пургу со снегом и дождём и сильным волнением.
У Бруснева на Новой Сибири Колчак и его спутники на этот раз отдыхали три дня. 14 августа они отправились дальше. Два дня снова занял проход по Благовещенскому проливу. Дальнейшее плавание, по словам Колчака, сопровождали «свежие погоды со снегом, крупной волной и массы льда». 27 августа, после 40-дневного отсутствия, путешественники высадились на Михайловом стане. Сюда же подошли и летовавшие на Котельном промышленники. Вся экспедиция оказалась в сборе. Сентябрь и октябрь прошли в охоте на оленей и в ожидании, когда станет море. В середине ноября тронулись в путь.[190]
Впереди партии шёл Бегичев. Он и прибыл первым на материк. Оказалось, что здесь экспедицию поджидал один из местных якутских князей с четырьмя слугами и стадом оленей в сто голов. Князь сообщил, что ещё осенью в Казачье приехала какая-то дама, которая до сих пор их ожидает. Она и выслала для экспедиции вина и провизии. Бегичев недоумевал. «Молодая она или старая?» – спросил он, думая, что, возможно, приехала баронесса Толль. Нет, дама оказалась молодой. Тогда боцман понял, что к командиру приехала невеста.
Подъехавший Колчак сказал: «Не может быть», – и разволновался. В это действительно трудно было поверить. Так далеко за полярный круг, наверно, не заезжала ещё ни одна петербургская барышня.
Встреча Колчака с Софьей Фёдоровной Омировой произошла 7 декабря в Казачьем. Морозы доходили до 55 градусов. Члены экспедиции разместились в управе, а жениху и невесте отвели отдельную квартиру. Устроили скромное торжество. Софья Фёдоровна рассказывала, что в Петербурге мало надеются на благополучный исход экспедиции и даже хотели её вернуть, но она уже ушла так далеко, что связь с ней порвалась.[191]
Действительно, в столице многие не верили, что экспедиция сможет добраться до Беннетта. И вновь встал вопрос о посылке «Ермака» на поиски Толля. 13 января 1904 года газета «Новое время» писала: «…Академия наук молчит… Непростительное равнодушие к погибающему. По-видимому, надежды найти его на Новосибирских островах, как мы думали, отправляя туда санную экспедицию на розыски, безнадёжны; на яхту „Заря“… тоже надежды, как пишут, плохи… Но самое лучшее – другое верное средство. У нас есть превосходное судно для подобных полярных плаваний, которому позавидовал бы сам Нансен, есть и опытный командир для полярных плаваний, найдётся сколько угодно и команды. Это ледокол „Ермак“…» Не исключено, что эту заметку в столичной газете организовал академик Рыкачёв, если не сам «опытный командир».
В первых числах января 1904 года путешественники добрались до Верхоянска, а 26 января прибыли в Якутск, откуда Колчак дал телеграмму президенту Академии наук о том, что партия Толля ушла с острова Беннетта осенью прошлого года и бесследно исчезла. Эта телеграмма была опубликована во многих газетах.
Экспедиция достигла цели и благополучно вернулась, не потеряв ни одного человека. Колчак мог гордиться этим. Не вина спасателей, что Толлю и его спутникам уже ничем нельзя было помочь. Прославленный путешественник П. П. Семёнов-Тян-Шанский оценивал экспедицию Колчака как «важный географический подвиг». В 1906 году Русское географическое общество присудило Колчаку «за участие в экспедиции барона Э. В. Толля и за путешествие на остров Беннетта» свою высшую награду – Константиновскую медаль.[192]
Однако стремительный бросок в глубь Арктики, совершённый из благородных чувств и на пределе человеческих возможностей, не прославил Колчака. (В отличие, скажем, от Стенли, который после встречи с Ливингстоном сразу стал знаменит.) Кто приносит плохие вести, тот не становится героем. Одна из петербургских газет назвала Колчака «неудачным северным Стенли».[193] А кроме того, события на Дальнем Востоке заслонили конец полярной эпопеи, связанной с именами Толля и Колчака.
И всё же эти четыре года, затраченные на две экспедиции, были, возможно, лучшим временем в жизни Колчака. Полярный Колчак, весёлый, бородатый, отважный, стремительный – это словно герой из Джека Лондона. Полная уверенность в себе, в своём деле, в своих товарищах. Ни тени разъедающего сомнения в своей звезде и своей судьбе. Такого Колчака больше не было.
* * *
В Якутск пришли телеграммы о нападении японского флота на русскую эскадру в Порт-Артуре и о начале Русско-японской войны. Эти новости взволновали Колчака. По-видимому, уже из Якутска он дал телеграмму президенту Академии наук с просьбой вернуть его, в связи с началом войны, в морское ведомство. Разрешение было получено, и Колчак по телеграфу же послал ходатайство направить его в Порт-Артур. Отцу была адресована просьба благословить брак и приехать на свадьбу в Иркутск.
Путешествие из Якутска в Иркутск продолжалось с 3 по 26 февраля.[194] В Иркутске Александр Васильевич и Софья Фёдоровна поселились в гостинице «Метрополь». Здесь же остановился и приехавший из Петербурга В. И. Колчак. Возникло новое препятствие: военнослужащий не мог жениться без дозволения начальства. На этом основании местный архиерей не разрешал венчание. Пришлось вновь обращаться к великому князю, хотя, строго говоря, Колчак уже вышел из его подчинения. Но Константин Константинович не был бюрократом. Он поставил на телеграмме размашистую резолюцию: «Разрешаю».
2 марта, в ожидании телеграммы от великого князя, Колчак выступил в музее Географического общества с лекцией о результатах поисков Толля и его спутников.[195] Телеграмма наконец пришла, и 5 марта 1904 года А. В. Колчак и С. Ф. Омирова повенчались в иркутской Михаило-Архангельской церкви. Со стороны жениха поручителями были генерал-майор В. И. Колчак и боцман Н. А. Бегичев, со стороны невесты – подпоручик И. И. Желейщиков и прапорщик В. Я. Толмачёв[196] (как видно, недавние иркутские знакомые Колчака).
Софья Фёдоровна была на два года моложе Александра Васильевича. Воспитывалась в Смольном институте, знала несколько иностранных языков, в том числе, как писал Р. А. Колчак, «французский, английский и немецкий – превосходно». Письма её к мужу показывают её как женщину некрепкого здоровья, несколько обидчивую и очень самостоятельную в суждениях. Всё зло современной жизни она видела в «нечестности и материализме» (то есть в погоне за материальным благополучием). Любила повторять афоризм Петра I: «Кому деньги дороже чести, оставь службу».[197] Эти взгляды породнили её с А. В. Колчаком, хотя брак их вряд ли можно назвать счастливым.
Почти через 16 лет, в этом же городе, Колчак говорил на допросе, что тесть его был судебным деятелем.[198] По-видимому, Колчак мало интересовался, кем был покойный Ф. В. Омиров, которого он никогда не видел, а к тому же, наверно, перепутал казённую палату с судебной, поскольку не очень разбирался в системе учреждений гражданского управления. В действительности Омиров был управляющим Подольской казённой палатой, местным органом Министерства финансов. Вышел он из духовного сословия,[199] сделал неплохую карьеру, но, управляя казёнными финансами, собственных финансов не накопил. Дети, осиротевшие после его ранней смерти, оказались в очень стеснённом положении. Впоследствии Колчак из скромного своего жалованья помогал получить образование родственникам жены.
Боцман Бегичев изъявил желание ехать вместе с Колчаком в Порт-Артур. Тогда их короткая дружба была в самом расцвете. Думали, что навсегда будут вместе. Колчак сдал дела по экспедиции Оленину, написал краткий отчёт, отправил в Петербург поморов под командой Железникова, а сам, попрощавшись с отцом и женой, 9 марта 1904 года вместе с Бегичевым выехал в Порт-Артур.[200]
* * *
Судьба Э. В. Толля и его спутников была наконец выяснена, хотя этому не сразу поверили. Ещё в феврале 1904 года журнал «Мир Божий» высказывал надежду увидеть Толля среди живых. (Статья о нём была подписана инициалами В. К. – возможно, В. Г. Короленко, который мог знать Толля со времён своей якутской ссылки.[201])
Что же до Земли Санникова, призрак которой увлёк к гибели Толля, то споры о ней продолжались ещё долгое время. Хотя Колчак в конечном счете пришёл к выводу, что таковой не было и нет. «Заря», писал он, прошла совсем недалеко от предполагаемого её места, но никто её не видел, хотя горизонт временами разъяснялся. Не видел её и Нансен, хотя «Фрам» тоже прошёл примерно в тех же местах. Более того, промер глубин показал, что как раз с этих мест начинается глубоководная часть океана.
По словам Толля, продолжал Колчак, на расстоянии приблизительно 100 миль он видел землю с четырьмя плоскими вершинами. Расчёты показывают, что с такого расстояния можно видеть горы высотой не менее 7570 футов (около 2306 метров). На всём севере Сибири, писал Колчак, нет таких гор, тем менее они вероятны на границе глубоководного океанского бассейна. Можно, конечно, думать, что полярный мираж как бы «приблизил» Землю Санникова к наблюдателю. Но с ещё большей вероятностью можно предположить, что объектом игры света и воздуха, по словам Колчака, оказалась «какая-нибудь туманная банка с очень устойчивой формой, часто появляющаяся над полыньями и трещинами в ледяном покрове во время морозов, или искажённая и увеличенная гряда торосов».[202]
Но, вопреки Колчаку, легенда о Земле Санникова продолжала жить. В 1913 году ледокол «Таймыр», обогнув с севера Новосибирские острова, тоже не обнаружил никакой земли.[203]
Уже в советское время через этот же район пролёг дрейф ледоколов «Седов», «Садко» и «Малыгин». А затем стала летать полярная авиация, также ничего не заметившая. Среди полярников стала утверждаться мысль, что Санников и Толль приняли за землю огромные айсберги, которые возвышаются над морем порой до 30 и более метров. Имея при этом «декоративную отделку» в виде песчано-глинистых полос и валунов, они неотличимы издалека от настоящей земли.[204] Если эта догадка верна, то Санников и Толль видели, конечно, разные айсберги, а вот Толль и Джергели могли видеть один и тот же, севший на мель недалеко от Котельного и просидевший на ней несколько лет.
В 1946 году полярный гидролог В. Н. Степанов, обнаруживший местное повышение грунта в районе предполагаемой Земли Санникова, выдвинул другую версию. По его мнению, Земля Санникова действительно существовала, но была сложена в значительной степени из ископаемого льда, перемешанного с песком. Начавшееся в Арктике потепление привело к тому, что Земля Санникова растаяла и ушла под воду. В доказательство учёный ссылался на судьбу острова Васильевского в том же архипелаге. Этот остров был открыт Анжу, в 1912 году к нему подходил ледокол «Вайгач», а в 1936 году на его месте нашли трёхметровую банку (мель глубиной в 3 метра).[205] Ископаемый лёд, кстати говоря, играет немалую роль в геологическом строении и некоторых больших островов Новосибирского архипелага – прежде всего Новой Сибири и Большого Ляховского.
Последним защитником Земли Санникова был автор одноимённого романа, известный географ, академик В. А. Обручев. Соглашаясь, что гипотеза Степанова выглядит правдоподобно, он вместе с тем утверждал, что вопрос ещё далеко не решён. «Фрам», «Заря» и «Таймыр» могли не заметить землю в тумане. «Седов», «Садко» и «Малыгин» дрейфовали во время полярной ночи. А с самолёта можно и не увидеть небольшой островок, который либо закрыт облаками (арктическое лето всегда туманно и пасмурно), либо сливается с окружающим льдом. Но ведь летят же откуда-то с севера гуси, которых видели Нансен с «Фрама» и Толль на Беннетте. Не на льдах же они выводят птенцов. Значит, не исключено, доказывал Обручев, что где-то к северу от Новосибирских островов есть ещё не открытая земля.[206] Откуда летели гуси, которых видел Толль на Беннетте, действительно непонятно. Но это, видимо, вопрос из какой-то другой области.
Землю Санникова больше никто не ищет. Но она прочно вошла в число мировых загадок. Растворилась ли она в воздухе, как туманный мираж, или, снявшись с мели, продолжила свой путь и затерялась в ледяных просторах? А может быть, скрылась под водой, так и не дождавшись своего первооткрывателя.
Глава третья В осаждённом Порт-Артуре
Вечером 26 января 1904 года порт-артурские китайцы встречали Новый год по лунному календарю. Согласно буддийской традиции за праздничным столом собиралась вся семья с приглашёнными друзьями. Подавали «особые девять супов». От каждого супа в миске должно было немного остаться. Остатки сливали в большую чашу. Туда же бросали всякую ветошь, хлам. Это символизировало накопившееся за год в доме зло. Затем при свете фонаря чашу несли на пустырь, выкрикивая: «Прочь отсюда! Прочь отсюда!» Возвращаться назад надо было быстро, не оглядываясь. Иначе прошлое могло вернуться в дом вместе с тем злом и грехом, с которыми оно неразрывно соединилось. Человек, учили ламы, должен идти тропой жизни, не оборачиваясь назад – никакой привязанности, никаких сожалений. Даже если уходящий год уносит с собой мирную жизнь.
Китайские газеты писали, что война вот-вот начнётся. Две соседние империи на земле Китая будут решать свой спор. Горе и смерть, которые несёт всякая война, коснутся не только соседей, но прежде всего их, китайцев. Но ведь смерть всё равно ожидает каждого человека. Главное, как учил светлый Будда, успеть при жизни разрушить три главные зависимости – страстное желание, зависть и эгоистическую привязанность к земному существованию. Тогда очистившийся разум человека будет включён в более высокое существование и поведёт его, этого человека, освободившегося от жизненных пут, к окончательной цели, которая есть океан истины, вечный мир нирваны.
Китайцы ничуть не удивились, когда со стороны гавани послышались взрывы и артиллерийская канонада, а в ночное небо взвились огненные сполохи. «Это ипонз руски чики», – объяснил один китаец русскому рабочему, приглашённому в его дом на новогоднее празднество.[207]
Город на реке Лунхэ
Когда Квантунский полуостров перешёл в арендное владение России, на берегах его стали развёртываться два города – Порт-Артур и Дальний. Порт-Артур должен был стать прежде всего военной крепостью, а Дальний, верстах в тридцати, за перевалом, планировался как коммерческий порт. Предполагалось, что в недалёком будущем Дальний, соединившись железной дорогой с Россией, вырастет в крупный центр мировой торговли, станет соперником Гонконга, Шанхая, Иокогамы и Сан-Франциско. На строительство города и коммерческого порта за шесть лет с 1898 года было истрачено более 20 миллионов рублей. Однако Дальний сразу как-то не очень пошёл. К 1904 году в этом городе проживало примерно 34 тысячи человек (30 тысяч китайцев, около четырех тысяч русских).[208]
Зато Порт-Артур стал быстро расти. Город был объявлен порто-франко, и в него хлынул поток дешёвых иностранных товаров. Рядом со Старым городом, на другом берегу реки Лунхэ, вырос Новый город, по преимуществу европейский. В больших мануфактурных магазинах здесь можно было купить всё необходимое, вплоть до модных вещей из Парижа и Лондона. В колониальных (по-современному – продовольственных) магазинах продавались канадские мясные и фруктовые консервы, английский мармелад, французские вина. Складских помещений не хватало, и в порту образовались огромные штабеля ящиков с сахаром и смирновской водкой. К 1904 году в Порт-Артуре действовало 1712 торговых и промышленных заведений. Некоторые из них имели годовой оборот до 6 миллионов рублей.
В китайских и японских лавках Старого города можно было по очень сходной цене купить фарфоровые изделия, ширмы, ковры, циновки и другие экзотические товары.
За шесть лет пребывания в русском владении население Порт-Артура увеличилось более чем в 10 раз. В начале 1904 года в городе проживало, не считая гарнизона, 51,3 тысячи человек (15 тысяч русских, 35 тысяч китайцев, 700 японцев и около 600 европейцев). Значительное преобладание мужского населения вело к развитию проституции, которая сосредоточилась в районе порта, где, как грибы после дождя, размножились многочисленные кафешантаны, в которых выступали русские певицы.
За Старым городом, ближе к горным хребтам, появился Новый китайский город, населённый русской и китайской беднотой. Русские рабочие, мастеровые, извозчики, преимущественно из Сибири, ехали в неведомую даль, привлекаемые рассказами о баснословной дешевизне порт-артурской жизни. Приток русских особенно усилился после того, как в 1903 году вступили в строй Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) и её Южно-Маньчжурская ветка, соединившая с Россией Порт-Артур и Дальний.
Китайцы ехали в Порт-Артур в надежде на постоянные и высокие заработки. Отчуждённость и недоверие, с которыми поначалу китайцы встретили русских, постепенно сменялись сотрудничеством и взаимопониманием. Старый порт-артурец В. А. Мустафин вспоминал: «Сначала на нас смотрели как на выходцев с того света, белых чертей, от нас взапуски убегали. Прошло некоторое время, к нам присмотрелись, увидели, что никакого зла мы никому не делаем, платим за всё щедро, по-царски, тогда стали понемногу приближаться, вступая с нами в более тесное общение».
Далёкий Порт-Артур не отрывался от России, жил с ней единой культурной жизнью. В городе открылось реальное училище. В начальной школе ввели совместное обучение мальчиков и девочек, что было в те времена необычно для России. С 1901 года выходила местная газета «Новый край». Пушкинские торжества 1899 года (сто лет со дня рождения поэта) нашли отклик и в Порт-Артуре. В гарнизонном собрании был прочитан цикл лекций о творчестве А. С. Пушкина. Сбор с них предназначался на строительство русско-китайской школы. В городе появилась Пушкинская улица.[209]
Молодой город, выросший в точке соприкосновения трёх культур (китайской, японской и русской), был устремлён в будущее и мало заботился о своей безопасности. Угроза, казалось, могла исходить только с моря. А с этой стороны Артур был неприступен.
Порт-артурская гавань была тесна и мелководна. Но восточную её часть (Восточный бассейн) углубили настолько, что в ней могли стоять даже броненосцы. Углубили и часть более обширного Западного бассейна, которую стали называть внутренним рейдом. Однако узкий проход в гавань, между полуостровом Тигровый Хвост и Золотой горой, не был углублён, и потому большие корабли могли выходить из гавани и возвращаться только во время прилива, два раза в сутки. Из-за этого, а также вследствие тесноты в гавани, эскадра предпочитала стоять по-прежнему на внешнем рейде.
Старый китайский док в гавани не вмещал броненосцев. Началось строительство нового дока, но к 1904 году он не был закончен. Успели, однако, выстроить новые мастерские, провиантские склады, угольные сараи, казармы, блиндированный пороховой погреб. Переоборудовались и модернизировались береговые батареи. К началу войны эти работы были на две трети выполнены.
К 1904 году России удалось сосредоточить в Тихом океане значительные военно-морские силы. Ядро их составляли семь броненосцев. Новейшие из них («Ретвизан» и «Победа») могли развить скорость до 18,5 узла. Три старых броненосца («Петропавловск», «Полтава» и «Севастополь») – до 16 узлов. Это создавало неудобства, ибо скорость движения эскадры определяли тихоходы.
Япония имела шесть броненосцев, правда, более однотипных, с одинаковой скоростью в 18 узлов.
Что касается количества крейсеров, в том числе броненосных, а также миноносцев, то здесь на стороне Японии был большой перевес. Но надо учитывать, что в решающих морских сражениях крейсеры с обеих сторон действовали довольно пассивно – даже по сравнению с миноносцами. Так что перевес в один броненосец всё же давал некоторое преимущество русскому Тихоокеанскому флоту.
В 1900 году, после Дубасова, Тихоокеанскую эскадру возглавил вице-адмирал Н. И. Скрыдлов. Он считал, что опорной базой флота должен быть более надёжный Владивосток. Однако начальник Квантунской области адмирал Е. И. Алексеев не хотел отпускать от себя эскадру. Он предлагал перевести во Владивосток броненосные крейсеры, а броненосцы оставить в Артуре.[210] Вопрос решился в 1903 году, когда Алексеев был назначен наместником на Дальнем Востоке, а Скрыдлова направили на Чёрное море. Начальником эскадры стал более покладистый вице-адмирал О. В. Старк.
Недостаточная надёжность Порт-Артура объяснялась его значительным удалением от России (по морю до Владивостока 1060 миль) и плачевным состоянием его сухопутных укреплений.
Проект крепости был утверждён Николаем II в январе 1900 года, хотя работы начались раньше. По смете требовалось 8,9 миллиона рублей. Однако в том же году в стране разразился промышленный кризис, более всего затронувший металлургию и машиностроение. Министр финансов СЮ. Витте не мог спокойно наблюдать, как замирает жизнь на гигантских заводах, построенных при его энергичном содействии. Вызывало опасение и появление огромной армии безработных. Пучина кризиса поглотила десятки миллионов казённых денег, срочно выделенных для поддержки тонущих заводов и банков. Соответственно урезывались все прочие государственные расходы. За период с 1898 по 1903 год включительно на работы по сооружению крепости Порт-Артур было отпущено только 4,6 миллиона рублей.[211]
В итоге к началу войны укрепления сухопутного фронта не были готовы и наполовину. Вдобавок, как утверждали специалисты, проект не был безупречен. Некоторые форты были плохо применены к местности. Пушки ставились открыто, и впоследствии неприятельская артиллерия легко их подбивала.
Экономия средств снизила надёжность возводимых укреплений. Толщина их стен была уменьшена почти вдвое – так, что они могли устоять только против шестидюймовых снарядов. Кто-то из начальства глубокомысленно заметил, что на вооружении азиатских армий нет орудий большего калибра.
Для обороны дальних подступов к Порт-Артуру особое значение имел перешеек Кинчжоу. (В позднейшей литературе его стали называть Цзиньчжоу – но обе транскрипции далеки от подлинного китайского звучания, так что лучше, наверно, употреблять то название, которое использовали защитники крепости.) Это самое узкое место Квантунского полуострова, и здесь, имея хорошие укрепления, можно надолго остановить неприятеля. Но перед войной на перешейке ничего не было сделано. Остались лишь старые обвалившиеся окопы и полуразрушенные укрепления, наскоро развёрнутые в 1900 году, во время восстания ихэтуаней («боксёров»).
Дальний почти не укреплялся, и некоторые военные говорили, что в случае войны он станет главной базой неприятельских войск, действующих в Маньчжурии. Развёртывая сразу два города на арендованном полуострове, видимо, не посчитались с состоянием государственных финансов.
И наконец, – гора Высокая, с северо-запада нависающая над Порт-Артуром. Впоследствии, во время осады, когда каждый обыватель стал стратегом, артурцы показывали друг другу на эту гору: «Плохо нам будет, если японец на неё сядет». По проекту на Высокой надо было построить форт литера Д. Но его почему-то не включили в первую очередь. Адмирал Алексеев, получив полномочия наместника, в особой записке потребовал ускорения строительства крепости, причём указал и на форт литера Д. В 1903 году Порт-Артур посетил военный министр генерал-адъютант А. Н. Куропаткин. Он вынес благоприятное впечатление о состоянии крепости. В докладе царю он писал, что «мы ныне можем быть спокойны за судьбу Порт-Артура». Предложение о постройке форта литера Д министр не одобрил.[212] Потом все удивлялись, как же так получилось, что до войны на Высокой ничего не построили.
Каждый защищал порученное ему дело: Витте – банки и заводы, Алексеев – Порт-Артур (пока, правда, в бюрократических окопах, но тоже неудачно), у Куропаткина голова была занята массой других проблем, казавшихся ему поважнее Высокой. Не было лишь человека, способного скоординировать все эти интересы, вывести общее направление государственной политики. Николай II на эту роль явно не годился.
Ответственность за дальневосточные неудачи обычно сваливают на Е. И. Алексеева. В действительности это была яркая и многосторонняя личность, отнюдь не злонамеренная.
Евгений Иванович Алексеев считался внебрачным сыном Александра П. Кое-кто сомневался в этом, тем более что у адмирала был восточный тип лица (чёрные волосы, чёрные глаза и большой нос). Но среди великих князей и при дворе он, по-видимому, считался своим человеком. Дружба с генерал-адмиралом великим князем Алексеем Александровичем обеспечила Алексееву быструю карьеру в морском ведомстве. Как говорили, у него были даже общие с великим князем амурные похождения.
Вместе с тем Алексеев был опытным и знающим моряком, разбирался в сложных технических вопросах. В своё время окончил курс Морской академии. В политических вопросах адмирал был очень осторожен. Потому и был он назначен наместником на Дальнем Востоке, что в Петербурге были уверены: Алексеев не наломает дров, не допустит авантюр, будет вести дело к примирению с Японией.
В должности наместника, пользуясь своими связями в столице, Алексеев сумел пробить решение ряда дел, застрявших в петербургских канцеляриях. В Порт-Артуре были пополнены склады боеприпасов и продовольствия. Но ускорить строительство укреплений не удалось и ему.
Те, кто лично знал Алексеева, вспоминают о нём как об обаятельном и интересном собеседнике, начитанном и бывалом. Пышущий здоровьем толстяк с круглой бородой умел объединить и развеселить собравшееся у него общество. Однако Алексеев не был таким фанатиком служебного долга, как, скажем, Дубасов. Большой любитель хорошо пожить и хорошо провести время, он не без приватного интереса мог заглянуть в казённый карман. В своё время поспешно замяли, не расследовав, тёмное дело с поставкой угля для Тихоокеанской эскадры, в пору командования ею Алексеевым. Не чуждый сам этой неизвинительной слабости, Алексеев был снисходителен и к проделкам своих подчинённых, а попытки разоблачения пресекал под тем предлогом, что это уронит престиж власти.
С 1899 года правой рукой Алексеева в морских делах был начальник его штаба контр-адмирал Вильгельм Карлович Витгефт, очень знающий, доброжелательный человек, безукоризненно честный. Образцовый службист, он не считал себя вправе в чём-то подменять собой своего начальника. Свою задачу он видел в том, чтобы проводить в жизнь его директивы, сглаживая и устраняя отдельные их резкости и шероховатости.
Алексеев мало кого хорошо знал из генералитета, и неизвестно, кто подсунул ему генерал-адъютанта А. М. Стесселя, оказавшегося на Дальнем Востоке во время международной экспедиции против китайских «боксёров». До этого Стессель участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов и стал даже георгиевским кавалером, хотя для близких сослуживцев его трусость не составляла секрета. На многих, однако, производили впечатление внушительная фигура Стесселя, его громкий голос, умение говорить с апломбом, как бы неумышленно попадая в тон начальству. В августе 1903 года Стессель был назначен комендантом Порт-Артура, а в марте 1904 года, когда уже шла война, – начальником Квантунского укреплённого района.
Стессель принадлежал к числу тех военных и бюрократических светил, которые всегда повёрнуты к начальству одной стороной, а к подчинённым – другой. С подвластными ему людьми он вёл себя надменно и грубо, вплоть до хамства. Эти качества вызывали тем большее раздражение и презрение, что мало кому не были известны тайны семейной жизни грозного начальника. В домашней обстановке Стессель утрачивал весь гонор, совершенно теряясь перед своей властной супругой Верой Алексеевной, женщиной «малоразвитой, злой и алчной», как характеризовал её портартурец В. А. Мустафин.[213] Видимо, в основном её стараниями Стессели накопили немалое состояние. Капитан 2-го ранга М. Бубнов сообщал, что у Стесселя в Артуре было больше имущества, чем у всех офицеров гарнизона вместе взятых.[214] А затем, уже во время осады, когда потребовалось «облагородить» свой образ, Стессели усыновили нескольких сирот. К такому приёму часто прибегают особо выдающиеся казнокрады и хапуги.
Истоки русско-японского конфликта в Маньчжурии восходят к японо-китайской войне 1894–1895 годов и к восстанию ихэтуаней в Китае в 1899 году. Восстание было направлено против вторжения иностранцев в Китай и введения иностранных новшеств, разрушавших традиционный уклад китайской жизни. Повстанцы громили иностранные религиозные миссии, разрушали железнодорожные и телеграфные линии. Сильно тогда пострадала строящаяся КВЖД.
В ответ на это в 1900 году Англия, США, Япония, Франция, Россия, Италия, Германия и Австро-Венгрия организовали карательную экспедицию. Русские войска заняли Маньчжурию и участвовали во взятии Пекина. Из китайской столицы они вскоре были отозваны, но в Маньчжурии остались.
В марте 1902 года между Россией и Китаем было подписано соглашение о поэтапной эвакуации русских войск в течение 18 месяцев. Прошло шесть месяцев, и русские войска оставили Южную Маньчжурию. Затем, однако, возник вопрос, недостаточно проработанный при заключении соглашения 1902 года – о гарантиях безопасности КВЖД. Русские власти захотели быть более надёжно застрахованными от недружественных действий китайского правительства или местных его властей, иностранных держав и разбойничьих шаек, орудующих в Северном Китае. Нарушение движения по КВЖД угрожало безопасности не только Порт-Артура, но и Владивостока, поскольку Амурская дорога по территории России ещё не была проложена.
Китайское правительство заявило, что дальнейшие переговоры оно будет вести лишь после вывода русских войск. В ответ на это русское правительство приостановило вывод войск из провинции Хэйлундзян, по которой проходит КВЖД, и из прилегающей к ней с юга провинции Гирин. В спор вмешались Англия, США и Япония, заявившие протест в связи с тем, что Россия задерживает выполнение соглашения. Особенно активно действовала японская дипломатия.
В ходе начавшихся переговоров Япония потребовала признания её «преобладающих интересов» в Корее и в свою очередь соглашалась признать «специальные интересы России в железнодорожных предприятиях в Маньчжурии». Россия выражала готовность признать «преобладающие интересы» Японии в Корее, но с рядом оговорок: нейтралитет пограничной с Россией области Кореи и необходимость консультаций с Петербургом при посылке войск в Корею. Япония не должна была предпринимать никаких действий, которые могли помешать свободе судоходства в Корейском (Цусимском) проливе, через который проходил морской путь из Владивостока в Порт-Артур. Кроме того, Япония должна была признать Маньчжурию и её побережье вне сферы своих интересов.
Русская дипломатия долгое время считала, что главный объект японских притязаний – это Корея. В ходе переговоров русские дипломаты делали уступку за уступкой по корейскому вопросу, но всё это проглатывалось японской стороной, вовсе не удовлетворяя её аппетита. Наоборот, выставлялись новые требования. Обе державы начали военные приготовления. Из России на Дальний Восток перебрасывалось примерно по семь тысяч солдат и офицеров в месяц – большего не позволяла пропускная способность недавно построенной одноколейной Транссибирской магистрали.
31 декабря 1903 года Япония в ультимативной форме потребовала от России принять все её условия. Русское правительство все условия не приняло, но пошло на ряд уступок. В частности, был снят пункт о демилитаризации пограничной зоны в Корее. Ответ был отправлен русскому посланнику в Токио двумя телеграммами: одной 21 января 1904 года через Порт-Артур, другой (22 января) непосредственно в Токио. 24 января, якобы не дождавшись ответа, японское правительство разорвало дипломатические отношения с Россией. Шифрованные телеграммы из Петербурга в это время лежали на телеграфе в Нагасаки, умышленно задержанные. Они были вручены русскому посланнику только на следующий день, когда он уже собирал свои вещи.[215]
В России, по-видимому, посчитали, что разрыв дипломатических отношений понадобился Японии для осуществления какой-то «самовольной» акции в Корее. Алексеев ещё раньше был предупреждён, что высадка японских войск в Южной Корее, до параллели Сеула, не вызовет со стороны России военных действий. Поэтому телеграмма из Петербурга о разрыве отношений с островным соседом не произвела на наместника сильного впечатления. Решив, что это ещё не война, Алексеев приказал усилить надзор в порту и приготовиться к постановке бонов (заграждений) у входа в гавань.
0телеграмме было сообщено ограниченному кругу лиц.
Узнав о телеграмме, командир броненосца «Полтава» И. Н. Успенский приказал поставить сети минного заграждения. Об этом же запросил начальника эскадры адмирала Старка командир крейсера «Баян» Р. Н. Вирен. Его рапорт Старк оставил без ответа, а Успенскому сделал внушение за самовольные действия. Сети были убраны.
25 января было замечено странное поведение порт-артурских японцев. Владельцы ремесленных заведений свёртывали производство. Около японских лавок толпился народ, раскупая внезапно подешевевшие товары. Укладывали вещи хмурые и неразговорчивые хозяева, которым явно не хотелось сниматься с обжитого места. На следующий день порт-артурцы наблюдали великий исход японцев из своего города. Длинная вереница тяжело нагруженных китайских лодок (шампунок) вышла на внешний рейд, прошла сквозь строй русской эскадры и направилась к стоявшему в отдалении английскому пароходу. Он и доставил японскому командованию самые свежие сведения о расположении эскадры.
В Петербурге 26 января начальник Главного штаба генерал В. В. Сахаров представил военному министру Куропаткину записку о том, что японцы могут внезапно напасть на флот в Порт-Артуре. По содержанию записки ничего сделано не было.
Затем вдруг осенило вице-адмирала Макарова. В срочном письме управляющему Морским министерством Ф. К. Авелану он настоятельно посоветовал немедленно перевести эскадру в гавань. О письме доложили великому князю Алексею Александровичу только на следующий день, когда было уже поздно.[216] Можно ли было что-то сделать, если бы сразу же дали телеграмму в Порт-Артур? Вряд ли. Петербургский вечер, когда в Адмиралтейство пришла депеша от Макарова, – это дальневосточная ночь. Возможно, в это время на порт-артурском рейде уже гремели взрывы.
26 января 1904 года высшее порт-артурское общество отмечало именины Марии Ивановны Старк, жены начальника эскадры. Некоторые офицеры ещё не вернулись с бала на свои корабли, когда там срочно потребовалось их присутствие.[217] Правда, сам начальник был на месте и в момент нападения совещался с Витгефтом.
Русские суда стояли в четыре линии, в шахматном порядке. На броненосцы «Полтава» и «Победа», а также на крейсер «Диана» грузили уголь с барж – верхние палубы этих кораблей были освещены электричеством. За подходами к рейду следили дежурные корабли (броненосец «Ретвизан» и крейсер «Паллада»). Свет их прожекторов скользил по гребням волн и терялся в далёкой дали. В море крейсировали два миноносца. Чтобы не потерять друг друга, они шли с открытыми отличительными огнями. «Наша эскадра стояла так, чтобы быть утопленной без остатка…» – писал впоследствии А. В. Колчак.[218]
Сторожевые миноносцы, сами никого не заметившие, были обнаружены подходившим к Артуру отрядом японских миноносцев. Уклонившись от встречи с ними, японцы подошли к эскадре тогда, когда русское охранение ещё продолжало крейсировать в море.
Японские миноносцы ориентировались по маяку на Золотой горе и огням эскадры. Первыми получили торпеды дежурные корабли, которые привлекли внимание своими прожекторами. Затем был атакован броненосец «Цесаревич», который тоже получил пробоину. Больше японские миноносцы ничего сделать не успели, так как сами были обнаружены. По ним началась яростная стрельба. Командир участвовавшего в нападении миноносца «Акацуки» сообщает, что один из четырёх миноносцев утонул, а другие получили повреждения.[219] (Впрочем, подлинность этих мемуаров вызывает сомнения, потому что в них есть расхождения с действительной картиной в весьма существенных деталях.)
Наутро «Цесаревич» и «Паллада» были отбуксированы в гавань. «Ретвизан» приткнулся носом к берегу и остался на внешнем рейде.[220] Чтобы отвести его в гавань, надо было заделать пробоину. Это заняло около месяца, и всё это время «Ретвизан» находился в опасности.
Вывод из строя «Паллады» большого значения не имел. Другое дело – «Ретвизан» и «Цесаревич». С их повреждением Япония получила превосходство в один броненосец. В дальнейшем усилия русского морского командования сводились к тому, чтобы вернуть себе утраченное преимущество, а адмирала Того Хэйхатиро, командовавшего японским флотом, – чтобы сохранить и упрочить своё господство на море.
Лишь 28 января (10 февраля) Япония объявила России войну – после ночной атаки на эскадру, дневного боя двух флотов у порт-артурской гавани, не давшего перевеса ни одной из сторон, и героической гибели крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» у берегов Кореи. 1 февраля командующим флотом на Тихом океане был назначен вице-адмирал С. О. Макаров. Русская общественность приветствовала это назначение. Оно было с радостью встречено в Порт-Артуре. 24 февраля Макаров вступил в командование флотом. И в этот же день была, наконец, закрыта пробоина на «Ретвизане». Откачали воду, корабль всплыл и был отбуксирован в Восточный бассейн.
Война быстро набирала обороты. В японских вооружённых силах царило воодушевление. Корея, куда японские войска высадились в первый день войны, считалась почти уже завоёванной. Дальнейшие планы японского командования предусматривали изгнание русских войск из Маньчжурии. А некоторые горячие головы говорили, что перемирие будет подписано в Иркутске, а мир – в Москве.[221] В японской армии и на флоте были убеждены, что одним из главных призов победоносной войны будет вновь завоёванный и навеки утверждённый в японском владении город на реке Лунхэ – Порт-Артур.
Волны Жёлтого моря
А. В. Колчак и Н. А. Бегичев прибыли в Порт-Артур 18 марта 1904 года вечером. Город уже погрузился во тьму – с конца января ввели затемнение. Окна плотно завешаны, фонари не горят, на улицах пустынно. В темноте едва отыскали гостиницу, где и переночевали. Наутро пошли в порт.[222]
Эскадра в полном составе находилась в гавани. Обращал на себя внимание раненый великан – трёхтрубный красавец «Ретвизан», стоявший у стенки. Названный по имени шведского парусного линейного корабля, ставшего русским трофеем, он был построен в Америке и в 1902 году вошёл в состав русского флота. Мощная артиллерия (четыре 12-дюймовые пушки во вращающихся башнях, 12 шестидюймовых, большое число средних и мелких), броня толщиной до девяти дюймов делали «Ретвизан» настоящей плавучей крепостью.
В гавани друзья разошлись – Колчак пошёл докладывать о своём приезде Макарову, а Бегичев – осматривать порт.
С приездом прославленного адмирала Порт-Артур ожил. Тревожное ожидание первых дней войны сменилось воодушевлением и надеждой. Макаров был наделён чрезвычайными полномочиями и не оглядывался на Алексеева, который удалился в Мукден. Новый командующий флотом слал донесения прямо в Петербург, на «высочайшее имя», а наместнику отсылал только копии.
Макаров понимал, что в данный момент подчинённый ему флот слабее японского. Но он настаивал на том, чтобы оборона была активной, чтобы флот действовал, а не прозябал в бухте, чтобы, наконец, он был хозяином хотя бы в ближайших к Артуру водах.[223]
Вскоре по приезде Макаров обнаружил, что эскадра не только не обучена совместно вести бой, но и совместно плавать, что её высший командный состав оставляет желать много лучшего. 13 марта из-за неумелых действий командиров столкнулись два броненосца – «Пересвет» и «Севастополь». К счастью, обошлось мелкими повреждениями. На ближайшем заседании командиров кораблей и младших флагманов (адмиралов, командующих отдельными отрядами) Макаров потребовал объяснений по поводу случившегося. Выслушав их, он, явно сдерживаясь, сказал: «С такими командирами мне приходится вступать в сражение».[224] После этого капитан «Севастополя» был смещён, а на его место Макаров назначил командира крейсера «Новик» капитана 2-го ранга Н. О. Эссена. Это было очень удачное назначение. По-видимому, Макаров планировал произвести и другие перемены в командном составе, хотя не всё от него зависело, ибо важнейшие назначения надо было согласовывать с наместником.
Макарову удалось научить эскадру выходить в открытое море в течение одного прилива («в одну воду»), тогда как раньше она выходила в «две воды». Когда же были сделаны тщательные промеры прохода, оказалось, что выход в море возможен и не в самую «высокую воду» – надо только двигаться точно и осторожно. С этого времени русская эскадра начала тревожить японский флот и постепенно отвоёвывать у него ближайшие воды.
Трудно сказать, где произошла новая встреча Макарова и Колчака. Командующий часто менял свой флагманский корабль. Ночевал нередко на дежурном крейсере у входа в гавань, а днём перебирался вместе со штабом на один из броненосцев, чаще на «Петропавловск». При штабе Макарова состоял и Георгий Дукельский («Маленький Фаррагут»), с которым Колчак сдружился в первое тихоокеанское плавание. Возможно, они повидались в тот самый день, когда Колчак пришёл представляться Макарову.
Колчак хотел, чтобы его назначили «на более активную деятельность» – на миноносец. Бегичев просил, чтобы о нём он тоже доложил адмиралу, – он тоже хотел воевать на миноносце. Предполагалось, конечно, что воевать будут вместе – как раньше со льдами, так теперь с неприятелем.[225]
Колчак не просил чего-то чрезмерного: командование миноносцем – лейтенантская должность. И Макаров действительно предполагал заменить часть командиров миноносцев.[226] Адмирал внимательно выслушал рассказ Колчака о спасательной экспедиции, погоревал о Толле и его спутниках и… в просьбе отказал, ссылаясь на то, что после трудной экспедиции надо «немного отдохнуть, пожить в человеческой обстановке на большом судне». По-видимому, лейтенант стал горячиться, доказывая, что он здоров и успел отдохнуть, но Макаров, как с долей обиды рассказывал потом Колчак, «упорно» не хотел назначать его на миноносец.[227] Бегичев же был направлен боцманом на «Бесшумный» – тут не встал вопрос насчёт отдыха. Причина отказа всё же, наверно, была в другом: Макаров смотрел на Колчака как на прыткого молодого человека, который перебежал ему дорогу, когда готовилась экспедиция на поиски Толля. Поэтому и возникло желание попридержать слишком резвого лейтенанта, поставить его на место. Макаров не всегда точно оценивал людей.
20 марта 1904 года приказом командующего флотом Колчак был назначен вахтенным начальником на крейсер «Аскольд».[228] Бегичев вспоминал, что вечером этого дня у них был прощальный ужин в ресторане, а наутро напились чаю, сдали номер в гостинице, отправились в порт и там простились. Колчак пошёл на «Аскольд», а Бегичев на «Бесшумный».[229]
Ночные и дневные вахты, всевозможные судовые работы – вот служба вахтенного начальника. «Аскольд», лёгкий пятитрубный крейсер-разведчик, мог развивать скорость до 23,5 узла, но был слабо защищен от неприятельской артиллерии (всякий корабль – компромисс различных требований). На «Аскольде» часто останавливался Макаров со своим штабом, а кроме того, он был флагманским кораблём начальника отряда крейсеров капитана 1-го ранга Н. К. Рейценштейна, который не снискал уважения портартурцев. «Рейценштейн поражал всех своей бестолковостью и почти всегда был пьян», – писал лейтенант С. Н. Тимирёв, служивший на броненосце «Победа».[230]
Город постепенно привыкал к войне, и жизнь входила в колею. 28 марта 1904 года была Пасха. После службы в гарнизонной церкви (городской собор так и не достроили) началось гулянье на бульваре. Здесь играл оркестр Квантунского флотского экипажа. Исполнялись попурри из опер «Руслан и Людмила» Глинки, «Аида» Верди, «Гугеноты» Мейербера. С особым шиком была исполнена технически сложная увертюра к опере Беллини «Норма». Празднично одетая публика обменивалась новостями, слухами и сплетнями. Молодёжь флиртовала, и тон задавали флотские офицеры.[231]
На следующий день Макаров вывел в море всю эскадру, за исключением подбитых кораблей. Неприятельский флот в этот день не показывался. Совершив ряд маневров, эскадра вернулась в гавань. В ночь с 29 на 30 марта «Аскольд» нёс сторожевую службу на внешнем рейде у входа в гавань. Вечером на крейсер прибыл Макаров со своим штабом. В числе штабных офицеров находился и великий князь Кирилл Владимирович.[232]
Великий князь окончил Морской корпус на несколько лет позже Колчака. Но в 1904 году, вопреки правилам морского ценза, он уже имел чин капитана 2-го ранга и его назначили начальником военно-морского отдела Штаба командующего флотом на Тихом океане. В Порт-Артур он прибыл примерно в те же дни, что и Колчак. Макаров не делал великому князю никакой скидки, и тот наравне со всеми тянул служебную лямку. Он, например, был назначен начальником сторожевой цепи у входа в гавань в ночь на Пасху.[233] В конце марта из Ляояна к Кириллу Владимировичу на несколько дней приехал его младший брат Борис Владимирович.
В эту ночь, когда Макаров был на «Аскольде», Колчак мог в последний раз видеть «Маленького Фаррагута». Наутро адмирал покинул «Аскольд», который получил задание конвоировать восемь миноносцев, выходивших на разведку к островам Эллиот.[234] Проводив миноносцы в открытое море и убедившись, что неприятельского флота поблизости нет, «Аскольд» вернулся в Артур.
На следующую ночь на внешнем рейде дежурила «Диана», куда и перебрался Макаров со штабом вечером 30 марта. Ночь была ненастная, шёл мокрый снег, море волновалось. Около полуночи сигнальщики «Дианы» стали замечать какие-то движущиеся пятна. Иногда они попадали в свет прожекторов. Пошли доложить Макарову, который спал в кресле не раздеваясь. Адмирал, как говорят, ничего во тьме не разглядел и вернулся в каюту. Между тем со сторожевых постов на Лаотешане тоже заметили какие-то силуэты, и адмиралу позвонили из штаба Стесселя с просьбой разрешить сделать несколько выстрелов с фортов. Командиру «Дианы» тоже хотелось пальнуть по подозрительным теням. Макаров вновь поднялся на мостик и вроде бы сказал недовольно: «Вам всюду чудятся японские суда». Открыть огонь он не разрешил, опасаясь, видимо, расстрелять собственные миноносцы, отправленные в разведку. Возможно, он подумал, что они собрались у входа и ждут рассвета, опасаясь попасть под огонь береговых батарей.[235]
Ещё затемно Макаров вернулся со штабом на «Петропавловск». Затем с моря послышались раскаты артиллерийской канонады. Хмурый рассвет открыл такую картину: группа русских миноносцев пробивается к входу в гавань, отстреливаясь от наседающих на них лёгких крейсеров, а далеко в море один из наших миноносцев ведёт отчаянный бой с окружившими его японскими миноносцами. Потом выяснилось, что это «Страшный», отставший от своего отряда и оказавшийся среди неприятельских миноносцев, которых он в темноте принял за своих.
Узнав об этом, Макаров утвердился в мысли, что ночью вдали мелькали тени вернувшихся с разведки миноносцев. Тотчас же он приказал броненосцам разводить пары и выходить на внешний рейд, крейсерам же – спешить на выручку миноносцам.
Первым на рейд выскочил броненосный крейсер «Баян» под командованием Р. Н. Вирена. Прикрыв собой отряд миноносцев, «Баян» дал им возможность пройти в гавань, а затем поспешил к «Страшному». Помощь, однако, запоздала – над «Страшным» уже сомкнулись волны. Но «Баян» сделал всё, что мог: отстреливаясь правым бортом от японских крейсеров и миноносцев, с левого борта попытался спасти людей со «Страшного». Спасти удалось только четверых.
Появление на рейде «Аскольда», «Новика» и «Дианы», а затем «Петропавловска» заставило отойти японские лёгкие суда. Вышли на рейд и другие броненосцы, за исключением «Севастополя», которого прижал к стенке сильный ветер, так что буксиры не могли его оттащить. «Баян» вернулся в строй. Командующий поблагодарил за службу его команду и смелого командира.
Ветер разметал тучи, и на горизонте показались силуэты японских броненосцев. Макаров стал разворачивать эскадру, стремясь втянуть Того в сражение с участием береговых батарей. Но в этом сражении Макарову необходим был «Севастополь». Адмирал был очень рассержен, узнав, что броненосец никак не могут оттащить от стенки, и наконец приказал поднять сигнал: «„Севастополю“ остаться в гавани». Трудно сказать, хотел ли адмирал после этого всё же вступить в бой или же собирался дать приказ вернуться в гавань.
Всё дальнейшее Колчак мог видеть с «Аскольда» своими глазами. Внезапно раздался глухой и мощный взрыв, и носовую часть «Петропавловска» окутало облако буро-жёлтого дыма (отличительная особенность японских взрывчатых веществ). Когда дым немного рассеялся, стало видно, что броненосец осел носом и накренился на правый борт. Прогремело ещё несколько взрывов, которые уже не давали такого густого облака. Корабль быстро уходил носом в воду, так что задралась вверх корма с работающими винтами. С неё один за другим прыгали люди, попадая в железные лопасти, а сверху падали громадные обломки. Эта страшная картина заняла не более двух минут, а затем на месте флагманского броненосца осталась лишь лёгкая крутящаяся зыбь с деревянными обломками, а облако пара и дыма унёс ветер.
К месту гибели заспешили шлюпки с разных судов. С «Аскольда» был спущен вельбот, которым ловко управлял мичман Василий Альтфатер. К счастью, крупной волны не было и удалось спасти 72 человека из более 700, находившихся на борту. Поднят был из воды тяжелораненый командир корабля капитан 1-го ранга Н. М. Яковлев, во время взрыва стоявший на мостике рядом с Макаровым. Спасли Кирилла Владимировича. По словам очевидцев, он был в шоке, с трудом отвечал на вопросы. Его доставили в вагон Бориса Владимировича, и через час братья уже мчались на север, прочь от Порт-Артура.
После гибели Макарова командование должно было сразу перейти к младшему флагману – контр-адмиралу князю П. П. Ухтомскому, который находился на броненосце «Пересвет». Но Ухтомский почти ничем себя не проявил. Корабли возвращались в гавань довольно беспорядочно. За милю до входного створа подорвалась «Победа». К счастью, броненосец всё же добрался до места стоянки, хотя и с большим креном. Все решили, что эскадру атакуют подводные лодки. Со всех кораблей стали стрелять в море, по воображаемым струям от этих лодок, с риском попасть друг в друга. Адмирал Того мог атаковать уходящую эскадру, но, как видно, побоялся нарваться на собственные мины.
Потом, когда рейд протралили, нашли несколько «букетов» из трёх японских мин. Каждая из них по силе взрыва равнялась крупному артиллерийскому снаряду. При этом «Петропавловск» наскочил на такую связку, видимо, как-то особенно неудачно, так что начали рваться снаряды в его погребах, затем котлы в топках – и всё смешалось в вихрях огня, пара и воды. Несомненно, мины были поставлены теми самыми японскими катерами, которые Макаров ночью принял за собственные миноносцы.
На следующий день хоронили выловленных из моря пятерых офицеров и 12 матросов. Среди обломков нашли шинель, которая была на плечах адмирала в момент взрыва. По словам сестры милосердия О. А. Баумгартен, раненые матросы говорили, что Макарову при первом же взрыве снесло голову обломком. Как погиб Дукельский, никто не знал, хотя о нём вспоминали и Эссен, и, несомненно, Колчак, и многие другие, с кем он служил.
«Настроение у всех ужасное, подавленное… – писал жене командир „Севастополя“ Эссен. – Но более всего горько за потерю адмирала Макарова – эта потеря ничем не заменима».[236]
Память о Макарове поддерживала портартурцев всё время осады. 20 июня газета «Новый край» напечатала стихотворение флотского поэта Вельяминова «Видение матроса», написанное в стиле народной баллады. В нём говорилось о «дедушке-адмирале», в полночный час подплывающем к Артуру на восставшем из вод «Петропавловске»:
Смотрит так ясно, так смело вперёд, Следом за ним его штаб весь идёт. Много народу у бухты стоит. Что-то такое он им говорит. Машет рукою, знать, катер зовёт. Вижу, и катер к нему уж плывёт. Сел он, смеётся открытым лицом. Словно как было пред страшным тем днём… Днём, когда скрылся навек под волной Воин с великою русской душой.В автобиографии, написанной через 14 лет, Колчак, не помня былых недоразумений, писал, что считает Макарова «своим учителем как в военном деле, так и в области научных работ».[237]
Новым командующим флотом в Тихом океане был назначен вице-адмирал Скрыдлов. Но пока он ехал на Дальний Восток, сообщение с Порт-Артуром прервалось. Адмирал остался во Владивостоке.
Через три дня после гибели Макарова в Порт-Артур прибыл Алексеев и взял командование эскадрой в свои руки. Японцы отметили его прибытие новой бомбардировкой города с кораблей, перебрасывая снаряды через горный массив Лаотешань. Русские броненосцы открыли ответный огонь, который корректировался с горы, и японцы удалились, не причинив большого вреда ни городу, ни эскадре.[238]
Колчак больше всего на свете не любил монотонно, изо дня в день тянуть служебную лямку. Во время последней экспедиции он вошел во вкус самостоятельных действий и вскоре подал рапорт с новым ходатайством назначить его на миноносец. 17 апреля его перевели на минный транспорт «Амур» исполняющим должность старшего офицера,[239] причём назначение это, как видно, было временным, потому что на «Амуре» Колчак пробыл всего четыре дня.
В биографии Колчака, написанной И. Ф. Плотниковым, приводится рассказ неизвестного лица о том, как Колчак «на этом судёнышке, выйдя ночью из порта, потопил четыре японских транспорта с грузом и войсками». «Точно ли было, судить теперь трудно», – добавляет биограф.[240] В действительности это одна из позднейших легенд русского зарубежья о «Белом Вожде». Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в «Хронологический перечень», используемый в настоящей работе. В нём за эти дни (17–21 апреля) «Амур» вовсе не упоминается. Да и не должен был минный транспорт, слабо вооружённый и не очень быстроходный, заниматься не своим делом, выходя ночью на охоту.
Командир «Амура» капитан 2-го ранга Ф. Н. Иванов в эти дни делал другое дело – он тщательно прослеживал и наносил на карту маршруты блокирующих японских судов, которые каждый день появлялись перед Артуром и маячили на горизонте. В этой работе ему, вне сомнения, помогал и Колчак.
Незадолго до ухода Колчака с «Амура» произошло сражение с японскими брандерами, кораблями-самоубийцами (старыми пароходами), при помощи которых адмирал Того хотел на какое-то время прочно запереть русский флот в артурской бухте, чтобы высадить десант на Ляодунском полуострове и осадить Порт-Артур с суши. Русская эскадра не смогла бы помешать этой высадке. Но Того, стратег очень осторожный, не хотел ни малейшего риска. Для этого он и посылал брандеры, чтобы они затонули в фарватере у выхода из бухты или в самом выходе.
Первую попытку затопить брандеры на главном фарватере японцы предприняли ещё при Старке. Тогда было послано пять пароходов с камнями и металлоломом, но затея не удалась. Через месяц Того послал новые брандеры. Потопив их, Макаров на следующий же день вывел эскадру на внешний рейд, показав, что она не заперта в бухте.[241]
В ночь с 19 на 20 апреля японцы предприняли ещё одну такую же попытку. На этот раз было направлено 10 брандеров. Море, однако, сильно волновалось, и Того в последний момент отменил операцию. Но вернуть удалось только два последних парохода.
Брандеры сразу же были замечены, и началась стрельба. Наместник немедленно выслал в море два дежурных миноносца, всем остальным велел разводить пары, а сам перешёл на канонерскую лодку «Отважный» и отправился в море руководить сражением.
Беззащитные пароходы отчаянно лезли к входному створу, пытаясь уклониться от обстрела. Одни из них взрывались на минах, другие получали огромные пробоины от снарядов и тоже шли ко дну, третьи море выбрасывало на мель. Только два или три брандера проскочили почти к самому проходу и, затонув, слегка его сузили.
Высаживаясь на берег на шлюпках, плотах и обломках, японские моряки не желали сдаваться, начинали стрелять из ружей и револьверов и погибали. В одном случае русские солдаты, подбежавшие к берегу, чтобы принять шлюпку, с ужасом увидели, что японцы рубят друг другу головы. Всего было взято в плен два офицера и 30 матросов, в основном раненых.
Утром, когда всё было кончено, наместник сошёл с «Отважного» в весёлом расположении духа. Выход из гавани остался открытым, но Алексеев решил схитрить: пусть Того думает, что запер русскую эскадру. Не видя её на внешнем рейде, Того так и подумал. 22 апреля в Артуре было получено сообщение о появлении у селения Бидзыво, верстах в 150 от Артура, японских транспортов с войсками. В тот же день наместник выехал из Порт-Артура, оставив командовать эскадрой своего начальника штаба контр-адмирала В. К. Витгефта.[242] За день до отъезда, 21 апреля, Алексеев назначил Колчака командиром миноносца «Сердитый».[243]
Порт-артурская миноносная эскадра делилась на два отряда. В первый входили миноносцы, построенные на балтийских верфях или за рубежом. Как правило, это были отличные боевые корабли. Один из них, «Лейтенант Бураков», носил имя товарища Колчака по Морскому корпусу. Евгений Бураков погиб во время боксёрского восстания. Он стал первым из их выпуска, кто сложил голову в начавшейся полосе войн и мятежей, которые, в конце концов, привели во многих странах к смене правителей, режимов и господствующих элит.
Миноносцы второго отряда собирались филиалом Невского завода в Порт-Артуре из запасных частей, поступавших из России. Некоторые из них достраивались уже во время войны, когда требования приёмной комиссии заметно снизились. Эти миноносцы часто выходили из строя и не развивали той скорости, которая была обусловлена контрактом. На одной заправке угля такой миноносец мог преодолеть не более ста миль.[244] Не случайно оба миноносца, погибшие при Макарове, «Стерегущий» и «Страшный», принадлежали ко второму отряду. Все ответственные и опасные задания (например, проскочить с донесением в китайский порт Чифу, когда город уже обложили) поручались миноносцам первого отряда. Второй отряд больше был занят на повседневной рутинной работе: ночное дежурство у входа в гавань, охрана тралящих судов. А потом их самих стали впрягать в эту работу несмотря на то, что длительный малый ход был вреден для их машин.
«По общему мнению, все миноносцы в течение осады Артура несли каторжную, мало вознаграждённую потом службу, – писал М. Бубнов, некоторое время командовавший вторым отрядом. – Котлы требовали частой чистки, а миноносцы почти всё время были под парами». Разводить пары приходилось несколько раз в день, порой по ничтожному поводу, потому что миноносцы были у командования на постоянных побегушках.[245]
С. Н. Тимирёв, смотревший на миноносную службу как бы со стороны, вскоре после войны вспоминал: «Служба миноносцев была чрезвычайно тяжела, в то же время почти безрезультатна (в смысле громких успехов), чему главной причиной был очень странный взгляд на боевую службу миноносцев высшего морского начальства в Артуре…; отдельные самостоятельные экскурсии одного или двух миноносцев, предпринимаемые по личной инициативе командиров и с определённой целью, не встречали никакого сочувствия со стороны адмиралов и часто вовсе отменялись (на основании, что они слишком рискованны). Все миноносные экспедиции совершались обыкновенно по заранее составленному свыше плану (обыкновенно очень неясному, часто невыполнимому), дальние экспедиции совершались почти всегда поотрядно. В результате такие ночные авантюры (всем отрядом) обыкновенно кончались тем, что все миноносцы за ночь теряли друг друга и возвращались, ничего не сделав – это в лучшем случае; а чаще теряли вовсе кого-либо из товарищей, уклонившихся слишком в сторону неприятеля или отставших… Дневные отрядные экспедиции обыкновенно кончались нелепыми артиллерийскими баталиями с неприятельскими миноносцами на дальних дистанциях (одинаково безвредными для обеих сторон). Посылки же миноносцев с отдельными поручениями были вовсе наперечёт… В Артуре на миноносцы смотрели, как на разведчики, посылочные суда. Настоящее же назначение – неожиданные минные атаки – почти вовсе игнорировались. Всё это тем более было жаль, что подбор командиров, по общему мнению, был превосходный, особенно выделялись лейтенанты Максимов, Лепко, Колчак, Плен…» В этом списке, как видим, Тимирёв поставил Колчака на третье место. Далее он упоминал, в частности, А. А. Хоменко и А. И. Непенина, о которых ещё будет идти речь в настоящем повествовании.[246]
Назначение во второй отряд на «Сердитый», надо думать, было для Колчака ещё одним большим разочарованием. Д. В. Ненюков, лейтенант с «Цесаревича», вспоминал, что он несколько раз видел Колчака в Порт-Артуре – и всегда в мрачном настроении. «Тем не менее, – добавлял Ненюков, – Колчак прекрасно командовал миноносцем и оказал большую пользу делу защиты Порт-Артура».[247]
С 21 по 30 апреля ежедневно миноносцы второго отряда тралили внешний рейд. «Сердитый» обычно ходил в паре со «Скорым», которым командовал Хоменко. Вдвоём они дежурили и в проходе в ночь с 26 на 27 апреля.[248] А 1 мая им довелось, наконец, участвовать в серьёзном и опасном деле, о чём речь пойдёт немного позднее.
Вскоре после начала войны наместник отдал приказ о выезде из Порт-Артура семейств обывателей и жён офицеров, кроме тех, которые обязуются помогать раненым. Многие тогда уехали, но многие и остались. Некоторые – по бедности, другие – по легкомыслию. Чуть ли не все кафешантанные певички записались в сестры милосердия, продолжая заниматься своим ремеслом. Третьи делали вид, что приказ наместника их не касается. Так, например, Стессель не смог расстаться со своей супругой, а вслед за ним – и некоторые старшие офицеры.
После японского десанта у Бидзыво многие поняли, что дело принимает серьёзный оборот, и засобирались в путь. Но не все успели уехать. На полотне железной дороги начались диверсии. 25 апреля в Порт-Артур чудом проскочил последний состав со снарядами, а 29-го вышедший из Дальнего поезд вернулся обратно: полотно было разрушено на большом протяжении. Вскоре прервалось и телеграфное сообщение. Началась осада – сначала «укреплённого района», который, по сути, не был укреплён, а затем города. Гарнизон осаждённой крепости составлял 41 600 человек, не считая моряков эскадры.[249]
В конце апреля адмирал Витгефт дал добро на выполнение плана, разработанного командиром «Амура» Ивановым. Замысел состоял в том, чтобы скрытно поставить мины на обычной трассе прохождения отряда блокирующих кораблей. Стали ждать подходящей погоды.
Утром 1 мая на море стоял небольшой туман. Он стлался низом, широкими полосами с промежутками. Иванов решил, что пора действовать. «Амур» вышел в море, имея на борту 50 мин. У выходного створа его ожидали шесть миноносцев. Впереди с тралом пошли «Сердитый» и «Скорый». На расстоянии двух миль от них следовали «Стройный» и «Смелый». За ними шёл «Амур», а замыкали колонну миноносцы без тралов – «Внимательный» и «Выносливый».
«Сердитый» и «Скорый», ушедшие довольно далеко, шли со скоростью пять-шесть узлов. Догонявшие их «Стройный» и «Смелый» по приказу Иванова развили скорость до десяти узлов, и трал у них порвался. Тогда командир «Амура» выслал их вперёд для разведки, а «Сердитому» и «Скорому» велел развить скорость до десяти узлов. Через несколько миль лопнул трал и у них, так что дальше пошли без тралов.
На расстоянии 10,5—11 миль от Золотой горы Иванов решил поставить минную банку. Артиллеристы с Лаотешаня видели в море густую полосу тумана, по одну сторону которой дежурила японская эскадра, а по другую «Амур» ставил мины. С вахтенного мостика минного транспорта были видны верхушки мачт японских судов. Японцы тоже, наверно, заметили мачты «Амура», но приняли его за своё судно.
Японская эскадра ушла. Когда «Амур» сделал своё дело, отправился в обратный путь и отряд русских кораблей. Причём едва не наскочили на хвост японской эскадры, но вовремя повернули в сторону, заметив дым последнего корабля. При входе в гавань увидели сигнал: «Адмирал изъявляет своё особенное удовольствие».
В рапорте на имя командующего эскадрой капитан 2-го ранга Иванов особо отмечал: «Сопровождавшие меня миноносцы своими согласными действиями, вниманием при маневрировании, точным и отчётливым исполнением моих сигналов в большой мере способствовали успеху порученного мне дела».[250]
С конца апреля японский флот начали преследовать неприятности. Началось с того, что 29 апреля наскочил на мину и взорвался один миноносец. Затем по той же причине пошло на дно посыльное судно. 1 мая крейсер «Кассуга» в тумане протаранил крейсер «Иоссино», который сразу же затонул.[251] 2 мая, в десятом часу утра, перед Артуром показались три японских броненосца: «Хацузе», «Шикишима» и «Яшима». Далеко на горизонте виднелись ещё дымы. В 10 часов на всех кораблях русской эскадры была молитва. Вскоре после неё со стороны моря донёсся раскат далёкого взрыва. Сигнальщики на кораблях закричали: «Японец подорвался!» Офицеры бросились на мостик, схватились за бинокли, но за дальностью расстояния ничего нельзя было разглядеть, разве только то, что строй японского отряда несколько нарушился. Прошло ещё полчаса, и воздух один за другим потрясли два взрыва. По судам русской эскадры прокатилось «ура». Теперь в бинокль ясно были видны силуэты только двух неприятельских броненосцев, третий исчез, на его месте можно было заметить лёгкое белое облако, постепенно расходившееся.
Позднее выяснилось, что броненосец «Хацузе» дважды подорвался на мине, причём после второго взрыва сразу же затонул. Подорвался и броненосец «Яшима», заспешивший ему на помощь. Потом со стороны моря послышался артиллерийский гул. Японцы, как видно, тоже вообразили, что их атакуют подводные лодки, и начали стрелять в воду.
Адмирал Витгефт поднял сигнал: «Миноносцам развести пары». Вслед за этим был поднят другой сигнал: «Флот извещается, что японский броненосец взорвался на мине». По эскадре, береговым батареям, порту вновь прокатилось «ура». В городе началось ликование. На бульвар вышел оркестр флотского экипажа. Публика потребовала гимн и выслушала «Боже, царя храни» с непокрытыми головами.
«Этот день, – вспоминал Тимирёв, – кажется, единственный за всё время осады, был днём неописуемого ликования, днём победы для Артура. Война порождает жестокость: никто не думал о погибших на японских судах, но все со злорадством торжествовали и праздновали день отмщения за „Петропавловск“, за Макарова».[252]
Пока миноносцы разводили пары, командир второго отряда Бубнов явился к Витгефту за инструкциями. «Идите к неприятелю, – сказал адмирал, – тревожьте повреждённый броненосец, но в атаку не ведите миноносцев – зря перестреляют». – «А большие суда?» – спросил Бубнов. «Они не пойдут», – ответил командующий.
Встретившись тут же с командиром первого отряда, Бубнов договорился, что второй отряд будет отвлекать японцев на себя, а первый попытается обойти броненосцы и прорваться в корейские шхеры. Тогда он сможет в течение суток действовать на путях сообщения противника, а затем вернётся в Порт-Артур.
Когда оба отряда вышли на внешний рейд, первый из них немного уклонился в сторону, а второй врассыпную бросился на неприятеля. Примерно с расстояния 40 кабельтов оба броненосца открыли огонь. Показались дым и мачты быстро приближающегося большого крейсера. За ним был виден ещё один. С другой стороны показались два корабля, которые преградили путь первому отряду. Видимо, японцы уже успели по телеграфу вызвать все находившиеся поблизости крейсеры.
Оба отряда повернули назад. Бубнов попридержал свои миноносцы, чтобы соединиться с другим отрядом. Сегментные снаряды, которыми стреляли японцы, разрывались в воздухе, осыпая миноносцы градом осколков. Японские броненосцы направились на юг, и крен «Яшимы» стал заметнее. А крейсеры продолжали преследовать уходящие миноносцы. Особенно настойчив был «Такасаго». Этот быстроходный красавец лёг параллельным курсом и стрелял залпами. Только приблизившись к береговым батареям и завидев вышедший «Новик», он повернул назад.
Все миноносцы вернулись целыми и невредимыми, потерь не было.
Витгефт побывал на каждом миноносце, поблагодарил команду. Многие, однако, недоумевали. «Я этот выход миноносцев до сего времени не могу понять, – писал боцман Бегичев, – зачем нас послали… в погоню в 12 часов дня на цельную японскую эскадру. Какой мы могли принести вред средь белого дня таким сильным судам? Если бы была ночь, тогда другое дело. Ночью можно близко подойти и выпустить мины. Но днём не допустят и расстреляют артиллерийским огнём». Как бы в ответ на такие вопросы Бубнов отмечал, что стрельба расшатывала переборки повреждённого броненосца и в этом отношении выход миноносцев всё же сослужил службу. «Яшима» не дошёл до базы, затонув в пути.
Несомненно, однако, что Витгефт не ожидал такого успеха. Не было разработано соответствующего плана, не было предпринято таких действий, которые на языке военно-морского научного жаргона называются «эксплуатацией победы». Витгефт располагал силами, способными разгромить остатки блокирующего отряда, но кроме миноносцев и лёгкого крейсера «Новик» никто не вышел в море. Витгефта, возможно, удерживало то соображение, что русская эскадра, выйдя на внешний рейд, сможет вернуться назад только ночью, в следующий прилив. Кроме того, адмирал страшно боялся нарваться на минную банку.[253]
Утратой двух броненосцев не закончились злоключения японского флота. 4 мая столкнулись две канонерские лодки, одна из которых затонула. В тот же день в виду Порт-Артура попал на мину и ушёл на дно миноносец «Акацуки».
В течение четырёх дней после катастрофы 2 мая японской эскадры совсем почти не было видно. Японское морское командование приходило в себя. Но русская эскадра в эти дни так и не вышла в море. Только миноносцы выходили в ближние разведки и тралили рейд.[254]
В одну из таких разведок, в ночь на 28 мая, вышли восемь миноносцев первого и второго отрядов под командой капитана 2-го ранга Криницкого. Было дано задание осмотреть близлежащие острова Риф, Айрон и Мяо-Тао и в случае обнаружения противника атаковать его. Пройдя мимо Рифа и Айрона, отряд повернул к Мяо-Тао. Командир приказал увеличить ход до 18 узлов. Почти у всех миноносцев, за исключением трёх, появились из труб факелы. Это означало, что они идут на предельной скорости.
При подходе к Мяо-Тао заметили судно, оказавшееся китайской джонкой. Проверили её, отпустили, дошли до Мяо-Тао и легли на обратный курс. Когда поворачивали назад, раздался звук, напоминающий взрыв. Командир отправился на миноносце в хвост колонны выяснить, в чём дело. Оказалось, что столкнулись два миноносца, но оба держатся на воде. Отсутствовал, однако, «Сердитый». Из расспросов выяснилось, что он отстал ещё до встречи с джонкой.
Обеспокоенный командир повёл отряд в Голубиную бухту, чтобы дожидаться там рассвета. В этой бухте был обнаружен «Сердитый». Колчак доложил, что, отстав от отряда, он решил ожидать его именно здесь.
Утром был сильный туман. С семафора на береговом посту сообщили, что подходят пять японских миноносцев. Отряд приготовился к бою, вышел из бухты, но обнаружил лишь пять джонок. С берега приказали возвращаться, когда позволит туман. Туман позволил лишь наутро. Так в бесполезной погоне за джонками и в пережидании тумана закончилась эта двухдневная разведка. Витгефт был недоволен тем, что Мяо-Тао проскочили на скорости, вместо того чтобы выслать два миноносца, которые тихо подкрались бы и внимательно всё осмотрели.[255]
Где-то в середине мая капитан 2-го ранга Е. В. Клюпфель, бывший командир «Сердитого», перешедший на береговые работы, подал рапорт адмиралу Витгефту. Он предлагал привести в порядок транспорт «Ангара» (бывший пароход «Москва»): ввести его в док, очистить днище, перебрать машину, а затем отправиться на нём в крейсерство на линиях движения японских транспортов. «Ангара», которая могла развить скорость до 20 узлов и нести запас угля на 40 дней хода, вооружённая двадцатью пушками, была в состоянии внести немалое расстройство в японские морские коммуникации. По исполнении крейсерской задачи предполагалось идти либо во Владивосток, либо навстречу эскадре Рожественского (которая, правда, тогда ещё не вышла из Кронштадта). Самой опасной частью плана считался прорыв через блокаду у Порт-Артура. Клюпфель предполагал сделать это ночью, в свежую и пасмурную погоду.
Витгефт согласился с этим планом и разрешил Клюпфелю набирать по своему усмотрению офицеров из числа добровольцев. Клюпфель пригласил на должность штурмана Сергея Тимирёва с «Победы», старшим офицером – Николая Львова, вахтенными начальниками – Анатолия Бестужева-Рюмина, Александра Колчака и Павла Плена. Все загорелись этой идеей, которая, как казалось, давала, наконец, возможность каждому по-настоящему проявить себя. План держался в большом секрете. Для обсуждения его подробностей шестеро офицеров, как заговорщики, совещались в Морском собрании. Выход в море был назначен на конец мая. Но где-то в двадцатых числах Витгефт всё отменил.[256] Возможно, ему не хотелось терять артиллерию на «Ангаре» и боевых офицеров. Порт-Артур для него был превыше всего. Пушки с «Ангары» передали на сухопутный фронт. Транспорт был переделан в госпитальное судно, а когда крепость пала, стал добычей японцев.
Тральные работы, отнимавшие много сил и времени, продолжались изо дня в день, и тем не менее в главном фарватере постоянно попадались японские мины. Витгефт распорядился установить ночное дежурство миноносцев в бухте Тахэ, надеясь, что они однажды подловят японские катера и минные заградители за их работой. «Сердитый» и «Скорый» начали дежурить с 1 июня и в дальнейшем выходили, обычно в паре, на дежурство через один-два дня.
13 июня, на рассвете, «Сердитый» и «Скорый» заметили два силуэта неприятельских миноносцев. Прикрываясь некоторое время берегом, Колчак и Хоменко повели за ними свои корабли, и вскоре удалось рассмотреть, что это номерные (маленькие) миноносцы. Обнаружив преследование, они стали уходить, причём сразу обнаружилось их превосходство в скорости. «Сердитый» и «Скорый» открыли огонь. Преследование, однако, пришлось прекратить, когда навстречу показался целый отряд японских миноносцев. Береговая батарея отогнала их, но один из неприятельских миноносцев успел принять с берега двух человек.[257] В окрестностях Порт-Артура действовало огромное число японских шпионов.
Японцы узнали о дежурствах в бухте Тахэ и приняли свои меры. 11 июля там находился усиленный наряд миноносцев («Боевой», «Грозовой» и «Лейтенант Бураков»). С ними затеял перестрелку отряд японских миноносцев. В это же время неприятельские минные катера, невидимые в темноте и неслышимые в грохоте артиллерии, зашли с тыла и выпустили торпеды. «Боевой» и «Грозовой» получили повреждения, а «Бураков» затонул. Это был лучший миноносец порт-артурской эскадры, который мог развивать скорость до 33 узлов.[258] Все жалели «Буракова», а Колчак словно во второй раз потерял своего товарища по выпуску.
Простудившись на ночных дежурствах, Колчак впервые в своей жизни тяжело заболел. «…Я не рассчитал своих сил, которые уже за всё это время были подорваны, – рассказывал он впоследствии, – я получил очень тяжёлое воспаление лёгких, которое меня заставило слечь в госпиталь». Колчак провёл на больничной койке около месяца и вернулся на миноносец уже в июле.[259]
В это время минные банки стали ставить не только с катеров и минных транспортов, но и с миноносцев. 23 июля Витгефт доносил Алексееву о том, что испытано устройство для постановки десяти мин с одного миноносца, «и ночью лейтенанты Рощаковский, Ковалевский, Колчак и Волков поставили в двух местах заграждения».[260]
К концу июля Порт-Артур опутала густая сеть минных заграждений, поставленных обеими сторонами. Неприятель почти не имел возможности с моря подойти к крепости. Её защитники оставляли для себя несколько проходов. Главный фарватер поддерживался в относительной чистоте благодаря непрерывному тралению. Не проходило почти и дня, чтобы кто-то не подорвался: миноносец, пароход-тральщик, землесос или портовый баркас. Частые подрывы бывали и у японцев.[261]
Тем временем сухопутный фронт всё ближе подходил к Артуру. 13 мая японские войска начали штурм позиций на перешейке Кинчжоу. В помощь сухопутным войскам в залив Кинчжоу вошли японские канонерские лодки и миноносцы, начавшие обстрел русских позиций. В свою очередь канонерская лодка «Бобр» (самая мелкосидящая) и миноносцы «Бойкий» и «Бурный» зашли в залив Даляньвань и открыли огонь с другого фланга. На одном фланге японцы упорно наступали, форсируя залив чуть ли не по горло в воде, а на другом их пехота была рассеяна, а батареи подавлены.
Решающую роль сыграло девятикратное численное превосходство японцев. 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, защищавший позиции, потерял до трети своих солдат и около половины офицеров. Генерал-майор А. В. Фок, командовавший обороной Кинчжоу, не прислал в подкрепление сражающимся ни одного солдата.[262] Как говорили в Артуре, Фок получил задание: имея пять полков, как можно дольше задержать японцев, чтобы дать возможность закончить самые необходимые укрепления крепости. Фок действовал хладнокровно и цинично, как шахматист: он отдавал на съедение противнику передовую часть своих войск, не давая вовсе ей подкреплений. Так он пятился к Артуру около двух месяцев, раз за разом обрекая на гибель какую-то часть своей дивизии. По многим причинам, а прежде всего потому, что от него нельзя было ждать помощи в трудный момент, Фок был очень непопулярен в армии.[263]
15 мая в Порт-Артуре хоронили убитых в Кинчжоуском бою (тех, кого смогли вынести). На нескольких подводах привезли 43 пропитанных кровью парусиновых мешка и сложили в общую могилу. Люди крестились и вздыхали: «Когда же придёт Куропаткин?»[264]
После Кинчжоу пришлось спешно оставлять Дальний. Подвод на всех не хватило. Простые обыватели, захватив самые необходимые вещи, шли в Порт-Артур пешком, чтобы хлебнуть горя и там. Когда поднялись на перевал, в вечерних сумерках увидели зарево над оставленным городом. Это горел военный вокзал, только что построенный. Затем послышались взрывы.[265] Однако ни портовые сооружения, ни склады полностью разрушить не успели, и они попали в руки неприятеля.
Несколько дней, до прихода японцев, Дальний был в руках разбойничьих шаек (хунхузов). Они грабили лавки и частные дома, ночевали в роскошных отелях, устроили множество пожаров. Когда пришли японцы, грабители превратились в мирных торговцев. В китайских лавках русские товары потеснили традиционную китайскую экзотику, а лучшие сорта шампанского, которое китайцы приняли за содовую воду, шли за сущую мелочь. И лишь необычный интерес покупателей к этому напитку вызвал у торговцев подозрение и заставил взвинтить цены.[266]
«Вот придёт Куропаткин» – эта фраза не сходила с уст не только простых портартурцев, но и начальников. Поначалу казалось, что осада продлится недолго, а потом набравшаяся сил Маньчжурская армия сбросит неприятеля в море. Стессель, правда, не был уверен, что Порт-Артур продержится и месяц. От имени командующего Квантунским укреплённым районом в штаб Маньчжурской армии и к наместнику шли панические депеши с мольбой о скорейшем спасении.
Алексеев и Куропаткин вняли, наконец, этим призывам и отправили на выручку Порт-Артура корпус генерала Г. К. Штакельберга. Правда, Куропаткин пожадничал и дал ему 32 батальона вместо 48. 1–2 июня близ железнодорожной станции Вафангоу произошло сражение этого корпуса с превосходящими силами японцев. Штакельберг едва не попал в окружение и отступил, не прорвавшись к Порт-Артуру. Осаждённая армия в эти дни вела себя пассивно, видимо, не зная о происходивших событиях. И только «Новик» и оба отряда миноносцев 1 июня выходили в море для обстрела неприятельских береговых позиций.[267]
Не только население Порт-Артура, но и командование гарнизона и эскадры было плохо осведомлено о положении дел на маньчжурском театре военных действий. Поэтому успокоительные телеграммы из штаба наместника понимались буквально. 25 мая Витгефт собрал совещание адмиралов и командиров больших кораблей («флагманов и капитанов», как говорили тогда). Перед ними был поставлен вопрос: надо ли эскадре сделать попытку прорваться во Владивосток? Большинство высказалось в том смысле, что выход бесполезен и опасен: суда подорвутся на минах, будут потоплены сильнейшим врагом, а крепость лишится судовой артиллерии и нескольких тысяч защитников. За выход эскадры подал голос только командир «Севастополя» Н. О. Эссен.[268] Витгефт тоже был против попыток прорыва. Он считал, что Порт-Артур – это главный приз войны. Если эскадра уйдёт, крепость вскоре падёт. Вполне возможно, что в глазах адмирала ценность Порт-Артура даже превышала ценность эскадры.
Мнение флагманов и капитанов было сообщено Алексееву и вызвало с его стороны горячие возражения. Наместник считал, что флот имеет свои специфические задачи: действовать на морских коммуникациях противника, стараясь отрезать от базы снабжения действующие в Маньчжурии войска. Если Порт-Артур падёт, эскадра будет почти задаром отдана противнику. А после Вафангоу деблокирование крепости стало проблематичным.
Из штаба наместника в Порт-Артур поступали сведения, что после майских событий японский флот сильно ослаблен, так что русская эскадра в настоящий момент явно сильнее.[269] Под давлением Алексеева выход был назначен на 10 июня. Газета «Новый край» красочно описывала это событие: «Ночь звёздная. Полная тишина на рейде. Артур спал своим обычным чутким сном. Прекратилась всякая езда, и спокойствие ночи нарушалось лишь редкими окриками часовых на вахте… Но вот раздались на одном из судов свистки боцманских дудок. Их повторило и другое судно. Повторила затем и вся эскадра: „Команде вставать!“ Было 3 часа ночи».[270]
Однако выход эскадры затянулся до 9 часов утра, а потом обнаружилось, что на внешнем рейде множество мин. Пока их вылавливали, солнце прошло через зенит. А вскоре после того, как двинулись в путь, впереди обрисовались силуэты японских кораблей. Когда сблизились примерно на 45 кабельтовых, окончательно убедились, что в общем числе боевых кораблей русская эскадра уступает неприятельской. Правда, под командованием Витгефта было пять броненосцев, а у Того – четыре. Но по числу броненосных крейсеров соотношение было четыре к одному в пользу японцев, не говоря уже о миноносцах, которых было видимо-невидимо. К тому же с некоторых русских кораблей было снято много пушек и передано на береговые позиции.
Эскадры не открывали огня. Поколебавшись, Витгефт дал приказ возвращаться в Артур. На обратном пути, когда стало уже темнеть, русская эскадра подверглась яростной атаке японских миноносцев. Они не отступили даже тогда, когда флот вошёл под защиту береговых батарей. Атаки продолжались всю ночь, пока флот стоял на якоре, ожидая прилива. Но все усилия миноносцев оказались тщетными. Эскадра уже научилась от них отбиваться. Артиллеристы утверждали, что они потопили несколько миноносцев. По японским источникам, были сильно повреждены три миноносца. Утром эскадра в полном составе вернулась в гавань. Пострадал лишь «Севастополь», наткнувшийся на мину. Его отправили в ремонт.[271]
В середине июня, когда начались летние проливные дожди, японцы перешли в наступление. Теперь ими командовал боевой генерал, суровый воин, барон Ноги Маресуке. 13 июня для обстрела русских позиций к берегу подошли один лёгкий крейсер и 10 миноносцев, а на горизонте виднелись пять больших кораблей. Крейсеры «Новик» и «Всадник», три канонерские лодки и 14 миноносцев вышли в море и отогнали японские суда. Большие же корабли не рискнули приблизиться, опасаясь мин.[272] Генерал Фок продолжал медленно отступать к Артуру. Была оставлена гора Куинсан, защитники которой не получили подкрепления. Потом спохватились: гора господствовала над портом Дальним, а кроме того, с неё открывался прекрасный вид и на русские позиции. 20 июня части порт-артурского гарнизона перешли в наступление, чтобы отбить гору. Сначала, по наивности, шли с музыкой и знамёнами. Потом прибегли к тактике внезапных ночных атак. Всё было тщетно. Японцы успели хорошо укрепиться, и даже артиллерия крейсера «Новик» и обоих миноносных отрядов не смогла сбить их с вершины. Бои за Куинсан обошлись очень дорого русским войскам и закончились безрезультатно.[273] Японцы возобновили наступление. 17 июля, после тяжёлых боёв, они подошли к передовым укреплениям Порт-Артура.
Стессель продолжал слать панические телеграммы, и это производило плохое впечатление на Куропаткина. Именно на Стесселя он возлагал ответственность за неудачу поспешной и недостаточно подготовленной экспедиции Штакельберга. После одной из таких телеграмм Куропаткин сделал наместнику представление об удалении Стесселя из Порт-Артура. Алексеев запросил мнение Витгефта. «По совести считаю, – отвечал адмирал, – что у генерала Стесселя нет твёрдой уверенности в имеемых средствах, быстро меняет убеждения, настроение под влиянием обстановки и окружающих лиц. Авторитетен лишь в силу старшинства». Получив этот отзыв, Куропаткин направил Стесселю телеграмму: «Так как Ваше командование укреплённым районом окончилось и Вы вошли в крепость, то… предлагаю Вам сдать… командование крепости коменданту её и прибыть выбранным Вами путём, например, на миноносце, в Маньчжурскую армию, где при первой возможности Вы займёте положение командира корпуса». Одновременно на имя коменданта Порт-Артура генерал-майора К. Н. Смирнова была послана телеграмма, в которой, для сведения, воспроизводился текст телеграммы Стесселю.
Обе телеграммы попали в руки и. о. начальника штаба укреплённого района полковника В. А. Рейса. Он доложил о них Стесселю, а потом приказал штабным офицерам считать их неполученными и никому о них не говорить.
Куропаткин ещё раз повторил телеграмму, а 19 июня послал Стесселю предписание сдать все дела и прибыть в Маньчжурскую армию. Стессель снова не подчинился, доказывая в ответном письме, что его удаление вредно отзовётся на обороне Порт-Артура. Куропаткин на письмо не ответил и больше не настаивал на отъезде Стесселя. А Смирнов до конца осады ничего об этом не знал.[274]
Таким образом, в штабе укреплённого района возник своего рода заговор, и Стессель, человек и без того внушаемый, попал в зависимость от Рейса, своего сообщника. Рейс, возможно, уже тогда в душе был капитулянтом, хотя до поры до времени этого не обнаруживал.
Пока фронт приближался к Порт-Артуру, город опоясывался спешно возводимыми укреплениями, которые смыкали в сплошную линию прежний пунктир недостроенных сооружений. За несколько месяцев на сухопутном фронте была проделана более значительная работа, чем за предыдущие шесть лет. Некоторые из вновь построенных долговременных и полевых укреплений не были предусмотрены прежним проектом.[275] Работой руководил начальник сухопутной обороны генерал-майор Р. И. Кондратенко. В период последних боёв перед плотной осадой крепости к нему фактически перешло руководство военными действиями на суше. В критические моменты он, случалось, сам вёл войска в атаку. С этих пор он стал душой обороны крепости. Ему долго сопутствовало необыкновенное везение. Однажды на передовой позиции разорвавшимся японским снарядом были убиты командир батареи и его помощник, а стоявший в нескольких шагах от них Кондратенко остался невредим.[276] Судьба словно берегла его, чтобы дать возможность раскрыться его яркому военному дарованию. Дарованию, которое так неожиданно заблистало в Порт-Артуре и затем вдруг в одночасье погасло.
В воскресенье, 25 июля, после литургии в порт-артурской церкви, духовенство и многочисленные миряне совершали крестный ход. Процессия прошла по Бульварной, Набережной и Пушкинской улицам на городскую площадь. Здесь началось молебствие о даровании победы. И когда народ преклонил колени, вдруг раздался свист пролетающих снарядов. Это была первая бомбардировка Артура с сухопутного фронта. Она не вызвала паники. Только матери с детьми торопливо поднялись с колен и, боязливо озираясь, заспешили по домам, наивно надеясь, что под черепичными крышами можно спастись от японских фугасов.[277]
С этого времени бомбардировки происходили почти каждый день, в основном по Старому городу и порту. Закрылись многие магазины, даже аптеки. Холостым и оторванным от семьи людям стало негде обедать. В дневнике петербургского рабочего П. Ф. Дылевского приводится характерная сценка в ресторане «Саратов»: «Когда я допивал бутылку кваса, рядом [на улице] разорвался снаряд. Хозяин спросил: „Вы что же, будете обедать до тех пор, пока снаряд не разорвётся на тарелке?“ В это время у самой двери разорвался очередной снаряд. Окна и двери вылетели вон».[278] В порту разлетались в щепки и вдребезги штабеля со смирновской водкой. К разбитым ящикам и растекавшейся зазря живительной влаге отовсюду сбегались солдаты, матросы и рабочие, пренебрегая опасностью со стороны японской артиллерии и портовых патрулей. Людей можно было понять, ибо с начала войны Стессель объявил в городе сухой закон, сделав исключение лишь для господ офицеров. Так что в ход пошёл уже мебельный и паркетный лак, из которого умельцы научились извлекать спирт.[279]
Обстрел города и порта в это время вёлся почти вслепую. Но поскольку корабли в гавани стояли тесно, то начались попадания и в них. Один снаряд разметал всю мебель в боевой рубке флагманского броненосца «Цесаревич». Витгефт, в этот момент находившийся там, чудом остался жив и был слегка контужен. После этого он перебрался в рулевое отделение под броневой палубой.[280]
Господствующие высоты находились ещё в руках русских, и ответный огонь корабельной артиллерии был прицельным. Как говорили, на японских солдат наводили ужас разрывы 12-дюймовых снарядов с русских броненосцев.
Около 26 июля Витгефт получил от наместника категорический приказ, подкреплённый ссылкой на волю императора, идти на прорыв во Владивосток. «Напоминаю, – писал Алексеев, – Вам и всем начальствующим лицам подвиг „Варяга“ и что невыход эскадры вопреки высочайшей воле и моим приказаниям и гибель её в гавани в случае падения крепости лягут… неизгладимым пятном на Андреевский флаг и честь родного флота».[281] После этого было принято окончательное решение, и Витгефт быстро и хорошо провёл подготовку, забрав, вопреки сопротивлению сухопутного начальства, с позиций на корабли почти всю позаимствованную артиллерию.
Витгефт неоднократно говорил, что он не собирался и не готовился быть флотоводцем, предпочитая штабную и научную работу.[282] Но когда судьба указала на него, он не пытался уклониться от ответственности или отсидеться. Витгефт был человеком долга и фаталистом. А потому перед отплытием ответил с суровой решимостью на чьё-то пожелание доброго пути: «Нечего желать, я убеждён, что меня убьют».
Многие советовали выйти с ночи, чтобы проскочить мимо главных сил неприятеля, базирующихся в Дальнем и Чемульпо. Витгефт отклонил этот совет, сказав, что он гораздо больше боится заградительных мин, чем неприятельских кораблей. Действительно, ночью было гораздо трудней идти точно вслед за тралами, и один или два корабля могли подорваться.[283] Очевидно, Витгефт не хотел ослаблять себя перед боем, который считал неизбежным.
Выход эскадры был назначен на 28 июля. Накануне снова был сильный обстрел, и «Ретвизан» получил большую пробоину. Её наскоро заделали железным листом, который оказался маловат и держался ненадёжно. «С такой негодной затычкой броненосец был в бою 28 числа», – писал Колчак.[284]
Стало известно, что с эскадрой пойдут миноносцы первого отряда, а второй будет конвоировать тралящий караван и вместе с ним вернётся в Артур. Накануне выхода Колчак зашёл на «Бесшумный» к Бегичеву, и они попрощались.[285] Больше они, наверно, не виделись. Жизнь развела, и закончилась дружба между офицером и боцманом. В своих воспоминаниях Бегичев не сказал о Колчаке ни одного плохого слова, несмотря на то, что писались они уже в советское время.
Около двух часов ночи эскадра начала выходить. В 7 часов неприятель начал бомбардировку из полевых орудий, но в это время большинство судов было уже на рейде. Заметив их на рассвете, японские миноносцы помчались с докладом к начальству.
В половине девятого эскадра направилась в море. Впереди шли землесосы, пароходы и катера с тралами. Их конвоировал второй отряд миноносцев, а также канонерские лодки «Бобр» и «Гремящий». Пройдя около десяти миль, адмирал отпустил тралящие суда вместе с конвоем.
Эскадра скрылась из виду. Конвой, проводив тральщиков до входа в гавань, отправился в бухту Тахэ обстреливать неприятельские позиции. В опустевшей порт-артурской гавани из больших кораблей остался лишь «Баян», незадолго до выхода эскадры наскочивший на мину.[286]
Город как бы осиротел, а особенно ожесточённая бомбардировка в этот день усиливала чувство обречённости. О судьбе эскадры не поступало известий вплоть до утра.
На рассвете 29 июля с наблюдательных постов увидели на внешнем рейде «Ретвизан», «Севастополь», «Пересвет», «Палладу» и один миноносец – им оказался «Бойкий». Позднее подошла «Победа» с двумя миноносцами. Когда они прошли в гавань, портартурцы заметили, что корпуса кораблей зияют пробоинами, трубы в дырах, мачты побиты. Стали свозить на берег убитых и раненых. Среди последних Колчак мог увидеть своего однокурсника лейтенанта Александра Рыкова, у которого была оторвана нога. Где «Цесаревич», «Аскольд», «Диана», «Новик» и остальные пять миноносцев, никто не знал. Разнёсся слух, что адмирал Того убит.[287] Это немного поддержало дух портартурцев, хотя слух оказался ложным.
* * *
Вскоре после боя 28 июля Колчак завёл тетрадь в чёрном клеёнчатом переплёте, в которую время от времени записывал свои наблюдения и размышления. Порт-артурская тетрадь Колчака вместила в себя две пространные записки («О действиях артиллерии во время обороны Порт-Артура» и «Бой 28 июля»), несколько мелких заметок и, наконец, дневник последних двух месяцев осады, озаглавленный автором «Батарея Скалистых гор».[288]
В первой из этих записок затрагиваются вопросы сугубо военно-технические. Колчак описывает, по рассказам и собственным наблюдениям, действие японских снарядов – бронебойных и фугасных, причём о первых высказывается критически, а вторые считает очень эффективными. Изучив направление разлёта их осколков, он пишет, что при ударе о твёрдый предмет масса осколков летит назад, при взрыве в мягком грунте – в основном вперёд. А при взрыве о воду направление разлёта угадать трудно. Однажды, сообщает Колчак, он сидел в шлюпке, когда над ней пролетел шестидюймовый снаряд и ударился о воду на расстоянии одной сажени. И ни один из осколков не попал ни в шлюпку, ни в людей на её борту.[289]
Записку о сражении в Жёлтом море 28 июля 1904 года Колчак написал со слов очевидцев. На таком же источнике построен рассказ об этом событии в книге М. Бубнова. С. Н. Тимирёв, старший штурман на «Победе», писал по собственным впечатлениям. Если основываться на их рассказах (с привлечением некоторых других источников), то получается картина, несколько отличающаяся от официального описания Исторической комиссии Морского генерального штаба, составленного на основании рапортов командиров кораблей.
Отпустив тральщики и миноносцы второго отряда, адмирал Витгефт поднял сигнал: «Флот извещается, что государь император приказал идти во Владивосток». Это означало, что приказание должно быть выполнено во что бы то ни стало.
Вскоре на горизонте показались японские броненосцы, спешившие на перехват русской эскадры. Позади них темнели силуэты японских крейсеров. Подсчитывая боевую мощь главных сил обеих сторон, Колчак отмечал, что если исходить из общепринятых коэффициентов, то силы были равны. Но на деле, писал он, равенства не было, так как на русскую эскадру с сухопутного фронта вернули не всю артиллерию. Очень много осталось на берегу шестидюймовых орудий. В общем, делал вывод Колчак, преимущество японской эскадры складывалось на величину одного первоклассного крейсера.[290]
Витгефт приказал эскадре построиться в три кильватерные колонны – миноносцы, крейсеры и броненосцы. Командующий, видимо, считал важным сохранить движение по заданному курсу. Колчак, со свойственной ему резкостью, назвал такое решение бессмысленным. Поскольку неприятель оказался в голове колонны броненосцев, то концевым кораблям стрелять по нему было крайне неудобно, и они вынуждены были немного выходить из линии. Авторы официального описания боя тоже считали, что тактика Витгефта «отвязаться» от неприятеля и уйти своим путём была неудачна, поскольку эскадра не имела преимущества в ходе. Лучше было бы, наверно, принять какой-то другой боевой порядок и сражаться наступательно, а не убегая.
Сражение началось, когда расстояние до флагманского корабля «Микаса» сократилось до 70 кабельтовых. Витгефт приказал стрелять по «головному» – по «Микасе». Через мгновение около броненосцев вода закипела от множества рвущихся снарядов. «Благодаря чудной погоде и мёртвому штилю, – вспоминал Тимирёв, – картина получилась очень красивая: корабли казались как бы опоясанными кипящим и пенящимся морем».
Первый бой продолжался полтора часа. Японцы пересекли линию курса нашей эскадры, перешли на правую сторону и постепенно удалились, следуя на соединение со своими крейсерами. Витгефт дал сигнал: «Команда имеет время обедать» – и запросил о повреждениях и потерях. Серьёзных повреждений не оказалось, потери были небольшие.[291]
В этот день, с самого выхода в море, адмирал Витгефт всё время был на мостике. В самом деле, как руководить плаванием и боем, находясь под бронированной палубой?! Когда начался бой, ему предложили перейти в боевую рубку. Адмирал отвечал, что там и без него тесно. И не может он перейти сам, а штаб оставить на мостике. Тогда его попросили подняться на верхний мостик, куда меньше залетало осколков. Витгефт сказал, что всё равно, где помирать.[292] Когда японцы вышли из боя, «Цесаревич» увеличил ход до 14,5 узла. «Севастополь» и «Полтава» стали отставать. Оба были тихоходы, а на «Полтаве» к тому же существовали проблемы с одной из машин. Японцы, догоняя нашу эскадру, стали стрелять по концевым броненосцам. «Полтава» открыла ответный огонь, не дожидаясь приказа. Второй бой начался около 4 часов пополудни.[293]
С. Н. Тимирёв вспоминал, что «японцы стреляли хорошо, но целились слишком высоко, видимо, желая сбить боевые рубки». Поэтому больше всего страдала верхняя часть кораблей – трубы, мачты и мостики. Выяснилось одно важное преимущество японской артиллерии: неприятельские снаряды при взрыве давали большое облако чёрного или желтовато-бурого цвета. Видя попадание своих снарядов, японцы хорошо корректировали стрельбу. Русские же снаряды давали лёгкое малозаметное облачко, которое быстро рассеивалось.
Когда эскадры, шедшие параллельными курсами, сблизились до 30 кабельтовых, бой закипел с особой силой. Японцы сосредоточились на «Цесаревиче» (флаг Витгефта) и «Пересвете» (флаг Ухтомского). «Цесаревич» временами вообще исчезал в облаках дыма. Русские броненосцы стреляли по «Микасе». Было замечено, что японский флагманский корабль ослабил огонь. Из крупных орудий у него теперь стреляло одно шестидюймовое. «Убеждаясь, что все наши суда, – вспоминал Тимирёв, – несмотря на наружные многочисленные повреждения, продолжают прекрасно держаться в строю, нисколько не отставая, японский же огонь начинает несколько ослабевать, мы уже начинали радоваться, что, благополучно выдержав 5-часовой почти непрерывный бой, удачно выполнили задачу и можем без помехи продолжать свой путь; подъём духа среди команды и офицеров дошёл до своего апогея – и тут-то произошло событие, сразу изменившее наше положение».[294]
Шедший головным «Цесаревич» вдруг повернул налево. «Ретвизан», следовавший за ним, сначала тоже повернул. Но «Цесаревич», продолжая поворот, направился прямо в борт «Победе», которая должна была уступить дорогу. Все броненосцы, за исключением «Цесаревича», застопорили машины и сбились в кучу. Флагманский корабль прекратил, наконец, циркуляцию и поднял сигнал, всех озадачивший: «Адмирал передаёт командование». Было около 6 часов вечера.
Как потом узнали, на «Цесаревиче» произошли драматические события. В начале шестого часа 12-дюймовый японский снаряд разорвался между верхним и нижним мостиками. Тело адмирала Витгефта обнаружено не было, нашли только ногу. Убито было ещё несколько офицеров штаба. Командир корабля капитан 1-го ранга Иванов решил пока не сообщать о случившемся и повёл эскадру прежним курсом. Но не прошло и часа, как в рубку залетел снаряд и убил рулевого, который в это время, чтобы немного выправить курс, дал право руля. Никем не управляемый броненосец стал делать ту самую циркуляцию, которая расстроила эскадру. Раненый командир корабля, находясь, видимо, не в себе, ушёл, ни о чём не распорядившись. Положение восстановилось, когда вышли из шока лейтенанты Д. В. Ненюков и В. К. Пилкин, которые наладили управление кораблём. Потом в рубку пришёл старший офицер Д. П. Шумов, взявший командование на себя и приказавший известить эскадру о том, что командующий выбыл из строя.[295]
Есть сведения о том, что адмирал Того в шестом часу вечера намеревался выйти из боя. «Микаса» был сильно повреждён, а запас снарядов за несколько часов интенсивного огня сильно уменьшился. Выше уже приводилось свидетельство Тимирёва, что неприятельский огонь начал ослабевать. Бубнов к этому добавляет, что расстояние до японской эскадры стало увеличиваться: неприятель постепенно уходил в сторону.[296] Видимо, какие-то распоряжения Того уже отдал. Но, видя возникшее в русской эскадре замешательство, он изменил решение. Японцы, как говорится в записке Колчака, начали охват русской эскадры, намереваясь расстрелять сбившиеся в кучу корабли. Однако эта попытка была пресечена смелым маневром «Ретвизана». Броненосец пошёл прямо на японский флагманский корабль, явно намереваясь его протаранить. Японцы, видимо, несколько растерялись, потому что их снаряды в этот момент дали перелёты. Получив два залпа из носовой и кормовой башен «Ретвизана», «Микаса» стал уклоняться в сторону, а за ним последовали другие японские корабли. «Ретвизан» же повернул назад и вернулся к своим броненосцам.
После Витгефта командование должно было перейти к Ухтомскому. Но из-за того, что на «Пересвете» были перебиты все снасти (фалы) на мачтах, новый командующий долгое время никак себя не обнаруживал. Наконец по наружным сеткам мостика на «Пересвете» растянули сигнал «Следовать за мною». Но это мало кто заметил. «Ретвизан» уже занял место головного и взял курс на север, в Порт-Артур. «Пересвет» покорно последовал за ним, а вслед за ними – другие броненосцы и крейсер «Паллада».[297] Когда «Паллада» проходила мимо «Севастополя», Н. О. Эссен спросил В. М. Сарновского, согласен ли он следовать вместе с ним во Владивосток. Командир крейсера отвечал, что эскадра идёт в Артур и надо идти вместе с ней.[298] Пробиваться во Владивосток в одиночку Эссен не решился, тем более что броненосец был тихоходный.
Дважды становясь во главе эскадры в критические моменты (после гибели Макарова и Витгефта), Ухтомский в том и другом случае пускал дело на самотёк. Тимирёв писал о нём, что это был человек храбрый, но «всему флоту была известна его полная неспособность к чему бы то ни было». А Эссен отмечал, что князь «был всегда особенным противником активных действий».[299]
Утром 28 июля, выходя в море, Витгефт дал сигнал: «В случае боя начальнику крейсеров действовать по усмотрению».[300] Командующий, возможно, имел в виду, что крейсеры, в случае неудачного исхода боя, могли бы попробовать самостоятельно прорваться во Владивосток. В критический момент сражения контр-адмирал Н. К. Рейценштейн вспомнил этот приказ и истолковал его по-своему. Он начал перестроение своего отряда, переходя на другую сторону броненосцев. Колчак писал, что «Аскольд» «метался, как сумасшедший, угрожая больше всего нашим миноносцам».[301] За «Аскольдом» пошли «Новик» и несколько миноносцев. «Диана» одно время следовала за эскадрой, потом тоже присоединилась к «Аскольду». Крейсеры с боем прорвались сквозь строй японских кораблей, но затем «Аскольд» и «Диана» повернули не во Владивосток, а на юг.
«Аскольд», в сопровождении одного из миноносцев, дошёл до Шанхая. По международным правилам корабль одной из воюющих сторон мог оставаться в нейтральном порту не более суток. Иначе его следовало интернировать до конца войны. В русской колонии Шанхая говорили, что командование крейсера нарочно затянуло починку, чтобы досрочно закончить военную кампанию.[302]
«Новик», единственный, кто пытался проскочить во Владивосток, встретил у берегов Сахалина два японских крейсера и вступил с ними в бой. «Новик» был сильно повреждён и затоплен своей командой, которая сошла на берег.[303] «Диана» дошла до Сайгона и даже успела заправиться углем, но осталась там по распоряжению из Петербурга. Три миноносца, в том числе «Бесшумный», были интернированы в Киао-Чао. Один из миноносцев разбился у берегов Китая.
На «Цесаревиче» офицеры решили идти во Владивосток. Броненосец отбился от атак миноносцев и миновал мыс Шантунг (Шандунь). Ночью очнулся раненый командир Иванов и приказал идти в Киао-Чао.[304]
Броненосцы, возвращавшиеся в Порт-Артур, ночью были атакованы миноносцами, но отбились от них без потерь. В издании Исторической комиссии Морского генерального штаба отмечается «неэнергичное использование японцами результатов окончившегося в их пользу сражения». Видимо, японская эскадра была сильно повреждена и Того удовлетворился тем, что загнал противника обратно в Порт-Артур. С его стороны это, конечно, было проявлением ведомственного эгоизма: уничтожение флота силами сухопутной армии должно было стоить ей огромных потерь.
Очень веско звучит общий вывод комиссии: «В этом бою ни мы, ни японцы не потеряли ни одного судна, что свидетельствует о том, что не материальные результаты боя определили исход его, ибо потери и повреждения были почти равны, а причина неудачи нашей эскадры коренилась в неудовлетворительном командовании ею». Тимирёв ещё более решительно утверждал, что сражение в Жёлтом море закончилось «столь печально и бесплодно для нас главным образом по вине тех, которые допустили командовать эскадрами на Востоке совершенно не подготовленных к этой роли адмиралов или же бездарных и неспособных».[305]
Впоследствии все командиры кораблей, даже не очень задетых в бою (за исключением Эссена), приводили в рапортах самые разнообразные доводы, доказывая, что идти во Владивосток им было никак невозможно. Но многие офицеры не столь высоких чинов считали иначе. Тимирёв писал, что все суда, даже сильно повреждённые, могли дойти до Владивостока при следующих условиях: полный штиль (даже при небольшом волнении масса воды должна была влиться в расположенные очень низко пробоины и увлечь судно на дно), малый ход (повреждённые трубы давали слабую тягу) и отсутствие преследования (на судах оставался запас снарядов примерно на 40 минут боя).[306] На японских кораблях снарядов было, наверно, не больше: они вели более интенсивную стрельбу. Море в этот день было на редкость тихим. А по мере расходования угля бортовые пробоины должны были подниматься над водой всё выше. Размышляя об этом дне упущенных возможностей, М. Бубнов писал: «Если бы командир броненосца „Ретвизан“ вместо Артура отправился во Владивосток, то и вся эскадра последовала бы за ним, так как адмирал князь Ухтомский не обнаружил какой-либо своей деятельности, а из этого ничего не могло бы произойти хуже того, что постигло затем вернувшиеся суда».[307]
В дальнейшем из всех командиров кораблей, участвовавших в сражении, только Эссен продолжал активную службу и делал карьеру. Другие, в том числе командир «Ретвизана» Э. Н. Щенснович, сыгравший тогда такую неоднозначную роль, получали очередные звания, но не назначались на ответственные должности. Это было довольно мягкое наказание за неисполнение приказа императора.
* * *
В конце июля, воспользовавшись тем, что с сухопутного фронта на корабли были возвращены десанты и морские орудия, японцы начали сжимать кольцо осады. Им удалось захватить ряд важных высот. Бои на отдельных участках фронта продолжались и в начале августа. В проливной дождь японские солдаты, сбросив мокрую одежду и схватив в руки оружие, бежали в атаку почти голыми. На 6 августа генерал Ноги назначил общий штурм крепости.
Японское командование исходило из заниженной оценки численности гарнизона и ошибочного предположения о слабости Восточного фронта обороны крепости сравнительно с Западным. Поэтому на Западный фронт наносился отвлекающий удар, а на Восточный – основной.
Штурм продолжался с 6 по 11 августа. В итоге на Западном фронте японцам удалось захватить имеющие важное стратегическое значение горы Угловая и Панлуншань, а на Восточном – два выдвинутых вперёд небольших редута. За эти скромные достижения японское командование заплатило страшную цену – около 20 тысяч убитых и раненых. Потери русских войск составили более шести тысяч человек.[308]
После этого японцы развернули сапёрные работы. Линия обороны русских войск была окружена сплошными траншеями, от которых в сторону противника отходили зигзагообразные ответвления («сапы»). Потом они постепенно сливались в новую линию. Так, «тихой сапой», японцы приближались к русским фортам и редутам. Это имело целью уменьшить открытое пространство, которое должна была преодолеть пехота перед атакуемыми позициями. Работы велись по ночам – днём русская артиллерия энергично им препятствовала. В некоторых местах окопы сблизились до десяти шагов, а бывало и так, что японцы и русские сидели в одном окопе, разделённом перемычкой. Тогда завязывалась беседа, обычно на русском языке, которому японцы охотно и быстро учились. Диалог начинался с взаимных призывов сложить оружие, а потом переходил на бытовые темы. Ни та, ни другая сторона не пытались прервать разговор швырянием бомбочек. Чувствовалась уже общая усталость от войны.
Позднее, в конце лета и осенью, это чувство стало ещё сильнее. Японцам теперь уже не казалось позорным сдаваться в плен. «Перевяжешь иногда в поле японца, – рассказывал русский военный врач, – а он потом спрашивает жестами, куда ему идти: в Артур или к своим? Ну я ему, понятно, и показываю жестами – иди, куда хочешь, так как сам я в плен не забираю. Некоторые, бывало, махнут рукой и идут в Артур».
Поздно осенью были отмечены небывалые в японской армии случаи – отказы идти в атаку целых подразделений.[309]
Артур бомбардировался почти весь август, зона обстрела всё более расширялась. Начали стрелять и по ночам. В городе спешно сооружались подземные блиндажи и убежища. Первым подал пример командир порта контр-адмирал И. К. Григорович. Для него был сооружён персональный блиндаж, из которого он, как утверждали злые языки, выходил не слишком часто. Григорович был выдвинут Макаровым, но это выдвижение многим казалось не очень удачным. В Артуре Григорович постоянно с кем-то ссорился. После подрыва «Севастополя» он обвинил Эссена в неумении управлять кораблём, и они остались в натянутых отношениях на всю жизнь.[310] Однако Колчак Григоровичу явно нравился, у них сложились ровные отношения, которые продолжались и позднее.
На рынке дорожали и исчезали продукты. Сначала исчезла рыба, потому что Стессель велел пробить днища у всех китайских лодок, чтобы искоренить шпионство. Потом не стало овощей. Подорожали яйца, молоко и особенно мясо. Началось поедание собак. «Собакамясо!» – кричали на рынке китайские торговцы. С осени стала распространяться цинга.[311]
Вскоре после возвращения в Порт-Артур командующий эскадрой князь Ухтомский созвал совещание флагманов и капитанов. Встал вопрос, делать ли новую попытку прорыва или отдать все силы обороне крепости. Большинство высказалось против попыток прорыва не только эскадры в целом, но и отдельных кораблей. Возражал лишь Эссен. Он считал, что суда далеко не выведены из строя и после исправления снова могут идти в бой. Ему возражали: «Ну выйдем, нас разобьют, а мы ничего не сделаем, только погубим нашу эскадру». Эссен отвечал, что не бывает того, чтобы «обе стороны не потерпели», неприятель всегда терпит, только скрывает свои потери; задача же эскадры максимально ослабить японский флот и осложнить его положение перед встречей со 2-й Тихоокеанской эскадрой.
Страсти, видимо, разгорелись не на шутку, если Ухтомский в запальчивости сказал Эссену: «У Вас слишком много прыти, Вам не броненосцем командовать, а миноносцем». Эссен позднее с горечью писал жене: «Мне с адмиралами своими пришлось немало повоевать: это хуже японцев – враги внутренние».[312]
После этого совещания началось быстрое разоружение кораблей и формирование морских десантов, посылаемых в самые опасные места сухопутной обороны. 24 августа был получен приказ о присвоении звания контр-адмирала командиру крейсера «Баян» Р. Н. Вирену и назначении его начальником порт-артурского отряда броненосцев и крейсеров (так стала называться порт-артурская эскадра). Князь Ухтомский остался не у дел и поселился на госпитальном судне.[313]
Высшее военно-морское начальство, видимо, возлагало на Вирена большие надежды, зная его как боевого командира. Но он решительно придерживался того мнения, что флот должен до конца защищать крепость и разделить её судьбу. «…Вирен, – писал о нём Тимирёв, – энергичный и храбрый командир, но слишком вспыльчивый и резкий; превосходный исполнитель, но (по-моему) недостаточно умён для самостоятельной роли». Примерно так же отзывался о нём Эссен: «Хотя и храбрый офицер, но, по-моему, недалёк».[314] Так что смена руководства не внесла перемен в судьбу порт-артурской эскадры.
Тем временем Колчак продолжал свою ежедневную, малозаметную ратную работу. Под его командой «Сердитый» тралил внешний рейд, дежурил в проходе, участвовал в обстреле неприятельских позиций, в постановке мин. По-видимому, Колчак, как в своё время командир «Амура» Иванов, облюбовал место, где ему хотелось поставить минную банку. В ночь на 24 августа «Сердитый» вышел в море для постановки мин, но наткнулся на три японских миноносца и вернулся, не сделав дела. На следующую ночь Колчак вновь вышел в море и на этот раз без помех поставил 16 мин в 20,5 мили от входа в гавань.[315]
27 августа, к удивлению многих, ни один японский снаряд не разорвался в городе. Затишье продолжалось вплоть до первых чисел сентября. Все вздохнули с облегчением. Поползли слухи, что ввиду больших потерь японцы снимают осаду.[316]
* * *
15 июня 1904 года крейсер «Громобой», из Владивостокского отряда крейсеров, потопил в открытом море японский военный транспорт «Хитачи-Мару», направлявшийся к Порт-Артуру. Кроме команды, потонуло более тысячи солдат и офицеров, а также 18 осадных гаубиц калибра 11 дюймов (280 миллиметров).[317] Вместо потонувших подкреплений армия Ноги вскоре получила новые, а с гаубицами произошла задержка, и это на несколько месяцев продлило жизнь Порт-Артуру и запертой в гавани эскадре.
Гаубица – орудие для навесной стрельбы по укрытым целям. Благодаря тому что гаубица может стрелять, очень высоко задрав жерло, её можно поместить в укрытие, недоступное для настильного артиллерийского огня. В военно-технических условиях начала XX века гаубицу могла поразить только гаубица. Морские суда не использовали гаубиц, а в распоряжении осаждённой армии их было очень немного, снарядов же к ним имелось очень ограниченное количество. Это и решило судьбу Порт-Артура и эскадры.
6 сентября японцы начали второй штурм Порт-Артура. Их удары были направлены против редутов Водопроводного и Кумирненского, они стремились также захватить горы Длинную и Высокую. Три первые точки обороны были захвачены, а на Высокой японцы укрепились в части окопа на вершине. Однако в ночь на 10 сентября в результате смелой атаки лейтенанта Н. Л. Подгурского они были оттуда выбиты.[318] Высокую на этот раз удалось отстоять.
Тем временем шло оборудование позиций 11-дюймовых гаубиц, прибывших в сентябре из Японии. Их устанавливали за сопками, в специально оборудованных углублениях. В дальнейшем особый вред причиняли гаубицы, установленные за горой Панлуншань, потерянной во время первого штурма в августе.
С середины сентября 11-дюймовые гаубицы вступили в действие. Японская военная техника не была безупречной, и значительная часть снарядов не рвалась. Но разорвавшиеся снаряды причиняли огромные разрушения. Попадая в корабли (при вертикальном полёте), они пробивали три стальные палубы, а в казематах – все бетонные перекрытия вплоть до нижнего этажа. В каменистом грунте снаряд зарывался на три метра в глубину. Превратить в Старом городе китайскую фанзу в кучу мусора мог снаряд и меньшего калибра. Но теперь сносилось чуть ли не полквартала.
Участились попадания в суда, стоявшие в гавани. Поэтому с 19 сентября канонерские лодки и миноносцы были переведены на бессменное дежурство у входа на внешний рейд. Изредка выходили ставить мины. Так, в ночь на 23 сентября вышел с этой целью в море «Сердитый», но из-за крупной зыби должен был вернуться, не выполнив задания. 28 сентября группа миноносцев, в том числе «Сердитый», вновь вышла в море и поставила мины под огнём японских крейсеров.
12 октября «Сердитый» вышел на внешний рейд для осмотра берегов бухты Тахэ, занятых неприятелем. На борту миноносца были генерал Кондратенко, адмирал Вирен и комендант крепости генерал Смирнов.[319] О чём совещались руководители обороны, Колчак, конечно, не знал, но боевое задание он выполнил безукоризненно. Иногда японцы начинали обстреливать то место у входа в гавань, где стояли миноносцы. Тогда приходилось выходить на внешний рейд. Служба на миноносце стала совсем однообразной. Когда стояли на обычном месте, Колчак мог видеть пожары в городе, поднимающиеся к небу клубы дыма, а далее, в горах, – маленькие огоньки, вспыхивающие и быстро гаснущие. Это рвались снаряды на передовых позициях. И Колчак, наверно, думал, что снова он не в гуще событий, не там, где решается судьба битвы, не там, где он должен быть. И он подал рапорт с просьбой перевести его на сухопутный фронт, где уже воевали многие его друзья. Колчак командовал «Сердитым» до 18 октября, а затем поступил в распоряжение командира Порт-Артурского порта контр-адмирала Григоровича для назначения на сухопутные позиции.
Кровавая жатва
4 ноября было солнечно, с небольшим морозом. Прошедший накануне снег прикрыл в Старом городе мусорные кучи на месте домов. При свете заходящего солнца они окрашивались в розоватые цвета. Время от времени со свистом пролетали снаряды и ухали взрывы. Пройдя через притихший и сильно опустевший город (население Порт-Артура сократилось более чем вчетверо, особенно много уехало китайцев), Колчак поднялся в горы, на правый фланг обороны. Уже поздно вечером он разыскал Скалистую гору, где размещалось несколько артиллерийских батарей и куда он был назначен.
С первого же взгляда можно было заметить, что матросы и офицеры на сухопутных позициях имели далеко не флотский вид. Чёрные морские бушлаты, фуражки и бескозырки мало подходили к заснеженной местности, зимнему холоду и ледяному ветру. И вот на многих появились солдатские шинели, полушубки, папахи.
«Сегодня я перешёл на береговые позиции, покончив дело с флотом или, вернее, с эскадрой» – так начинается первая запись в порт-артурском дневнике Колчака, сделанная в блиндаже Скалистой импани.[320] Импань – это комплекс китайских казарм, обнесённый глинобитной стеной. А блиндаж представлял собой низкий подвал с бревенчатыми стенами, потолком и стойками. Пол – земляной. По стенам – нары, посредине – грубо сколоченный стол. Несколько свечей в бутылках освещали это убогое помещение, а согревалось оно маленьким камельком.
Прежде Колчака здесь поселились два офицера. Старший – лейтенант Александр Хоменко, бывший командир «Скорого», в паре с которым «Сердитый» не раз тащил трал и ходил на другие задания. Младший – 24-летний мичман Г. П. Круссер.
Наутро Колчак пошёл осматривать орудия на своём участке.
Артиллерийская позиция, на которой оказался Колчак, носила название «Вооружённый сектор Скалистых гор». Общее командование им осуществлял Хоменко. С фронта эта позиция прикрывалась Залитерной батареей, Большим Орлиным гнездом и линией передовых окопов. На вершине горы разместилась батарея из десяти 75-миллиметровых орудий под командой Круссера. Она обстреливала ближайшие тылы японцев, в том числе железную дорогу, которую они провели по периметру своих позиций.
Хозяйство самого Колчака оказалось сильно разбросанным. Две небольшие батареи из 47-миллиметровых пушек были поставлены на случай прорыва японских войск сквозь линию укреплений и фактически не использовались. На склоне небольшой горы стояло 120-миллиметровое орудие, которое вело перекидную стрельбу за линию сопок по определённым квадратам, а также по видимым удалённым целям. И наконец, недалеко от батареи Круссера стояла очень активно действующая батарея из двух 47-мм и двух 37-мм пушек. Она могла вести огонь по японским окопам, которые медленно, но верно вползали на гласис (земляную пологую насыпь) перед укреплением № 3 и приближались к форту № 3. Расстояние от Скалистых гор до укрепления № 3 составляло 800 саженей (1,7 километра).
Первый обход показал Колчаку, что 120-мм орудие хорошо прикрыто и японцам трудно его достать. А вот батарейка из четырёх орудий защищена плохо: брустверы не закрывают пушек, ненадёжны прикрытия от шрапнели.[321] В течение нескольких дней Колчак работал в основном на этой батарейке. Под его руководством матросы укрепляли бруствер и углубляли ходы сообщений. Велась также пристрелка по японским окопам. Снаряды из колчаковской батареи летели над несколькими передовыми батареями, а также и над штабом командующего фронтом генерала В. Н. Горбатовского. В случае недолёта можно было ударить по своим. На третий день после вступления в должность Колчак начал ставить на пушки ограничители, предотвращающие недолёты. Но именно в этот день, 7 ноября, японцы начали стрелять по Скалистым горам 75-мм снарядами. Осколки летели со всех сторон, и Колчак приказал матросам уйти в блиндаж, но ограничители всё-таки поставил.
В это же время неприятель начал обстреливать тяжёлыми снарядами укрепление № 3 и форт № 3. В 4 часа дня сильнейший ружейный и пулемётный огонь возвестил о том, что японцы двинулись на штурм этих позиций. В дневнике Колчака красочно описан этот первый сухопутный бой, в котором он участвовал:
«В пятом часу открыли огонь почти все японские и наши батареи; броненосцы стреляли 12-дюймовыми по Кумирненскому редуту. Через 10 минут сумасшедшего огня, сливавшегося в один сплошной гул и треск, все окрестности заволоклись буроватым дымом, среди которого совершенно не видны огни выстрелов и взрывания снарядов, разобрать ничего было нельзя;…среди тумана поднимается облако чёрного, бурого и белого цветов, в воздухе сверкают огоньки и белеют шарообразные клубы шрапнелей; корректировать выстрелы невозможно. Солнце тусклым от тумана блином зашло за горы, и дикая стрельба стала стихать. С моей батарейки сделали по окопам около 121 выстрела».[322] В этот день японцы прорвались до бруствера форта № 3, но были отброшены.
Потерпев неудачу, японцы возобновили сапёрные работы, всё ближе подбираясь к укреплениям. По просьбе сухопутного начальства Колчак приказал своим артиллеристам вести ночью редкий огонь (по одному выстрелу каждые полчаса) по японским окопам у укрепления № 3.
На несколько дней наступило затишье. Колчаковская батарея была усилена двумя старыми пушками, снятыми с лёгкого крейсера «Разбойник». Одна из этих пушек усилила огонь по японским позициям вблизи укрепления и форта № 3. 12 ноября на Скалистую гору приезжали генералы А. В. Фок и В. Н. Никитин (артиллерист). Осмотрели батарею 47-мм и 37-мм орудий и высказали сожаление, что не поставили её раньше: тогда вряд ли японцы подвели бы свои окопы на гласис укрепления № 3. Генералы уехали, а Колчак в бинокль наблюдал большое движение обозов и людей в направлении к Артуру. «Судя по всему, можно скоро ожидать штурма», – записал он в дневнике.[323]
На следующий день с раннего утра неприятель открыл огонь из тяжёлых гаубиц по фортам № 2 и 3. Затем подключились другие орудия, и к 10 часам утра, как отмечал Колчак, обстрел противника «дошёл до полной силы огня всей осадной артиллерии». Через полчаса начался штурм, и японская артиллерия перенесла огонь на вторую линию обороны. Японские снаряды попадали в большом количестве и на Скалистую гору, но, как записано в дневнике, «без особого эффекта».
С начала боя Колчак вёл огонь из 120-мм орудия по перевалу, где наблюдалось движение войск, а затем сосредоточился на укрытиях японских войск перед фортом № 3 и укреплением № 3. Туда же стреляли соседние батареи. На тыловые японские позиции обрушился огонь броненосцев. Вслушиваясь в отдельные партии этого адского оркестра, Колчак уловил, что ружейный огонь был сильнее с нашей стороны. Своим огнём в этом бою он остался доволен. «Наша прислуга у орудий действовала хорошо – я лично сдерживал их стрельбу».
Через десять минут после начала полномасштабной артиллерийской дуэли всё снова потонуло в облаках пыли и дыма. Корректировать стрельбу стало почти невозможно, приходилось стрелять по прежней наводке или наугад. В течение дня огонь то ослабевал, то усиливался. К заходу солнца всё стихло, но часа через два вновь послышалась сильнейшая перестрелка у форта и укрепления № 3 и у Курганной батареи. Колчак усилил огонь по окопам, но скоро всё стало стихать.[324]
Находясь на батарее, Колчак не мог знать всей картины боя. Из других источников можно узнать, что в этот день японское командование бросило на штурм укреплений правого фланга две дивизии. В середине дня, в разгар штурма, японцам удалось занять ряд передовых окопов у некоторых укреплений, но вскоре они были оттуда выбиты. В 9 часов вечера японцы прорвались между фортами и атаковали Курганную батарею, даже ворвались туда, но были остановлены и оттеснены. Затем во фланг им ударил морской десант, и остатки прорвавшегося отряда были отброшены.[325]
Общие потери японцев в этот день неудавшегося штурма, по подсчётам иностранных корреспондентов, составили около 12 тысяч человек (точных данных нет, потому что японцы всегда скрывали свои потери и вообще вели учёт только раненых). Особенно большие потери они понесли у Курганной батареи. Наутро там обнаружили 780 японских трупов. «В данном случае японские генералы и вся армия совсем потеряли голову, – писал о ночном бое английский корреспондент Э. Ашмед-Бартлет. – Они действовали, как зарвавшиеся игроки, которые, проиграв почти всё своё состояние, рискуя последней копейкой, решаются на отчаянную ставку в надежде отыграться».[326]
На следующий день с наблюдательного пункта Колчак видел, как с японских передовых позиций в тыл уходило множество повозок с ранеными. Все знали, что японцы злоупотребляют знаком Красного Креста, что в санитарных повозках они подвозят боеприпасы, а на носилках проносят их в окопы. Тем не менее русские артиллеристы не стреляли ни в повозки с Красным Крестом, ни в людей с носилками.[327]
В этот день, 14 ноября, японцы ещё пытались штурмовать форт и укрепление № 3, а на следующий день на правом фланге наступило затишье. Пройдя на самую боевую свою батарею, Колчак обнаружил её в «печальном виде». Вследствие усиленной стрельбы осыпались брустверы, покосились платформы, повредились ограничители. На эту же батарею подвезли ещё одну пушку, и весь день ушёл на установку нового орудия и исправление повреждений. Брустверы заново обложили мешками с землёй. (За недостатком нужного материала присылали мешки, сшитые из голландского полотна, бархатных скатертей, плотного шёлка – остатки былой порт-артурской роскоши и мишуры.) Между тем с наблюдательного пункта было видно, как от японских окопов всё ещё уходят повозки с ранеными, а гора Высокая на левом фланге окутывается облаками взрывов от тяжёлых снарядов и на ней поминутно рвётся шрапнель: «по-видимому, идёт подготовка к штурму».[328]
Действительно, сразу после неудачи 13 ноября японцы начали форсированную подготовку штурма на левом фланге, прежде всего – Высокой горы. Хотя сапёрные работы там ещё не были окончены, а потому надо было ожидать больших потерь. Японские генералы и в самом деле были похожи на азартных игроков. Для генерала Ноги особенно неприятно было то, что начальник штаба главнокомандующего маршала Оямы генерал Кодама и генерал Фукушима приехали к Порт-Артуру накануне 13 ноября и были свидетелями его конфуза. Генералы из Ставки торопили, а Ноги и сам жаждал скорейшего реванша.[329]
Штурм Высокой горы начался 15 ноября и продолжался неделю. Поднимающиеся колонны японцев натыкались на плотный артиллерийский и ружейный огонь, откатывались назад, оставляя горы трупов, а потом Высокая опять тонула в облаках дыма.
Кондратенко стягивал к Высокой все резервы, но перебросить их на гору стоило огромных потерь. Если переброска совершалась днём, то пополнение теряло до половины своего состава. Принять раненых с горы тоже было трудноразрешимой проблемой. «В бинокль ясно видны отдельные люди, – описывал свои впечатления один штабной офицер, – видно, как бегом тащат патронные ящики, как подбирают и несут раненых; видно, как бежит, бежит солдатик, да вдруг закачается, вскинет руки и упадёт; видно, как санитары, застигнутые пулей или осколком, падают вместе с раненым, которого уже несли на носилках, и этот несчастный катится по крутому склону прямо в овраг, под гору».[330]
Колчак попытался отвлечь на себя огонь одной батареи средних орудий. Но 120-мм пушка, из которой он начал по ней стрелять, была сильно расстреляна, и снаряды ложились не в цель. Вообще эта пушка доставляла Колчаку много огорчений. С наблюдательного пункта можно было видеть, как броненосцы пытались подавить батареи 11-дюймовых орудий. Колчак с сожалением отмечал в дневнике: «…Видимо, достать их настильными выстрелами нельзя: надо навесную стрельбу».[331]
Под вечер 17 ноября японским пехотинцам удалось зацепиться в окопе почти под самой вершиной. Но вскоре их изгнала оттуда собственная их артиллерия, которая начала гвоздить по окопу 11-дюймовыми снарядами.[332] В данном случае произошла явная ошибка. Но Колчак неоднократно отмечал размашистые действия японской артиллерии, которая не стеснялась задеть и своих.[333]
19 ноября через парламентёров договорились о перемирии для уборки трупов. Солдаты с обеих сторон, в основном из крестьян, собирали кровавый урожай со склонов Высокой и с других порт-артурских сопок. Иностранные журналисты в этот день получили возможность побывать на притихших полях сражений. В открытых глазах мёртвых японских юношей их поразило застывшее выражение любопытства и удивления. Генерал Ноги часто бросал в атаку свежие части, из новобранцев, ещё не познавших, что такое настоящая война, и бесстрашных по своей неопытности.
Японцы долго разыскивали тело какого-то офицера. Оказалось, что накануне был убит сын Ноги, служивший в штабе одной из дивизий. Это был второй его сын, павший под Порт-Артуром. Первый сын, командир роты, погиб на дальних подступах к крепости.[334]
В тот же день, на закате солнца, японцы вновь начали стрелять по Высокой. Наутро был штурм, который удалось отбить, но японцы закрепились на Высокой недалеко от вершины.
22 ноября, в ясный день с лёгким морозом, после яростной бомбардировки Высокой горы развернулся бой на её вершине. К вечеру японцы завладели вершиной. Попытки сбросить их оттуда оказались безуспешны. В одной из таких атак был ранен в грудь навылет мичман Б. А. Вилькицкий, сын известного полярного исследователя генерала А. И. Вилькицкого.[335]
В тот же день, ещё до окончания боёв на вершине, Колчак заметил огромное облако бурого дыма, поднявшееся за Перепелиной горой. Как оказалось, взорвался пороховой погреб на «Полтаве». После этого броненосец затонул в бассейне по верхнюю палубу.[336] Видимо, на Высокой у японцев появился корректировщик ещё до полного взятия вершины. Японское командование, опасаясь, что корабли уйдут из гавани, поспешило начать их расстрел.
С утра 23 ноября на внутренний рейд и порт обрушилась вся мощь тяжёлой японской артиллерии. Около броненосцев вырастали столбы воды высотой до пяти метров. Когда же снаряд попадал в судно или в берег, поднималось облако белого дыма. Почти все суда в этот день сильно пострадали, но затонул лишь «Ретвизан».[337]
Вечером в городе и с батарей были видны огромные костры на вершине Высокой. Говорили, что японцы жгут трупы своих солдат. Но жители воспринимали эту мрачную иллюминацию как предвестник окончательной гибели города.
День 24 ноября был облачный, мглистый, с морозом и редким снегом. В этот день сели на дно «Победа», «Пересвет» и «Паллада».[338] Затонувшие корабли спустили флаги. Наверно, в течение всей осады ничто не действовало на артурцев так угнетающе, как вид этих беспомощных гигантов, согнанных, как стадо, в тесную гавань и безнаказанно расстреливаемых.
В этот же день Колчак побывал на Большом Орлином Гнезде. Поднявшись на самую его вершину, оглядел открывшееся пространство, пересечённое ходами сообщения, брустверами с мешками, окопами и казавшееся безжизненным, но скрывавшее тысячи людей. С Большого Орлиного Гнезда Колчак перешёл на Малое, а потом побывал на передовых позициях у форта № 2. «Я задался целью высмотреть оттуда возможное место установки 11-дюймовых пушек, уничтоживших вконец нашу эскадру и составляющих силу, против которой мы не можем бороться…» Самих пушек ни с одной из высот не было видно, виден был только столб дыма от выстрела, и Колчак убедился, что достать их «можно только навесным огнём мортир, для которых у нас осталось мало снарядов».
На следующий день Колчак побывал на укреплении литера Б и вновь выходил на передовые окопы. Теперь ему удалось более точно рассмотреть, откуда стреляют эти пушки. «Я… могу указать квадрат их установки, – писал он в дневнике, – и если всадить в него 300 бомб из 11-дюймовых и 9-дюймовых мортир – то, конечно, пушки были бы уничтожены – но мы этого сделать не можем; если бы я увидел пушку, я мог бы корректировать и, вероятно, 15–20 снарядов было бы достаточно, чтобы её подбить». 26 ноября Колчак вместе с Хоменко сходил на батарею Крестовой горы, откуда стреляли из 10-дюймовой пушки по гаубицам у горы Сахарная Голова. Видимо, Колчак хотел поделиться с артиллеристами своими наблюдениями. О чём шёл разговор, он не записал. Отметил лишь, что стрельба по японским гаубицам ведётся, «кажется, безуспешно».[339] Действительно, ни одна из них так и не была подбита, хотя некоторые снаряды разорвались в опасной близости. Русским артиллеристам не хватило снарядов для навесной стрельбы и везения.
К 26 ноября почти весь порт-артурский флот был потоплен – за одним исключением. Командир «Севастополя» Н. О. Эссен давно добивался разрешения выйти на внешний рейд. Сразу после потери Высокой Вирен наконец дал разрешение. Трудность, однако, заключалась в громадном недостатке людей и пушек, задействованных на берегу. Вирен и тут сделал уступку: число матросов на корабле было доведено до 200 (вместо 625 по штату), а кроме того, на корабль вернули две пушки среднего калибра. Эссен надеялся прорваться на юг, на соединение с эскадрой 3. П. Рожественского, вышедшей из Кронштадта, но Вирен запретил уходить в море.[340]
Ночь с 25 на 26 ноября была тёмной. Теперь, после разгрома эскадры, японцы не очень бдительно стерегли Порт-Артур с моря. «Севастополь» вышел на внешний рейд, прошёл вдоль Лаотешаня и бросил якорь в бухте Белый Волк, где уже стояли канонерская лодка «Отважный» и уцелевшие миноносцы. Путь был открыт на все стороны, и только категорический приказ адмирала заставил Эссена остаться у Белого Волка.[341]
Наутро неприятель начал ожесточённо обстреливать тяжёлыми снарядами то место в бассейне, где прежде стоял «Севастополь», а он тем временем занимался постановкой сетевого заграждения от мин. Японцы обнаружили его в тот же день, и гаубицы с Панлуншаня пытались его достать, но безуспешно. После этого «Севастополем» занялись японские миноносцы. Четыре ночи подряд он отражал их яростные атаки. Несколько миноносцев было потоплено. И только в ночь со 2 на 3 декабря двум японским миноносцам удалось зайти со стороны берега и выпустить мины в корму «Севастополя», где не было сетей. От полученной пробоины броненосец сел глубже в воду и во время отлива стал касаться грунта. После этого ночные атаки прекратились. Японцы начали устанавливать 11-дюймовую гаубицу специально для «Севастополя», но не успели закончить работу до конца обороны Порт-Артура.[342]
В ночь с 29 на 30 ноября близ Порт-Артура подорвался на мине японский крейсер «Такасаго». Через 23 минуты он затонул. Вызванный по радио другой японский крейсер во мраке бурной и метельной ночи сумел спасти 11 офицеров и 151 члена команды. Погибло 23 офицера и кондуктора и 251 человек команды. В русском морском штабе стали разбираться по картам, откуда там мины, и оказалось, что их поставил лейтенант Колчак на миноносце «Сердитый» в ночь с 26 на 27 августа.[343]
В другое время такой успех, едва ли не второй по значению после потопления двух броненосцев, стал бы главной темой разговоров и воодушевил бы порт-артурцев. Теперь же, на фоне ужасающего разгрома эскадры, на гибель японского крейсера никто не обратил внимания. Колчаку не повезло второй раз: его успех заслонился другим событием, более крупным и горестным. В дневнике Колчака ничего не говорится о потоплении «Такасаго». Похоже, он не знал об этом до конца осады. Но потом он очень гордился этой удачей, упомянул о ней и в автобиографии 1918 года, и на допросе в Иркутске.[344]
Утром 1 декабря Колчак отправился в город за покупками и прошёл в порт. «Я первый раз был там после погрома нашей эскадры, – записал он в дневнике, – я никогда не видел более тяжёлой картины, чем эти четыре броненосца и два крейсера. [Они] лежали полузатопленные, под креном на дне Артурского порта. „Полтава“ лежит прямо, затопленная в полную воду по верхнюю палубу. „Ретвизан“ с креном на левый борт и с кормой, засаженной по башню; „Пересвет“ с развороченными трубами стоит прямо, с затопленной по башню кормой. „Победа“ под большим креном на правый борт и затопленной кормой, рядом с нею, накренившись, и затонувшая „Паллада“; в Остовом [в Восточном] бассейне у стоянки лежит, накренившись, и затопленный „Баян“. В суда попало от 20 до 30 11-дюймовых бомб, разворотивших все внутренние помещения и причинивших огромные пробоины. Когда всё это будет отмщено. Нет слов, чтобы говорить об этом более».[345]
Жизнь в Порт-Артуре стала тяжела и опасна. К снарядам, правда, уже привыкли, с передовых позиций, случалось, залетали и пули. Но теперь с Высокой начали стрелять прицельным огнём: шрапнелью по группам, а по одиночным прохожим – из ружья или пулемёта. Под обстрел попадали и госпитали, и тогда больные и искалеченные люди, кто как мог, выбегали или выползали на улицу, в одних рубашках на холод и ветер. Некоторые, говорят, тут же и замерзали.[346]
В начале декабря Стессель направил к Ноги представителя Российского Красного Креста камергера И. П. Балашова с поручением договориться о мерах, предупреждающих поражение госпиталей. Японцы отвечали, что они уважают международные договоры относительно госпиталей, но орудия на позициях от долгой и частой стрельбы сильно расстреляны, отчего изменяется дальность полёта снарядов. К тому же было замечено, что из зданий под флагом Красного Креста иногда выбегают люди отнюдь не в больничной одежде. В ответ на это им сказали, что в порт-артурских госпиталях давно закончились запасы больничного белья, и раненые лежат в той одежде, в которой их привезли.[347]
Из всех жителей России портартурцы, наверно, первыми узнали, что такое безудержный рост цен. В декабре в Порт-Артуре курица стоила 35 рублей, яйцо – 1 рубль, фунт картофеля – 2 рубля.[348] По тем временам это были дикие цены. Страшно вздорожал чеснок – первое средство против цинги.
Из всех болезней, ходивших по городу (холера, дизентерия, тиф), цинга собрала самую большую жатву. Особенно, наверное, среди моряков, которые ели ту самую архангельскую солонину, которая сгубила не одну сотню полярников. Врач, приехавший к Колчаку на батарею, обнаружил цингу у четверти личного состава.[349] Смерть в госпитале от болезни считалась страшнее, чем в бою. В ноябре в одном из порт-артурских госпиталей умер от болезни товарищ Колчака по выпуску, лейтенант Анатолий Постельников. От раны умер другой его однокурсник – Михаил Лавров.
Каждый день двуколки с убитыми и умершими тянулись по городу по направлению к кладбищу близ бухты Белый Волк. «Новый край» изо дня в день печатал объявления об аукционной продаже имущества убитых и умерших офицеров.
И всё же, несмотря на все страдания, город как-то умудрялся жить повседневной жизнью – с происшествиями невоенного характера, слухами, сплетнями. Ещё летом предметом обывательского интереса стала драма в семье некоего отставного полковника, который во время ссоры застрелил свою дочь. Суд над ним состоялся в жуткие дни после падения Высокой. Присутствовало много публики. Несчастный полковник был осуждён на каторгу. Оставалось неясным, как его туда доставить из осаждённой крепости и не является ли пребывание в ней само по себе каторгой.
Как и всякому каторжанину, городу помогала жить надежда. Она одна ещё как-то останавливала пьянство, сильно распространившееся среди горожан после оставления Высокой.[350] Даже Колчак, при всём своём недоверии к непроверенным известиям, 26 ноября отметил в дневнике слухи «о взятии нашими войсками Кинчжоу».[351]
«Вот придёт Куропаткин», «Вот придёт Рожественский»… Но шли дни за днями, становилось всё труднее, а никто из них не приходил.
* * *
Во время боёв на Высокой правый фланг почти перестал получать снаряды. Колчак должен был прекратить ночные обстрелы окопов перед укреплением № 3. Воспользовавшись этим, японцы значительно удлинили свои окопы, приблизившись к укреплению, и сложили внушительный бруствер из мешков. «Мы не можем при имеемом числе их [снарядов] ни стрелять и отвечать японцам, ни мешать их земляным работам, тут нужны сотни снарядов, а мы располагаем десятками и единицами», – записал Колчак в дневнике 24 ноября.[352]
Потом снаряды начали подвозить, и Колчак возобновил ночной обстрел вражеских окопов. Желая поджечь мешки на неприятельских брустверах, он подкладывал в снаряды вату, пропитанную керосином.
За линией фронта наблюдалось оживлённое движение войск и обозов. Японцы готовили новый удар, и офицеры спорили, куда он будет направлен. Кое-кто говорил, что японцы собираются развить наступление на левом фланге. Колчак, однако, считал, что удар будет направлен в центр и на правый фланг. 30 ноября на Скалистую гору приезжал Стессель. В разговоре с офицерами он обронил фразу, что под Артуром стоит не более 12 тысяч японцев. Колчак недоумевал: как же так, когда тысячи их полегли на правом фланге и на Высокой, а меньше их вроде не стало?[353]
Генерал Кондратенко тоже считал, что следующий удар будет по правому флангу. По его распоряжению спешно чинились форты и укрепления на этом фланге, устанавливались новые орудия на батареях, подходили подкрепления из последних резервов.
Кондратенко был подлинным гением обороны. Он вёл её ловко, цепко, изобретательно. Потеряв позицию, он тотчас же, по горячим следам, стремился её вернуть. Если это не получалось, закреплялся на другой, создавая противнику препятствия, казалось бы, из ничего: спешно сделанное и плохо оборудованное укрепление в его руках превращалось чуть ли не в неприступную твердыню. И всё это – в ходе ежедневной кропотливой работы, личного осмотра позиций, бесед с офицерами и солдатами, которые его любили и выделяли среди других начальников. Генерал не произносил «исторических фраз», держался скромно, но сами обстоятельства сделали его фактическим руководителем обороны Порт-Артура.
После ноябрьских боёв генерал похудел, осунулся, ходил молчаливый и грустный. Конечно, он понимал, что дни Артура сочтены. Но надеялся поставить перед японцами ещё ряд тяжёлых проблем. «Очень бы мне хотелось видеть, – говорил он, – чтобы крепость продержалась до будущего года, чтобы не причинить горя России и государю к предстоящим праздникам, авось это и сбудется».[354]
Вечером 2 декабря Кондратенко приехал на форт № 2, чтобы осмотреть только что заделанную цементом громадную пробоину в крыше. Генерал был убит, когда в каземате форта разорвался тяжёлый снаряд, пробивший то самое отремонтированное место.[355] Для защитников крепости это была самая тяжёлая утрата после гибели Макарова. «…Потеря Кондратенко – незаменима – это был самый выдающийся защитник Артура», – записано в дневнике Колчака.[356]
5 декабря японцы начали наступление на форт № 2, взорвав мину, подведённую под его бруствер. Дальше бруствера им продвинуться не удалось. Но форт был наполовину разрушен, защищать его было трудно, и генерал Фок, заменивший Кондратенко на посту начальника сухопутной обороны, приказал ночью его оставить.
Следующие десять дней прошли в ставших уже привычными артиллерийских обстрелах города, порта и укреплений, оставшихся в руках защитников. Всё чаще и сильнее обстреливалась Скалистая гора. Благодаря защитным работам, которые Колчак провёл в редкие дни затишья, потери от артиллерийского огня были небольшие. Но с передовых позиций стали залетать пули. Дорога же, проходившая мимо Скалистой горы в город, теперь постоянно обстреливалась. Японцы, видимо, поставили пушку специально для этой цели. Она стреляла по всему, что двигалось, в том числе и по одиночным людям.
В эти дни Колчак заметил, что японцы начали обстреливать русские позиции «воздушными минами», которые выпускались из «минных пушек», являвшихся прообразом позднейших миномётов. «Воздушные мины» причиняли значительные разрушения и сеяли вокруг себя смерть вложенными в заряд кусками толстой проволоки и осколками от разорвавшихся снарядов. «Надо отвечать японцам тем же и бросать воздушные мины», – решил Колчак. Он съездил на Тигровый полуостров, чтобы посоветоваться с лейтенантом С. Н. Власьевым, который уже сконструировал такую мину, рассчитанную на стрельбу из 75-миллиметровой пушки на колёсном лафете. Надо было найти такую пушку и установить её в подходящем месте. Скалистый кряж для этого не годился по той причине, что расстояние до японских позиций не должно было превышать 400–500 шагов. Договорились о том, что пушка будет установлена на Большом Орлином Гнезде.[357] Но короткое затишье закончилось, и Колчак должен был оставить это дело.
Утром 15 декабря воздух потряс громадной силы взрыв, разметавший бруствер у форта № 3. Вслед за этим яростный огонь по форту и укреплению № 3 открыли орудия и пулемёты. Форт стал почти невидим. В облаках пыли и дыма мелькали огоньки выстрелов и рвущихся снарядов. Колчак сосредоточил огонь на окопах у форта и укрепления. К 11 часам штурм был отбит, но в четвёртом часу возобновился, и два батальона японцев утвердились на бруствере. Ночью по приказу Стесселя форт был оставлен. Наутро Колчак уже обстреливал этот форт, который накануне защищал.[358]
16 декабря под председательством Стесселя собрался военный совет. Из всех его участников только трое (начальник штаба полковник Рейс, подполковники Гандурин и Дмитревский) высказались за подготовку к капитуляции «на возможно почётных и выгодных условиях». Рейс ссылался на то, что основная задача Порт-Артура состояла в том, чтобы «служить убежищем и базой для Тихоокеанского флота». Теперь флота нет, и крепость уже не исполняет этого своего назначения. Она больше не сковывает сколько-нибудь значительных сил противника (вот откуда появились те 12 тысяч, о которых говорил Стессель). «На близость выручки нет никаких указаний». «Очень важно, – подчёркивал Рейс, – не допустить неприятеля после штурма ворваться в город и перенести бой на улицы, так как это может повести к резне, жертвами которой сделаются, кроме мирного населения, ещё 15 тысяч больных и раненых». (Рейс намекал на печальные события, завершившие первую осаду Порт-Артура во время Японо-китайской войны.)
Ему возражали, что «после ряда грандиозных штурмов неприятель отказался от них и стал вести правильную осаду». Правильную, но медленную, иногда слишком медленную, как говорил генерал Никитин. Ещё в октябре японцы подошли к некоторым фортам и до сих пор перед ними сидят. Моральный дух осаждающих заметно снизился. На штурм форта № 3 солдат гнали шашками. Крепость имеет в своём распоряжении 10 тысяч штыков, запасы ружейных патронов вполне достаточны. Конечно, противник обладает превосходством в артиллерии, но в основном в крупном калибре. Можно обороняться противоштурмовыми орудиями. Снаряды к ним есть. Продовольствие тоже пока есть. Недавно в Артур проскочил английский пароход с мукой. Так что надо защищаться. Правда, как говорили некоторые участники военного совета, надо сократить линию обороны. Сейчас она, слишком длинная и изломанная, не соответствует численности обороняющихся. (Среди офицеров ходила мысль о том, что со временем придётся отдать весь правый фланг и закрепиться на Золотой горе и Перепелиной, а затем с остатками гарнизона уйти в горы Лаотешаня и держаться там до последнего.)
Присутствовавший на военном совете адмирал Вирен, командующий потопленным флотом, тоже высказался за продолжение обороны.
Последним должен был изложить своё мнение Фок, как старший по возрасту. Он, как говорили, подготовил к совету особую записку, но, видя настроение большинства, не стал её зачитывать, а дал несколько практических советов и предложений.
Закрывая заседание, Стессель сказал, что надо держать линию обороны, не допуская неприятеля в город, чтобы избежать резни.[359]
18 декабря утром японцы взорвали заложенный под укрепление № 3 огромный заряд. Неприятельская артиллерия сразу же сосредоточила на этом укреплении свой огонь. Начался штурм. Русские батареи начали обстрел атакующих. Тем не менее японцы преодолели обвалившийся бруствер и ворвались в укрепление. Вскоре над ним показался японский флаг. После полудня японцы предприняли атаку на Скалистый кряж, но были отбиты ружейным и артиллерийским огнём. Колчак писал, что его пушки работали «очень натурно», – вели стрельбу прямо по наступающим.
Утро 19 декабря было ясное, тихое. Ночью защитники крепости оставили ещё несколько укреплений, так что линия Скалистых гор, где располагались батареи Колчака, стала передовой.[360] Рано утром японцы начали штурм Большого Орлиного Гнезда. Защитники, занимавшие кольцевой окоп на вершине, отбивали одну атаку за другой. После каждой из них следовал ожесточённый артиллерийский обстрел. В середине дня японцам удалось достичь вершины и водрузить там свой флаг. Это стало сигналом для русских батарей, в том числе и со Скалистой горы, открыть огонь по вершине. Защитники, воспользовавшись передышкой, собрались вместе и стремительной атакой сбросили японцев с вершины. Матросами в этом бою командовал лейтенант С. Н. Тимирёв. Японцы возобновили обстрел, один снаряд попал в склад ручных гранат («бомбочек»), произошёл страшный взрыв, который и решил судьбу Большого Орлиного Гнезда.[361]
В своё время, ещё в начале осады, русские и иностранные газеты обошла «историческая» фраза Стесселя: «Я умру в последнем рву». К концу осады это желание, видимо, пропало. Сказывалось влияние Рейса, а также, возможно, и супруги, озабоченной спасением имущества. Не исключено, что в этом направлении действовал и Фок, скрытый капитулянт.
Ещё 17 декабря, сразу после военного совета, Стессель приказал отправить в Чифу миноносец с полковыми знамёнами. А 19 декабря, получив известие о падении Большого Орлиного Гнезда, послал к японцам парламентёров с предложением начать переговоры о капитуляции. Английский военный корреспондент Э. Ашмед-Бартлет писал, что потеря этой позиции дала Стесселю «удобный повод», за который он ухватился «с излишней торопливостью».[362]
Тем временем Фок отправил к командующему Восточным фронтом генералу Горбатовскому записку с приказом оставить ещё ряд позиций, в том числе Малое Орлиное Гнездо. Горбатовский спросил, зачем оставлять эти позиции, когда они ещё держатся. Тогда Фок прислал ему новую записку, требуя выполнить приказание, а записки сжечь.[363] Видимо, надо было подкрепить аргументы в пользу капитуляции.
Около семи часов вечера в сгустившихся сумерках все увидели ряд коротких и ярких вспышек на Золотой горе. Это был условный сигнал для срочного уничтожения судов, мастерских и всего ценного боевого материала. Вскоре загрохотали заряды, заранее подведённые под затопленные суда. Началась горячка уничтожения. Теперь грохот раздавался уже не только в порту, но и на позициях, где взрывались боеприпасы. Окутанный дымом разрушенный город то с одного конца, то с другого освещался всполохом очередного взрыва. Восточный бассейн превратился в гигантский костёр. Особенно живописно горел «Ретвизан». Огонь выбивался из иллюминаторов, доставал до верхушек труб, разливался по палубе кроваво-жёлтыми волнами, гудел, шипел, свистел. Каждый из горевших кораблей время от времени сотрясался от внутренних взрывов – рвались оставшиеся в погребах боеприпасы. Суда как-то неловко переворачивались и всё более опускались в воду.
Рухнули в одночасье дисциплина и порядок. На улицах перемешались пьяные солдаты, матросы и рабочие. Вспыхивали пьяные драки. Китайцы деловито грабили пустые дома, накладывая добычу на подводы. Людям, всё это наблюдавшим, казалось, что наступил конец света.[364] Но это был всего лишь конец Порт-Артура.
Из этого ада удалось благополучно выскочить трём уцелевшим миноносцам, в том числе и «Сердитому». Они укрылись в нейтральных портах. Наутро буксир оттащил «Севастополь» из бухты на большую глубину. Были открыты кингстоны, немногочисленная команда пересела на шлюпку. Эссена удалось уговорить сойти с корабля чуть ли не в последнюю минуту. Броненосец опрокинулся и затонул. Бульканье было столь громким, что его слышали даже в притихшем после ночной вакханалии Порт-Артуре.
Рано утром 20 декабря, когда Колчак и Круссер собирались начать обстрел Орлиного Гнезда, был получен приказ: первыми огня не открывать, стрелять только при наступлении японцев. Когда рассвело, за линией фронта, вплотную подошедшей к Скалистой, на вершинах сопок стало видно множество японцев. Они безбоязненно собирались на самых открытых местах, разглядывали русские позиции в бинокль и без бинокля. Кое-где слышались удары последних взрывов. Город и порт были скрыты в дыму догоравших пожаров.[365]
В этот день встретились две делегации для заключения соглашения о капитуляции. Русскую делегацию возглавлял Рейс, уполномоченным от флота был капитан 1-го ранга Э. Н. Щенснович. Никто не подумал включить в делегацию городского голову, а потому о частном имуществе лиц и учреждений при подписании протокола даже не вспомнили. Всё оно потом было захвачено японцами.[366]
При встрече японцы передали русским уполномоченным условия капитуляции на английском языке. Было предложено в течение 45 минут изучить их и дать ответ. Пока разбирались с английским текстом, время истекло. Рейс был настроен принимать всё как есть. Тем более что японцы дали понять, что менять они ничего не будут: условия присланы из Токио. «Тут ничего не поделаешь, – сказал Рейс, – ведь они победители». Протокол был подписан.
После войны дело о сдаче Порт-Артура разбирала особая Следственная комиссия. Она пришла к заключению, что Стессель, сдавший крепость в то время, когда она ещё могла защищаться, «тем самым не исполнил своей обязанности по долгу присяги и согласно требованиям воинской чести». Рейс был признан его соучастником. Комиссия предъявила претензии к адмиралам Вирену и Григоровичу, которые не потребовали созвать военный совет, узнав о решении Стесселя сдать крепость, а наоборот, согласились включить в состав делегации Щенсновича, не дав ему чётких указаний. Претензии к Щенсновичу состояли в том, что он «не испросил точной инструкции у адмиралов относительно даваемого ему тяжкого поручения… и согласился без всякого протеста на предложение полковника Рейса подписать унизительные для достоинства России условия сдачи крепости».[367] Согласно протоколу о капитуляции нижние чины армии и флота отправлялись в плен. Офицеры могли возвратиться на родину, дав подписку (японцы переводили это слово как «присяга») о том, что они больше не будут участвовать в военных действиях в настоящей войне. Отказавшиеся дать подписку отправлялись в плен. Гражданские лица могли выехать на родину через какой-либо нейтральный порт или остаться в Порт-Артуре.
Вся артиллерия, стрелковое оружие, военные сооружения и имущество передавались японцам. Портить и разрушать что-либо запрещалось. Офицерам было разрешено оставить при себе холодное оружие (по прибытии в Японию его отняли). Нижние чины могли взять с собой столько личного имущества, сколько могли унести, младшие офицеры по одному пуду, старшие – по два, генералы и адмиралы – по пять. (Впоследствии младшим офицерам разрешили взять до 60 фунтов веса – 24 килограмма). Это являлось нарушением Гаагской конвенции, которая предусматривала сохранение за военнопленными всего их имущества, кроме оружия и лошадей.
Офицеры засомневались, не противоречит ли требуемая подписка воинской присяге. Японцы согласились предоставить свой телеграф, чтобы сделать запрос на «высочайшее» имя. Вскоре была получена ответная телеграмма:
Генерал-адъютанту Стесселю.
Я разрешаю каждому офицеру воспользоваться предоставленною привилегией возвратиться в Россию, под обязательством не принимать участия в настоящей войне, или разделить участь нижних чинов. Благодарю Вас и храбрый гарнизон за доблестную защиту.
НИКОЛАЙ.[368]Текст поняли по-разному: одни, что можно дать подписку и ехать домой, другие – что лучше разделить участь солдат и матросов.
Вечером 20 декабря Колчак и его товарищи были извещены, что крепость сдалась. Одновременно пришёл приказ ничего больше не взрывать и не портить. Колчак записал в дневнике, что за ночь кое-что всё же уничтожили и испортили, но «взрывов никаких не устраивали».[369]
21 декабря в городе появились конные и пешие японцы. Очевидно, это были какие-то декоративные подразделения, не участвовавшие в боях. Солдаты и офицеры были аккуратно одеты – короткие меховые шубы, покрытые жёлтым сукном, на ногах – башмаки с застёжками (у пехотинцев) или сапоги (у конных). Рядом с конным офицером бежал его денщик. Русским это показалось необычно и забавно.[370]
Насмотревшись на эту красоту, Вирен приказал, чтобы офицеры и матросы явились на сдачу в плен одетыми «по форме». Это было невыполнимо, потому что на позициях одевались не «по форме», а форма у многих сгорела вместе с кораблями. Но Вирен, как говорят, в день сдачи выходил из себя и ругался.[371]
Последняя запись в порт-артурском дневнике Колчака сделана 21 декабря. «К вечеру я снял посты и оставил только дневальных на батареях и увёл команду… в город, – писал Колчак. – Ночь тихая, и эта мёртвая тишина как-то кажется чем-то особенным, неестественным».[372] Отточие в предпоследней фразе дневника означает непрочитанное слово. Последние записи сделаны очень неразборчиво. В некоторых словах буквы сливаются в одну линию со слабыми изгибами, как на затухающей кардиограмме. Колчак в эти дни был очень болен и едва держался на ногах. Кроме лёгкого ранения, у него разыгрался суставный ревматизм.[373] Не исключено, что начиналась цинга.
22 декабря гарнизон сдавшейся крепости был выведен на сборную площадь. Начался приём пленных, растянувшийся на три или четыре дня. По японским данным, было зарегистрировано более 23 тысяч человек. Из них в боеспособном состоянии находилось не более 15 тысяч. Остальные – легко раненые, выздоравливающие, цинготные (в начальной стадии). Тяжело раненые и больные остались в госпиталях. После капитуляции иностранным корреспондентам удалось, наконец, выудить у японцев данные о численности их армии под Порт-Артуром. По сведениям Э. Ашмед-Бартлета, крепость осаждало 97 тысяч человек, а 20 тысяч находилось в резерве в Дальнем.[374] До самого последнего дня Порт-Артур сковывал огромные силы. Откуда взялись у Стесселя данные о 12 тысячах, остаётся неизвестным. Потери японцев под Порт-Артуром составили около 70 тысяч убитыми и ранеными.[375] Ноги положил под Порт-Артуром целую армию.
По мере приёма на сборном пункте формировались партии пленных, отправлявшихся в Дальний. У всех, кто прошёл этот путь, остались о нём самые плохие воспоминания. «…Мы целых пять дней тащились пешком до станции железной дороги, ночуя то в грязных китайских хижинах, то в полуразрушенных казармах, в лучшем случае в летних палатках, а команда – прямо под открытым небом, и это при холодном северном ветре и морозе, – писал Н. О. Эссен жене. – Вещи пришлось побросать, так как багаж был ограничен. Не было сделано никакой разницы между стариками-командирами и молодёжью. Пища давалась матросская, есть приходилось по-свински, так как ничего с собой не было… Вообще гадость, мерзость…»[376] Также, только более подробно, описывает этот 35-верстный переход и Тимирёв.
На железнодорожной станции пленных посадили в товарный поезд и доставили в Дальний, где разместили в недостроенных зданиях женской гимназии и реального училища. В Артуре требуемую подписку дали 20 процентов офицеров, а в Дальнем, после перехода, число подписавшихся дошло до половины[377] (среди них были и некоторые старшие начальники). Но Вирен, Эссен и ряд других высших офицеров флота отказались давать подписку. Из Дальнего пленные переправлялись в Японию, где и происходило отделение подписавшихся от неподписавшихся.
Из всех тех, кто прошёл в те дни крестный путь от Порт-Артура до Дальнего, мало кто, наверно, вновь побывал в этом городе на реке Лунхэ. Городе несбывшейся русской мечты, где должны были сойтись буддийский Восток и христианский Запад. Городе, который должен был стать новым Гонконгом – только в русско-православной трактовке. В развернувшейся борьбе погибло много людей, и шедшие под конвоем порой завидовали своим павшим товарищам. «Мёртвые сраму не имут».
Такова уж жизнь, что благородные дела редко приносят воздаяние. Чаще за них приходится платить горькую цену. Смерть и плен – этим платили под Порт-Артуром русские солдаты, матросы и офицеры за воинскую свою доблесть, за верность долгу, за чужую халатность, за то, что поставили они Порт-Артур в один ряд с Севастополем.
В павшем Порт-Артуре. Возвращение из плена
Колчак не участвовал в печальном походе побеждённой армии. 22 декабря он лёг в госпиталь. Скорее всего, его поместили в один из плавучих госпиталей, которые стояли в бухте. Там, среди кладбища кораблей, он провёл несколько месяцев. Выздоровление приходило медленно. За это время произошло много событий.
30 декабря японцы с почётом проводили из Артура генерала Стесселя, выделив под его имущество 30 подвод. Желая запечатлеться в веках, как Наполеон в Фонтенбло, Стессель протянул руку стоявшему поблизости солдату. Но рука повисла в воздухе – солдат испуганно посмотрел на генерала и отпрянул. «Исторической сцены» не получилось.
В Японии Стесселя ожидал радушный приём. А в России он попал под суд за сдачу крепости. Его приговорили к расстрелу, но в том же приговоре судьи ходатайствовали перед императором о смягчении наказания. А Рейс, главный капитулянт, был оправдан за «недоказанностью обвинений». Фок получил выговор.[378] Стессель провёл в тюрьме около года, а затем был выпущен по состоянию здоровья.
31 декабря 1904 года генерал Ноги торжественно ввёл в город свои войска. Впереди шли музыканты, за ними верхом – японский штаб во главе с Ноги, далее – пехота со знамёнами.[379]
…В центре современного Токио, недалеко от храма Ясукуни, где, как говорят, покоятся души погибших японских воинов, прохожий может увидеть памятник, который не значится в туристских проспектах. Верхом на мощном коне тяжело восседает толстоватый всадник в мундире, с усами и свирепым взглядом. С высокого постамента снята надпись. Кто-то написал мелом ругательные иероглифы. И только коренной токийский житель может вам объяснить, что это памятник маршалу Ноги Маресуке. Так проходит мирская слава…
Японская военная администрация в Порт-Артуре поставила русских обывателей в невозможное положение. Был установлен продолжительный комендантский час, запретили базарную торговлю и закрыли все столовые и чайные. Китайцам было запрещено говорить по-русски. Японские чиновники ходили по домам и побуждали русских к скорейшему выезду. Дело обставлялось так, что из имущества можно было захватить лишь то, что человек был в силах унести на себе.[380]
Рано утром 3 января 1905 года далеко в море послышалось тяжёлое уханье взрывов. Было похоже на канонаду морских орудий. Среди русских обитателей Артура мгновенно разнёсся слух: Рожественский! Но затем наступило обычное разочарование: оказалось, что японцы расчищают море от мин.[381]
18 февраля японцы оповестили русских, что они могут собраться к двум часам дня на высоте 203 метра (Высокой горе) для отдания последних почестей павшим её защитникам. Все, кто ещё остался в Артуре и кто мог ходить, потянулись на Высокую.
Утром этого дня русские фельдшеры и санитары ещё продолжали рыть могилы и переносить туда скрюченные и обледенелые тела. В условленное время началось отпевание. Ледяной ветер рвал сизый дым из кадила и уносил в холодную лазурь неба. Казалось, что в лёгком дрожании воздуха уносились на небо и души павших, томившиеся в ожидании этого часа.[382]
В январе начался поспешный отвод японской армии из-под Артура. Пехота, артиллерия, сапёрные части – всё направлялось на север, к Мукдену. В Порт-Артуре остался один батальон.
Однажды, ещё до ухода армии Ноги, Колчак случайно разговорился с одним японским офицером-артиллеристом. Оказалось, что он командовал той самой огневой точкой, с которой Колчак перестреливался незадолго до падения Артура. Оба добивались «взаимного искоренения». В дневнике Колчак писал тогда, что в блиндаже недалеко от обстреливаемых им окопов, к крайнему его неудовольствию, поставили 75-миллиметровую пушку со специальной целью подавить его батарею. И Колчак тщательно маскировал и прилаживал одно из орудий, чтобы оно стреляло прямо в амбразуру этого блиндажа. Японец похвалил работу Колчака, и он впоследствии признавался, что это был один из «самых приятных комплиментов», которые ему доводилось слышать.[383]
С подходом армии Ноги численность японских войск в Маньчжурии увеличилась примерно на треть. Около трёх недель (с 5 по 25 февраля 1905 года) продолжалось сражение под Мукденом, завершившее сухопутную кампанию. Русская армия едва не попала в мешок. Выход из него был очень тяжёлым. Тем не менее в окружении остались в основном лишь обозы. Русская армия отошла к северу, на Сыпингайские позиции.
Всё яснее вырисовывалась перспектива поражения России в этой войне, и со сцены один за другим уходили те, кто до сих пор делал дальневосточную политику. Ещё в ноябре 1904 года наместник на Дальнем Востоке Алексеев был освобождён от должности главнокомандующего сухопутными и морскими силами, действующими против Японии. После Мукдена был смещён с поста командующего Маньчжурской армией генерал Куропаткин.
25 января в Порт-Артуре появились иностранные газеты, принёсшие вести с родины. В России происходило что-то непонятное. В Петербурге какой-то Гапон собрал много народа и повёл его на Зимний дворец. В народ стреляли. Рабочие начали бастовать. Адмирал 3. П. Рожественский, опытный моряк, вышел с эскадрой на помощь Порт-Артуру и у берегов Англии обстрелял рыбачьи баркасы, приняв их за японские миноносцы.[384]
В апреле 1905 года, когда Колчак начал уже поправляться, госпиталь эвакуировали в Нагасаки. Больным офицерам предложили лечиться в Японии или же без всяких условий возвращаться в Россию. Все офицеры, в том числе и Колчак, выбрали второе. В конце апреля они выехали из Японии в Канаду.[385]
Во время переезда через Американский континент пришли ошеломляющие известия о Цусимском сражении.
* * *
О цусимской катастрофе написано много. Ценнее всего, однако, свидетельства очевидцев. Некоторые рассказы офицеров, прибывших с разгромленной эскадры в японский плен, были обобщены в воспоминаниях С. Н. Тимирёва.[386] Ниже приводятся наиболее характерные моменты из этих рассказов, с некоторыми дополнениями из других источников.
Вице-адмирал 3. П. Рожественский, как говорили офицеры, был «полновластным и неограниченным» начальником эскадры. Ничьих советов не спрашивал и не слушал, чужими мнениями не интересовался. От командиров требовалось только точное и беспрекословное исполнение его приказов, которые обнимали все стороны жизни эскадры. При этом Рожественский другие суда не посещал и фактически не знал, что на них творится. Вся эскадра, с мельчайшими подробностями, была в его голове, являлась, по существу, его представлением, составлявшимся из рапортов подчинённых. В свои планы командующий никого не посвящал.
Из младших флагманов, как на лучшего, офицеры указывали на контр-адмирала Д. Г. Фелькерзама. Его отряд (броненосцы «Ослябя», «Сисой Великий», «Наварин» и крейсер «Адмирал Нахимов») был в образцовом порядке.
Ни офицеры, ни команда, за малым исключением, не имели боевого опыта. Комендоры плохо знали своё дело, так как за всё время перехода всего лишь дважды проводились учебные стрельбы. Люди были до крайности утомлены и измотаны тяготами длительного плавания и мелочным деспотизмом Рожественского. В момент боя корабли оказались перегруженными углем, водой, боеприпасами и расходуемыми материалами. Вследствие перегрузки корабли сидели ниже в воде.
Эскадра могла обогнуть Японские острова и попытаться пройти к Владивостоку проливом Лаперуза. Тогда сражение произошло бы вблизи Владивостока. Рожественский, однако, пошёл Корейским проливом, и сражение происходило вблизи базовых портов противника.
За три дня до сражения умер Фелькерзам. Его гроб стоял на шканцах броненосца «Ослябя». Считая, что это известие снизит боевой дух, Рожественский не сообщил об этом эскадре. Из-за этого во время боя возникли недоразумения с передачей командования.
Две эскадры сошлись 14 мая 1905 года близ острова Цусима в Корейском проливе. Силы были примерно равны. Но русская эскадра была измотанной и уставшей, а японская – отдохнувшей. Русские моряки почти не нюхали пороху, а японские воевали уже второй год.
Перед самым началом боя командующий дважды менял решение о боевом построении эскадры (то в строй фронта, то в одну кильватерную колонну), но так и не успел завершить перестроение.
Того повёл свою эскадру на пересечение курса эскадры Рожественского и сосредоточил огонь на двух флагманских броненосцах – «Князь Суворов» и «Ослябя». А те вынуждены были переносить свой огонь каждый раз на новый корабль – тот, который пересекал их курс.[387]
На «Суворове» вскоре были перебиты все снасти, так что нельзя было давать сигналы. Начались пожары. Управление было потеряно, и броненосец начал описывать такую же циркуляцию, как в своё время «Цесаревич». Рожественский был ранен в голову и спину и больше не мог руководить боем. Судно, однако, показало необыкновенную живучесть. «Ослябя» расстался с жизнью гораздо быстрее. Повреждения на нём, писал Тимирёв, были ужасны: «Обвалилась броня, провалились палубы, всё горело». В последний момент командир корабля В. О. Бэр вошёл в боевую рубку и застрелился. Судно перевернулось и затонуло. Судьба устроила адмиралу Фелькерзаму необычные похороны.
Гибель «Осляби» и выход из строя «Суворова», по сути, предрешили исход сражения. Потеря двух флагманов погубила эскадру, не приученную к самостоятельным действиям.
«Суворов» перестал циркулировать, но почти потерял ход. Сражение перемещалось к северу, эскадра уходила, и её флагман теперь отстреливался от крейсеров. Два миноносца, догоняя эскадру, прошли мимо, не попытавшись подойти к броненосцу, который был похож на огромную жаровню с пылающими углями. Третий миноносец, с большим риском для себя, подошёл и принял раненого адмирала и его штаб. Это был «Буйный», которым командовал капитан 2-го ранга Н. Н. Коломейцев.[388]
В сражении 14–15 мая все броненосные суда эскадры Рожественского были потоплены, а отряд крейсеров сдался в плен. В плену оказался и командующий. Только быстроходному крейсеру «Алмаз» и двум миноносцам удалось прорваться во Владивосток. Японская эскадра потеряла три миноносца; многие другие суда получили тяжёлые повреждения, но остались на плаву.
Резюмируя высказывания участников боя, Тимирёв писал, что «главнейшими (ближайшими) причинами поражения они считали: слишком позднее перестроение в боевой строй, отсутствие распоряжений… преимущество в ходе неприятеля… превосходство их стрельбы, туманность погоды и зыбь, огромное количество миноносцев у неприятеля». «Причины такой быстрой гибели судов, очень сильных и обладающих прекрасной водонепроницаемостью, – продолжал Тимирёв, – объясняли перегрузкой этих судов, вследствие чего броня почти вся уходила в воду и суда получили массу пробоин близко к ватерлинии выше брони». На море было волнение, вода захлёстывалась в пробоины и заполняла трюмы.
Если бы 28 июля 1904 года в море было волнение, русская эскадра, возможно, не досчиталась бы одного-двух броненосцев. Но на море тогда было на редкость спокойно. Русские адмиралы не использовали для прорыва во Владивосток этот подарок судьбы. Во второй раз, 14 мая 1905 года, он ниспослан не был.
После Цусимы, 2 июня 1905 года, великий князь Алексей Александрович оставил пост главного начальника флота и морского ведомства. Вслед за ним был уволен в отставку его протеже адмирал Алексеев. Морским министром был назначен вице-адмирал А. А. Бирилёв. В первом своём приказе он объявил: «Прошу всех офицерских чинов флота и учреждений морского ведомства – мне не представляться».[389] Министр, видимо, давал понять, что в своём ведомстве он всех хорошо знает и с прежними порядками чинопочитания будет покончено.
В 1920 году, касаясь событий тех лет, Колчак говорил, что «единственным светлым деятелем флота был адмирал Макаров, а до этого времени флот был совершенно не подготовлен к войне и вся деятельность была невоенная, несерьёзная». Что же касается Алексея Александровича, то Колчак, судя по всему, вовсе не считал его «злым гением» флота. Он не видел необходимости в должности генерал-адмирала, называл её «чистой синекурой», и великий князь, видимо, представлялся ему просто бездельником («решительно ни во что не входил», ни в какие дела «в сущности не вмешивался»). Если флот плохо стрелял и плохо плавал, то виноват в этом, наверно, был прежде всего сам флот, а не какой-нибудь великий князь. Значит, полагал Колчак, надо было начать перестраивать сам флот.[390]
* * *
4 июня 1905 года, после более чем двухлетнего отсутствия, Колчак вернулся в Петербург.[391] Длительное путешествие из Японии через Америку измотало его, болезнь вновь обострилась, и его снова уложили в госпиталь.
Наверно, только по прибытии на родину Колчак узнал, что ещё в ноябре 1904 года он был награждён орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Позже, 12 декабря 1905 года, «за отличие в делах против неприятеля под Порт-Артуром», ему пожаловали золотую саблю с надписью «За храбрость» и орден Станислава 2-й степени с мечами.[392]
Одним из первых в госпиталь к Колчаку явился А. А. Бялыницкий-Бируля. Дружеские отношения с ним продолжались и далее, вплоть до начала мировой войны.[393] Приходили и друзья по выпуску из Морского корпуса. Разговоры крутились вокруг общих знакомых, однокашников, какая у кого сложилась судьба.
Тогда считать мы стали раны, Товарищей считать.Колчак мог рассказать, что умерли в порт-артурских госпиталях Лавров и Постельников, покалечен Рыков, в плену Николай Василисин и Алексей Стеценко. От своих товарищей он мог узнать о геройской гибели Николая Зенилова в последнем бою «Рюрика» (из Владивостокского отряда крейсеров) 31 июля 1904 года. Заменив убитого командира, он сам вскоре был смертельно ранен. Тот самый Зенилов, с которым Колчак когда-то участвовал в гребной гонке. А в Цусимском бою погибло двое: Вениамин Эллис и – славный парень Алёша Геркен.[394] Его отец, старый адмирал, не вынес горя и вскоре умер.
Но была новость и другого рода. Севастопольский военно-морской суд исключил со службы лейтенанта Николая Терпигорева (последнего в выпуске) за злоупотребление служебным положением и растрату казённых денег.[395]
А вскоре по возвращении Колчака, 15 июня, разнеслась потрясающая весть о бунте на Черноморском флоте – в основном из-за плохого питания. Захваченный моряками броненосец «Потёмкин» десять дней бродил по морю и в конце концов сдался румынским властям. В числе убитых офицеров оказался лейтенант Леонид Неупокоев. Вот так: воровал один, а расплатился другой.
Хуже того. Широко и беспечно жили отцы, а отвечать приходится детям.
Возможно, уже тогда Колчак и его сверстники начинали смутно догадываться, что они – жертвенное поколение.
* * *
В конце июля 1905 года в Портсмуте (США) открылась мирная конференция с участием представителей России, Японии и США (страны, выступившей в роли посредника). По ходу переговоров производились консультации с внешнеполитическими ведомствами Англии, Франции и Германии. Япония предъявила к России обширные требования. Не довольствуясь Порт-Артуром, она настаивала на передаче ей Сахалина, выводе русских войск из Маньчжурии, выдаче военных судов, укрывшихся в нейтральных портах, и уплате контрибуции. Но глава русской делегации С. Ю. Витте дал понять, что на «непомерные требования» Россия не согласится. Его позиция подкреплялась тем, что Япония вдруг оказалась в международной изоляции. Никто не хотел чрезмерного её усиления. В конце концов было достигнуто соглашение об уступке Японии южной части Сахалина и передаче ей арендованной части Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и Дальним, а также южной ветки КВЖД. Было также признано, что Корея входит в сферу японского влияния. В свою очередь Япония согласилась на одновременный вывод войск из Маньчжурии, своих и русских. 23 августа 1905 года был подписан мирный договор.
В 1907 году Портсмутский договор был дополнен русско-японским соглашением о разграничении сфер интересов в Маньчжурии. Русскому правительству удалось сохранить контроль над КВЖД, связывавшей Россию с Дальним Востоком. С приходом к власти П. А. Столыпина началось строительство Амурской железной дороги по русской территории, завершившееся в 1916 году. Столыпин говорил, что «Амурская дорога имеет главной задачей накрепко приковать к России её Дальний Восток».[396]
Глава четвертая Флот для России
Мало кто в России не читал роман В. А. Обручева «Земля Санникова», вышедший впервые в 1926 году. А если не читал, то смотрел поставленный по этому роману фильм с участием незабвенных Олега Даля и Георгия Вицина. В фильме, однако, не нашлось места для самого первого эпизода романа, с которого и начинается его завязка.
Описывается заседание учёного общества. Оно проходит в небольшом зале, на стенах которого развешены портреты «сановных покровителей и председателей общества». За длинным столом перед кафедрой сидят члены Совета общества – «все видные учёные и известные путешественники». Публика, переполнившая зал, с затаённым дыханием слушает доклад экспедиции, «снаряжённой для поисков пропавшего без вести барона Толля и его спутников». На кафедре – «морской офицер, совершивший смелое плавание на вельботе через Ледовитое море с Новосибирских островов на остров Беннетта». «Мужественное лицо докладчика, – читаем далее в романе, – обветренное полярными непогодами, оставалось в полутени зелёного абажура лампы, освещавшей рукопись его доклада на кафедре и его флотский мундир с золотыми пуговицами и орденами».
В двух пространных абзацах, порой очень близко к знакомому нам тексту, пересказывается содержание доклада. Знакомо звучит и конечный вывод: партия Толля, несомненно, погибла во льдах, а Земля Санникова не существует.
Описанное в романе заседание – это скорее всего общее собрание отделений Математической и Физической географии Русского географического общества, состоявшееся 10 января 1906 года.[397] В. А. Обручев, видимо, был на том заседании. А докладчик – морской офицер с мужественным лицом – это, несомненно, А. В. Колчак. Неназванный и неузнанный, он со страниц известного романа, многократно переиздававшегося, долгие годы вёл разговор с отечественным читателем – все те годы, когда о его подвигах запрещалось говорить и его имя отовсюду вычёркивалось.
Прощание с Русской полярной экспедицией
Колчак надеялся, что успеет поправиться и вернуться в строй до окончания войны с Японией. Однако здоровье возвращалось медленно. После госпиталя его уволили в шестимесячный отпуск. Лето 1905 года Александр Васильевич и Софья Фёдоровна провели на одном из южных курортов (где точно, – установить не удалось). Тем временем война окончилась.
Колчаки вернулись в Петербург в начале осени 1905 года. Александр Васильевич чувствовал себя здоровым и бодрым. Находясь ещё в отпуске, он решил, что пора привести в порядок и закончить брошенные перед отъездом в Порт-Артур дела. Прежде всего – итоговый отчёт о спасательной экспедиции, которой он руководил.
Работа над отчётом была закончена 12 ноября 1905 года (впоследствии он был опубликован в «Известиях Русского географического общества»). В Петербурге в это время беспрерывной чередой шли забастовки, шумел Совет рабочих депутатов, где оттачивал своё красноречие молодой Л. Д. Троцкий. Колчак, как видим, в забастовках не участвовал, по улицам с флагами не ходил. Мирно занимался своими делами.
Пространный и очень подробный отчёт был использован для краткого доклада на заседании Русского географического общества 10 января 1906 года – на том самом, которое, судя по всему, описано в романе Обручева. Оно шло под председательством академика Ф. Н. Чернышёва, который во вступительном слове отметил, что спасательная экспедиция Колчака – это «беспримерно смелое географическое предприятие».[398]
Отчёт о спасательной экспедиции – это был первый, самый неотложный долг. Были и другие долги перед Академией наук, перед памятью Толля. На полках академического архива мёртвым грузом лежали пухлые папки с записями результатов гидрографических наблюдений, с материалами топографических съёмок, проведённых во время Русской полярной экспедиции. Между тем полугодовой отпуск подходил к концу.
8 декабря 1905 года великий князь Константин Константинович обратился с письмом к морскому министру А. А. Бирилёву. Оно было написано в духе «просвещённого абсолютизма» и в соответствии с его этикетом. Представитель царствующего дома ходатайствовал о том, чтобы лейтенанта Колчака, «достаточно способного для умственной работы», как снисходительно отмечал великий князь, временно откомандировали в распоряжение Академии наук. Заканчивая письмо, августейший президент Академии уведомлял министра о своём всегда благосклонном к нему отношении и искреннем уважении.[399] По приказу министра Колчак был прикомандирован к Академии наук с 29 декабря 1905 года по 1 мая 1906 года «для обработки картографического и гидрографического материалов Русской полярной экспедиции».[400]
Это был один из тех немногих в жизни Колчака периодов, когда он вёл жизнь научного работника: занимался дома в кабинете или же в библиотеке, ездил в физическую обсерваторию.
В 1906 году Главное гидрографическое управление Морского министерства издало три карты, подготовленные Колчаком. На двух были отображены очертания западной части Таймырского полуострова от места стоянки «Зари» и далее на северо-восток, а на третьей – западное побережье Котельного с бухтой Нерпичьей. Две первые карты были составлены на основании коллективных съёмок, а для третьей все съёмки и промеры глубин делал Колчак.
Одновременно Колчак работал над монографией «Лёд Карского и Сибирского морей». Некоторые её главы, в черновом виде, были написаны ещё в экспедиции. Поэтому работа шла быстро. 22 марта 1906 года Колчак доложил о законченной книге на собрании Академии наук, а в 1909 году она вышла в свет (169 страниц большого формата с таблицами и иллюстрациями).
«Предметом исследования в предлагаемой работе, – писал в предисловии автор, – является исключительно морской лёд, образующийся из солёной воды Северного Ледовитого океана. Основанием для этого исследования служат наблюдения над льдом в Карском и Сибирском морях, а также в районе Ледовитого океана, расположенном к северу от Новосибирских островов, произведённые Русской полярной экспедицией в течение 1900, 1901, 1902 и 1903 гг.». Там же, в предисловии, Колчак выражал благодарность А. А. Бялыницкому-Бируле за предоставленную им возможность использовать его наблюдения над льдами и «за труды и заботы, связанные с печатанием и изданием» книги.[401] В 1909 году Колчак отбыл в новую экспедицию, так что техническую работу, связанную с подготовкой рукописи к печати и с изданием книги, в значительной мере взял на себя Бируля.
В одиннадцати главах монографии Колчака описываются и раскрываются сложные процессы замерзания морской воды в бухтах, на плёсах и в открытом море, его взламывание с образованием трещин, торосов и полыней, таяние ледяного покрова с наступлением весны, а также формирование многолетнего льда (пака) и его движение в океанских просторах. Многочисленные фотографии, помещённые в тексте и на отдельных вклейках, были сделаны Матисеном, Бялыницким-Бирулей, Толлем и Воллосовичем. Сам Колчак, видимо, не фотографировал. В 1928 году одна из глав книги Колчака была переведена на английский язык и издана в США в составе сборника Американского географического общества.[402]
В 1907 году вышла книга А. А. Бялыницкого-Бирули «Очерки из жизни птиц полярного побережья Сибири», также основанная на материалах экспедиции Толля.[403] Книги Бирули и Колчака – две наиболее крупные работы, написанные по её результатам. А если учесть карты, изданные Колчаком и другими участниками Русской полярной экспедиции, то можно считать, что, вопреки опасениям и сомнениям Толля, она оставила видный след в науке и заняла достойное в ней место.
От кружка офицеров до Генерального штаба
Цусимский разгром стал потрясением для русского общества. Престиж военно-морского флота в глазах общественности резко пал. Критика флотских порядков началась, правда, ещё до Цусимы, и разгневанный Алексей Александрович сажал на гауптвахту профессора Н. Л. Кладо, известного морского теоретика. Но после гибели 2-й Тихоокеанской эскадры газетные нападки с обидными преувеличениями и перехлёстами приобрели небывалый размах. Морское министерство называли не иначе как «Цусимским ведомством», а корабли Русского флота – «самотопами». Конечно, всё это было замешано на политике: Цусима стала любимой игрушкой в руках оппозиции.
Николай II отлично это понимал и, по возможности, старался уберечь моряков от публичной порки. Так, он распорядился не трогать их на Порт-Артурском процессе. Одновременно он пресекал попытки сухопутного генералитета, воспользовавшись обстановкой, поживиться за счёт вечных своих соперников.
Высшее морское командование сохраняло невозмутимое спокойствие, за которым легко угадывалась растерянность. От министерства не исходило никаких положительных идей и предложений.
Острое чувство незаслуженной обиды испытывали многие молодые офицеры, побывавшие в боях, вернувшиеся из плена и теперь подвергаемые поношениям у себя на родине. К этому чувству примешивалось и понимание того, что общественная критика, несмотря на её огульность и дилетантство, где-то, в чём-то всё-таки права. Ведь погибли же обе эскадры, ведь была же Цусима. Возникло желание обсудить создавшееся положение, обменяться мнениями, попытаться извлечь уроки из опыта войны, наметить, с их учётом, пути воссоздания флота. И наконец, – противопоставить размашистой и беспардонной критике разъяснение общественности задач флота, его необходимости для безопасности государства.
В 1905–1906 годах в Петербурге, Кронштадте и других городах возник ряд кружков и объединений морских офице ров («Лига обновления флота», «Российский морской союз», «Общество офицеров флота», «Общество ревнителей военно-морских знаний» и др.). Некоторые из них имели свои печатные органы.[404]
Наибольшую известность приобрёл «Петербургский военно-морской кружок».
9 ноября 1905 года на квартире у лейтенанта А. Н. Щег лова собрались пятеро морских офицеров: лейтенанты Г. К. фон Шульц, М. М. Римский-Корсаков, А. Н. Воскре сенский, А. Н. Кирилин и гостеприимный хозяин. Самым известным среди них был Шульц, с успехом командовавший в Порт-Артуре миноносцем. В дальнейшем (уже после мировой войны) он стал контр-адмиралом финского флота. А Римский-Корсаков был произведён в контр-адмиралы А. И. Деникиным. Вообще же никто из инициаторов знаме нитого кружка в дальнейшем блестящей карьеры не сделал.
«Мы, нижеподписавшиеся, – значится в первых строках протокола, – собрались сего числа, чтобы обсудить вопрос об организации кружка морских офицеров, интересующихся военно-морскими вопросами, и установили нижеследующие решения». В первом из них говорилось, что кружок «ставит себе целью заниматься рассмотрением исключительно военно-морских вопросов, с проведением резолюций собраний в жизнь исключительно закономерным путём». В частности, ставилась цель «собрать, формулировать и обработать опыт последней войны, чтобы он не пропал и не рассеялся с течением времени под влиянием текущих условий». Решено было принимать в кружок офицеров не старше чина капитана 2-го ранга, «чтобы условностями чинопочитания не лишить свободы мнений прочих членов». Собравшиеся взяли на себя обязательство привлечь в кружок знакомых офицеров, которые пожелают участвовать в его работе.[405]
Следующее заседание, 14 ноября, происходило, видимо, уже в здании Морской академии, ставшем отныне постоянным местом встреч. Присутствовало восемь человек, в том числе четверо новых: герой Порт-Артура Н. Л. Подгурский, М. А. Кедров (один из немногих, кому удалось побывать в двух главных морских сражениях Русско – японской войны – в Жёлтом море и при Цусиме; в 1920 году командовал флотом при эвакуации Крыма), Н. Н. Шрейбер и Колчак. Последнего пригласил скорее всего Шульц, наверняка знавший его по Порт-Артуру.
На заседании обсуждался устав кружка. Прения, видимо, были бурными и беспорядочными, потому что в конце концов постановили «на будущее время установить парламентский порядок, чтобы говорил только один человек, а не все зараз».[406]
В дальнейшем кружок ещё более расширился. В частности, его стали посещать В. К. Пилкин и Д. В. Ненюков – будущие адмиралы. Большинство членов кружка составляли младшие морские офицеры и инженеры. Однако на третьем заседании едва не произошёл раскол.
11 ноября в Севастополе вспыхнуло восстание солдат и матросов. Восставшим удалось захватить броненосец «Св. Пантелеймон» (бывший «Потёмкин») и крейсер «Очаков». Командование ими принял на себя 38-летний лейтенант Пётр Шмидт. Его попытки присоединить к восстанию всю эскадру успеха не имели. 15 ноября в Севастопольской бухте произошёл морской бой, закончившийся разгромом восставших кораблей.
21 ноября Римский-Корсаков, открывая очередное заседание кружка, попросил собравшихся высказаться по поводу того, «своевременно ли теперь, ввиду тяжких севастопольских событий, образовывать общество офицеров для разработки военно-морских вопросов». Иными словами: тем ли мы здесь занимаемся?
Были высказаны разные мнения. Е. А. Беренс, например, говорил, что заниматься теоретическими вопросами сейчас не лучшее время. Не надо «оставаться в стороне от событий», – призывал он. «Мы заслужим справедливый упрёк, если не попытаемся бороться за наши морские принципы, за влияние над командой, которое вырывается из наших рук революционерами». (Кто бы мог подумать, что через 12 лет он перейдёт на сторону большевиков и станет командующим Морскими силами республики.)
Подгурский возражал: «Эта задача нам непосильна, разве можно бороться с движением, охватившим всю страну. Между тем наш долг, насколько возможно, сохранить для будущего идеи военно-морского искусства». Кедров вообще высказался за роспуск кружка: «Заниматься внутренней политикой нам не по силам, так как вопрос этот сам по себе очень велик, а заниматься теоретическими вопросами не время, поэтому учреждать теперь общество не время».[407]
Выступил и Колчак. Вернувшись в Россию после десяти лет, проведённых в плаваниях, экспедициях и на войне, он, по правде говоря, не очень понимал, что происходит в стране. Позднее он признавал, что не придавал тогда большого значения развернувшемуся народному движению, считая, что в нём выразилось прежде всего «негодование народа за проигранную войну». Этим же он склонен был объяснять и волнения на флоте. В протоколе заседания записаны следующие фразы из его выступления: «Начальнический состав флота за эту войну оказался не на высоте технических знаний и поэтому потерял доверие своих подчинённых. Все наши беспорядки во флоте именно от потери доверия к начальству. Мы можем оказать содействие флоту на этом поприще. Вовлекаясь же на текущие события, мы вступаем на скользкую почву». Как видно, Колчак был решительно против вовлечения армии и флота в политику, во внутриполитические события. Это вполне соответствовало его общим взглядам: сильные вооружённые силы всегда будут нужны России, их можно иметь при любом строе – Россия всегда останется Россией.[408]
Председатель поставил на голосование вопрос: «Ввиду исключительности переживаемого флотом времени надлежит ли допускать отклонения общества (то есть кружка) от поставленных на прошлых заседаниях целей в сторону возможности обсуждения событий дня?»
За «отклонения» высказалось шесть человек, в том числе Беренс, Кедров, Шульц и Щеглов. Против – тоже шестеро, в том числе Колчак, Подгурский и Римский-Корсаков.
Чтобы сохранить единство, решили пойти на компромисс, который выразился в том, что в устав кружка внесли дополнительный пункт, допускающий обсуждать «те вопросы текущей жизни личного состава флота, против обсуждения которых не встретится препятствий со стороны морского начальства». За это проголосовали единогласно.[409]
На следующем заседании, 28 ноября, офицеры обсуждали устав своей организации, в разработке коего участвовал и Колчак. Кружок, ставший уже довольно многочисленным, решили назвать «Обществом младших офицеров флота». Министр, однако, не утвердил это название. С его стороны встретил возражения и пункт, где говорилось, что членами объединения могут быть только младшие офицеры. Тогда остановились на названии «С.-Петербургский военно-морской кружок» и решили допустить в свои ряды старших офицеров.[410] Председателем кружка был избран Римский-Корсаков, вице-председателями – Кирилин и Пилкин. Впоследствии председателем стал Колчак.[411]
30 января 1906 года Колчак сделал в кружке доклад «О постановке мин заграждения с миноносцев», вызвавший оживлённые прения. В качестве гостя на заседании присутствовал адмирал В. П. Верховский. Позднее, 6 февраля, Колчак предложил пригласить в кружок лейтенанта в запасе Филиппова для доклада о разработанном им типе судна с тепловым двигателем (передовая для того времени идея). Но председатель заявил, что «не следует увлекаться техникой», и приглашение не состоялось.[412] Дружеские же отношения между Колчаком и Филипповым, как видим, продолжались.
Члены кружка были единодушны в понимании того, что морское ведомство нуждается в серьёзной перестройке. Главный морской штаб, основной орган, при помощи которого морской министр руководил флотом, был громоздкой и неуклюжей организацией. Он тонул в общем хаосе разнообразных дел. Военно-морской учёный совет, существовавший в его составе, был, наверно, самой незаметной структурной его частью. Вопросы морской стратегии, коренные вопросы развития флота (какие корабли строить, в каком количестве и соотношении) серьёзно не прорабатывались. Их решал министр или генерал-адмирал (великий князь) волевым порядком. Русско-японская война показала неэффективность такой системы руководства флотом.[413]
В конце 1905 года один из основателей морского кружка, А. Н. Щеглов, изучив деятельность Главного морского штаба по руководству действиями флота, пришёл к мысли о необходимости выделить из него структурные части, отвечающие за разработку стратегических задач флота, его развитие и за подготовку к войне морских театров. На основе этих подразделений предложено было создать Морской генеральный штаб. Свой проект, писал впоследствии Щеглов, он прочитал на первом собрании кружка, «в присутствии полутора десятков офицеров», и собравшиеся постановили представить проект на утверждение морского министра. Бирилёв, однако, не дал делу хода. Тогда, писал Щеглов, он на свой страх и риск ознакомил с проектом капитана 1-го ранга графа А. Ф. Гейдена, начальника военно-морской походной канцелярии Николая П. Гейден представил проект государю, который, прочитав его, повелел морскому министру провести соответствующую реформу в том виде, в каком она представлена в записке. В дальнейшем, утверждал Щеглов, он же подбирал и сотрудников Моргенштаба.
Через много лет, уже в эмиграции, Щеглов с обидой и горечью отмечал, что долгие годы идея и труд по созданию Моргенштаба приписывались то Бирилёву, то Колчаку или «даже сообществу офицеров», а имя его «действительного создателя» замалчивалось. Особое негодование у него вызывало то, что Колчак на допросе в Иркутске показал, что «якобы он был создателем Моргенштаба». Щеглов объяснял эти странные претензии тем, что протоколы допроса «составлялись большевиками», которые и присвоили Колчаку не принадлежащую ему заслугу.[414]
После нескольких лет службы в Моргенштабе Щеглов был послан военно-морским агентом (по-нынешнему – атташе) в Турцию и в дальнейшем дослужился только до капитана 1-го ранга. Вполне понятны его обида и негодование, когда мемуаристы или историки забывали его упомянуть, повествуя об этом крупном преобразовании в морском ведомстве: участие в этом деле было самым ярким событием в его не очень удачной карьере.
Однако Щеглов слишком субъективен. Только он создал Моргенштаб. Даже Гейден и царь выполняли как бы технические функции: один передавал, другой подписывал. Субъективный подход предопределил и субъективное запоминание событий. Щеглов помнит только то, что делал он, и не очень помнит, что делали другие и в какой обстановке это происходило. Неточности в его рассказе всплывают одна за другой. Так, он называет основателями кружка Римского-Корсакова, Пилкина, Колчака и себя. Выше мы видели, что это не совсем так. Утверждение же о том, что на первом заседании кружка был заслушан его доклад о создании Моргенштаба, не подтверждается протоколом. Да и не было на том собрании «полутора десятка офицеров», а всего пятеро. Далее по ходу изложения обнаружатся и другие неточности. Главное же, вызывает сомнения сама версия, будто мало кому известный лейтенант волею судьбы чуть ли не единолично провёл важнейшую реформу в морском ведомстве. Так дела не делаются.
Столь подробный разбор этого дела потребовался потому, что Щеглов бросает тень на имя Колчака, пытаясь смягчить это ссылкой на козни большевиков. Но зачем большевики стали бы приписывать Колчаку создание Моргенштаба?
В действительности Колчак не отрицал заслуг Щеглова. В одной из своих служебных записок, датированной началом 1912 года, он называл его «инициатором» создания этого учреждения. В том же году вышла книга Колчака «Служба Генерального штаба», в которой он более подробно коснулся этого вопроса. Первая записка Щеглова, писал Колчак, носила чисто фактологический характер. В ней анализировалась работа Главного морского штаба в годы минувшей войны. Особую же роль сыграла вторая его записка – «Значение и работа штаба на основании опыта русско-японской войны». Именно в ней содержался проект создания Морского генерального штаба, который, как предполагалось, должен был подчиняться непосредственно царю.[415]
Однако на допросе Колчак действительно говорил: «…Мною и членами этого кружка [Военно-морского] была разработана большая записка, которую мы подали министру…» На первый взгляд в этом есть противоречие с тем, что Колчак писал ранее. Хотя дальше в стенограмме допроса упоминаются имена Щеглова, Римского-Корсакова, Пилкина (видимо, как раз в связи с составлением записки).[416] Не очень ловкое выражение «мною и членами этого кружка», наверно, не надо понимать так, что Колчак приписывал себе руководящую роль. Шёл допрос, и пленный адмирал должен был рассказывать о себе, а не о создании Моргенштаба.
М. А. Петров, морской офицер, младший современник Колчака и Щеглова, в своей книге тоже отмечал «крупное влияние» щегловской записки. Но вместе с тем он писал, что проект создания Морского генерального штаба был выдвинут из среды офицеров флота. Бирилёв ему не сочувствовал, а потому реформу пришлось проводить «окольными путями», причём, как отмечал Петров, «главным проводником» при дворе был Гейден.[417] Автор, надо думать, был осведомлён, что записка Щеглова «Значение и работа штаба…» и проект создания Моргенштаба – это один и тот же документ. И всё же, как и Колчак, считал его как бы коллективным творением. Так кто же автор проекта и вообще всей реформы?
К сожалению, в архиве Моргенштаба упомянутую записку (или проект) обнаружить не удалось. История создания этого органа по архивным документам прослеживается с 1 апреля 1906 года. В этот день исправляющий должность начальника Главного морского штаба контр-адмирал А. Г. Вирениус телеграфировал в Либаву о срочном вызове в Петербург командира крейсера «Громобой» капитана 1-го ранга Л. А. Брусилова «для обсуждения вопросов, связанных с организацией Оперативного отделения, начальником коего он будет назначен».[418]
Далее в архивном деле следует докладная записка Брусилова на имя морского министра. Брусилов пишет, что ознакомился с запиской Щеглова и пришёл к мысли, что начать работу, «надеясь на её успешность», можно только при определённых условиях. Первым из этих условий было назначение в новый орган перечисленных в докладной записке офицеров. В списке Брусилова значилось пять капитанов 2-го ранга (первым упоминался Римский-Корсаков) и 11 лейтенантов. В лейтенантском списке Колчак шёл четвёртым, Щеглов – пятым, а последним – М. И. Смирнов (впоследствии – ближайший сподвижник Колчака).[419] Таким образом, у Щеглова обнаружилась ещё одна неточность – список сотрудников Моргенштаба составлял не он.
22 апреля 1906 года в здании Адмиралтейства состоялось совещание по вопросу об организации Управления Морского генерального штаба. Были приглашены, с одной стороны, старые, заслуженные адмиралы, а с другой – кое-кто из молодёжи, в том числе Римский-Корсаков, Щеглов и Кирилин. Открывая совещание, Бирилёв, в частности, сказал: «Большинство знакомо с проектом лейтенанта Щеглова; этот проект хорош – он не сам его составил, ему это было поручено, и Щеглов внёс в этот проект всё, что может внести даровитая и пылкая юность».[420]
В этой тираде особо примечательны слова «…он не сам его составил, ему это было поручено…». Кем поручено? Конечно, не Бирилёвым, который тормозил это дело, хотя в конце концов вынужден был назвать себя его сторонником. И не Вирениусом, который на том же совещании выступал за очень постепенное проведение реформы – так, чтобы её и не было заметно. Тогда… – Гейденом?!
Да, А. Ф. Гейден, племянник известного общественного деятеля П. А. Гейдена, вряд ли был просто передаточной инстанцией. Скорее всего его роль была активнее и он был знаком не только со Щегловым, но и с другими членами кружка (ведь он был почти их ровесником), хотя высокое положение, которое он занял, препятствовало ему появляться на его заседаниях. Вполне возможно, что мысль о создании Моргенштаба действительно впервые возникла у Щеглова на основании его работы с документами. Но вопрос, по всем косвенным данным, обсуждался в кружке. Может быть – и на частных встречах с Гейденом. В конце концов Щеглову было поручено составить записку. После обсуждения в кружке она была направлена сначала «законным» путём – через министра, а затем – «окольным». Кандидатуру Брусилова наметил либо кружок, либо сам Гейден. При такой комбинации вполне понятно, что Щеглов, человек очень субъективный, смотрел на записку, как на своё произведение, а другие участники этих дел, как Колчак, или очевидцы, как Петров, считали, что это в какой-то мере всё же плод коллективного творчества.
24 апреля 1906 года последовал «высочайший» рескрипт на имя морского министра о выделении из состава Главного морского штаба стратегической части «в отдельное в составе Морского министерства учреждение» под названием Управление Генерального штаба.[421] (Щеглов же, как мы помним, планировал вывести его из министерства и подчинить непосредственно царю.) 5 июня того же года был издан указ об образовании Морского генерального штаба, который, как говорилось в указе, «имеет предметом своих занятий составление плана войны на море и мероприятий по организации боевой готовности морских вооружённых сил Империи».[422]
Начальником Моргенштаба был назначен Лев Алексеевич Брусилов (1857–1909), возведённый вскоре в звание контр-адмирала. Это был младший брат генерала А. А. Брусилова, прославившегося в годы Первой мировой войны своим знаменитым прорывом. Младшего Брусилова знающие люди называли «выдающимся офицером флота своего времени»,[423] и его звёздный час наступил раньше, чем у старшего брата. В Моргенштабе вокруг Брусилова сплотились многие талантливые и преданные делу офицеры. Среди них был и Колчак, прикомандированный к Штабу с 1 мая 1906 года и в том же месяце назначенный заведовать Отделением русской статистики.[424]
«Отделение русской статистики, – писал Колчак, – имеет главной своей задачей представить в обработанном виде военно-статистический материал, относящийся до Русского флота, который явился бы основанием для занятий Оперативного отделения с конечной целью выработки плана войны». Короче говоря, руководимое Колчаком отделение должно было в каждый данный момент знать, каковы силы и средства флота. Под началом Колчака служили лейтенанты Л. Постриганев, П. Владиславлев и И. Черкасов. Колчак и Постриганев занимались вопросами личного состава, Владиславлев ведал всем, что касалось сигнализации и средств связи, карт и планов крепостей, Черкасов собирал сведения об артиллерийском и минном вооружении, бронировании кораблей, о заказах орудий, снарядов, мин и пороха.[425]
Первая и Вторая тихоокеанские эскадры формировались из состава Балтийского флота. Их гибель в 1904–1905 годах по существу означала, что погиб Балтийский флот. В 1906 году огромное по протяжённости балтийское побережье России (от шведской границы на севере до немецкой на юге) охраняла эскадра из двух броненосцев («Слава» и «Цесаревич», вернувшийся с Дальнего Востока), двух броненосных крейсеров («Россия» и «Громобой») и четырёх крейсеров 1-го ранга («Олег», «Богатырь», «Диана» и «Аврора»). Кроме того, был ещё один очень устаревший броненосец «Александр II».[426]
Пришла в упадок и береговая оборона, которой в предшествующие годы не уделяли должного внимания. Обследовав её, начальник Моргенштаба пришёл к печальным выводам: «Вся оборона берегов представляется вполне карточной и, конечно, не представляет никакой серьёзной обороны… Кронштадт и Петербург де-факто совсем не защищены».[427] Такое положение, когда столицу с моря можно было взять едва ли не голыми руками, конечно, было нетерпимо. Восстановление Русского флота, прежде всего Балтийского, стало насущной государственной задачей.
В это время на Балтийском заводе в Петербурге достраивались броненосцы «Андрей Первозванный» и «Император Павел I», заложенные ещё до войны. В Англии был заказан броненосный крейсер «Рюрик», во Франции – броненосный крейсер «Адмирал Макаров» и дивизион из восьми миноносцев.[428] Но из-за недостатка средств строительство их затянулось. Война и революция опустошили государственную казну. Так, например, в 1906 году Морскому министерству на судостроение было отпущено всего 4 миллиона рублей, и Бирилёв ломал голову, на что же их употребить.[429]
Однако достройка заложенных броненосцев тоже не решала проблему защиты балтийского побережья. Эти корабли были уже устаревшими, ибо строились по старым чертежам. Между тем мировое военное кораблестроение, основываясь на опыте Русско-японской войны, перешло к новому типу линейных кораблей. Первый из них, построенный в Англии, был назван «Дредноут» («Неустрашимый»). Это стало общим названием броненосцев нового типа.
«Дредноуты» имели новейшие турбинные двигатели, резко увеличившие скорость их хода, броню повышенной прочности и мощную артиллерию с орудиями до 16–18 дюймов. Появление «дредноутов» сделало устаревшим весь мировой броненосный флот, и главные морские державы стали спешно перевооружаться.
Осенью 1906 года морской министр Бирилёв вошёл в Совет министров с просьбой об отпуске средств на постройку двух «дредноутов». Правительство передало вопрос на заключение Совета государственной обороны (СГО). В этом совещании большинство мест принадлежало сухопутным генералам, которые считали, что России нужен прежде всего минный флот, а не линейный. Такого же мнения придерживался и председатель СГО великий князь Николай Николаевич. Чтобы снять вопрос о «дредноутах» с очереди, он потребовал от морского министра представить общую кораблестроительную программу.
Бирилёв приказал Моргенштабу срочно составить программу судостроения для Балтийского моря на ближайшее четырёхлетие. В Штабе велась работа над общей перспективной программой судостроения, и в середине декабря Брусилов представил министру составленный на её основе проект «Малой судостроительной программы», рассчитанной на ближайшие четыре года. Не очень доверяя Моргенштабу, министр дал такое же поручение и Главному морскому штабу. Обе программы предусматривали строительство четырёх «дредноутов», но Моргенштаб хотел присоединить к ним несколько броненосных крейсеров, а Главный морской штаб разработал более «облегчённый» вариант, включавший большее число лёгких крейсеров, миноносцев и подводных лодок.
Бирилёв не стал согласовывать программы, а заслал обе в СГО. Николай Николаевич очень возмутился тем, что морской министр представляет недоработанные документы, и вернул всё обратно. Произошёл скандал, и Бирилёв должен был уйти в отставку.[430]
Николай II предложил освободившийся пост Ф. В. Дубасову, но тот отклонил предложение, сославшись на плохое здоровье (он и в самом деле вскоре умер). Главное же, что заставило Дубасова отказаться, – это казавшаяся ему безнадёжной борьба с Николаем Николаевичем. Тогда Николай II спросил о других кандидатурах и, в частности, об Е. И. Алексееве. Дубасов пришёл в ужас от возможности такого назначения и без утайки высказал своё мнение. В конце концов морским министром стал адмирал И. М. Диков. Это был пожилой человек и, как говорили, не очень подходящий для этого поста.[431] Но, как бы то ни было, при Дикове «проблема Николая Николаевича» была решена.
2 апреля 1907 года новый морской министр вошёл к царю с докладом о программе судостроения. Николай II снова направил вопрос в СГО, сделав пометку, что в основе программы «должен быть поставлен линейный флот». Заседание СГО было долгим и бурным. «Подобные затраты на флот для государства непосильны», – говорили сухопутные генералы, не желая, чтобы моряки перехватывали ассигнования, которые могли пригодиться в их ведомстве. А Николай Николаевич вновь нашёл предлог, чтобы задержать дело. Теперь он требовал, чтобы прежде была представлена единая программа развития вооружённых сил Империи. Это мнение поддержало большинство Совета, за исключением моряков.[432] Работа над такой программой ещё не была завершена ни в сухопутном Генеральном штабе, ни в Морском. Сухопутный Генштаб вообще действовал медленнее, чем Морской. Так что вопрос о судостроении откладывался на долгий срок.
Дело, однако, обернулось иначе. Николай II не утвердил журнал СГО и созвал под своим председательством специальное морское совещание. Оно и утвердило «Малую судостроительную программу», рассчитанную на четыре года.[433] Затем она рассматривалась в Совете министров, который предоставил морскому министру право вносить соответствующие ассигнования в ежегодную смету своего министерства, утверждаемую в законодательном порядке. Осенью 1907 года собралась III Дума, в которую был внесён бюджет на следующий год. Смета расходов военного и морского ведомств рассматривалась в Комиссии по государственной обороне, председателем которой был лидер партии «Союз 17 октября» А. И. Гучков.
Подкомиссия, рассматривавшая вопрос о судостроении, собиралась, как вспоминал октябрист Н. В. Савич, то в Таврическом дворце, то в менее официальной обстановке – на какой-либо частной квартире, чаще у Ю. Н. Милютина, одного из основателей и лидеров «Союза 17 октября», или у А. А. Столыпина, брата председателя Совета министров.
В качестве экспертов в этих обсуждениях участвовали молодые офицеры из Моргенштаба. «…Первое впечатление от этих встреч было подкупающим, – писал Савич. – И среди этой образованной, убеждённой, знающей своё ремесло молодёжи особенно ярко выделялся молодой, невысокого роста офицер. Его сухое, с резкими чертами лицо дышало энергией, его громкий мужественный голос, манера говорить, держаться, вся внешность – выявляли отличительные черты его духовного склада, волю, настойчивость в достижении, умение распоряжаться, приказывать, вести за собой других, брать на себя ответственность. Его товарищи по Штабу окружали его исключительным уважением…» Этим офицером, как догадался читатель, был лейтенант А. В. Колчак. Савич добавлял к сказанному, что «Колчак был страстным защитником скорейшего возрождения флота, он буквально сгорал от нетерпения увидеть начало этого процесса, он вкладывал в создание морской силы всю свою душу, всего себя целиком, был в этом вопросе фанатиком».[434]
Однако обстановка и в подкомиссии, и в комиссии мало способствовала проведению в жизнь идей Колчака и его друзей. Многие члены Думы отдавали дань «антифлотским» («цусимским») настроениям. А кроме того, бюджетный дефицит составлял около 200 миллионов рублей, и это заставляло экономить и заниматься крохоборством.
«Опыт недавней войны засвидетельствовал, – говорилось в докладе подкомиссии, – что вся организация как центральных, так и местных установлений морского ведомства нуждается в коренном преобразовании. Только глубокая реформа административных и технических учреждений министерства способна обеспечить действительно плодотворную работу ведомства вообще, а в деле судостроения в частности».
Таким образом, от Морского министерства требовали прежде всего реорганизации. А пока, как считали думские деятели, оно должно озаботиться обороной берегов: модернизировать имеющиеся морские базы, строить новые, развивать малый и вспомогательный флот (миноносцы, подводные лодки, плавучие базы). Что касается «дредноутов», то их надобность пока неясна, конструкция не отработана, с новыми турбинными двигателями будут проблемы. А потому вопрос лучше отложить на год, когда закончится реорганизация и всё более или менее выяснится.[435] 3 марта 1908 года состоялось заседание Комиссии по государственной обороне, на которое были приглашены председатель Совета министров П. А. Столыпин и морской министр Диков. Возможно, присутствовали и офицеры Моргенштаба, в том числе Колчак.
Возражая против предложения озаботиться прежде всего обороной берегов, для чего нужен якобы только малый и специальный флот, морской министр говорил: «В этом большая ошибка. Оборонять берега надо в открытом море. Надо господствовать на море, тогда берега будут обеспечены, а это можно сделать с линейным флотом». Конечно, продолжал Диков, наилучший вариант – строить и флот, и базу. Но если денег не хватает, то сначала нужно строить флот, «потому что флот без базы имеет значение, база же без флота – разве только для того, чтобы неприятель вошёл».[436] Современники, видимо, недооценивали старого адмирала Дикова. Это был прекрасный профессионал, хорошо разбиравшийся в морском хозяйстве, в морской стратегии и тактике.
Вслед за морским министром слово взял П. А. Столыпин, который, при всей своей миролюбивой и взвешенной внешней политике, был активным сторонником возрождения флота.
Среди членов комиссии, говорил он, есть люди, которые считают, что флот для России, по крайней мере линейный, совсем не нужен, что Россия – не морская держава, что ей нужны только береговые оборонительные сооружения. Конечно, продолжал премьер, «убеждать людей очень трудно, а переубедить почти невозможно». Такое мнение, не разделяя его, нужно учитывать, хотя не надо забывать и того, что «если флота не будет, то придётся отойти вглубь страны».
Однако, говорил Столыпин, большинство комиссии, как видно, всё же считает, что флот для России нужен, в том числе и линейный флот: «Правительству во флоте не отказывают и говорят, что оно легко может заняться воссозданием сухопутной армии, затем перестроить морское ведомство, и уж затем перестроенное ведомство перестроит флот».
Общая программа реорганизации и усиления вооружённых сил государства постепенно разрабатывается, докладывал премьер. Дело это долгое и трудоёмкое, ибо нелегко представленные обширные теоретические программы согласовать с действительными нуждами и финансовыми возможностями. И пока план ещё не разработан окончательно, надо «и в армии, и во флоте принимать меры паллиативные».
Реформирование морского ведомства уже началось и продолжается, говорил Столыпин. И если сейчас остановить обновление флота, если ждать, когда он обратится в «коллекцию какой-то старой посуды», то будет убит тот дух обновления и созидания, который «ещё жив до сих пор во флоте». (По-видимому, Столыпин знал о движении молодых флотских офицеров и сочувствовал ему.)
Конечно, говорил председатель Совета министров, кое с чем надо подождать, «но нужно ждать умело», чтобы «не убить жизнеспособности флота» и не лишить его возможности «осуществить скромную задачу защиты наших берегов». «…В свойстве нашего русского характера, – сказал в заключение Столыпин, – есть известного рода наклонность к промедлению… Никаких пышных фраз я произносить не желал бы, но мне в данную минуту припоминаются слова, сказанные создателем Русского флота, всё тем же Петром Великим, при котором впервые застучал топор русского строителя на русских верфях. И эту фразу, сказанную в то время, нужно помнить и теперь. Слова эти: „Промедление смерти безвозвратной подобно“».[437]
Ни речь Дикова, очень доходчивая, понятная даже дилетантам, ни речь Столыпина, очень яркая, с типичной для него эффектной концовкой, поколебать думскую комиссию не смогли. Видимо, и в самом деле убедить людей очень трудно, а переубедить почти невозможно. В итоге Комиссия по государственной обороне утвердила кредиты на окончание строительства заложенных судов, на сооружение миноносцев, подводных лодок и плавучих баз, но отклонила ассигнования на закладку новых линейных кораблей. Это решение было утверждено на пленарном заседании Думы.[438]
Колчак, как видно из его слов на допросе, тяжело переживал эту неудачу. Её можно считать одной из причин того, что вскоре он покинул Моргенштаб.[439] Уход, как позже выяснилось, был поспешным. И как раз ко времени расставания с Моргенштабом Колчак закончил свой теоретический труд «Какой нужен России флот».
Впервые с докладом на эту тему Колчак выступил в своём кружке 21 декабря 1907 года. Затем повторил его в Клубе общественных деятелей в Петербурге, в Кронштадтском обществе офицеров флота и в Обществе ревнителей военных знаний. В 1908 году этот труд был опубликован в двух номерах (шестом и седьмом) «Морского сборника» за подписью «Капитан 2-го ранга Колчак» (в апреле 1908 года он получил это звание).
Как человек военный, Колчак, конечно, не был пацифистом, не верил в утопии о «вечном мире». «Война, – писал он, – есть одно из основных явлений жизни государства, сущность которого заключается в непреклонном осуществлении государственной воли по отношению к противнику путём применения открытой силы».[440] Война может быть наступательной, агрессивной (такая война, считал Колчак, не всегда бывает действительно необходимой) и оборонительной, и эта война является неизбежной, если агрессор не желает отступить от своих замыслов.
Но такое разделение, утверждал Колчак, касается только политики, но не военной стратегии. «Как всякая борьба, – писал он, – единственно целесообразною может быть война только наступательная, уже по одному основному её принципу желательности перенесения всей тяжести военных действий и связанных с ними разрушений на территорию противника». Это был для Колчака основополагающий принцип, которому он оставался верен до конца своих дней.
«Современный строй государства, – продолжал Колчак, – опирается на политико-экономические основания такого свойства, что не только не умаляется сколько-нибудь значение войн, но они принимают уже формы, не позволяющие ни одному государству быть безучастным зрителем вооружённого столкновения соседей. И чтобы иметь право принять или не принять участие в борьбе за посторонние интересы, надо иметь силу, обеспечивающую это право». Чтобы не участвовать в войне соседей, справедливо подчёркивал Колчак, надо тоже иметь силу, иначе одна из сторон или обе вместе попытаются отыграться за счёт ресурсов и интересов беззащитной страны.
«Безопасность государства, или – что то же самое – его границ, не может быть обеспечена ни чем другим, кроме вооружённой силы, единственного средства настоящего времени, способного разрешить межгосударственные интересы, не укладывающиеся в рамки дипломатических сношений, – писал Колчак. – Безопасность государства не может зависеть от состояния политики и быть обусловленной какими-либо трактатами или договорами, если последние не опираются на реальную силу. Морские границы не представляют в этом смысле исключения, наоборот, они, как более опасные, требуют особенно надёжного обеспечения».[441]
Во время войны море, замечал Колчак, соединяет силы той стороны, которая на нём господствует, и разъединяет силы той, у которой более слабый флот. Во время войны морская граница страны, имеющей сильный флот, может быть отодвинута вплоть до побережья противника. И наоборот, страна со слабым флотом может ожидать неприятельский десант в любой точке своего побережья.
Территориальное развитие Русского государства, полагал Колчак, ещё не вполне закончилось – Россия не достигла своих естественных границ, определяемых открытыми морями и океанами. Она вышла только к внутренним морям, выходы из которых ею не контролируются. Поэтому, теоретически рассуждая, она должна бы иметь на каждом из таких морей флот, равный или превосходящий морские силы наиболее крупного на этом море государства. Но это в настоящее время невозможно, да и безопасность государства этого не требует. Ибо, как указывал Колчак, морские границы не на всём своём протяжении имеют одинаковое значение.
Приобретение в аренду участка на берегу Жёлтого моря, писал Колчак, ныне именуют «дальневосточной авантюрой». Но разве походы Хабарова, Пояркова и Атласова – не авантюры? А подвиги Невельского, поднявшего русский флаг там, где не было приказа его поднимать? А деятельность Муравьёва-Амурского? Всё это, отмечал Колчак, не вызывалось «действительной государственной необходимостью и не определялось реальной государственной мощью». Всё это – вклад в далёкое будущее, который пока не приносит процентов. «Распространение России на берега Тихого океана, – писал он, – этого Великого Средиземного моря будущего, является пока только пророческим указанием на путь её дальнейшего развития, связанный всегда с вековою борьбой, ибо только то имеет действительную ценность, что приобретено путём борьбы, путём усилий. Минувшая война – первая серьёзная борьба за берега Тихого океана…»
Колчаковские оценки Русско-японской войны, как видим, отличались трезвой реалистичностью. Эта война рассматривалась им в контексте векового движения России к Тихому океану – движения, в котором неизбежны победы и поражения.
И пока, продолжал Колчак, прилегающие к Тихому океану владения России недостаточно заселены и освоены, их безопасность должна достигаться политическими методами, опирающимися на военную мощь государства. Но постоянное присутствие последней, в виде сильного флота, не обязательно. Величина страховки не должна превышать стоимость страхуемого имущества, если рассматривать флот как страховое средство.[442]
Совершенно иначе представлялся автору Южно-русский край, прилегающий к Чёрному морю. Это важнейший промышленный район, и сюда, как полагал Колчак, в будущем, возможно, сместится экономический центр государства. Угроза Черноморскому побережью представляет для России величайшую опасность, но на берегах этого моря нет державы, от которой может реально исходить такая угроза. Она может появиться в том лишь случае, если какая-либо другая, нечерноморская страна приведёт сюда свои вооружённые силы. «Борьба за неприкосновенность Чёрного моря и наших границ, на нём расположенных, – делал вывод Колчак, – имеет все данные разрешиться на западном сухопутном фронте Империи, частью на других северных водах».[443]
Гораздо сложнее, по мнению автора, обстояло дело на Балтике, где Россия соприкасалась с одной из сильнейших держав мира, политика которой отличалась воинственностью и была направлена против её мирового конкурента – Англии. Германский флот, писал Колчак, в настоящее время господствует на Балтике, контролируя её воды вплоть до передовых фортов Кронштадта – всего в 50 верстах от Петербурга. «Взятие и потеря столицы всегда в истории войн имели огромное значение, а иногда определяли окончание вооружённой борьбы за интересы государства, так как столица, с военной точки зрения, является одною из основных организационных и снабжающих баз вооружённых сил страны». Кроме того, в случае войны войска западного фронта будут иметь у себя на фланге и в тылу море, где господствует неприятель. «Наше политическое могущество 200 лет назад создалось на водах Балтики, – писал Колчак, – и нет решительно никаких оснований думать, что за этот период значение Балтийского моря для нас утратилось. Исходя поэтому из оснований государственной безопасности… следует признать, что вооружённая морская сила должна быть создаваема на Балтийском море».[444]
Таким образом, Колчак, трезво оценив финансовые возможности России и рассмотрев её геополитическое положение, сделал вывод о решающем значении балтийского морского театра. Именно здесь предлагал он создать самый сильный и передовой в техническом отношении флот.
Какие же корабли должны были составлять этот флот? 0б этом шла речь во второй части статьи Колчака.
Он решительно отвергал распространённые в то время теории о «дешёвом», «оборонительном» флоте. Такой флот не только не защитит берегов, доказывал он, но и обойдётся фактически дороже, чем «нормальный», способный вести войну в открытом море флот.
Основываясь на опыте войны с Японией, Колчак писал, что «главною и основной операцией морской войны есть бой с вооружёнными силами противника». Бой ведётся силами линейных кораблей. Но поединку линкоров предшествует разведка, а после боя перед победившей стороной встаёт задача «эксплуатации победы», ибо основательное преследование побеждённого противника – это, по сути дела, ещё одна победа. Разведку и преследование ведут главным образом лёгкие крейсеры и миноносцы. Поэтому эскадра и должна состоять из этих основных компонентов, но главная ударная её сила – это линейные корабли.
Колчак отрицал право на существование такого типа кораблей, как «броненосец береговой обороны». Тихоходный, с ограниченным радиусом действия, этот корабль не может противостоять современному «дредноуту» ни в открытом море, ни у берегов. Миноносцы же, занимавшие видное место в теориях «оборонительного флота», в действительности годились, по мнению автора статьи, лишь для разведки, для добивания кораблей с ослабленной обороной и для внезапных ночных атак. Но на Балтике, писал Колчак, в период белых ночей такие атаки малопродуктивны.[445]
Особенно обстоятельно разобран в статье вопрос о подводных лодках. Этот новый вид боевого корабля, считал Колчак, возник вследствие малой эффективности минных атак со стороны надводных кораблей (миноносцев) в дневное время. Миноносец как бы ушёл под воду, стал почти незаметен и получил возможность атаковать днём. Но при этом сильно потерял в скорости. Кроме того, подводная лодка плохо видит, что делается над поверхностью вод, а в воде и вовсе слепа. Так что «идея замены современного линейного флота подводным, не имеющим пока никакого боевого опыта, может увлечь только дилетантов военного дела, да и то смотрящих на это дело с экономической точки зрения». По существу же, писал Колчак, подводная лодка «является миной заграждения с увеличенным радиусом вероятного действия… и в этой роли она является достаточно грозным оружием, чтобы признать полную законность его существования. Что же касается самостоятельности её действия в открытом море в качестве главного агента войны, то ясно, что лодка до этого ещё не доросла, да и вряд ли когда-нибудь дорастёт».[446]
«Какой же флот нужен России? – этот вопрос Колчак задавал в конце статьи и отвечал на него. – России нужна реальная морская сила, на которой могла бы быть основана неприкосновенность её морских границ и на которую могла бы опираться независимая политика, достойная великой державы… Эта сила лежит в линейном флоте и только в нём… Ограничивая временно значение морской силы под давлением условий внутреннего состояния государственного, следует ограничить до известного предела размеры создаваемой силы, не изменяя её качественно».[447]
Статья Колчака, отличавшаяся одновременно принципиальностью и реалистичностью, была основана на господствовавших в Моргенштабе идеях, в формировании которых он сам участвовал. По сути, она стала теоретическим обоснованием всего военного судостроения накануне Первой мировой войны.
Единственный существенный недостаток этой статьи, который усмотрели современники, касался подводных лодок. Д. В. Ненюков писал впоследствии, что Колчак «был одним из виновников запоздания развития нашего подводного флота, так как верил в неодолимую силу дредноутов. В 1913 году он сознал свою ошибку, не побоялся открыто высказать это и настаивал на скорейшем создании сильного подводного флота во всех наших морях».[448]
Колчак участвовал и в перестройке аппарата управления морского ведомства. В архиве сохранилась его записка «Основные соображения для реформы Главного управления кораблестроения и снабжений и Технического комитета». Управление, в чьём ведении находились все состоящие в морском ведомстве заводы и верфи, которое ведало кроме того строительством портов, крепостей и маяков, а также закупало для флота топливо, металл и продовольствие, составляло сметы Морского министерства, Колчак считал образцом непомерной «централизации хозяйства». Глава этого ведомства в ведомстве, писал Колчак, «доминирует над плавающим боевым флотом, который, пребывая в материальном гнёте слишком 20 лет, с плохо построенными, дурно снабжёнными кораблями, безыскусно потонул при Цусиме». Неудовлетворительное функционирование Морского технического комитета он объяснял нагромождением на него самых разных обязанностей.
Решение проблемы Колчак видел в том, чтобы каждая структурная часть Морского министерства полностью отвечала за возложенное на неё какое-то одно главное дело. Кроме того, следовало как можно более «раздецентрализовать» в порты функции Главного управления кораблестроения и снабжений и совершенно отделить флот строящийся и ремонтируемый от плавающего, позволив последнему сосредоточиться на боевой подготовке. С этой целью Колчак намечал создать ряд новых органов с минимальным центральным аппаратом: Дирекцию кораблестроения, Техническое бюро, Главное управление верфями (для ремонта судов) и Главное морское интендантское управление (для снабжения плавающего флота). Колчак предостерегал от соединения кораблестроительной и технической (конструкторской) частей. «Первая из них, – писал он, – по своему духу всегда консервативна, вторая – олицетворяет новаторское начало и технический прогресс. Только разъединив их, можно добиться того, чтобы утверждённый проект воплощался в жизнь таким, каким он был создан».[449]
Реформа, однако, пошла по несколько иному пути. В 1911 году Главное управление кораблестроения и снабжений и Морской технический комитет были объединены в Главное управление кораблестроения, а функции снабжения были отданы вновь созданному Главному морскому хозяйственному управлению.[450]
В Моргенштабе, вспоминал Ненюков, Колчак «играл немаловажную роль»: «Здесь мне удалось ближе к нему присмотреться. Александр Васильевич был человек глубоко честный и преданный своему делу. Карьеризма в нём не было никакого. Наоборот, он был, пожалуй, даже слишком скромен, и ловкачи из его товарищей шли всегда впереди него по службе. Он выдвигался исключительно своими делами, а не умением показать товар лицом… Будучи прекрасным оратором, он мог подчинять себе мнение слушателей…» Далее мемуарист упоминал такие черты характера Колчака, как решительность и порывистость, отмечая, что «порой сдерживающие тормоза у него плохо действовали».[451]
Колчаки снимали квартиру на Большой Зелениной, 3. В этом довольно удалённом районе на Петербургской стороне жили средней руки чиновники и офицеры. Четырёхэтажный дом с тяжёлыми эркерами сохранился до наших дней, хотя выглядит сейчас неприглядно. Если пройти под арку, откроется внутренний дворик – типичный петербургский «колодец». «Наша обстановка (хотя и не всё в ней), – писала Софья Фёдоровна в одном из писем, – носит отпечаток изящества и благородства, известной уютности».[452] Домашних забот прибавилось, когда родилась дочь Татьяна (25 января 1908 года).[453]
Александр Васильевич, судя по всему, мало участвовал в домашних делах. Возвратившись со службы довольно поздно, садился за труды X. Мольтке, известного немецкого военного теоретика. Софья Фёдоровна не жаловалась на жизненные тяготы. «…Честолюбивым людям, – писала она, – надо мириться с сравнительной бедностью и огорчаться нечего, если… не хватает того или другого». Слово «честолюбие» она производила от коренного слова «честь», а не от производного – «чествовать». Она говорила, что отсутствие чести, то есть нечестность, вкупе с «материализмом», то есть с погоней за материальными благами, за богатством, погубили Россию в минувшую войну и «губят всё, на чём основана жизнь человеческая».[454]
Однако Мольтке явно вызывал у неё чувство ревности. Она грозилась, что «когда-нибудь» (уточняя – «в случае войны с Германией») обольёт керосином и предаст огню его труды. С удовольствием сообщала мужу, что одна из её знакомых «видела в натуре этого героя твоих дум» и рассказывала, что у него была маленькая голова и что он был высок и некрасив.[455]
Софья Фёдоровна оставалась всё той же идеалисткой, какой вышла из Смольного института. А Колчак сильно изменился и посуровел после Порт-Артура. Ослабла привитая в детстве религиозность. Из одной фразы, проскользнувшей в письме Софьи Фёдоровны, можно понять, что её муж высказывал сомнения в христианском учении о бессмертной человеческой душе: «…Для меня главное спокойствие духа, той самой души, которую ты берешь на себя смелость отрицать».[456] Из писем С. Ф. Колчак можно понять, что отношения между супругами были не всегда ровными.
* * *
Осенью 1908 года вопрос о «Малой судостроительной программе» неожиданно получил благоприятный оборот. Государственный совет, верхняя палата российского парламента, восстановил в государственной росписи кредиты на судостроение. Дума уступила. Николай II приказал приступить к постройке четырёх линейных кораблей.
30 июня 1909 года были заложены первые русские «дредноуты»: «Петропавловск», «Севастополь», «Гангут» и «Полтава». В том же году, к большой радости моряков, был упразднён Совет государственной обороны, который сильно затруднял перевооружение флота. Поэтому на следующий год, когда разнеслась весть о предстоящем перевооружении турецкого флота, довольно легко прошёл вопрос о строительстве трёх «дредноутов» для Чёрного моря. В конце 1911 года на верфях в Николаеве были заложены линейные корабли: «Екатерина II», «Император Александр III» и «Императрица Мария».[457] Это было частью «Большой судостроительной программы», которая разрабатывалась в Моргенштабе.
Вообще же за период 1905–1909 годов в морском ведомстве произошли важные перемены. Помимо упразднения должности генерал-адмирала и создания Моргенштаба, была проведена ещё одна крупная реформа: расширены права старшего плавающего адмирала, стоящего во главе флота (в мирное время он назывался начальником соединённых частей, в военное – командующим флотом). Если прежде руководство флотом осуществлялось с берега, то теперь командующие самостоятельно решали многие вопросы.
В эти же годы был отменён так называемый «морской ценз» – совокупность требований, установленных со специальной целью затруднить служебное продвижение молодых офицеров. Колчак, например, в чине лейтенанта прослужил около десяти лет, побывав за это время в двух полярных экспедициях и в осаждённом Порт-Артуре. Отмена «морского ценза» открывала возможность талантливым офицерам быстрее восходить по служебной лестнице.
И наконец, флот перешёл на круглогодичную морскую службу. В эпоху парусного флота с окончанием навигации флот зимовал в гаванях, а команды перебирались на берег в морские экипажи – судовая жизнь останавливалась. Эти порядки долго держались и в эпоху парового флота, когда появилась возможность круглогодичного пребывания на судне. И только после войны с Японией были введены новые порядки: продолжительность плавания увеличилась, команда постоянно оставалась на корабле, военно-морская подготовка не прекращалась и зимой.[458]
Однако в 1908 году в руководстве флота произошли перестановки, на некоторое время задержавшие дальнейшие перемены.
Начальники двух Генеральных штабов, морского и сухопутного, по-разному смотревшие на многие вопросы, сошлись в одном важном пункте. Оба считали, что Генеральные штабы, по германскому образцу, должны подчиняться не министрам, а непосредственно императору.[459] По-видимому, были сделаны какие-то шаги, чтобы провести в жизнь эту идею. Дело дошло до министров, и начальник сухопутного Генерального штаба генерал Ф. Ф. Палицын тут же был отправлен в отставку. Уход Брусилова обставили более деликатно. В 1908 году он получил звание вице-адмирала и был назначен младшим флагманом Балтийского флота. Конечно, он понимал, что это отставка. Человек очень впечатлительный, он тяжело переживал то, что его отстранили от главного дела его жизни. Вскоре он заболел и в 1909 году умер.
Начальником Моргенштаба стал контр-адмирал А. А. Эбергард, в своё время служивший в штабе у Е. И. Алексеева и усвоивший многие его традиции. Вскоре ушёл в отставку Диков. Новый министр, С. А. Воеводский, быстро расстроил наладившееся было сотрудничество с Государственной думой. Работа Моргенштаба теряла былое одушевление. Многие сподвижники Брусилова получали новые назначения. Щеглов перед уходом заявил, что «Моргенштаб скоро перестанет существовать, но через некоторое время его придётся создавать вновь».[460] Колчак, не оставляя пока старую должность, начал читать лекции в Морской академии.[461]
В это же время начальник Главного гидрографического управления А. И. Вилькицкий обратился к Колчаку с предложением возобновить исследовательскую работу в Северном Ледовитом океане. Возможно, Колчак и сам уже подумывал над этим. Служба в Моргенштабе приобретала рутинный характер, а Колчак больше всего ненавидел рутину. Арктика же притягивала не только в силу какого-то особого своего магнетизма в отношении тех, кто там побывал, но и воспоминаниями об ушедшей молодости и о первых крупных жизненных успехах.
И всё же уход из Моргенштаба был нелёгким, ибо оставалось ощущение незаконченного дела.
Снова – в Арктику
Война с Японией наглядно показала, насколько важен для России Северный морской путь. Только с его помощью Русский флот мог бы перебросить свои силы на Тихий океан, не совершая полукругосветных путешествий. Только с его помощью Россия могла установить действенный контроль над своими северо-восточными окраинами, упрочить их экономические связи с метрополией.
Для изучения вопроса о Северном морском пути в 1906 году была создана специальная комиссия во главе с адмиралом В. П. Верховским. На одном из её заседаний, 23 августа 1906 года, А. В. Колчаку было поручено составить для морского министра записку об условиях плавания вдоль арктического побережья России. В сентябре того же года Колчак представил «Памятную записку о плавании Северо-восточным проходом вдоль берегов Сибири от устья р. Енисей до Берингова пролива». Основываясь на опыте экспедиции Э. В. Толля и других, более ранних экспедиций, Колчак утверждал, что наибольшие трудности для плавания представляет район Таймыра – самая северная часть Евразийского континента. Далее же к востоку «имеются все шансы на беспрепятственную навигацию благодаря влиянию на прибрежные части моря великих сибирских рек». Вследствие этого систематические исследования, гидрографические и картографические, он предлагал начать у западных берегов Таймырского полуострова и продолжать их постепенно далее на восток.[462]
Комиссия Верховского разработала план широкомасштабной комплексной экспедиции. Предполагалось отправить в Арктику три исследовательских отряда (по два корабля в каждом), а на её побережье и на островах построить 16 геофизических станций. Председатель комиссии в записке морскому министру утверждал, что «через два года от снаряжения экспедиции русские отряды и эскадры боевых судов будут ежегодно делать проходы Ледовитым океаном во Владивосток».[463]
Однако состояние государственной казны было не столь блестящим, чтобы этим планам суждено было осуществиться в полном объёме. Главное гидрографическое управление Морского министерства, взявшее в свои руки дело освоения Северного морского пути, должно было исходить из тех сравнительно небольших средств, которые отпускало ему правительство. Пришлось ограничиться одним экспедиционным отрядом – из двух кораблей. Кроме того, по ходатайству дальневосточной администрации было решено начать исследование Северного морского пути с востока на запад – из Владивостока. Власти Дальнего Востока видели первоочередную задачу в том, чтобы наладить морские транспортные связи с обширными территориями северо-востока России, в частности, с бассейнами Лены и Колымы. Их беспокоило также положение на Чукотке и Камчатке, где бесконтрольно хозяйничали иностранные торговцы, главным образом американские.
По плану Главного гидрографического управления экспедиционные корабли должны были в течение двух-трех лет выходить в арктические воды и возвращаться в конце навигации во Владивосток, избегая зимовок в Северном Ледовитом океане. Продвигаясь каждый раз всё дальше на запад, они должны были в конце концов обогнуть мыс Челюскин, перейти в западную часть Арктики и после этого базироваться уже на Архангельск или на Александровск-на-Мурмане.[464]
Н. И. Евгенов, участник этой экспедиции, впоследствии вспоминал, что к обсуждению её планов были привлечены морские офицеры, побывавшие в экспедиции Толля. Они-то и предложили послать в Арктику «более активные корабли, чем деревянные суда зверобойного типа».[465] Если бы среди этих офицеров (их, как мы помним, было трое) не было Колчака, они были бы названы поимённо.
«Находясь в Генштабе, – рассказывал Колчак, – я разработал проект этой экспедиции и подал Вилькицкому…Я на основании всего предшествующего опыта полярного плавания… остановился на организации новой экспедиции на стальных судах ледокольного типа, конечно, не таких, которые могли бы ломать полярный лёд, так как опыт „Ермака“ показал, что это невыполнимо и что активная борьба с океанским льдом невозможна. Но опыт показал, что конструировать судно, которое выдержало бы давление льдов, вполне возможно… Я считал необходимым иметь два таких судна, чтобы избежать случайностей… Я, оставаясь пока в штабе, принимал в разработке этого проекта активное участие, всё свободное время я работал над этим проектом, ездил на заводы, разрабатывал с инженерами типы этих судов. В этом принимал участие и мой бывший спутник Матисен».[466]
В 1907 году на верфях Невского судостроительного завода в Петербурге были заложены два небольших корабля, каждый по 54 метра в длину и 11 метров в ширину (по максимуму). Их корпуса получили скругленную, яйцеобразную форму. При сжатии льдов они должны были выталкиваться вверх, избегая разрушения. Собственным своим весом, наезжая на ледяную кромку, корабли могли ломать однометровый молодой лёд, прокладывая себе путь по замёрзшим полыньям и трещинам между ледяными полями. На каждом пароходе было по два котла. При тихой погоде и свободной от льда воде запасов угля хватало на 12 тысяч миль. Суда, получившие названия «Таймыр» и «Вайгач», стали первыми стальными кораблями, сооружёнными специально для исследовательских работ в Арктике.[467]
29 мая 1908 года, когда строительство кораблей ещё не было закончено, Колчак был назначен командиром транспорта «Вайгач». 30 сентября того же года его зачислили во 2-й Балтийский флотский экипаж – это означало уход из Моргенштаба.[468] Отныне служебные обязанности Колчака состояли в наблюдении за строительством ледокола, комплектовании офицерского состава и команды и подготовке к экспедиции.
В начале 1909 года в семье случилось горе: 18 января, не прожив и года, умерла дочь Татьяна.[469] Это было первым ударом по семейному счастью.
Осенью 1909 года закончились заводские работы. 24 сентября Колчак вступил на капитанский мостик «Вайгача», а Матисен – «Таймыра». Началось пробное плавание в Финском заливе. Существенных недостатков оно не обнаружило, и корабли вернулись в устье Невы, бросив якоря ниже Николаевского моста (ныне – лейтенанта Шмидта), недалеко от того места, откуда отправилась в плавание «Заря».
Теперь надо было принять оборудование, приборы, топливо, продовольствие для дальнего путешествия через тёплые воды во Владивосток, а затем – в Арктику.
28 октября 1909 года «Таймыр» и «Вайгач» вышли в море.[470] Прощаясь с Софьей Фёдоровной, Колчак уже знал, что она вновь беременна.
На каждом корабле, кроме командира, было по четыре морских офицера и 38–40 человек команды. И офицеры, и судовые врачи помимо прямых обязанностей должны были вести научные наблюдения – каждый в близкой ему области. Оба врача оставили воспоминания об экспедиции, изданные в советское время. По понятным причинам имя Колчака в них не упоминается – как будто его там совсем не было. К сожалению, наименее информативные из этих воспоминаний принадлежат как раз Э. Е. Арнгольду, плававшему на «Вайгаче». По существу, они были «смонтированы» после его смерти двумя редакторами из его лекций, записанных другим человеком. Наоборот, Л. М. Старокадомский, врач с «Таймыра», оставил подробные и ярко написанные воспоминания.
На Балтике немного штормило, но суда благополучно прошли через её воды, посетив Стокгольм, Копенгаген и Киль. Русские моряки с любопытством осмотрели недавно построенный Кильский канал. Германия деятельно и всесторонне готовилась к войне. Постройка Кильского канала дала ей возможность быстро и беспрепятственно перебрасывать свой флот из Балтийского моря в Северное и обратно. В дальнейшем, во время войны, русские адмиралы ни на миг не забывали о существовании этого канала.
В Северном море «Таймыр» и «Вайгач» попали в жестокий шторм. Каждый бывалый моряк знает, что корабли со скругленными обводами – это любимая игрушка разбушевавшихся волн. Ледоколы швыряло, как мячики. Такой стремительной и частой качки до сих пор не знали, может быть, даже капитаны. На «Таймыре» кочегары по недосмотру «упустили» воду из котлов, и едва не случился взрыв. Один котёл вышел из строя. Пришлось идти в ближайший порт – Роттердам.
Голландские власти были немало смущены и обеспокоены заходом в их порт, без приглашения и согласования, двух русских военных кораблей (на каждом по четыре пушки и по два пулемёта, а экипажи имели личное оружие). После объяснений с капитанами и чиновниками из русской миссии инцидент вроде был исчерпан. Но голландцы заломили за ремонт непомерную цену. Видимо, они всё же не хотели чинить русские военные корабли, опасаясь бросить тень на свой нейтралитет. Из Петербурга пришло распоряжение идти во французский Гавр.[471]
Котлы на «Таймыре» потребовали большого и сложного ремонта. Суда простояли в Гавре два с половиной месяца. Многие офицеры съездили в Руан, чтобы полюбоваться на знаменитый собор, а также в Париж и Лондон. Трудно сказать, участвовал ли в этих поездках Колчак. Побывал ли он, например, в Париже и интересовал ли его этот город. Если побывал, то именно тогда – больше такой возможности не представилось.
Когда ремонт был окончен, из Петербурга пришло распоряжение – идти под одним котлом, чтобы не застрять в океане, если вдруг откажут оба. Это уменьшило ход и удлинило плавание.
Европу огибали вдали от берегов. Вечером и ночью лёгкий ветерок доносил из Испании и Португалии аромат цветущих апельсиновых и лимонных садов. Корабли прошли через Гибралтар и вскоре оказались на рейде Алжира. Был конец февраля – белый город, раскинувшийся на огромном косогоре, утопал в весенней зелени и цветах. Матросы сходили на бой быков, который происходил на большой арене при громадном стечении народа. Кровавое зрелище не понравилось русским морякам.[472]
Следующим пунктом остановки был Порт-Саид, грязный, чёрный от угольной пыли городок, живший какой-то странной жизнью. Он буквально преображался, когда к нему подходил большой корабль (даже если это было ночью), становился шумным и суетливым. Уходил корабль – и городок вновь погружался в сон.
В Порт-Саиде, у входа в Суэцкий канал, произошла новая задержка: из Петербурга пришло распоряжение, чтобы Матисен сдал корабль новому командиру. Наказание, в связи с поломкой котла, было явно несправедливым. К тому же нового командира, капитана 2-го ранга А. А. Макалинского, пришлось ждать около трёх недель. Это был товарищ Колчака по службе в Морском генеральном штабе, отнюдь не полярник, взявшийся довести «Таймыр» только до Владивостока.
Воспользовавшись остановкой, некоторые офицеры побывали в Каире, съездили в район пирамид, который в те времена на 15 километров отстоял от египетской столицы, а сейчас соединился с ней. На самую высокую пирамиду, Хеопса, туристам тогда разрешалось взбираться (в сопровождении проводника). Подъём по камням высотой до метра был очень труден. На верхней площадке, неровной и тесной (со стороной около трех метров), посетителей ожидал мальчик с кувшином воды и кофейником.[473]
Известны случаи, когда моряки, в том числе русские, поразившись красотой и величием древних Фив и Мемфиса, оставляли морское дело и навсегда уходили в загадочный мир храмов, гробниц, стройных и смуглых богов с головами зверей и птиц, полустёртых надписей на раскалённых камнях, рассыпающихся папирусов и ссохшихся мумий, которые когда-то были живыми людьми. Конечно, египтология – профессия для немногих. Но мог ли Колчак, которого как магнит притягивало всё таинственное и мистическое, не побывать в Каире или Луксоре? И вновь остаётся только гадать, потому что источники молчат.
Пройдя Суэцким каналом, «Таймыр» и «Вайгач» остановились в Джибути, французском владении на восточном берегу Африки. «Наши суда, – писал Старокадомский, – были первыми русскими военными кораблями, совершавшими далёкое заграничное плавание после русско-японской войны… По-видимому, частые остановки в разных портах делались не без умысла: они служили демонстрацией русского военно-морского флага, впервые после Цусимы».[474]
Стоянка в Джибути была сравнительно краткой, но всё же у офицеров была возможность съездить по железной дороге в Аддис-Абебу, столицу Эфиопии – в самое сердце Африки…
Посреди Индийского океана вновь случилась поломка котла – в этот раз на «Вайгаче». Чтобы поднять пары на другом котле, требовались сутки. Эта остановка запомнилась тем, что на обоих кораблях устроили охоту на акул. С заведённой над морем стрелы был спущен крюк с испорченным мясом. Акулы появились очень быстро. В сгустившихся сумерках фосфоресцировало море, высвечивая круги и зигзаги, которые они делали вблизи приманки. В какой-то момент они образовали звезду вокруг неё. Наконец одна из них, самая смелая и голодная, схватила кусок мяса – и сразу повисла на крюке, а другие отпрянули в сторону. Пойманная акула, около двух метров длиной, распласталась на палубе, и здесь с ней пришлось много повозиться, прежде чем она угомонилась.[475]
Через несколько дней корабли пришли в знакомый уже Колчаку порт Коломбо на Цейлоне. Здесь отремонтировали котёл на «Вайгаче» и очистили от ракушек днища обоих кораблей. Стоянка заняла две с половиной недели.
К Сингапуру подошли ночью. Бросили якоря неподалёку от какого-то военного корабля. Его силуэт показался странно знакомым. Велико же было утром изумление и негодование русских моряков, когда в стоявшем рядом корабле под японским флагом они узнали крейсер «Варяг». Тот самый «Варяг», о котором в России сложено столько песен, который стал легендой и символом. Японцы подняли его со дна моря, назвали «Азами» и сделали учебным кораблём для своих курсантов. Японские юноши весело и задорно гонялись на шлюпках друг за другом, с любопытством рассматривали русские корабли, делая круги вокруг них. Русские же моряки старались не смотреть в ту сторону, где стоял бывший «Варяг».[476]
3 июня 1910 года «Таймыр» и «Вайгач» прибыли во Владивосток. Немедленно была создана специальная комиссия, которая осмотрела судовые машины и механизмы и пришла к выводу, что корабли нуждаются в основательном ремонте.[477]
Пока шёл ремонт, приехал новый командир «Таймыра», лейтенант Б. В. Давыдов, незадолго до того окончивший Военно-морскую академию по гидрографическому отделению. Несколько невзрачный на вид, с большим лбом, ровный и мягкий в обращении, он всем понравился.
Затем приехал начальник экспедиции, полковник корпуса флотских штурманов И. С. Сергеев, известный и опытный гидрограф. Это был пожилой человек, неразговорчивый и неприветливый. Работал всегда добросовестно и тщательно, но отличался большой осторожностью. Гидрографы о нём говорили: «Где Сергеев прошёл, там всякий пройдёт». Сергееву понравилось это высказывание, и он любил его повторять. Но молодые офицеры, сразу его невзлюбившие, истолковали этот афоризм в том смысле, что Сергеев не пойдёт туда, где не всякий пройдёт.[478]
Начальник экспедиции обосновался на «Таймыре». 17 августа 1910 года «Таймыр» и «Вайгач» покинули бухту Золотой Рог в сопровождении транспорта «Аргунь», нагруженного углем и пресной водой.
Через несколько дней суда подошли к Камчатке, вошли в Авачинскую бухту и долго плыли вглубь её, пока не прошли узкий проход между берегом и песчаной косой, не вошли во внутреннюю гавань и не увидели рассыпанную на берегу кучку деревянных домов. Это был Петропавловск-Камчатский. За ним, как бы прижимая его к морю, высилась огромная гора с курящейся белоснежной вершиной – Авачинская сопка. Правее виднелась ещё более высокая сопка – Корякская.
Когда сошли на берег, оказалось, что город состоит всего из одной улицы с двумя церквями. Офицеры и матросы осмотрели достопримечательности – памятники Витусу Берингу и Жану Франсуа Лаперузу, французскому мореплавателю, посетившему Петропавловск в 1787 году и вскоре после того пропавшему без вести. Побывали они и на могиле русских моряков, погибших в 1854 году при отражении десанта англо-французской эскадры. В Петропавловске в начале XX века насчитывалось всего 600 жителей. Тем не менее в порт часто заходили русские, американские и японские пароходы, ежегодно проводился пушной аукцион.[479]
Когда «Таймыр» и «Вайгач» бросили якоря на рейде Петропавловска, там стоял транспорт «Колыма». Офицер с этого судна, Е. Н. Шильдкнехт, заинтересовался незнакомым ему типом корабля и поднялся на борт «Вайгача». Как раз в это время на палубу вышел командир. Шильдкнехт попросил разрешения осмотреть судно, и Колчак охотно провёл его по всему кораблю, рассказывая о его устройстве, о льдах и торосах, о Северном морском пути и перспективах его освоения. «Обладая колоссальной эрудицией, как общей, так и в этом специальном вопросе, – вспоминал Шильдкнехт, – Колчак сделал свою лекцию настолько, не скажу даже интересной, а просто увлекательной, что я не заметил, как пролетели два часа, проведённые с ним».[480]
На пути дальше на север, к бухте Провидения, корабли вновь попали в шторм, не менее сильный, чем у берегов Голландии. Но на этот раз всё обошлось благополучно. На берегах бухты Провидения, у входа в Берингов пролив, путешественники впервые увидели чукотские яранги – сферические постройки, обтянутые оленьими шкурами. В этой бухте перегрузили уголь и воду с транспорта «Аргунь» и распрощались с ним.
«Таймыр» и «Вайгач» подошли к крутым, обрывистым берегам мыса Дежнёва, вершина которого утопала в нависшей сизой мгле. Мыс Принца Уэльского, на противоположном, американском берегу, совсем не был виден, хотя до него было не более 70 километров.[481]
Ледоколы вошли в Северный Ледовитый океан и остановились у селения Уэлен.
Едва «Вайгач» бросил якорь, как к его борту подошла байдарка с несколькими чукчами. К немалому удивлению моряков, один из чукчей на прекрасном французском языке попросил разрешения подняться на палубу. Оказалось, что это француз, одетый в чукотскую одежду. Поспорив с кем-то на большую сумму денег, он совершал кругосветное путешествие пешком. Согласно условиям спора, переправляться через морские преграды можно было только в самых узких проливах. Отправившись из Парижа на восток, он дошёл до Чукотки и теперь уже две недели ожидал оказии, чтобы перебраться в Америку.
В наши дни такие путешествия называются экстремальными. Но именно так, «на своих двоих», «экстремальным» способом делал человек свои первые географические открытия. И всякий, кто участвовал в подобных путешествиях (или просто ходил с рюкзаком по туристским тропам), скажет, что они приносят в тысячу раз больше знаний и впечатлений, чем современные переезды и перелёты.
Французу пришлось отказать, поскольку посещение Америки не входило в программу экспедиции. Но он вскоре уехал на американской шхуне.[482]
Побывал на «Вайгаче» и ещё один гость – на этот раз настоящий чукча. Он принёс роскошную шкуру белого медведя, которую хотел продать. Долго не могли понять, чего он за неё хочет. Чай, сахар, табак он отвергал. Наконец выяснилось: 200 долларов (400 рублей по тем деньгам) или… бутылку водки. Цена в долларах была непомерной, а водку северным народам продавать было запрещено. (Правда, русские и американские торговцы мало считались с этим запретом.) Разочарованный чукча покинул корабль, не совершив сделки.[483]
В программу исследовательских работ входило точное астрономическое определение мыса Дежнёва. Но день за днём шла низкая облачность, не давая ни малейшего просвета. В ожидании ясного неба занялись береговой съёмкой. Лейтенанту Георгию Брусилову с «Вайгача» было поручено установить на мысе мореходный знак пирамидальной формы. Он был связан триангуляцией с пунктом подполковника Неелова, принятым за основной.[484] Впоследствии к «знаку Брусилова» стали привязывать другие пункты побережья.
Доктор Старокадомский вспоминал, что лейтенант Г.Л.Брусилов (1884–1914), сын покойного вице-адмирала Л. А. Брусилова, был человеком жизнерадостным, энергичным, предприимчивым, хорошо знал морское дело. Он участвовал в гидрографической экспедиции и на следующий год. В 1912 году взял отпуск и на свои средства организовал экспедицию в Арктику на парусно-моторной шхуне «Св. Анна». В Карском море шхуна попала в ледовый плен и была унесена в высокие широты. После второй зимовки Брусилов разрешил группе матросов во главе со штурманом В. И. Альбановым покинуть судно и идти пешком. Сам он остался с теми, кто был послабее. В пути погибли девять человек, дошли – двое. Они принесли с собой вахтенный журнал «Св. Анны» и записи метеорологических наблюдений. Оставшиеся на шхуне пропали без вести.[485]
Простояв неделю у посёлка Уэлен и не дождавшись хорошей погоды, «Таймыр» и «Вайгач» двинулись на запад. Чукотское море было свободно от льда, температура держалась выше нуля. Начали описывать и наносить на карту береговую линию. В этом году, однако, не подтвердилось предположение Колчака, высказанное в упоминавшейся выше записке, о том, что Чукотское море сравнительно тёплое и больших затруднений для навигации не представляет. Близ мыса Инцова, в 30 километрах от Уэлена, ледоколы натолкнулись на сплочённый лёд, преодолеть который было не в их силах. Из-за начавшихся снегопадов пришлось прекратить описные работы. Температура опустилась ниже нуля. К тому же обнаружились неполадки в котлах на «Таймыре» – ещё во Владивостоке инженеры не ручались за их надёжность и требовали замены. 20 сентября экспедиция отправилась в обратный путь.[486]
На пути во Владивосток ледоколы, укрываясь от штормов, несколько раз заходили в необитаемые бухты. В заливе Наталии были описаны бухты Петра и Павла, которые, как оказалось, гораздо глубже вдаются в берег, чем было показано на картах.[487]
20 октября «Таймыр» и «Вайгач» вернулись во Владивосток.
Арктические путешествия не бывают лёгкими, но на этот раз в составе экспедиции не было даже заболевших.
В советской литературе, как известно, были развиты виртуозные формы иносказаний. Л. М. Старокадомский, не называя Колчака по имени, сумел дать ему (заодно с капитаном Давыдовым) самую хорошую характеристику. «По прекрасной традиции лучших представителей русского морского командования… – писал он, – здоровье и благополучие команды „Таймыра“ и „Вайгача“ были предметом постоянной заботы командиров и врачей этих судов. Конечно, в царском флоте офицерский состав был резко обособлен от „нижних чинов“, но на судах экспедиции, по крайней мере во внешних проявлениях, отношение командного состава к матросам было достойно культурных и гуманных людей».[488]
Вскоре по возвращении во Владивосток пришла телеграмма: Колчака вызывали в Петербург для продолжения службы в Морском генеральном штабе. Впоследствии он рассказывал, что не без колебаний согласился на возвращение в Штаб. Было досадно, что в экспедиции, организации которой он отдал столько времени и сил, ему удалось дойти только до мыса Инцова. У этой экспедиции были блестящие перспективы: ведь именно она, когда её возглавил герой Порт-Артура Б. А. Вилькицкий, открыла Землю Николая II (ныне архипелаг Северная Земля). Но, с другой стороны, из Петербурга сообщали, что появились возможности для скорейшего продвижения в жизнь судостроительной программы.[489] И перевесило стремление участвовать в дальнейшей работе по воссозданию Российского флота.
В послужном списке Колчака говорится, что 9 ноября 1910 года «приказом командира Владивостокского порта по приказанию товарища морского министра» он командирован в Петербург. 15 ноября транспорт «Вайгач» был сдан. После этого Колчак выехал в столицу. Дома его ждали жена и сын Ростислав, родившийся 24 февраля 1910 года.[490]
Мир, которого не хватило
В архиве Колчака хранится один интересный и загадочный документ. Это шутливое послание в виде стилизованной под старину грамоты. К ней приделана даже вислая печать.
6 апреля 1912 г.
Александр Васильевич.
Шалды-Балды-Хан.
Большая часть Вашей продолжительной службы, проникнутой беззаветной преданностью театральным интересам Балтийского моря, любовью к Отечеству, протекала в рядах Балтийского флота.
Ввиду исключительной энергии и отменных дарований, проявленных Вами во время плодотворной службы Вашей, я в 1910 году призвал Вас на пост начальника 1-й оперативной части Морского генерального штаба.
Будучи поставлены на страже численного и материального состава морских сил Балтийского моря в тяжёлую пору неурядицы, непорядка и распутницы, Вы, с непреклонною стойкостью убеждений, принятыми сообразно потребностям времени решительными мерами оказали ценные услуги делу воссоздания Балтийских сил.
Дальнейшие годы Вашей деятельности будут одушевлены просвещённым стремлением к пользе строевого флота.
В сегодняшний день исполнившейся высочайшей воли назначения Вашего командир-пашой эскадренного миноносца «Уссуриец» я в особом внимании к выдающимся трудам Вашим жалую Вас не по чину, а по любви подарком, который при сём препровождается…
Пребываю к Вам неизменно благосклонный и любящий Вас
Оттон I.
Дан сей в г. Санкт-Петербурге 6 апреля 1912 г.[491]
Кто такой этот «Оттон I», «благосклонный и любящий»? Приходит в голову мысль, что это какой-то большой начальник. Например, адмирал И.К.Григорович, в 1910 году – товарищ морского министра, вызвавший своим приказанием Колчака из Владивостока в Петербург. В 1911 году Григорович стал морским министром и занимал эту должность вплоть до падения монархии. Человек он был сложный и неоднозначный, но министром оказался хорошим. Морское министерство при нём стало одним из самых деятельных, особенно в годы войны. К Колчаку он относился покровительственно. И всё же, наверно, не он был автором этого документа, насквозь пронизанного своего рода «балтфлотским» патриотизмом. Ясно, что писал его человек, связанный с Балтийским флотом. Кроме того, вряд ли Григорович, имевший в своём происхождении польские корни, стал бы подписываться немецким именем.
Должность начальника соединённых отрядов Балтийского флота (командующего флотом в мирное время) с ноября 1908 года занимал Николай Оттович Эссен. Ещё в 1907 году он был произведён в контр-адмиралы, в 1910 году – в вице-адмиралы, а позднее, в 1913 году, стал полным адмиралом. Колчака он заметил, видимо, ещё в Порт-Артуре. В дальнейшем, когда Колчак служил в Генштабе, знакомство стало более близким. Сомнительно, однако, что именно Эссен писал «грамоту» с вислой печатью. Зачем бы ему подписываться Оттоном?
Если это действительное имя автора документа, то нам придётся спуститься по служебной лестнице на пару ступенек вниз. Начальником Оперативного отдела в штабе Эссена служил барон Оттон Оттонович Рихтер, на три года старше Колчака, участник Цусимского сражения. Конечно, в таком случае звучат как явный перебор слова о том, что именно он «призвал» Колчака на должность начальника 1-го оперативного отделения, ведавшего в Генеральном штабе делами Балтийского флота. Однако и весь документ носит шутовской характер. Но, как видно, многие люди (Григорович, Эссен, Рихтер) хотели, чтобы Колчак занял этот пост, и многие прилагали усилия, чтобы вытащить его из Владивостока.
Если «Оттон I» – это Рихтер, то слова насчёт «распутницы» в какой-то мере характеризуют отношение офицеров его круга к такой злободневной в то время проблеме, как распутинщина, к усилению влияния на официальное правительство придворной камарильи, олицетворением которой был Г. Е. Распутин.
К слову сказать, отрицательное отношение к Распутину и распутинщине было свойственно большинству морских офицеров. Колчак впоследствии рассказывал, что в 1912 году на флоте распространился слух, будто Распутин собирается навестить императорскую семью, отдыхающую на яхте в шхерах, и ему для этого дадут миноносец. «Я помню, – говорил Колчак, – со стороны офицеров было такое отношение: что бы там ни было, но я не повезу, пусть меня выгоняют, но я такую фигуру у себя на миноносце не повезу. Это было общее мнение командиров». Слух, к счастью, не подтвердился.[492]
* * *
Срочный вызов Колчака в Петербург объяснялся тем, что Морское министерство получило разрешение царя на пересмотр 10-летней программы военно-морского строительства и Генеральный штаб должен был приступить к разработке новой программы, рассчитанной на 22 года и получившей название «Закон об императорском флоте». Программа составлялась в тесном контакте с командующими флотами, их штабами и с администрацией судостроительных заводов. Колчак, в частности, поддерживал связь с адмиралом Эссеном и с его флаг-капитаном по оперативной части В. М. Альтфатером (с ним он когда-то вместе служил на «Аскольде»). «Мне приходилось постоянно ездить на флот, принимать участие в маневрах, рассматривать задания для маневров и т. д. Таким образом, я находился в тесной связи с Балтийским флотом», – вспоминал Колчак.[493] (Отмеченное в формулярном списке пребывание Колчака на эскадренном миноносце «Уссуриец» и посыльном судне «Азия» в мае-июне 1911 года, видимо, было связано как раз с участием в маневрах.)[494]
В начале апреля 1911 года Генеральный штаб представил императору проект «Закона о флоте». На Балтике, по этому проекту, предполагалось иметь две боевые и одну резервную эскадры (каждая в составе 8 линейных кораблей, 4 линейных крейсеров и 8 лёгких, 36 миноносцев и 12 подводных лодок).
Чтобы не пугать думских деятелей таким размахом военно-морского строительства, решили выделить из «Закона» и детально разработать ту его часть, которая касалась усиления Балтийского флота в ближайшие пять лет. Так была создана «Программа усиленного судостроения Балтийского флота на 1911–1915 гг.». По этой программе планировалось построить 8 крейсеров (4 линейных и 4 лёгких), 36 миноносцев и 12 подводных лодок.
Ознакомившись с программой, Николай II высоко её оценил. «Отлично исполненная работа, видно, что стоят на твёрдой почве, расхвалите их от меня», – сказал он начальнику Моргенштаба, имея в виду офицеров, работавших над программой. В июне 1912 года с некоторыми сокращениями она была одобрена Думой.[495]
Однако судьба этой программы оказалась печальной. Только небольшую её часть удалось реализовать в последние предвоенные годы и в начале войны. Остальное пришлось законсервировать. Многие годы на заводских стапелях простояли ржавеющие остовы недостроенных судов, пока их не распилили на металлолом. Мирных лет не хватило.
В задачи 1-го оперативного отделения, которым руководил Колчак, входило также составление плана войны на Балтийском театре. К 1911 году окончательно определилась расстановка сил на мировой арене. Было ясно, что на Балтике Русскому флоту, находящемуся в стадии возрождения, будет противостоять мощный германский флот. Существовала угроза неприятельского десанта в устье Невы и захвата Петербурга. Эта опасность страшно преувеличивалась в российских правящих верхах, включая генералитет и часть адмиралов. От Балтийского флота требовали полного сосредоточения всех сил на защите столицы и ближайших к ней подступов – даже в ущерб обороне других участков балтийского побережья России, быть может, ещё более угрожаемых.
Колчак, насидевшийся в Порт-Артуре, питал глубокое отвращение к тактике глухой обороны. Но он получил директивы в самом определённом смысле и должен был разработать соответствующий план операций. 17 июня 1912 года этот план был «высочайше» одобрен. Его односторонность заключалась в том, что он вовсе не предусматривал тот случай, если бы немцы не предприняли наступательных действий в Финском заливе. Никаких определённых директив на этот счёт не содержалось.[496] Впоследствии Колчаку пришлось вести отчаянную борьбу против составленного им самим плана войны на Балтике.
В эти же годы Колчак вёл преподавательскую работу в офицерских классах и на дополнительном курсе военно-морского отдела Николаевской Морской академии. В архиве сохранились написанные им в связи с этим теоретические работы «О боевых порядках флота», «О бое».[497]
В 1912 году вышла, под грифом «Не подлежит оглашению», книга Колчака «Служба Генерального штаба». В ней содержался обзор деятельности морских генеральных штабов крупнейших держав мира. Здесь Колчак дал новое, более развёрнутое теоретическое определение войны по сравнению с тем, которое имеется в работе «Какой нужен России флот». «Война, – писал он, – есть одно из неизменных проявлений общественной жизни в широком смысле этого понятия. Подчиняясь, как таковая, законам и нормам, которые управляют созданием, жизнью и развитием общества, война является одной из наиболее частых форм человеческой деятельности, в которой агенты разрушения и уничтожения переплетаются и сливаются с элементами творчества и развития, с прогрессом, культурой и цивилизацией».[498] Колчак, таким образом, настаивал на том, что война играет в мировой истории не только разрушительную, но и созидательную роль.
После того как были составлены планы и программы, служба в Генеральном штабе вновь потеряла для Колчака интерес. К тому же он видел, что развитие этого органа идёт не в том направлении, которое он считал правильным. В январе 1912 года, незадолго до ухода из Моргенштаба, Колчак представил начальству записку о его реорганизации.
Задача Генерального штаба, как полагал Колчак, состоит в том, чтобы собрать, проанализировать и представить командованию сведения о сложившейся в данный момент обстановке и, получив от него директивы, разработать их в оперативный план – план войны, или план подготовки к войне.
В 1906 году, когда создавался Моргенштаб, именно так и смотрели на это дело. Благодаря своей целеустремлённости и деловитости Генеральный штаб быстро завоевал авторитет в военно-морской среде, и это, к сожалению, не пошло ему на пользу. Вследствие того, что в морском ведомстве сохранилась излишняя централизация в сочетании с отсутствием ясно определённой специализации и компетенции учреждений, в Генеральный штаб стали обращаться все, кто не смог добиться решения вопроса в другом месте. Генеральный штаб стал принимать на себя роль ходатая по разным делам, вплоть до постановки какого-нибудь судна в док, вмешиваться в текущее управление. Качество основной работы Генерального штаба, утверждал Колчак, начало понижаться, а в морской среде возникло недоумение, своим ли делом занимается это учреждение.
«Всякая организационная, распорядительная, административная, техническая деятельность, – настаивал Колчак, – должна быть изъята из Генерального штаба, так как для этой цели существуют специальные органы, и их неспособность или недостатки не могут явиться основанием для развития Генерального штаба в этом направлении». Генеральный штаб надо вернуть на прежний путь развития. Генеральный штаб – это мозг флота. Его дело – разрабатывать общие идеи, а не устранять отдельные недостатки. К своей записке Колчак приложил детальную схему реорганизации Моргенштаба.[499]
Записку Колчака подшили в дело – и всё в общем-то осталось по-прежнему.
* * *
Адмирал Эссен пригласил Колчака в Балтийский флот, и, недолго думая, Колчак согласился. 15 апреля 1912 года «высочайшим» приказом по морскому ведомству он был назначен командующим эскадренным миноносцем «Уссуриец».[500] Пришлось срочно укладывать вещи и ехать в Либаву (нынешняя Лиепая), где базировалась минная дивизия. Семья осталась пока в Петербурге.
Либава была единственным незамерзающим портом на балтийском побережье России. В своё время именно это обстоятельство привлекло внимание великого князя Алексея Александровича и его стратегов. Здесь стали строить военный порт, названный именем Александра III. Потом, правда, обнаружилось то, на что сначала как-то не обратили внимания – Либава слишком близка к германской границе. Тогда пришлось расходоваться на строительство новой военно-морской базы – в Ревеле, которую назвали крепостью Петра Великого. Её так и не успели как следует оборудовать.
После Петербурга Либава должна была показаться глухой провинцией. Здесь был всего лишь один плохенький театр. Офицеры посещали также благотворительные концерты, кафешантан «Гамбургский сад». Летом центр вечерней жизни перемещался в кургауз (городской сад).[501]
Иногда дивизия заходила в Ревель – там соблазнов было побольше. Колчак по своей натуре не был отшельником. Но молодость его была потрачена на полярные экспедиции, сидение в Порт-Артуре, составление планов возрождения флота, изучение Мольтке. Теперь, судя по некоторым данным, пришло время несколько восполнить упущенное.
Летом 1912 года семья отдыхала в Мюленгофе близ Юрьева (Тарту). До Софьи Фёдоровны доходили неясные слухи. «За кем же ты ухаживал в Ревеле на вечере? – интересовалась она. – Удивительный человек, не можешь жить без дам в отсутствие жены! Надеюсь, что о существовании последней ты ещё не забыл».[502] Софья Фёдоровна в то время часто болела. Славушка, по её словам, был «худ и бледен». «Мы – слабая команда», – писала она мужу.
Характером и внешностью мальчик начинал походить на отца. «Славушка ужасно вспыльчив, но добр», – сообщала Софья Фёдоровна, добавляя, что он «впечатлительный и не по летам развитой, умный мальчик». Иногда он приставал к Софье Фёдоровне: «Мама, расскажи одну минуточку про папу». А иногда делал вид, что одевается, и говорил: «Прощайте». – «Ты куда?» – «Уезжаю в город Либаву».[503]
В начале зимы 1912 года семья перебралась, наконец, в Либаву. В начале апреля 1913 года Александр Васильевич и Софья Фёдоровна срочно выезжали в Петербург на похороны В. И. Колчака. А 30 ноября того же года у них родилась дочь Маргарита.
А служба шла своим чередом. В мае 1913 года по распоряжению Эссена Колчак сдал «Уссуриец» и вступил в командование эскадренным миноносцем «Пограничник» – посыльным судном адмирала, на котором он часто поднимал свой флаг. Вскоре Колчака привлекли к работе в штабе Эссена, на первое время – помощником О. О. Рихтера («Оттона I»).[504]
Должность командира «Пограничника» была очень беспокойной, ибо Эссен не любил сидеть на месте. Целые дни, а то и ночи он был в движении. Он всё хотел знать и видеть сам. «Пограничник» под адмиральским флагом без устали бороздил воды Финского и Рижского заливов, а когда эскадра в полном составе выходила в море, адмирал переходил на флагманский крейсер «Рюрик».
Эссен считал, что корабли должны много плавать, что офицеры и матросы должны чувствовать себя в море, как дома. В прежние времена корабли на Балтике находились в плавании всего четыре месяца в году. Эссен выходил в море в середине весны и завершал кампанию поздней осенью. Ему приходилось вести бесконечные пререкания с Морским министерством, которое было недовольно перерасходом угля и нефти. Эссен же доказывал, что беречь топливо за счёт уменьшения плавания – значит наносить ущерб боеспособности флота.
Эссена любили офицеры и матросы. В личном общении адмирал был обаятелен и утончённо деликатен.[505] На Балтийском флоте Эссен пользовался полным авторитетом. Его недоброжелатели должны были с этим смириться. Григорович благоразумно решил, что лучше не вести во флоте внутренние войны, и поддерживал с адмиралом достаточно корректные отношения. В отличие от него адмирал Вирен, главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта, оградил себя бюрократическим валом, и Эссен вместе со штабом должен был вести с ним постоянные тяжбы, особенно если требовался срочный ремонт судов. Вирен был очень непопулярен среди матросов, солдат и гражданского населения, потому что ввёл в городе казарменные порядки, так что даже гимназисты должны были вытягиваться во фрунт, встретив на улице адмирала или генерала.[506]
25 июня 1913 года в финских шхерах, где отдыхал на яхте с семьёй Николай II, производилась учебно-показательная постановка мин. На смотр прибыл отряд минных заградителей (по-старому – минных транспортов) и миноносцев. Конвоирующие миноносцы расположились в отдалении. Заградители пошли строем, на ходу сбрасывая мины, а «Пограничник» следовал параллельным курсом, чтобы следить за правильностью постановки.
На борту «Пограничника» собрались Николай II, Григорович, Эссен и вся императорская свита. Колчак, занятый управлением судном, в их беседах не участвовал. Учение продолжалось около двух часов. После этого государь вернулся на яхту «Штандарт», «очень довольный состоянием команд и судов», как записал он в дневнике. Затем Григорович, Эссен и все командиры судов были приглашены на поздний завтрак к императору.[507]
У Николая II была образцовая семья: по-старорусски многодетная, религиозная и весёлая. Родители любили друг друга. Глава семьи был не деспотом, но авторитетом, особенно для детей. Четыре дочери были красавицы, особенно вторая из них, Татьяна. Наследник престола, Алексей Николаевич, крупный для своего возраста и симпатичный подросток, был окружён особенным вниманием всего семейства. На первый взгляд казалось, что Николай II был одним из немногих русских самодержцев, имевших крепкую, надёжную семью.
Во время завтрака, как обычно, роль гостеприимного хозяина принадлежала государю. Его супруга была молчалива – она так и не смогла до конца жизни преодолеть свою застенчивость и неловкость в большом обществе. У дочерей, особенно младших, был несколько скучающий вид. Цесаревич, одетый в матроску, был бледен, в его глазах угадывалась грусть. Он ещё не оправился от тяжёлого потрясения осенью 1912 года, когда дело дошло до того, что стали составляться бюллетени о состоянии его здоровья.[508]
С самого своего рождения наследник-цесаревич стал центром всей семьи – это было её будущее и будущее династии. Но это оказалось и самым слабым местом императорской фамилии. Гемофилия, страшное наследственное заболевание Алексея, полученное по материнской линии, не обещало ему долголетия и ставило под вопрос возможность восшествия его на престол. Когда Николай II говорил, что его долг – передать своему сыну Россию такой, какой он принял её от отца, он закрывал глаза на правду. У него был сын, но по сути не было наследника. Как не оказалось прямого наследника у старой, императорской России.
Командирам судов, участвовавших в смотре, в том числе Колчаку, было объявлено «имянное монаршее благоволение».[509] В штабе Эссена стали готовить бумаги для производства командира «Пограничника» в следующий чин. Запросили аттестацию у непосредственного начальника Колчака, командующего 1-й минной дивизией контр-адмирала И. А. Шторре.
Такие аттестации, отсылавшиеся в Главный морской штаб, составлялись в виде ответов на определённые вопросы и считались документами секретными – аттестуемое лицо с ними не знакомилось.
В первом пункте, где стоял вопрос о способности аттестуемого к службе, Шторре написал: «Выдающийся офицер во всех отношениях».
В следующих пунктах это раскрывалось детально:
«Нравственность, характер и здоровье: Характера твёрдого, установившегося, немного нервен в управлении кораблём, здоровья крепкого.
Воспитанность и дисциплинированность: Весьма дисциплинарен, воспитания отличного.
Особенности познания и иностранные языки: Большая начитанность по морским вопросам, специальная подготовка к службе Генерального штаба. Языки знает».
В последнем пункте контр-адмирал дал краткую и выразительную характеристику своего подчинённого: «Обширные познания по морскому делу, удивительная работоспособность, выносливость и отношение к порученному делу ставят капитана 2 ранга Колчака на выдающееся место среди молодых штаб-офицеров флота». Документ был датирован 21 августа 1913 года.[510]
6 декабря 1913 года «за отличие по службе» Колчак был произведён в капитаны 1-го ранга. Через три дня его назначили исправляющим должность начальника Оперативного отдела Штаба командующего морскими силами Балтийского флота (вместо Рихтера). Несколько месяцев Колчак совмещал эти обязанности с командованием «Пограничником» и, наконец, 3 марта 1914 года сдал миноносец другому командиру. 14 июля того же года он начал исполнять в Штабе Эссена обязанности флаг-капитана по оперативной части. Это соответствовало должности генерал-квартирмейстера в сухопутных войсках. В тот же день, в связи с визитом в Россию президента Франции Р. Пуанкаре, Колчак был награждён французским орденом Почётного легиона.[511]
* * *
К 1914 году, по сравнению с тем временем, когда Колчак начинал службу, на флоте многое изменилось. Ещё в 1904 году, в манифесте по случаю рождения наследника-цесаревича, было объявлено об отмене телесных наказаний в армии и флоте. Уходили в прошлое офицеры старого образца – матерщинники и держиморды. Отношения на корабле постепенно гуманизировались. Конечно, офицеры были разные: одних команда особо выделяла и любила, а других не любила – за формализм, надменность, презрительное отношение к матросам.
Адмирал Эссен был начальником строгим, но разумным. Он понимал: чем реже матросы бывают на берегу, тем хуже они там себя ведут. Когда корабль стоял в резерве, он разрешал увольнять на берег не только по праздникам, но и раз в неделю. Матросы стали заводить на берегу знакомства, всё реже там бесчинствовали, реже возвращались пьяными.
«Последние годы перед войной, – вспоминал офицер-балтиец Г. К. Граф, – уже было любо смотреть на фронт едущих на берег. …Все одеты с иголочки, не узнать и обычно грязных кочегаров. Хотя и было запрещено переделывать казённую одежду, всё же многие матросы пригоняли её по фигуре, на что судовое начальство смотрело снисходительно… Матросы лучше выглядели в хорошо пригнанном бушлате и хорошо сидящих брюках, чем в мешковатой одежде, делавшей их фигуры неуклюжими». Хорошо одетый матрос и вёл себя приличнее на берегу.
В рождественские праздники на кораблях стали устраивать ёлки с раздачей подарков. Некоторые команды снимали зал где-нибудь в городе. На праздничный вечер матросы приглашали своих девушек – чаще всего горничных из офицерских семей. Приглашались и офицеры, но не все, а с разбором. Это было своеобразной проверкой их популярности.
Вечер начинался с выступлений корабельных артистов: певцов, фокусников, юмористов. Затем офицеры тактично уходили. Начинались танцы, в коих матросы порой показывали неожиданное умение. Непременным условием для разрешения таких вечеров было отсутствие в буфете спиртных напитков. Но офицерам необязательно было обо всём знать – главное, чтобы не было пьяных скандалов.
О матросах Императорского флота, писал Граф, нельзя судить по тем «революционным типам», которые сыграли такую печальную роль в событиях 1917–1918 годов. Но он же далее отмечал: «Несмотря на то, что отношения между офицерами, плававшими на кораблях, и матросами… были вполне здоровыми и никакого взаимного озлобления не было, но между нами лежала грань происхождения, которую нельзя было перейти и которая мешала сближению и доверию со стороны матросов. Конечно, эта непреодолимая грань лежала не только между нами и нашими матросами, но и вообще между широкими массами русского народа и правящими классами монархии… Это разделение становилось всё более нежизненным и мешало развитию нации». Как бы ни заботились офицеры о команде, матросы всё же видели в них «бар», чуждых их интересам.[512]
Даже с учётом этого замечания, думается всё же, что Г. К. Граф сильно «высветлил» общую картину. В 1911 году среди офицеров Балтийского флота обсуждалась докладная записка лейтенанта Бертенсона с крейсера «Богатырь» по вопросу о дисциплине. Автор писал, что прибывающие на флот новобранцы отличаются хорошей дисциплиной, но к концу службы от неё не остаётся и следа.
На записку поступило несколько отзывов, в том числе «Особое мнение капитана 1-го ранга Максимова». В учебных ротах, писал он, новобранцы находятся под властью строевого унтер-офицера, обычно из крестьян и хорошего службиста. Он учит их строевой выправке, прививает привычку к дисциплине и старанию.
На корабле обстановка совсем другая – скорее фабричная, чем казарменная. Строевые унтер-офицеры, получающие грошовое жалованье, здесь не в почёте. Новобранец попадает под власть и влияние унтер-офицера-специалиста, обычно из фабричных. Этот наставник – человек бывалый, более развитой, к тому же и жалованье у него побольше. Обучая молодого матроса азам обращения с техникой, он вместе с тем пересказывает ему то, чего наслушался от городских ораторов. Матрос начинает смотреть на всё иными глазами, у него падает уважение к начальству, а вместе с тем и к службе, которую он теперь несёт спустя рукава. В случае беспорядков на судах, писал офицер, руководителями будут скорее всего не эти «просветители» из числа старших кочегаров и мотористов. Руководить будут люди более простые, даже более примитивные, но смелые. Роль корабельных «просветителей» – другая, писал автор. Она подобна той, которую играют в университетах левые профессора, наслушавшись которых, первокурсники устраивают забастовки.[513]
Старая императорская Россия переживала кризис. Везде было какое-то неблагополучие – в городе, деревне, в церкви, в армии и флоте. Кризис этот развился ещё в конце XIX века, ярко проявился во время первой русской революции и не был прёодолён в межвоенный период: отчасти по краткости этого периода (мир, которого не хватило), отчасти же вследствие сопротивления правящих классов, прежде всего дворянства, реформам Столыпина. А отчасти потому, что сами эти реформы порою были недостаточно глубоки, как, например, на флоте.
Современникам многое не нравилось в тогдашней русской жизни. Это уже потом, в эмиграции, нахлынули ностальгические чувства, многое забылось, и поэт Саша Чёрный, в прошлом один из самых язвительных критиков российской действительности, написал проникновенные строки, обращенные к России:
О тебе, волнуясь, вспоминаем, — Это всё, что здесь мы сберегли… И встаёт былое светлым раем, Словно детство в солнечной пыли…[514]Глава пятая Дым и пепел войны
Лето 1914 года выдалось сухим и жарким. В Петербурге раскалились каменные мостовые. За городом пересыхали болота, разогревались и начинали тлеть торфяники.
Расставя лапы в небо, ель Картонно ветра ждёт, но даром! Закатно-розовый кисель Ползёт по торфяным угарам, —описывал то лето Михаил Кузмин.
Сизый горьковатый дым наползал на столицу, на море, на Кронштадт, уползал дальше – к Ревелю. Все с тревогой ожидали большого пожара. И он действительно вскоре заполыхал – всеевропейский, мировой.
В июне 1914 года австро-венгерская армия проводила маневры близ сербской границы. На них прибыл наследник престола Габсбургов, эрцгерцог Франц Фердинанд. 15 июня (по новому стилю – 28-го) он был убит в боснийском городе Сараево 19-летним Гаврилой Принципом, членом национально-революционной организации «Молодая Босния».
Причастность Сербии к этому покушению не была доказана, однако Австро-Венгрия возложила на неё всю ответственность за сараевские события. 10 (23) июля Сербии был предъявлен ультиматум с заведомо неприемлемыми, унизительными требованиями. Было очевидно, что за спиной империи Габсбургов стоит империя Гогенцоллернов – Германия, которая спешит начать войну, пока Россия не закончила перевооружение армии и флота.
Никто не сомневался, что ультиматум будет отклонён – если не полностью, то частично. После этого должна была начаться австро-сербская война. Россия не могла оставаться равнодушной к избиению своего главного союзника на Балканах. Вслед за вмешательством России ожидалось открытое выступление Германии – включалась в действие вся цепь межгосударственных соглашений, и военный конфликт приобретал общеевропейский характер.
Основные силы русского Балтийского флота стояли в Ревеле. 12 июля, когда истекал срок ультиматума, командующий морскими силами на Балтике адмирал Н. О. Эссен собрал совещание флагманов и капитанов. «Может быть, немцы уже идут к нам», – сказал он, открывая заседание. Было решено немедленно начать подготовку к исполнению разработанных на этот случай планов.
Поскольку русский флот был слабее немецкого и существовала угроза Петербургу, план предусматривал постановку минных заграждений на Центральной минно-артиллерийской позиции у входа в Финский залив (между мысом Порккала-Удд и островом Нарген и в шхерах). Вечером минные заградители вышли на исходные позиции. Крейсеры были посланы в разведку.[515]
По совету из Петербурга Сербия проявила большую уступчивость, отклонив только явно неприемлемые пункты. Австро-венгерскому послу в России вручили ноту с предложением продлить срок ультиматума.
Эссен отвёл эскадру в Гельсингфорс, ближе к Петербургу. В штабе срочно печатались инструкции. Заградители и миноносцы стояли наготове в шхерах. 15 июля стало известно, что Австро-Венгрия начала мобилизацию и объявила Сербии войну.
Вечером 16 июля из Генерального штаба пришла шифрованная телеграмма: «Государь император приказал произвести с полуночи на 17-е мобилизацию Балтийского и Черноморского флотов, Киевского, Казанского, Одесского и Московского округов». Адмирал тотчас же распорядился предупредить флагманов, что в полночь будет «дым».
Ровно в полночь с борта штабного крейсера «Рюрик» ушла радиограмма: «Морские силы и порта. Дым, дым, дым. Оставайтесь на местах. Командующий морских сил Балтийского моря». На разных волнах её отбили девять раз. Условное «дым» означало: «Начать мобилизацию. Вскрыть оперативные пакеты».
Всю эту ночь, до 4 часов утра, группа офицеров во главе с Колчаком составляла инструкцию о бое. В 2 часа ночи от морского министра пришла телеграмма: «Центральное заграждение не должно быть поставлено до получения особого приказания». Эссен остался очень недоволен этим распоряжением. Убеждённый, что войны не избежать, он решил, что в крайнем случае насчёт заграждения распорядится сам.
17 июля командующий вместе с ближайшими помощниками посетил все заградители. Всюду произносил речи перед командами, разъясняя причины начинающейся войны. Ему пришла в голову смелая мысль в ближайшую ночь вывести в море бригаду линейных кораблей в сопровождении миноносцев. Колчак поддержал эту идею, но на командующего насели другие члены штаба и отговорили.
Из Генерального штаба пришло сообщение, что часть германского флота ушла из Киля в Данциг. Эссен тут же решил: «Пусть меня потом сменят, а я ставлю заграждение». Но потом раздумал: а вдруг ожидание войны затянется и на минах начнут подрываться купцы? Приказал, однако, заготовить телеграмму на «высочайшее» имя.
На следующий день, когда Эссен, Колчак и Ренгартен (главный штабной специалист по радиоделу) стояли на капитанском мостике «Рюрика», принесли телеграмму от главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича: «Разрешаю ставить заграждения». «Слава Богу», – сказал Эссен и перекрестился. Перекрестились Колчак и Ренгартен.[516]
В этот день, 18 июля, в России началась всеобщая мобилизация.
19 июля в Штабе Эссена была получена телеграмма от Григоровича: «Германия объявила войну». Эссен приказал отслужить молебен. Затем произнёс перед матросами речь о тех задачах, которые возложило на них Отечество в час испытаний. Окончил он следующими словами: «Разойдись, ребята. Теперь я буду беречь вас; но настанет день, и он близок, когда Россия потребует наши жизни, и тогда я ни себя, ни вас не пожалею».[517] «Потом оркестр играл гимн, – записал в своём дневнике Ренгартен, – и команда кричала такое ура, что я… не выдержал, бросился по трапу наверх и кричал вместе с другими, все пели гимн и, можно сказать, вошли в настоящий восторг».[518]
«…На „Рюрике“, в штабе нашего флота, – рассказывал впоследствии Колчак на допросе, – был громадный подъём, и известие о войне было встречено с громадным энтузиазмом и радостью. Офицеры и команды все с восторгом работали, и вообще начало войны было одним из самых счастливых и лучших дней моей службы».[519]
В мае 1920 года, когда в Омске проходил суд над группой членов колчаковского правительства, государственный обвинитель А. Г. Гойхбарг, бывший меньшевик, буквально потрясал этой фразой, называя её «ужасающим мысль человека признанием» «заматерелого империалиста».[520] Гойхбаргу, возможно, такое и в самом деле трудно было понять. Как правоверный марксист, он твёрдо усвоил исконный догмат своей веры: «Пролетариат не имеет отечества».
Но то, что на флоте царило приподнятое и даже радостное настроение, – это подтверждают и другие свидетели. Кроме И. И. Ренгартена, можно сослаться на С. Н. Тимирёва, в то время – командира учебного судна «Верный». «Настроение на всех судах, особенно боевых, – писал он, – было смутно-тревожное, но в то же время бодрое и радостное: личный состав не мог полностью оценить всех трудностей предстоящей войны и радовался с редким единодушием возможности осуществить своё прямое назначение – принять участие в морской войне».[521]
Радовались тогда, как видим, не только офицеры, но и рядовые. Это была радость воинов, идущих в бой, чтобы защитить Отечество, которому объявила войну соседняя держава. Такая радость – это святое чувство.
Война на Балтике
К моменту столкновения с Германией русский Балтийский флот был не намного сильнее, чем после Цусимы. Всё ещё достраивались четыре дредноута, заложенные в 1909 году. Вступивший в 1912 году в строй броненосец «Андрей Первозванный» за несколько дней до начала войны, как на грех, получил пробоину от неосторожного маневрирования и отправился в ремонт. В Балтийском море силы русского флота были несопоставимы с мощью германского, а кроме того, ожидалось вмешательство в конфликт Швеции на стороне Германии.
Особенно тревожными были несколько дней между объявлением Германией войны России и вступлением в войну Англии (с 19 по 22 июля). «Надо думать, что немцы идут сюда, может быть, будут завтра», – записал в своём дневнике Ренгартен 20 июля 1914 года.[522]
За эти дни германский флот мог, ценой вполне приемлемых потерь, протаранить минно-артиллерийскую оборону и разгромить русский флот. После этого можно было высадить десант под самым Петербургом, где неприятелю должна была противостоять относительно слабая 6-я армия (главные силы сосредоточивались на границах), и Россия сразу попадала в критическую ситуацию.
Неприятельского десанта ожидали и в других местах побережья. После того как немецкие крейсеры в самом начале войны обстреляли Либаву, из неё начался спешный выезд офицерских семей. Софья Фёдоровна, обременённая малыми детьми, смогла вывезти только несколько чемоданов. Остальное имущество осталось в Либаве.
Адмирал Эссен, с началом войны получивший права командующего флотом, сосредоточил силы в Гельсингфорсе. В районе Центральной минно-артиллерийской позиции стояла завеса из крейсеров. Аэропланы вели воздушную разведку. Каждый день эскадра выходила в море, развёртывалась и проводила учения.[523]
В Гельсингфорсе ввели затемнение, но ночи были ещё светлые. Когда эскадра возвращалась на базу, панорама города открывалась в непривычном виде. На фоне неба чертились шпили соборов, золотели купола в последних лучах солнца. Постепенно всё это меркло, гасло, опускалось во тьму, на небе зажигались звёзды, а в городе начинали мелькать крошечные светлячки – это прохожие освещали себе путь карманными фонариками.
21 июля пришли известия о первых стычках на сухопутном фронте, а 23-го стало известно, что Англия объявила войну Германии. В тот же день поступило сообщение, что главные силы германского флота ушли через Кильский канал в Северное море. Как видно, немецкое командование не собиралось нападать на Петербург-Петроград. У него были заранее разработанные военные планы, и оно не любило от них отступать.
Вскоре выяснилось, что против России на Балтике действуют только лёгкие крейсеры, миноносцы и заградители, укомплектованные командами в основном из резервистов. Эссен сразу же начал выводить эскадру по секретному фарватеру в центральную часть Балтийского моря. В его Штабе началось оживлённое обсуждение планов действий против ослабленных германских сил.
Эссен был человеком живого дела и не любил «канцелярщину». Под стать себе он подбирал и своих помощников. Начальник Штаба контр-адмирал Л. Б. Кербер был смелым офицером и талантливым флотоводцем, но отличался повышенной возбудимостью, часто ссорился со своими сотрудниками, особенно с Колчаком. Занимая должность флаг-капитана по оперативной части, Колчак должен был бы быть первым помощником Кербера. Но они были слишком схожи по темпераменту, никто не хотел уступать, и Эссену часто приходилось их мирить. Со временем Колчак, как говорят, стал признавать только Эссена, как единственного своего начальника, которому всегда непосредственно и докладывал. С. Н. Тимирёв вспоминал, что Колчак обладал «изумительной способностью составлять самые неожиданные и всегда остроумные, а подчас и гениальные планы операций».[524] Крупный недостаток Колчака – его непоседливость, нелюбовь к длительной и систематичной кабинетной работе – восполняли два его помощника – старшие лейтенанты князь М. Б. Черкасский и М. А. Петров.
Эссен, по-видимому, вскоре понял, что сделал ошибку, поставив на главные должности в Штабе людей, близких ему по характеру и темпераменту. Всё чаще он обращался за советом к контр-адмиралу В. А. Канину, командиру отряда заградителей, сумевшему в критический момент быстро и без потерь «закрыть» Центральную позицию. Канин не был столь яркой и талантливой личностью, как Кербер или Колчак. Но он обладал выдержкой, спокойной рассудительностью и «большим запасом здравого смысла», как писал о нём Тимирёв.[525] Выдвижение Канина на роль первого советника и даже друга Эссена вызвало чувство ревности у Кербера. Возникшее соперничество впоследствии решило его судьбу.
Трудно сказать, какие планы спешно разрабатывались в Штабе Эссена, когда стало известно, что главные силы германского флота отвлечены в Северное море. 29 июля была получена телеграмма из Ставки: «Верховный главнокомандующий не допускает активных действий при настоящей политической обстановке. Главная задача флота Балтийского моря – прикрыть столицу, что особенно теперь достигается главным образом его положением в Финском заливе». «Вот! Обрезали нам крылышки…» – записал Ренгартен в дневнике.[526]
Верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич по-прежнему считал, что флот является вспомогательным средством борьбы, самостоятельного значения не имеет, а потому должен находиться в распоряжении сухопутного командования. Поэтому Балтийский флот был подчинён не Ставке верховного командования и даже не командованию Северного фронта, а 6-й армии, развёрнутой по побережью Финского залива. Не вовлечённое в активные боевые действия, занятое пассивным ожиданием противника, командование этой армии такой же образ действий диктовало и флоту. «Задачей флота Балтийского моря остаётся охрана столицы с моря. Необходимо сохранить флот для этой цели», – такую директиву получил Эссен от командующего 6-й армией. Офицеры Штаба Эссена задавали друг другу недоуменный вопрос: «Что это значит: сохранить флот? Разве можно сохранить в полной целости армию во время войны?»[527]
Несколько позднее высшее командование определило для флота оперативную зону действий по линии Дагерорт – Утэ (у входа в Финский залив) и запретило выходить за её пределы. В начале сентября 1914 года, когда немецкая эскадра была замечена у Виндавы (Вентспилса), Эссен получил от Николая Николаевича приказание оставаться с флотом в Финском заливе, даже если начнётся высадка десанта где-нибудь в другой части балтийского побережья.[528]
Ставка, таким образом, заперла свой собственный флот в Финском заливе. «Я никогда не предполагал, что во время войны мы будем стрелять по щитам», – писал Колчак В. М. Альтфатеру, имея в виду затянувшиеся учения под прикрытием Центральной позиции.[529] (Альтфатер, с которым Колчак когда-то вместе воевал на «Аскольде», с началом войны был прикомандирован к штабу 6-й армии.)
Между тем немецкая эскадра, несмотря на ослабленный свой состав, действовала активно. Лёгкие неприятельские крейсеры-разведчики рыскали вдоль побережья, обстреливали береговые посты и маяки вплоть до Дагерорта. Близ Центральной позиции появлялись даже броненосцы. А подводные лодки проникали в глубь Финского залива, проходя под минным заграждением.
Начались обидные неудачи. 4 августа дозорные крейсеры «Громобой» и «Адмирал Макаров» под командованием контр-адмирала Н. Н. Коломейцева встретились у входа в Финский залив с двумя лёгкими немецкими крейсерами, тремя миноносцами и заградителем. Русские броненосные крейсеры были сильнее и должны были вступить в бой, но Коломейцев почему-то стал ждать подкреплений, а немецкие корабли тем временем ушли. Дело ограничилось одним залпом, да и то с недолётом.[530] Эссен был очень недоволен и с тех пор не давал Коломейцеву ответственных поручений.
15 августа Балтийский флот понёс первые потери, когда подорвался на мине тральщик «Проводник». А 28 сентября немецкие подводные лодки торпедировали крейсер «Паллада». Колчак, со свойственным ему военным объективизмом, писал Альтфатеру: «Такой работы по чистоте отделки я не предполагал. „Паллада“ существовала после взрыва ровно столько, сколько надо было столбу воды и дыма рассеяться, после чего оказалось буквально пустое место и очень немного мелких деревянных обломков. Ни одного человека, ни одного тела до сего дня не обнаружено».[531] Гибель «Паллады» показала, что во время войны от потерь невозможно уберечься никакими минными заграждениями.
Но однажды русским морякам всё же улыбнулась удача. В ночь на 13 августа, заблудившись в тумане, сел на мель у острова Оденсхольм (вблизи Центральной позиции) лёгкий немецкий крейсер «Магдебург». Подошёл другой крейсер, «Аугсбург», подошли миноносцы, пытались стащить «Магдебург», но тщетно.
Получив сообщение, Эссен ещё до рассвета послал к Оденсхольму четыре крейсера. Затем были посланы миноносцы. На одном из них, на «Лейтенанте Буракове», к месту происшествия отправился начальник Службы связи, капитан 1-го ранга А. И. Непенин. Затем вышел и «Рюрик» под флагом Эссена. Ещё в пути стало известно, что у острова завязался бой. Затем сообщили, что «Аугсбург» ушёл вместе со своими миноносцами, а «Магдебург» прекратил огонь.
Вскоре после полудня, когда «Рюрик» был уже на подходе, навстречу ему попался «Лейтенант Бураков». С его борта была послана телеграмма: «На крейсере „Магдебург“ поднял русский флаг, взял сигнальную книгу, сдались в плен командир, два офицера, 54 нижних чина. С крейсера можно снять шесть пушек. Непенин».[532] В Штабе Эссена не знали, радоваться или рвать на себе волосы. Важнейшее сообщение о захвате неприятельской сигнальной книги – было послано открытым текстом!
Адриан Иванович Непенин закончил Морской корпус на два года раньше Колчака. Но, в отличие от него, учился плохо, бездельничал, часто сидел в карцере. Потом, уже офицером, попал в «кутильную компанию» и был на плохом счету у начальства. Но воевал в Порт-Артуре отважно, командуя миноносцами «Расторопный» и «Сторожевой». А дослужившись до старших офицерских чинов, вдруг переменился и обнаружил недюжинные организаторские способности. Под его руководством во время войны Служба связи и разведки, подслушивая и пеленгуя радиопереговоры противника, знала все его перемещения и даже предсказывала ближайшие действия.[533] Но это – в дальнейшем. А на первых порах Непенин иногда допускал нелепые ошибки в этом новом для него деле.
Вскоре показался сидевший на камнях «Магдебург» в окружении русских крейсеров и миноносцев. Во время боя на нём произошёл взрыв, так что нос совсем отвалился. Колчак с группой младших офицеров перешёл на миноносец, а потом побывал и на «Магдебурге». Корабль был в полузатопленном состоянии, сдвинуть его с места было действительно трудно. Всюду были видны следы разгрома, учинённого в суматохе немцами и русскими.
Через несколько дней водолазы отняли второй экземпляр сигнальной книги у немецкого телеграфиста, который лежал на дне, прижимая её к груди. Эту книгу высушили и отправили в Моргенштаб (во время войны его стали называть Генмор). Оттуда её переслали англичанам.
Непенин был вызван к адмиралу, чтобы получить взбучку. Эссен кряхтел, пыхтел и кипятился, а Непенин понуро его слушал и, наконец, обезоружил коротким ответом:
– Прос. л, ваше высокопревосходительство!
С Ренгартеном же условились говорить, что найден всего лишь международный свод сигналов, не имеющий ценности.[534]
Немцы, как видно, всё же не засекли телеграмму, дважды отбитую Непениным. Телеграфная книга, добытая на «Магдебурге», надёжно служила русским и англичанам вплоть до 1915 года, когда немцы, почувствовав неладное, изменили шифр.
Изучив захваченные на «Магдебурге» документы, офицеры Штаба Эссена убедились в том, насколько слабы немецкие силы, непосредственно им противостоящие. Снова встал вопрос о переходе к активным действиям, тем более что вернулся в строй «Андрей Первозванный». 19 августа отряд крейсеров и миноносцев вышел в море. На «Рюрике» был поднят флаг командующего флотом. Вместе с ним в море вышли все ведущие офицеры Штаба, в том числе Колчак. Только Кербер остался с эскадрой, временно заменяя Эссена.
Перед отрядом ставилась цель выловить лёгкие немецкие крейсеры-разведчики. Этого сделать не удалось. Отряд дошёл до Готланда (в центральной части Балтийского моря), долго и безрезультатно гонялся за «Аугсбургом» и повернул домой.
По возвращении была получена телеграмма из немецкого штаба: «Фон Эссену. Вторая армия русских слишком безумно атаковала и уничтожена под Танненбергом. Взято в плен 70 тыс. солдат». – Это сообщалось об окружении части армии генерала А. В. Самсонова в Восточной Пруссии. Почти одновременно пришла другая телеграмма, из Генмора, – о взятии Львова армией генерала А. А. Брусилова.[535]
Между тем директива высшего командования «беречь флот» находила отклик у некоторых адмиралов и старших офицеров. Колчак очень возмущался этим. «Я пришёл к убеждению, – писал он Альтфатеру, – что наш командный состав в виде адмиралов, за редким исключением, выполнять своего назначения не может. Это всё почтенные буржуа, рантье, существующие на проценты от мирной деятельности… вести войну они не хотят, они только в мирное время кричали о боевой готовности…»[536]
25 августа, на собрании флагманов и капитанов, Эссен вновь поставил вопрос о выходе в открытое море. Ему возражал вице-адмирал барон В. Н. Ферзен, опиравшийся на мнение некоторых других присутствующих. Он говорил, что не видит оснований для выхода в море, раз главнокомандующий приказал «беречь флот». Как это, наверно, напоминало Эссену князя Ухтомского и других подобных ему порт-артурских «сидельцев»! Адмирал ответил кратко и жёстко:
– Так вот, завтра мы выйдем.
– А если встретим неприятеля? – спросил Ферзен.
– То вступим с ним в бой, – ответил Эссен. Действительно, на следующий день вся эскадра вышла в открытое море. Однако неприятеля не встретили. Заходить далеко к берегам Германии Эссен не решился, зная, что в случае малейшей неудачи на него ополчатся и Министерство, и Ставка. Вернулись в Гельсингфорс, испытав моральное удовлетворение, но не причинив неприятелю никакого ущерба.[537]
В начале сентября в Штабе состоялось совещание, на которое Эссен пригласил Кербера, Колчака и Черкасского. Рассматривали подготовленный к совещанию новый план операций более активного характера. План одобрили и решили, что Колчак поедет его защищать перед командующим 6-й армией, а если будет надобно – то и перед главнокомандующим.[538]
Отправляясь в штаб армии, Колчак надеялся на содействие Альтфатера, с которым вёл оживлённую переписку. Но, видимо, поддержки не получил. В воспоминаниях С. Н. Тимирёва приводится нелестная, но, как думается, вполне обоснованная характеристика Альтфатера, который, по его словам, «являл собой яркий пример очень умного, ловкого и совершенно беспринципного карьериста». В отличие от большинства офицеров, неохотно говоривших о политике, Альтфатер любил рассуждать о пользе самодержавия для России и слыл крайним монархистом. Говорили, что он мечтает получить звание флигель-адъютанта, то есть быть причисленным к императорской свите, и таким образом обеспечить себе карьеру. В дальнейшем, когда произошла революция, оказалось, что путь от монархизма к большевизму очень короткий. Альтфатер перешёл на службу к большевикам и помогал им заключать Брестский мир.[539] (Много лет спустя, уже в недавние годы, выяснилось, что и обратный путь, из коммунистов в монархисты, тоже достаточно краток и лёгок.)
В штабе 6-й армии Колчаку сказали, что командующий такие вопросы решать не может, а потому следует представить доклад Верховному главнокомандующему.
Колчак немедленно выехал в Ставку, в город Барановичи. Вернулся он в конце сентября, очень мрачный. Активные выступления флота были признаны преждевременными. Более того, главнокомандующий поставил вопрос о дредноутах, которые к концу года должны были вступить в строй. Эти корабли, подчеркнул великий князь, останутся в распоряжении императора, и от него будет зависеть, давать ли разрешение на их использование в той или другой операции. Чувствовалось, что к Эссену в Ставке относятся настороженно, хотя при отъезде Колчаку было велено «нарочито кланяться Николаю Оттовичу».[540]
Колчак тяжело переживал эту неудачу. Е. Н. Шильдкнехт, офицер из Генмора, как-то раз этой осенью встретил его на Финляндском вокзале в Петрограде и ехал с ним в Гельсингфорс в одном купе. Александр Васильевич «был чрезвычайно нервен и жаловался на чрезмерный бюрократизм, мешающий продуктивной работе». Он плохо выглядел, так что Шильдкнехт даже спросил насчёт здоровья.[541] Такова была особенность Колчака: неудачи сразу же отображались на его внешнем виде.
Некоторую разрядку Колчаку давало его новое увлечение. В свободное от службы время он летал на самолёте в качестве пассажира и испытывал новые бомбы. Однажды, как обычно, они вдвоём с лётчиком полетели за город на специальный полигон, где проводились испытания. Но сначала, забыв об осторожности, решили покружить над Гельсингфорсом. Бомба сорвалась и упала на чей-то огород, вырыв порядочную воронку. Жертв, к счастью, не было и скандал удалось замять.[542] За всю войну это была единственная бомбардировка финской столицы.
Тем временем в Штабе Эссена созрел новый план: воспользовавшись тем, что немцы ослабили бдительность, начать систематическую работу крейсеров и миноносцев, чтобы, как писал Колчак, «завалить минами всё германское побережье».[543]
Первые такие постановки мин были проведены в конце октября 1914 года у Мемеля (Клайпеды). А 6 ноября отряд кораблей под командованием Кербера, при штормовом ветре и снежной пурге, выставил минную банку вблизи острова Борнхольм.[544] Успех не заставил себя долго ждать. 4 ноября в районе Мемеля подорвался на мине и затонул немецкий броненосный крейсер «Фридрих Карл».[545]
Дальнейшие операции по постановке мин проводились уже в зимних условиях. Одна из них – под Новый, 1915 год. Было запланировано поставить мины на трассах движения немецких кораблей из Киля на восток и север, то есть у мыса Аркона (на остров Рюген) и у банки Штольпе, в 20 милях от острова Борнхольм. Постановка мин была возложена на крейсеры «Россия», «Богатырь» и «Олег», а прикрывать операцию должны были крейсеры «Рюрик», «Адмирал Макаров» и «Баян». Руководство операцией Эссен возложил на контр-адмирала Канина. Вместе с ним в поход отправился и Колчак, разработавший план операции. Проводить её следовало в условиях полной скрытности, поскольку основу отряда составляли старые и тихоходные крейсеры.
Рано утром 30 декабря, в тихую и пасмурную зимнюю погоду отряд вышел в море. Было холодно, но по мере движения на юг, к берегам Германии, становилось теплее. Миновав оостров Готланд, отряд разделился: «Богатырь» и «Олег» повернули к банке Штольпе, а «Россия», под флагом Канина, пошла дальше на юг.
Прошли остров Борнхольм, на котором ярко горел маяк. И тут телеграфисты доложили, что слышны усиленные переговоры между неприятельскими кораблями, которые находятся очень близко. Осторожный Канин приказал повернуть назад. Но на капитанском мостике возникли жаркие споры и кто-то пошёл будить Колчака, который отсыпался после нескольких бессонных ночей. Колчак поднялся на мостик, вошёл в курс дела и сказал спокойно и просто: «Ваше превосходительство, ведь мы почти у цели». И адмирал велел лечь на прежний курс.
Когда вдали начали просматриваться смутные очертания берега и стал виден затемнённый свет маяка Арконы, Канин приказал начать постановку мин. Через час, сбросив в море последнюю мину, крейсер пошёл к родным берегам, выставив напоследок четыре фальшивых перископа, сделанных из баркасных мачт и вертикально торчавших в море.
Ближе к полуночи, когда офицеры собрались в кают-компании для встречи Нового года, Канин поднял тост за Колчака. «Благодаря вам, Александр Васильевич, – сказал он, отбросив ложное самолюбие, – мы исполнили свой долг до конца».
Впоследствии на минах, установленных 31 декабря, подорвался и еле добрался до гавани доселе неуловимый «Аугсбург». Получил пробоину и лёгкий немецкий крейсер «Газелле».[546]
Следующая минно-заградительная операция проводилась в конце января – начале февраля 1915 года. Под командованием Колчака вышло четыре эскадренных миноносца («Генерал Кондратенко», «Сибирский стрелок», «Охотник» и «Пограничник»). Ставилась задача поставить мины вблизи Данцигской бухты. Прикрытие осуществлял отряд крейсеров, которым командовал контр-адмирал М. К. Бахирев. Он же осуществлял общее руководство всей операцией.
Погодные условия на этот раз были сложными: шла пурга, затруднявшая видимость, а между тем надо было всё время быть начеку, чтобы не натолкнуться на ледяное или минное поле.
Вблизи Готланда, ночью, крейсер «Рюрик» задел днищем за камни и получил пробоину. Обнаружилось повреждение и у «Генерала Кондратенко», зацепившегося за льдину. Бахирев приказал всем судам возвращаться. Колчак дал телеграмму командующему флотом: «Ввиду особо благоприятных условий погоды прошу разрешения операцию продолжить». Разрешение было дано, и Колчак повёл свой отряд без прикрытия. Непогода и плохая видимость – лучших условий для скрытной постановки мин не могло и быть. 1 февраля 1915 года миноносцы выставили близ Данцига 140 мин – в том самом месте, который был отмечен вехами как безопасный путь. Затем отряд благополучно вернулся на базу.[547]
По докладу командующего 6-й армией о «мужестве и отличной распорядительности», проявленных Колчаком «во время опасной операции большого боевого значения», он был награждён орденом Владимира III степени с мечами.[548]
С некоторых пор Колчак стал тяготиться своим пребыванием в Штабе. В общем-то штабная работа не очень подходила к его натуре: он не обладал большой усидчивостью, необходимой для штабного работника, не любил бумаг и бывал с ними небрежен.[549]
Но, желая перейти на командно-оперативную работу, Колчак меньше всего стремился стать командиром какого-нибудь большого корабля. В конце 1914 года вступили в строй, один за другим, четыре дредноута («Севастополь», «Полтава», «Петропавловск» и «Гангут»). Балтийский флот теперь представлял собою грозную силу. Но командующий флотом без санкции императора не мог двинуть в бой ни одного из этих грозных исполинов. Они занимались учениями, чаще же – стояли на якорях, а команда выполняла какую-нибудь ненужную работу или томилась от безделья и медленно, но неуклонно разлагалась. В октябре 1915 года на линкорах «Гангут» и «Павел I», а также на крейсере «Рюрик» произошли матросские волнения. По уровню дисциплины и боевого духа команд линейные корабли могли бы занять в Балтийском флоте последнее место, если бы оно не закрепилось прочно за 2-й (резервной) бригадой крейсеров,[550] в состав которой входила и «Аврора», впоследствии принявшая участие в октябрьских событиях 1917 года.
Стать командиром дредноута – это для Колчака было бы хуже штабной работы. Его стихией были миноносцы. По-видимому, он понял это ещё во второй своей арктической экспедиции, управляя вельботом, а потому, приехав в Порт-Артур, попросил у Макарова миноносец. Порт-артурский опыт был не очень удачным, но осталась любовь к этой быстрой и маленькой боевой машине, которая всегда в деле, всегда в пути. В Штабе Эссена Колчак неоднократно говорил друзьям, что «венцом его желаний» было бы получить в командование Минную дивизию. По словам Тимирёва, о большем он не мечтал.[551]
Эссен сочувственно относился к этим планам и давно продвигал Колчака в адмиралы. После этого он собирался поставить его во главе Минной дивизии. Благоприятный случай для осуществления задуманного, казалось, давали посещения Балтийского флота великим князем Николаем Николаевичем и императором Николаем П.
24 февраля 1915 года, с раннего утра, вдоль дороги по льду на штабной крейсер «Россия» шпалерами выстроились моряки (не менее 9 тысяч человек). Ждать на морозе пришлось долго. Автомобиль с Николаем Николаевичем и его свитой подкатил только в первом часу. Среди свиты, по словам Ренгартена, оказался и «неизбежный Альтфатер».
За длинным столом в кают-компании был дан парадный завтрак. Гремела музыка, стол был украшен цветами, офицеры были в парадной форме и при орденах. «В центре – главный гость, – записано в дневнике Ренгартена, – старенький, старенький милый человек с белой бородой, ясными, почти детскими глазами. Он всё забыл и ничего не помнит, впрочем, желает всем добра. Среди завтрака встаёт и тихим, сердечным голосом, от души говорит: „Я рад видеть славный Балтийский флот, который, несмотря на ограничение поставленных ему задач, сумел положить мины в Балтийское море… Здоровье Балтийского флота!..“» Армейские генералы прокричали «ура», а морские офицеры недоумённо переглянулись: кто же ограничивал, как не он сам, главнокомандующий, а теперь поднимает тост за то, что преодолели некоторые его ограничения.
«Всё это комедия, – с горечью отмечал Ренгартен, закончив описание торжественного завтрака. – Было чувство досады, что оторвали зря от работы, что всё это не нужно, что милый старик бесконечно чужд нашему флоту, что всё это пустота, пустота с трезвоном».[552]
«Милому старику» в ту пору было 58 лет. Был он почти двухметрового роста, ярким полководческим дарованием не обладал, но пользовался популярностью среди армейского офицерства и разделял его ревнивое отношение к офицерам флота.
На следующий день Балтийский флот принимал Николая П. Открытый автомобиль с императором проделал путь между шпалерами матросов, остановился у трапа. Николай II поднялся на борт «России», принял рапорт, поздоровался с офицерами (руку подавал только тем, кто был чином не ниже старшего лейтенанта). Эссен представил ему адмиралов и командиров крупных судов. Затем император поздоровался с командой и сфотографировался с офицерами. На этом снимке Колчак стоит за спиной императора и довольно далеко от него, в несколько напряжённой позе, чуть втянув голову в плечи, смотрит куда-то в сторону.
После «России» Николай II побывал в крепости, на линкоре «Петропавловск» и в лазарете для раненых. На завтрак в императорский поезд были приглашены адмиралы, а обед был «для ещё более избранных». Эссен был у государя с докладом, который был хорошо принят, на прощание Николай поцеловал командующего флотом.
Вечером на вокзале в Гельсингфорсе собралось много народу. Император появился в окне на площадке своего вагона, лёгкой улыбкой отвечая на шумные приветствия. Поезд тронулся, медленно увеличивая ход.[553]
С. Н. Тимирёв вспоминал, что государь показался ему на этот раз постаревшим и утомлённым.[554] Многие мемуаристы подтверждают, что во время войны Николай II стал быстро стареть.
Высокие гости уехали, а Колчак адмирала не получил. Тимирёв объяснял это трениями, существовавшими между Эссеном и «придворной партией, имевшей на царя большое влияние».[555] Вряд ли, однако, он понимал это выражение («придворная партия») так, как понимают его современные историки (императрица, Распутин, Вырубова и прочие). Скорее всего, он включал в это понятие и великих князей вместе с Николаем Николаевичем. Ибо именно последний мог быть против Колчака, который осенью побывал у него в Ставке и добивался – возможно, очень напористо – расширения района деятельности флота. А без санкции Верховного главнокомандующего в то время высшие назначения в армии и флоте не производились.
* * *
В начале 1915 года русские войска добились некоторых успехов, в том числе и на побережье Балтики. 6 марта был занят Мемель. Первой, под сильным огнём неприятеля, в город ворвалась флотская команда во главе с капитаном 2-го ранга А. Н. Никифораки. Было установлено телефонное сообщение с Либавой. В занятом русскими войсками городе побывал Колчак. Видимо, Штаб Эссена заинтересовался возможностью использовать порт. Однако через три дня немцы отбили Мемель.[556]
А в апреле германо-австро-венгерские войска начали широкое наступление от Галиции до Балтики. 25 апреля была потеряна Либава. Возникла угроза Рижскому заливу и Моонзундскому архипелагу, который играл важную роль в обороне Финского залива.
Оборона Рижского залива не входила в круг задач Балтийского флота. Тем не менее Эссен отправил туда броненосец «Слава» и основную часть Минной дивизии. Вход в Рижский залив (Ирбенский пролив) был заграждён минами. Начальник Минной дивизии контр-адмирал П. Л. Трухачёв, старший брат товарища Колчака по выпуску, возглавил оборону Рижского залива.
Эссен планировал также осуществить глубокую разведку в южной части Балтийского моря и воспользоваться для этого хотя бы одним из дредноутов – «Севастополем». Разрешение дано не было. Дредноуты простаивали без дела, а между тем русский Балтийский флот, имея преимущество перед непосредственно противостоящими ему немецкими силами, ничего не мог с ними сделать: не хватало лёгких быстроходных крейсеров, миноносцев, был слаб подводный флот. «Трудное наше положение на Балтийском море, – записал Ренгартен в дневнике, – война оборонительная в самом полном значении этого слова, с длительным тяжким выжиданием. И от этого ворох бумаг, от этого потоп организационных и административных дел, но нет поэзии войны».[557]
Эссен решил перевести свой Штаб в Ревель, поближе к театру военных действий. Начались подготовительные работы. Командующий флотом старался ускорить затянувшееся строительство крепости и военного порта.
1 мая Эссен почувствовал себя плохо, но на следующий день уехал на миноносце в Ревель. 3 мая вечером ему стало совсем худо. Сердечная недостаточность соединилась с воспалением лёгких. Эссен умирал четыре дня. Что вспоминал он, что вставало в его воспалённом сознании в те промежутки времени, когда выплывал он из небытия, чтобы опять в него погрузиться? Может быть, видел он себя вновь стоящим на мостике своего «Севастополя». Броненосец медленно уходил под ним в воду. А он стоял, ухватившись за ограждение. Его пытались от него оторвать, но он держался крепко, изо всех сил. Но силы слабели. А корабль уходил в воду. И это уже не «Севастополь». Это – «Россия». Россия, которой он служил. И вот уже сил не осталось. Тогда чьи-то руки подняли его и унесли ввысь. А большой корабль медленно шёл на дно…
7 мая, в половине седьмого вечера адмирал скончался.[558] «Пограничник» сослужил ему последнюю службу, переправив гроб с телом из Ревеля в Петроград.
Штаб Эссена считал, что заменить его может только Кербер.[559] Но в Ставке рассудили иначе. Кербер слишком напоминал беспокойного Эссена. И потому на пост командующего Балтийским флотом был назначен более спокойный вице-адмирал В. А. Канин. Это означало, что Кербер должен покинуть пост начальника Штаба. Талантливый флотоводец некоторое время был фактически не у дел, пока не был назначен командующим флотилией Северного Ледовитого океана. Но это, конечно, не отвечало масштабам ни его дарований, ни тех дел, которые он делал вместе с Эссеном.
Колчак тоже не вписывался в новый Штаб. И хотя Канин, как вспоминал Тимирёв, относился к Колчаку и Непенину как к «высшим существам»,[560] ни в чём не ограничивая их самостоятельность, было ясно, что Колчак долго при Канине не задержится.
Вскоре после смерти Эссена случилось у Колчака ещё одно потрясение. 22 мая у входа в Финский залив был торпедирован немецкой подводной лодкой заградитель «Енисей». Командовал им капитан 1-го ранга Константин Прохоров, третий по списку в колчаковском выпуске, если считать с Филиппова, а не с великого князя. Участвовал он в Цусимском сражении, и тогда уже было оплакали и похоронили его. Но оказалась ошибка в приказе по флоту – вернулся он живым из плена. Как и Колчак, командовал миноносцами, а на «Енисей» перешёл ещё до войны. Когда она началась, водил свой «Енисей» к германским берегам, устанавливал там мины. Действовал всегда хладнокровно и решительно – как и в последние минуты своей жизни. Стоял на капитанском мостике, спокойно отдавал распоряжения, а когда увидел, что гибель неминуема и близка, – запел гимн «Боже, царя храни». Команда подхватила, так с пением и ушли на дно. Спаслось всего 20 человек.[561]
На следующий день Колчак съездил в Петроград к вдове своего товарища.[562] Неизвестно, кому было тяжелее – ему рассказывать или ей слушать.
Отголоском эссеновских времён и достойной ему памятью стала крейсерская экспедиция 18–19 июня 1915 года, проведённая под командованием контр-адмирала Бахирева. Ставилась задача обстрелять Мемель, воспользовавшись тем, что все крупные корабли немецкого флота ушли в Киль на императорский смотр.
Сильный туман мешал движению крейсеров, так что «Рюрик» и эскадренный миноносец «Новик» отстали от основного отряда и пошли самостоятельно. Между тем служба связи Непенина сообщила, что в центральной Балтике находятся германские крейсеры «Роон», «Аугсбург» и «Любек», заградитель «Альбатрос» и семь миноносцев. Канин по радио передал Бахиреву приказ перехватить этот отряд.
Встреча состоялась утром 18 июня у острова Готланд, причём для немцев она была неожиданной. После получасового боя неприятельские миноносцы поставили дымовую завесу. Смешавшись с туманом, она сделала видимость почти нулевой. В дыму и в тумане немецкие крейсеры и миноносцы ушли, оставив не столь быстроходный «Альбатрос» на растерзание противнику. Объятый пламенем, он выбросился на берег Готланда.
Через некоторое время «Роон» наткнулся на «Рюрика». Поединок двух бронированных крейсеров сложился не в пользу первого. Несколькими залпами «Рюрик» накрыл «Роона», и тот поспешно ушёл. Так закончилось, с преимуществом русских, крейсерское сражение у Готланда – единственное в своём роде за всю войну на Балтике. Поход на Мемель пришлось отменить из-за того, что крейсеры сильно израсходовали свой боезапас.[563]
Продолжая наступление в Прибалтике, немецкие войска 5 июля 1915 года заняли Виндаву, а в середине месяца вышли на побережье Рижского залива. Здесь они оказались в довольно затруднительном положении, поскольку русские миноносцы и броненосец «Слава» мешали их продвижению вдоль берега. В конце июля немецкое морское командование, сосредоточив у Ирбенского пролива значительные силы, начало штурм минных заграждений. Несмотря на обстрел тральщиков русскими кораблями и скрытное возобновление минирования, немцы упорно продвигались вперёд. 6 августа, потеряв несколько тральщиков и миноносцев, неприятельский флот вошёл в Рижский залив. Но… через несколько дней ушёл из него. Что заставило немецкое морское командование принять такое странное решение, осталось неясным.[564] После этого русские вновь заминировали Ирбенский пролив.
* * *
В начале сентября 1915 года командующий Минной дивизией и обороной Рижского залива контр-адмирал Трухачёв во время качки сильно вывихнул ногу и выбыл из строя. 10 сентября на его место временно был назначен Колчак. Это было то самое дело, о котором он давно мечтал.
Прибыв в дивизию, Колчак прежде всего съездил в Ригу, чтобы встретиться с командующим 12-й армии Северного фронта генералом Р. Д. Радко-Дмитриевым. Они быстро договорились о совместных действиях и, более того, сразу понравились друг другу.
Радко-Дмитриев был болгарином, участвовал в Балканских войнах, а в 1913 году был назначен полномочным посланником Болгарии в Петербурге. Когда началась война и болгарское правительство пошло на сближение с антирусской коалицией, Радко-Дмитриев оставил свой дипломатический пост и вступил в русскую армию. Колчак высоко ценил этот мужественный шаг болгарского генерала, патриота своей страны и друга России.
Немцы вели наступление на Ригу. Для борьбы с русским флотом они установили в ключевых точках мощные береговые батареи. Вскоре после назначения Колчака, когда «Слава» вела дуэль с одной из таких батарей, снаряд залетел в амбразуру боевой рубки и убил нескольких человек, в том числе командира корабля, капитана 1-го ранга князя С. С. Вяземского.[565] Борьба с береговыми батареями, начатая при Трухачёве, продолжалась и при Колчаке. Но главное, о чём договорились с Радко-Дмитриевым, – всеми силами сдерживать наступление немцев вдоль берега.
Боевым участком, выходившим к морю, командовал князь Меликов, командир 20-го драгунского Финляндского полка. Позиции располагались в болотистой местности, а ближайший город Кеммерн был уже занят немцами. Собственная артиллерия у князя была слабая, и все надежды возлагались на помощь с моря. По договорённости между Меликовым и Колчаком, в море, напротив фланга русских позиций, была установлена бочка, прикрытая мысом Рагоцем от береговой батареи противника. К бочке был подведён телефонный кабель. Став на бочку, корабль мог сразу соединиться со штабом боевого участка, а также и с корректировщиками на наблюдательных пунктах.[566]
Заняв Кеммерн, немцы приостановили наступление. Колчак оставил в Риге несколько миноносцев для экстренной помощи фронту, а сам занялся осуществлением плана операции в тылу врага.
Штаб Балтийского флота был против такой операции, опасаясь, что она спровоцирует новые попытки немецкого флота прорваться в Рижский залив. Но Колчак настоял на своём, хотя и пришлось сократить масштабы операции до минимума и придать ей чисто демонстративный характер. На берег предстояло высадить две роты морских стрелков, эскадрон драгун и подрывную партию (всего 22 офицера и 514 нижних чинов). Руководил операцией сам Колчак, десантом командовал капитан 2-го ранга П. О. Шишко, боевой офицер, известный своим бесстрашием. Десант был посажен на две канонерские лодки, прикрывали операцию 15 миноносцев, линкор «Слава» и авиатранспорт (авиаматка) «Орлица». 6 октября отряд вышел в море.
Первоначально предполагалось высадиться в местечке Роэн, где была небольшая бухта с пристанью. Но поднялся ветер, и Колчак решил, что при большой волне высадить десант будет трудно. Тогда решили отклониться немного к западу, к мысу Домеснес, который защищал от волн ближайшее побережье.
На рассвете 9 октября отряд подошёл к берегу и началась высадка десанта с помощью гребных шлюпок и катеров. Вскоре, однако, они упёрлись в мелководье, и морским стрелкам пришлось добираться до берега вброд. Неприятель оказался не осведомлён о высадке и не чинил ей препятствий.
Стрелки сняли сторожевой пост у маяка, разгромили спешно направленную против них пехотную роту. Другие подкрепления были атакованы гидросамолётами и обстреляны миноносцами. Десант уничтожил неприятельский наблюдательный пункт, захватил пленных и трофеи и вернулся на суда. Немецкие потери составили более 40 человек, а среди десанта было только четверо тяжелораненых. Отряд благополучно отбыл, доказав возможность таких операций в более широких масштабах. Немцам же пришлось оттянуть на защиту побережья часть сил с фронта.[567]
К середине октября погода на Балтике ещё более ухудшилась. Постоянно штормило, шли снегопады. Колчак отвёл миноносцы в Моонзундский архипелаг, в гавань Рогокюль. «Слава» стояла в бухте Куйвасто. Однажды поздно вечером на флагманский миноносец «Сибирский стрелок» поступила телефонограмма, никому не адресованная. Её передали из Риги в Ревель, а оттуда, через Службу связи Непенина, – в Рогокюль. Текст гласил: «Неприятель теснит, прошу флот на помощь. Меликов».
Колчак заволновался: «Не такой человек Меликов, чтобы зря звать на помощь – выхожу немедленно со всеми силами, будь что будет». Начальнику группы миноносцев в Риге была послана радиограмма: «Передайте немедленно Меликову: буду утром со „Славой“ и миноносцами. Капитан 1-го ранга Колчак». Послали радиограмму и командиру «Славы».
Теперь предстояло самое трудное: ночью, в пургу по узкому каналу выйти из Моонзунда. Пошли самым малым ходом, освещая вехи прожекторами. Пурга усилилась, вехи не стало видно. Тогда пошли по счислению. Но ветром корабли отнесло немного в сторону. «Сибирский стрелок» и ещё два миноносца сели на камни, к счастью, на малом ходе, не повредившись. Часа полтора безуспешно пытались сняться, пока само море не пришло на помощь: вода прибыла, и миноносцы всплыли. Мало того, разорвалась завеса пурги, и стал виден маяк на выходе из архипелага. Прибавили ходу, и уже в Рижском заливе обогнали «Славу», шедшую с предельной скоростью в 16 узлов.
Часов в семь утра миноносцы подошли к побережью, где шёл бой. Ухали разрывы немецких снарядов, трещали пулемёты, слышалась ружейная стрельба. На мысе Рагоцем ещё держались русские части, отрезанные от остальной армии.
«Сибирский стрелок» стал на бочку и соединился со штабом Меликова. Оттуда начали поступать приказания: «Стрелять по цели в квадрате №…». «Сто сажен южнее…», «Неприятель ведёт наступление на правом фланге, цепи выходят на берег, прошу обстрелять». К берегу подошли несколько мелкосидящих миноносцев и открыли шрапнельный огонь по наступающим.
Над миноносцами появились немецкие аэропланы, пытались бомбить, но неудачно, и улетели. Зато неприятельская батарея за мысом вдруг начала прицельно бить по миноносцам. Очевидно, с самолётов были сделаны фотоснимки. Все миноносцы, за исключением флагманского, изменили позицию. «Сибирский стрелок» не мог отойти от бочки и положился на судьбу. Судьба не подвела, а бой постепенно стих. Русские войска, немного отступив, удержали позиции.
Под вечер Колчак сошёл на берег, повидался с Меликовым и вернулся весёлый: «Удивительный человек Меликов, просит нас уходить домой, говорит, что немцы понесли такие потери, что не скоро рискнут снова нас атаковать. Просит нас прийти через несколько дней, когда сам перейдёт в атаку для захвата Кеммерна. Мы должны будем произвести артиллерийскую подготовку». На другой день Колчак увёл свой отряд, оставив несколько миноносцев для поддержки армии.
Дней через десять пришло сообщение, что армия приготовилась к наступлению. Миноносцы заблаговременно вышли на старую позицию и осторожно, сделав один-два выстрела, пристрелялись к целям. Распределили огонь так, чтобы прикрыть всю линию атаки. «Слава» со своими 12-дюймовыми пушками взяла на себя бетонные укрепления. Миноносец «Храбрый» должен был заняться береговой батареей, приближаясь к ней и отдаляясь, отвлекая её полностью на себя. Другим миноносцам было приказано не сходить с места. Против аэропланов средств не имелось, но их надо было просто терпеть.
Утром, по сигналу второй пушки «Сибирского стрелка», флот открыл стрельбу. В это же время «Храбрый» затеял дуэль с береговой батареей. Вскоре налетели аэропланы. Их бомбы порой падали близко к миноносцам, но те не сходили с места. Не прошло и часа, как Меликов сообщил, что немецкие позиции и город Кеммерн заняты, противник бежал, не оказав сопротивления, так что и связь с ним временно потеряна. Потом говорили, что это была первая успешная наступательная операция русских войск после великого отступления 1915 года, хотя это, может быть, неточно.
Вечером, когда флот ещё оставался на прежней позиции, из Ставки поступила телеграмма от Николая П. Государь сообщал, что по докладу командующего 12-й армией генерала Радко-Дмитриева он награждает капитана 1-го ранга А. В. Колчака орденом Святого Георгия 4-й степени. Ночью, когда Колчак уже спал, боевые друзья нашили на его тужурку и пальто георгиевские ленты. А потом пришёл миноносец из Ревеля, с которым Непенин прислал ему своего Георгия.[568] (Среди георгиевских кавалеров был распространён обычай меняться орденами в знак дружбы и восхищения.) Указ о награждении Колчака орденом Георгия датирован 2 ноября 1915 года.[569]
Вскоре после этого адмирал Трухачёв вернулся в дивизию и Колчак отбыл на прежнее место службы – в Штаб Балтийского флота. Здесь он разработал план операции по минированию Виндавы, который был успешно выполнен. Постановка мин в этом районе для немцев была неожиданной, так что сразу же здесь подорвалось несколько миноносцев и крейсер.[570]
В середине декабря у адмирала Трухачёва возникли новые проблемы со здоровьем, и Канин перевёл его на более спокойную должность – начальником 1-й бригады крейсеров. На освободившееся место командующего Минной дивизией Балтийского флота был назначен Колчак.[571] Редкое назначение, вспоминал Тимирёв, «приветствовалось столь единодушно всем флотом».[572]
Едва вступив в должность, Колчак решил провести ещё одну минно-заградительную операцию. В сочельник, 24 декабря, отряд миноносцев вышел из Ревеля, взяв курс на Виндаву. Но в самом начале пути подорвался миноносец «Забияка». Пришлось вести его на буксире обратно в Ревель. «Это первое предприятие, которое у меня не увенчалось успехом», – говорил Колчак.[573]
Наступившая зима оказалась очень холодной. Все проходы забило льдом. Ледяным панцирем сковало значительную часть акватории Балтийского моря. Минная дивизия зазимовала в Ревеле.
* * *
В конце 1914 года капитан 2-го ранга Сергей Николаевич Тимирёв получил назначение в Штаб Эссена. 6 января 1915 года он выехал из Петрограда в Гельсингфорс. Провожать его на вокзал приехала его жена.
Анна Васильевна Тимирёва родилась 5 июля 1893 года. По материнской линии она доводилась внучкой И. А. Вышнеградскому, выдающемуся математику и механику, министру финансов при Александре III. Отец её, Василий Ильич Сафонов, был известный пианист, дирижёр и музыкальный педагог. С 1889 по 1905 год занимал пост директора Московской консерватории. Затем, поссорившись со студентами, которые увлеклись политикой, оставил консерваторию, переехал в Петербург и стал надолго уезжать в зарубежные гастроли. Семья была многодетной. Братья и сестры, все до единого, учились музыке. Многие увлекались рисованием и живописью, писали стихи. Из сафоновской семьи вышло несколько профессиональных музыкантов и художников. Анна Васильевна тоже тянулась к искусству. В Петербурге она закончила женскую гимназию, одновременно посещая частную художественную студию.
Крупных художественных и музыкальных дарований у неё не было, или, может быть, они не проявились, уступив место главному её таланту. Выросшая в художественно-артистической обстановке, Анна Васильевна была очень талантлива в другом смысле – чисто в женском. Мало кто умел, как она, проникнуться духом и делами любимого человека, создать вокруг него атмосферу любви и поэзии повседневных отношений, тактично, в шутливой форме высказывать ему дельные советы и пойти за ним хоть на край света, посвятив ему, живому или мёртвому, остаток жизни.
Всё это, конечно, – забегание вперёд. Ибо к тому времени, о коем сейчас речь, этот главный талант у Анны Васильевны ещё не раскрылся, хотя с 1911 года она была замужем, и в 1914 году у Тимирёвых родился сын Владимир.
Тимирёвы стояли на платформе Финляндского вокзала, когда мимо них быстро прошёл невысокий, широкоплечий офицер. «Это Колчак-Полярный. Он недавно вернулся из северной экспедиции», – сказал Сергей Николаевич, забыв, видимо, что после возвращения Колчака из последней экспедиции прошло уже четыре года. «У меня, – вспоминала Анна Васильевна, – осталось только впечатление стремительной походки, энергичного шага».
В Гельсингфорс Колчак и Тимирёв ехали вместе. Они были знакомы ещё с Морского корпуса, затем оказались в Порт-Артуре. Теперь предстояло вместе служить в Штабе Эссена. Недолгий путь от Петрограда до Гельсингфорса занял разговор об оперативной обстановке на Балтике и о штабных делах, причём Колчак рассказывал, а Тимирёв расспрашивал.[574]
Через некоторое время, той же зимой, Анна Васильевна приехала к мужу в Гельсингфорс, чтобы, как она вспоминала, «осмотреться и подготовить свой переезд с ребёнком». Герой Порт-Артура Н. Л. Подгурский, в годы этой войны командовавший на Балтике подводными лодками, пригласил Тимирёвых к себе на вечер. Там же оказался и Колчак. «Вы рассказывали что-то об „элементах и нервах“, и было хорошо и просто», – вспоминала впоследствии Анна Васильевна в одном из писем Колчаку.[575] Просто изложить оккультные теории об «элементалах» (духах) четырёх стихий мог, наверно, только Колчак.
«Не заметить Александра Васильевича было нельзя, – вспоминала Анна Васильевна, – где бы он ни был, он всегда был центром. Он прекрасно рассказывал, и, о чём бы он ни говорил – даже о прочитанной книге, – оставалось впечатление, что всё это им пережито. Как-то так вышло, что весь вечер мы провели рядом».[576]
«К весне», то есть в конце зимы, семья Тимирёвых перебралась в Гельсингфорс – «красивый, очень удобный, лёгкий какой-то город», как писала Анна Васильевна. В это же примерно время туда из Петрограда переехала и Софья Фёдоровна с детьми. Воспоминания Анны Васильевны очень точны, но маленькую Маргариту она почему-то не запомнила, считая, что у Колчаков был только один ребёнок – Славушка. Впрочем, человеческая память способна и не на такие причуды. Колчак, например, ко времени иркутского допроса совсем забыл, что в 1915–1916 годах Балтийским флотом командовал Канин – у него получалось, что все приказы по-прежнему шли от Эссена.
«Это была высокая и стройная женщина, лет 38, наверно, – рассказывала Анна Васильевна о Софье Фёдоровне. – Она очень отличалась от других жён морских офицеров, была более интеллектуальна, что ли».[577] На самом деле в 1915 году Софье Фёдоровне исполнилось 39 лет. Она начинала стареть, была поглощена заботами о детях, и у неё, конечно, не было того артистического обаяния, каким обладала Анна Васильевна.
Софья Фёдоровна и Анна Васильевна сразу подружились, тем более что мужья чаще всего были в Штабе или в море. На лето Колчаки и Тимирёвы сняли дачи поблизости друг от друга – на острове Бренде. Дружеские отношения двух семейств продолжались и осенью. Анна Васильевна ни о чём не подозревала, и Александр Васильевич по ночам ей не снился, хотя она видела, что он за ней ухаживает. А тот, несомненно, уже тогда ничего не мог поделать с охватившим его чувством.
Всё изменилось с одной встречи. Шёл дождь, затемнённый город еле освещался синими фонарями. Анна Васильевна шла одна, думая о своём (что будет дальше? какие ещё несчастья принесёт война?), и вдруг перед ней вырос Александр Васильевич. Они поговорили, как вспоминала Анна Васильевна, не более двух минут, условились о встрече в дружеской компании, разошлись. Вдруг Анна Васильевна подумала: «А вот с этим я ничего бы не боялась».
Сергей Николаевич был человек не менее надёжный. С Александром Васильевичем, имевшим авантюрную жилку, пожалуй, было даже опаснее. Так что дело не в этом. Просто вдруг родилось ответное чувство. Оно не было таким бурным и поглощающим, как у Колчака. Оно горело ровнее и спокойнее, но Анна Васильевна с этих пор, как завороженная, шла за этим огоньком.
Встречались они чаще всего где-нибудь у друзей. Круг офицерский тесен – всегда это была примерно одна и та же компания. «Где бы мы ни встречались, – вспоминала Анна Васильевна, – всегда выходило так, что мы были рядом, не могли наговориться, и всегда он говорил: „Не надо, знаете ли, расходиться – кто знает, будет ли ещё когда-нибудь так хорошо, как сегодня“. Все уже устали, а нам – и ему, и мне – всё было мало, нас несло, как на гребне волны».[578]
Все это видели, все знали, и пересуды, конечно, были неизбежны. Внешне две женщины сохраняли дружеские отношения. Что происходило в семействах, нам, к счастью, неизвестно. Той же осенью, забрав детей, Софья Фёдоровна переехала в Гатчину. О причинах можно только гадать. Скорее всего, она хотела вырваться из того невыносимого положения, в каком оказалась. В Гатчине умерла Маргарита, не прожив и двух лет.[579] Софья Фёдоровна через некоторое время вернулась в Гельсингфорс. Однако потеря маленькой дочери, как видно, ещё более отдалила супругов друг от друга. Софья Фёдоровна с этого времени стала как-то более безучастно относиться к роману своего мужа с другой женщиной. «Вот увидите, – говорила она одной из своих подруг, – Александр Васильевич разойдётся со мной и женится на Анне Васильевне».
Однажды в Морском собрании устроили вечер, на который дамы должны были явиться в русских нарядах. Александр Васильевич попросил Анну Васильевну сфотографироваться в этом наряде и подарить ему фото. Анна Васильевна выполнила просьбу. Снимок, очень хорошо получившийся, она подарила ещё кое-кому из своих друзей. «А я видел ваш портрет у Колчака в каюте», – сказал один знакомый. «Что же тут такого, – отвечала Анна Васильевна, – этот портрет не только у него». – «Да, но в каюте Колчака был только ваш портрет и больше ничего».
В свою очередь Анна Васильевна вспоминала, что в те дни её мысли были тоже только о нём. «Я думаю, если бы меня разбудить ночью и спросить, чего я хочу, – я сразу бы ответила: видеть его».[580] Немного подтрунивая над собой и над ним, она называла его «милая моя Химера», вкладывая в это двойной смысл. Резкими чертами лица Колчак действительно напоминал химеру с Собора Парижской Богоматери. Но с другой стороны, химера – это какая-то несбывшаяся мечта, фантастический сон, не имеющий отношения к реальности. «Милая химера» – значит прекрасная мечта, прекрасный сон.
Любовь, как стихия, – приходит и уходит помимо человеческой воли. Но в зрелом возрасте (Колчаку в 1915 году исполнился 41 год) она вызывает тяжёлые переживания и может разрушить человека. Любовь А. В. Колчака и А. В. Тимирёвой – об этом в наши дни много говорят и пишут – имела не только поэтическую сторону. Не будем слишком высоко возносить культ Афродиты – была и теневая сторона. Забегая немного вперёд, можно сказать, что она, несомненно, мешала Колчаку командовать Черноморским флотом, хотя он и носился с мечтой положить к ногам возлюбленной Константинополь (все влюблённые немного как дети). Она, эта любовь, попортила ему нервы в те самые дни и месяцы, когда от него особенно требовались спокойствие, выдержка и хладнокровие. Она окончательно разрушила его семью, оставив от неё только видимость. Разрушена была и семья Тимирёвых, и потом каждый из них умирал в одиночку.
* * *
С началом весны 1916 года немцы возобновили наступление на Ригу. Морские силы Рижского залива активно им противодействовали. В распоряжении Колчака в это время, кроме «Славы», были также крейсеры «Адмирал Макаров» и «Диана». Своим огнём они задерживали продвижение противника. Те участки побережья, которые были уже заняты немцами, Колчак начал минировать, используя мелкосидящие заградители, переделанные из колёсных пароходов. Таким образом исключалось передвижение вдоль берега неприятельских транспортов и подводных лодок.[581]
В августе 1915 года, когда ещё не закончилось великое отступление, Николай Николаевич был смещён с поста верховного главнокомандующего и назначен наместником Кавказа и командующим Кавказским фронтом. Верховным главнокомандующим Николай II назначил самого себя, а начальником штаба Ставки – генерала М. В. Алексеева. В Ставке немного стало меняться отношение к флоту. Впервые Колчак почувствовал это на себе, когда был награждён орденом Святого Георгия. А затем получило, наконец, движение и представление о повышении его в воинском звании. 10 апреля 1916 года «высочайшим» приказом по морскому ведомству Колчак был произведён в контр-адмиралы.[582] (Анна Васильевна теперь стала именовать его «милой Химерой в адмиральской форме».)
Уже в звании контр-адмирала Колчак принял участие в борьбе против немецких транспортов, перевозивших железную руду из нейтральной Швеции. Сведения об их движении поступали из английского посольства в Стокгольме. Первый выход навстречу транспортам был неудачным: караван успел проскочить приготовленное для него место встречи. Более тщательно был спланирован второй выход – 31 мая. Общее командование операцией было поручено контр-адмиралу Трухачёву, который вёл три крейсера – «Богатырь», «Олег» и «Рюрик». Впереди шли три эскадренных миноносца – «Новик», «Победитель» и «Гром» под командованием Колчака.
Около полуночи миноносцы обнаружили караван, шедший в сопровождении вспомогательного крейсера и двух вооружённых пароходов. Колчак атаковал их, не дожидаясь подхода Трухачёва. Конвоиры храбро вступили в бой, несмотря на очевидное превосходство атакующих. Сражение длилось около получаса, и все конвоиры были потоплены, а также и несколько транспортов. Остальные укрылись в шведских территориальных водах. Крейсеры не успели принять участие в сражении. После этого Германия на длительное время прекратила морские перевозки из Швеции.[583]
В это же время по инициативе Колчака в Штабе началась разработка более крупной, чем предыдущая, десантной операции в Рижском заливе в тылу немецких войск.[584]
Приезжая в Ревель по делам службы, Колчак обычно заходил к Непенину, который в это время командовал не только Службой связи, но и морской обороной Ревеля. Человек очень трудолюбивый и деловитый, Непенин вместе с тем был гостеприимный хозяин, остроумный собеседник и отличный кулинар. Чаще других у него бывали Подгурский, Трухачёв, Тимирёв и Колчак. Последние двое, как видно, сохраняли дружеские отношения, по крайней мере внешне. А в своих воспоминаниях, написанных уже в эмиграции, Тимирёв отзывался о Колчаке с полной объективностью и даже симпатией.
Однажды в июне друзья встретились в ревельском Морском собрании. Тимирёв, Подгурский и Колчак мирно беседовали, когда к Колчаку подошёл его флаг-офицер и сказал, что его вызывает командующий флотом. Колчак пожал плечами: «Странно, кажется, обо всём договорились», – и отправился в Штаб. Вскоре подошёл Непенин и сообщил, что получена телеграмма о назначении Колчака командующим Черноморским флотом с производством в вице-адмиралы.
Спустя некоторое время вернулся Колчак. Вид у него был несколько растерянный. «Без особой радости в голосе», как вспоминал Тимирёв, он подтвердил сообщение Непенина. «Я почти уверен, – добавлял Тимирёв, – что Колчак до своего назначения ничего о нём не знал, а также не предполагал, какие хитросплетённые интриги ведутся в Ставке».[585]
В Ставке были недовольны пассивностью обоих командующих флотами – В. А. Канина (Балтийским) и А. А. Эбергарда (Черноморским). Последний вызывал особенно много нареканий. Ещё осенью 1915 года генерал Алексеев грозился снять с кораблей чуть ли не весь личный состав Черноморского флота и сформировать из него пешие команды.[586]
Альтфатер, перебравшийся в Морской отдел Ставки и заведовавший там балтийскими делами, усиленно продвигал Непенина, рассчитывая в дальнейшем на поддержку этого бесхитростного и простоватого человека. Хотя, как считал Тимирёв, более подходящим кандидатом на пост командующего Балтийским флотом был Колчак. Чёрным морем в Ставке заведовал капитан 2-го ранга А. Д. Бубнов, в будущем – известный теоретик и историк военно-морского искусства. Он-то и продвигал Колчака на Чёрное море, не видя там ни одной подходящей кандидатуры взамен Эбергарда.[587]
«Высочайший» приказ по морскому ведомству о производстве Колчака в вице-адмиралы с назначением командующим флотом Чёрного моря был издан 28 июня 1916 года. Судя по всему, это назначение было воспринято Колчаком без восторга. Он хорошо знал и любил Балтийское море. Командование Минной дивизией было живым делом, которому он отдавался всей душой и которое, конечно, не хотелось бросать. А кроме того, отъезд в Севастополь означал долгую разлуку с любимой женщиной.
Нарочно или случайно, или по какому-то своему чутью, Анна Васильевна оказалась в Ревеле как раз в те дни. Они встречались целую неделю. А потом в Морском собрании состоялся прощальный ужин в честь Колчака, и он не столько на нём присутствовал, сколько гулял с Анной Васильевной по старинному парку Катриненталь (летнее Морское собрание размещалось в этом парке). В этот день они, наконец, объяснились друг другу в любви.[588]
К Минной дивизии Колчак обратился с прощальным письмом. «Великую милость и доверие, оказанное мне государем императором, – говорилось в письме, – я прежде всего отношу к Минной дивизии и тем судам, входящим в состав сил Рижского залива, которыми я имел честь и счастье командовать…Лично я никогда не желал бы командовать лучшей боевой частью, чем Минная дивизия с её блестящим офицерским составом, с отличными командами, с её постоянным военным направлением духа, носящим традиции основателя своего покойного ныне адмирала Николая Оттовича. И теперь, прощаясь с Минной дивизией, я испытываю те же чувства, как при разлуке с самым близким, дорогим и любимым в жизни».[589]
И действительно, впоследствии Колчак с волнением и грустью вспоминал это время. Как-то раз в письме Тимирёвой он отметил: «Это был один из хороших периодов моей жизни. Рижский залив, Минная дивизия, совместные операции с сухопутными войсками, Радко-Дмитриев, Непенин, наконец, возвращение и встреча с Вами, с милой, обожаемой Анной Васильевной».[590]
С собой на Черноморский флот Колчак пригласил капитана 1-го ранга М. И. Смирнова, который когда-то состоял в той роте, в которой гардемарин Колчак был фельдфебелем. Затем они вместе служили в Моргенштабе, а во время войны Смирнов в качестве наблюдателя присутствовал при Дарданелльской операции англо-французского флота, длившейся с 19 февраля 1915 года по 9 января 1916 года и закончившейся неудачей. Колчак предложил Смирнову должность флаг-капитана по оперативной части, которую когда-то сам занимал при Эссене. «Я считаю, – сказал он, – что командующий флотом и флаг-капитан должны иметь одинаковые взгляды на ведение войны, я знаю ваши взгляды и потому предлагаю вам ехать со мной». Смирнов без колебаний согласился.[591]
Из Ставки в Ревель за Колчаком прибыл А. Д. Бубнов, которого Колчак тоже хорошо знал по службе в Моргенштабе. Друзья и единомышленники, Колчак, Смирнов и Бубнов вместе выехали в Ставку, которая теперь располагалась в Могилёве, и по дороге Бубнов подробно обрисовал обстановку на Чёрном море. Втроём они обсуждали планы ближайших операций, перспективы на будущее и пришли к единому мнению.[592]
В начале сентября 1916 года, когда Колчак был уже на Чёрном море, командующим Балтийским флотом был назначен А. И. Непенин. Первое дело, с которого он начал, было подтягивание дисциплины среди офицеров и матросов. Это, конечно, было необходимо. Но, к сожалению, как говорят, Непенин подошёл к вопросу несколько формально. Отдавать честь и вытягиваться во фрунт перед мчащимся автомобилем командующего – это было не самое главное, да во время войны этому и не придавалось большого значения. Глубинные же истоки начинавшегося развала не были выявлены и блокированы. А суровый педантизм, с которым Непенин стал поддерживать внешние признаки дисциплины, сделали его непопулярным среди матросов и отчасти даже младших офицеров.[593]
Командующий Черноморским флотом
Николай II приехал в Могилёв 23 августа 1915 года и на следующий день сменил Николая Николаевича на посту главнокомандующего. Поселился в губернаторском доме. Неподалёку, в здании губернского правления, размещался штаб. Там жил начальник штаба, генерал М. В. Алексеев. Императорская семья оставалась в Царском Селе. Но государь не мог долгое время находиться вне её круга. Он часто ездил в Царское Село, а потом стал забирать с собой в Ставку Алексея на долгие месяцы. Александра Фёдоровна приезжала с дочерьми на короткое время – обычно для того, чтобы склонить государя на какое-то решение или, наоборот, удержать от нежелательного шага – и тотчас же уезжала. Видимо, она знала, что в Ставке её не любят. Распутин там никогда не показывался.
В эти годы императорскую семью уже трудно было назвать образцовой. Николай II постарел и осунулся. За ним стала замечаться прежде совершенно несвойственная ему нервозность. Александра Фёдоровна уже не выглядела счастливой матерью многочисленного семейства. «Теперь на меня смотрела трагическая женщина с упрямым подбородком и куда-то ушедшими вовнутрь себя глазами. У ней чувствовалась какая-то назойливая мысль, которая её никогда не оставляла», – вспоминал адмирал Д. В. Ненюков, видевший её в Ставке. Наследника Алексея Николаевича постоянная его болезнь преследовала буквально по пятам. Стоило неловко протянуть ногу – и начиналось внутреннее кровотечение в паху. Пустяковый насморк оборачивался тем, что из носа начинала идти кровь. Самую жизнерадостную часть семейства составляли дочери. Однако старшая уже явно засиделась в девичестве. Заневестились и другие. Но о их замужестве родители, похоже, не думали.[594] Императорская семья превратилась в какую-то замкнутую ячейку без входов и выходов.
Но власть и корона с неизбежностью, рано или поздно, должны были покинуть эту семью, ибо наследник был явно недолговечен. Между тем отношения с другими членами царствующего дома были серьёзно испорчены – главным образом стараниями Александры Фёдоровны. Её же стараниями были испорчены отношения с Думой, дворянством, образованным обществом. Все упования возлагались на простой народ, олицетворением которого для этого обречённого семейства был Григорий Распутин.
Государь вставал около 7–8 часов. После короткого чаепития уходил в Ставку, где генерал Алексеев делал ему доклад о положении на фронтах. Если доклад был недлинный, а вести ободряющие, император приходил в хорошее настроение. Очень тщательно записывал в дневнике данные о числе взятых в плен – по разрядам от генералов до рядовых, о количестве захваченных орудий, пулемётов, винтовок, прожекторов (даже если их было всего два) и зарядных ящиков. (Когда-то с такой тщательностью он подсчитывал количество убитой на охоте дичи.) Иногда начинал суммировать данные за несколько дней. В логику стратегического единоборства на огромном протяжении фронтов он не вникал и, возможно, не очень её понимал. С Алексеевым по военным вопросам никогда не спорил, даже если внутренне с чем-то не был согласен.
Часов в 11–12 в губернаторском доме был завтрак, на котором присутствовало до 30 человек – высшие чины Ставки, начальники иностранных военных миссий, некоторые лица, вызванные в Ставку по тем или иным делам. После завтрака все выходили в гостиную и становились полукругом. Николай II ходил внутри него, покуривая и останавливаясь то с тем, то с другим. Это был «серкл», длившийся минут 10–15. После этого Николай II чувствовал себя свободным человеком, и начиналось то, что было для него главным содержанием дня и что он особенно подробно описывал в дневнике.
Если Алексея не было в Ставке или он болел, Николай II отправлялся в пешую прогулку далеко за город. Иногда его сопровождал кто-то из близких ему лиц – например, дворцовый комендант В. Н. Воейков. Однако далеко не каждый из царских приближённых годился для таких дальних экскурсий, и Николай II часто ходил один, не обращая внимания на шныряющих в кустах охранников.
Государь был человеком очень спортивным и большим любителем пешей ходьбы. Потому и не стал жить в Зимнем дворце, что там ему не хватало движения. Однажды, когда в пехоте вводилась новая форма, он с полной солдатской выкладкой и винтовкой совершил 10-вёрстный поход и лишь после этого утвердил проект – в ту пору ему было уже за сорок. Родись Николай среди простого народа, он был бы хорошим солдатом. А вот до генерала, наверно, не дослужился бы, хотя в тогдашней России среди генералов уже встречались выходцы из народных низов.
Если Алексей был здоров, прогулка совершалась на автомобиле или на лодке по Днепру. Останавливались в каком-нибудь удобном месте, купались. Потом император наблюдал за играми наследника или сам в них участвовал. Однажды несколько дней подряд раскапывали какой-то холм и нашли лошадиные кости – довольно странное занятие для главнокомандующего. Но, очевидно, Николай II таким способом старался отвлечься от проблем, ибо известия с фронтов не всегда радовали, а с «домашнего фронта» были ещё хуже.
Часам к шести надо было спешить к обеду, на который приглашалось 10–12 человек по выбору царя. Это считалось знаком особого внимания.
До или после обеда император принимал министров и других лиц, удостоенных аудиенции. По вечерам Николай II просматривал бумаги, поступившие из Петрограда, писал письма или играл в домино – обычно в компании того же Воейкова, а также своего флигель-адъютанта, капитана 2-го ранга Н. П. Саблина и адмирала К. Д. Нилова, служившего ещё при Алексее Александровиче. Эти люди были удобны тем, что не лезли в политику, хотя Воейков иногда мог по-черносотенному крепко высказать своё мнение. Нилов же был постоянно «на взводе», и Николай II так привык видеть его в таком состоянии, что считал его естественным, и однажды, как говорили, увидев Нилова трезвым, подумал, что он пьян.[595]
Конечно, такие люди, фактически ничего не делающие, отягощали Ставку своим присутствием. Да и вообще пребывание царя в Ставке вносило в её жизнь излишнюю суету и мешало сосредоточенной работе, ибо к нему постоянно ездили министры, придворные, иностранные высокие гости, великие князья, важные просители и другие люди. С этим, однако, мирились и достаточно ценили то, что царь, при своих данных, разумно не вмешивался в стратегические и оперативные вопросы.
Фактическим главнокомандующим был Алексеев. Но у него не было своего начальника штаба, и на его плечи ложилась двойная нагрузка. А между тем Алексеев, имея крупный стратегический талант, не обладал крепким здоровьем.
Колчак провёл в Ставке один день – 4 июля 1916 года. Судя по имеющимся данным, этот день начался с завтрака у царя и «серкла» в гостиной. Видимо, именно здесь молодого адмирала заметил генерал Пьер-Тибо-Шарль-Морис Жанен, начальник французской военной миссии при Ставке. Колчак, возможно, тоже обратил внимание на вальяжного союзного генерала с седой головой и чёрными усами, сыгравшего впоследствии роковую роль в его судьбе. Обратил внимание – и потом забыл. А Жанен не забыл и через несколько лет отметил это в своём «Сибирском дневнике».
После завтрака, когда Николай II с Алексеем отправились купаться на Днепр (день был жаркий и душный), Колчак был принят Алексеевым. Генерал, маленький усатый старичок в очках, ознакомил нового командующего Черноморским флотом с положением на фронтах, с содержанием военно-политических соглашений между союзниками, сообщил об ожидаемом вступлении в войну Румынии и особо остановился на вопросе о черноморских проливах. Существуют разные варианты овладения Босфором, сказал он, но в любом случае флот должен активно в этом участвовать. Колчак поинтересовался, почему именно его назначили в Чёрное море, хотя он никогда там не служил и с вопросом о проливах знаком лишь теоретически. Алексеев окинул адмирала характерным своим колючим взглядом и суховато объяснил, что в Ставке сложилось мнение, что именно он может наиболее успешно выполнить те задачи, которые будут поручены флоту в Босфорской операции. «Окончательные указания, – закончил Алексеев, – вы получите у государя».
Потом Колчака ознакомили с только что подписанным указом о награждении его орденом Станислава 1-й степени. А в шесть вечера был обед у царя. Николай II, освежившийся после купания, был в хорошем настроении: Алексей в эти дни был здоров, а с фронта продолжали поступать сводки о развивавшемся уже второй месяц знаменитом брусиловском наступлении.
В доме, несмотря на распахнутые окна, было душно, и Николай после обеда пригласил Колчака погулять в саду. Они беседовали около часа. Государь повторил примерно то же, что говорил Алексеев, только в более простой, не такой официальной форме. Он, в частности, высказал опасение, что вступление Румынии в войну ухудшит стратегическую обстановку. Румыния не готова к войне, придётся её поддерживать, фронт удлинится, и на русскую армию ляжет новая нагрузка. «Но на этом настаивает французское союзное командование, – сказал государь. – Они требуют, чтобы Румыния во что бы то ни стало выступила, они послали в Румынию специальную миссию, боевые припасы, и приходится уступать…» Оба вздохнули, вспомнив внушительную фигуру Жанена. Было понятно, что союзники стараются оттянуть на Восточный фронт как можно больше австро-венгерских и германских войск.
Николай оживился, когда Колчак спросил насчёт Босфорской операции. К ней надо готовиться, сказал он, хотя ещё не совсем решено, наступать ли на проливы вдоль берега или выбросить десант прямо в Босфор.
В тот же вечер, попрощавшись с Бубновым, Колчак выехал в Севастополь.[596]
* * *
Турция запоздала со вступлением в войну, потому что срочно укрепляла берега Босфора. Были также надежды получить из Англии строившиеся там на турецкие деньги дредноуты. Но англичане их задержали, а потом включили в состав своего флота. Тогда германское командование послало в Турцию линейный крейсер «Гебен» и лёгкий крейсер «Бреслау». Благополучно избежав встречи с английскими эскадрами в Северном и Средиземном морях, они бросили якоря на рейде Константинополя. «Обстоятельства, при которых произошёл этот прорыв, весьма туманны и дают основание подозревать, что в расчёты Англии, вероятно, не входило обеспечение за русским флотом безусловного господства на Чёрном море», – писал военно-морской историк М. А. Петров.[597]
Турция закупила оба крейсера. Офицеры и специалисты на них остались немецкими, а команда, начиная с низших должностей, постепенно пополнялась турками.
Эта покупка удвоила силы турецкого флота. Новейший линейный крейсер «Гебен» в то время не имел себе равных в русском флоте. Мощность его артиллерии была вдвое больше, чем, например, у старого линкора «Евстафий». А по скорости хода (27 узлов) он превосходил не достроенный ещё русский дредноут «Императрица Мария» (21 узел).
Рано утром 16 октября 1914 года турецкие миноносцы ворвались в гавань Одессы и потопили канонерскую лодку «Донец», повредили несколько пароходов. «Гебен» обстрелял Севастополь, а «Бреслау» – Новороссийск. В море было потоплено несколько русских судов, военных и гражданских.[598]
В кампанию 1914 года командующий Черноморским флотом адмирал А. А. Эбергард ещё пытался активно противодействовать неприятельскому флоту. Русские корабли выходили в море, вплоть до Босфора, и расставляли там мины. В конце 1914 года на одной из них подорвался «Гебен» и едва не ушёл на дно, но, к счастью своему, по другому борту нарвался ещё на одну мину, зачерпнул много воды, но выровнялся и дотянул до Константинополя. После этого он несколько месяцев ремонтировался.
Летом 1915 года в Чёрном море появились германские подводные лодки, и Эбергард, человек очень осторожный, почти прекратил дальние выходы своей эскадры. Теперь главное внимание обращалось на защиту собственных берегов. Усиливались береговые батареи, тщательно заграждались минами, сетями и иными средствами все стратегически важные пункты побережья. И это несмотря на то, что в июне 1915 года вступила в строй «Императрица Мария», а в декабре – однотипный с нею дредноут «Екатерина Великая». Пополнился и русский подводный флот. А общее превосходство русского флота над турецким стало примерно трёхкратным. Эбергард не давал разрешения даже на мелкие рискованные операции по инициативе отдельных офицеров. «Такой-то и такой-то слишком хорошие офицеры, чтобы я мог рисковать их жизнями ради пустяковых операций», – говорил адмирал, в очередной раз пресекая инициативу снизу.
Такая позиция находила понимание и поддержку у ближайших помощников командующего флотом, а отчасти и вообще в офицерской среде. Ни для кого не было секретом, что офицерский состав Черноморского флота оставлял желать много лучшего: все энергичные и талантливые выпускники Морского корпуса старались попасть на Балтику. На Чёрное море чаще ехали те, кто болтался где-то ближе к концу выпускного списка. И служебного рвения там было поменьше. Черноморские офицеры были больше привязаны к берегу, к своему домику с садиком, где осенью падают с веток спелые сливы. В предвоенные годы, когда правительство прожужжало всем уши хуторами и отрубами, черноморцы получили ироническое прозвище – «хуторяне».
Между тем «Гебен» и «Бреслау» продолжали делать набеги на различные пункты русского побережья, топили русские пароходы и транспорты. Когда же в октябре 1915 года в войну на стороне Германии вступила Болгария, Бургас и Варна стали базами немецких подводных лодок. В течение весны 1916 года неприятельские подводные лодки потопили 30 пароходов, принадлежавших России, что составило около 25 процентов всей русской транспортной флотилии на Чёрном море. Уменьшение её тоннажа тяжело отражалось на подвозе продовольствия, боеприпасов и подкреплений Кавказской армии, а также сужало возможности десантных операций.[599]
В поезде на пути в Севастополь Колчак и Смирнов ещё раз обсудили план действий на Чёрном море. Прежде всего стоял вопрос, продолжать ли заграждение минами собственных баз или перенести минирование к берегам противника.
Существовало мнение, что минные заграждения, не обеспеченные охраной, не очень эффективны. Неприятель вытралит проходы и вновь выйдет из своих баз в открытое море. Черноморский флот, базируясь в Севастополе, на расстоянии в 260 миль от Босфора, не сможет воспрепятствовать противнику сделать проходы.
После раздумий и обмена мнениями со Смирновым Колчак решил иначе. Надо ставить мины в таком количестве, чтобы неприятель не успевал их вытраливать. Ставить мины в несколько ярусов, чтобы не имели прохода ни большие корабли, ни подводные лодки, ни лёгкие суда – для этого приспособить мелкосидящие заградители. Располагать минные поля возможно ближе к неприятельскому берегу и ни в коем случае не далее пяти миль от него, чтобы иметь возможность обстреливать береговые укрепления с моря. Разделить флот на две или три смены и установить постоянное дежурство у Босфора. Заграждение минами и сетями собственных портов совершенно прекратить.[600]
* * *
С прибытием Колчака в Севастополь связана одна легенда, прочно утвердившаяся в эмигрантской литературе. «Вспомним, как было эффектно и по-военному удачно его вступление в командование Черноморским флотом, – писал белогвардейский генерал Д. В. Филатьев. – Все ожидали от него обычных смотров, объездов судов, подбадривающих приказов и традиционных визитов на берегу. Вместо этого он прямо из купе вагона сел на судно и вывел флот в море для исполнения боевой задачи». Эту же легенду повторяли адмирал Д. В. Ненюков и, как ни странно, лейтенант Р. Р. Левговд, служивший в то время в штабе Черноморского флота.[601] И только воспоминания М. И. Смирнова дают нам возможность установить, что было на самом деле.
От Могилёва до Севастополя путь неблизкий, а железные дороги в то время работали уже неважно. Колчак прибыл Севастополь скорее всего во второй половине дня 8 июля. («Сегодня исполняется месяц моего пребывания в должности командующего флотом», – писал он Григоровичу 8 августа 1916 года.[602]) Сразу же отправился на штабной корабль «Георгий Победоносец», где его поджидал Эбергард. К нужному моменту на шканцах выстроились офицеры и команда.
Молодой адмирал медленно поднимается по трапу, несколько смущённый парадностью церемонии, как отметил Левговд. Тонкие, плотно сжатые губы, сдвинутые брови, гладко выбритое мужественное лицо. Молча проходит мимо строя офицеров, здоровается с командой и… – навстречу ему идёт радушно улыбающийся Эбергард, сановитый, громадный, косая сажень в плечах, с бычьей шеей. Так встретились два адмирала – полная противоположность друг другу, и внешне, и по своему духу. Впрочем, Колчака Эбергард очень ценил. Узнав, кто едет к нему на смену, он сказал: «Всякое другое назначение показалось бы мне обидным».[603]
Командующие флотом, новый и прежний, спустились по трапу в адмиральскую каюту. Беседа сразу приняла деловой характер. Колчак задавал вопросы, Эбергард отвечал. Пришёл офицер, доложивший, что по радиопеленгам видно, что «Бреслау» вышел в море и движется предположительно к Новороссийску. Эбергард хотел отдать распоряжение дежурной группе кораблей готовиться к выходу в море. Но Колчак сразу загорелся и решил сам выйти в море – и через час. Но оказалось, что не таковы порядки у Эбергарда, чтобы выходить в море через час. Сначала надо протралить фарватеры – на это потребуется шесть часов. Но скоро наступит ночь, а схема ночного входа и выхода не разработана. За ночь могут опять набросать мин. Так что лучше тралить с рассветом, и тогда отряд преследования сможет выйти в 9 часов утра. Операцию пришлось отложить. Однако Колчак тотчас же дал указание разработать схему ночного выхода.[604]
В 9 часов утра линейный корабль «Императрица Мария», крейсер «Память Меркурия» и дивизион быстроходных миноносцев (на нефтяном топливе) вышли в море. Дивизион развернулся впереди и образовал завесу, вслед за ним должен был идти крейсер, а за ним – «Императрица Мария», на которой был поднят флаг командующего флотом. Колчак приблизительно знал местонахождение «Бреслау», и план состоял в том, чтобы отрезать его от Босфора и навязать бой.
Отряд сразу же пошёл на предельной скорости. Медленно, но верно «Память Меркурия» стала отставать. «Императрица Мария» сначала поравнялась с ней, а потом и обогнала. Колчак, наверно, с сожалением подумал, что в его эскадре, в отличие от Балтийской, нет современных быстроходных крейсеров.
«Память Меркурия», однако, не успела сильно отстать, когда в море был замечен «Бреслау». Сначала об этом просигнализировали миноносцы, а потом на горизонте обозначились мачты и верхушки труб немецкого крейсера. «Бреслау» тоже заметил русские корабли. Он круто развернулся и пошёл на пересечение курса «Марии». Какое-то время корабли сближались. Когда расстояние сократилось до 90 кабельтовых, «Мария» открыла огонь. «Бреслау» окружило кольцо высоких, выше его труб, чёрно-белых всплесков от рвущихся снарядов. Немецкий крейсер поставил плотную дымовую завесу и стал невидим. Стрельбу пришлось остановить. Но погоня продолжалась, и теперь уже «Мария», как раньше «Память Меркурия», стала отставать – медленно, но верно. Миноносцы же шли вровень с «Бреслау» и стреляли в него из своих 4-дюймовых орудий. Но преимущество их в ходе было слишком невелико, чтобы они успели занять исходное положение для минной атаки. В дыму и в наступивших сумерках они потеряли «Бреслау». Колчак, видимо, остался недоволен их действиями.[605]
Эбергард уехал в Петроград (он был назначен членом Государственного совета), а Колчак должен был разбираться с оставленными им проблемами. Крейсеры и миноносцы – самая активная часть флота – давно требовали ремонта. Уровень боевой подготовки за время войны понизился, потому что прежний командующий, опасаясь подводных лодок, перестал выводить эскадру на учебные стрельбы и маневры.[606] Но главное – подтвердились опасения, что на Чёрном море неважно обстоит дело с дисциплиной, причём на всех уровнях, начиная с высшего командного состава.
Эбергард подбирал своё окружение под стать себе. Все флагманы и командиры больших кораблей по возрасту были старше Колчака. Это были спокойные и рассудительные люди, не склонные лезть в пекло. В первый же месяц пребывания Колчака на Чёрном море начальник минной бригады подал ему докладную записку, в коей заявил, что считает идею минного заграждения Босфора «бесцельной, вредной и рискованной».[607] Колчак не мог немедленно снять его с должности, потому что он был назначен «высочайшим» приказом. Приходилось делать дело без его участия. За всё время своего командования Колчак не смог отделаться от одного из своих флагманов, контр-адмирала Саблина, хотя и писал Григоровичу: «…Из всех начальников контр-адмирал Саблин больше всего озабочивает меня своим пессимизмом и разочарованностью. У него всё является невыполнимым, или не достигающим цели, или не оправдывающим риска и т. п.».[608]
С такими начальниками, как Саблин, у Колчака, видимо, случались бурные сцены. Но нового командующего нередко выводили из себя и другие начальники, помельче. «В адмиральском кабинете, в открытом море на мостике, всюду, где впервые появлялся адмирал, происходили драмы», – вспоминал флаг-офицер командующего Р. Р. Левговд.[609] Слухи об адмиральских разносах достигли и А. В. Тимирёвой. «Вот ещё о чём я хотела сказать Вам, милый Александр Васильевич, – писала она, – последнее время я всё чаще и чаще слышу из разных источников рассказы о том, что Вы невозможно нервны и свирепы до крайности, за что Вас многие осуждают. Мне очень больно слышать всё это, я хорошо знаю, какую поправку надо делать на фантазию рассказчиков, но знаю также, что есть богатая почва для таких разговоров, а её не должно было бы быть… Я Вам писала, что ничего не прошу у Вас – сейчас у меня есть к Вам просьба: когда к Вам придёт желание „объяснить“ кому-нибудь что-нибудь по системе „топтания фуражки“ и т. п. – вспомните меня и, ради Бога, не сердитесь на меня за то, что я пишу Вам это, не имея на это никакого права».[610]
Совет был разумный. И всё же читателю не следует представлять себе Колчака в виде неврастеника или мрачного демона. Многие сцены «топтания фуражки» происходили, видимо, не от избытка темперамента, а разыгрывались актёрски. В этой связи интересно вспомнить один случай, бывший на Балтике, ещё при Эссене.
В Балтийском порту, недалеко от Ревеля, стояла самоходная плавбаза «Пётр Великий». Радист на этом судне развлекался тем, что передавал в эфир разный вздор: «Ухожу в Балтийский порт, шлю привет! Я – Пётр Великий». Однажды он послал привет флагманскому кораблю: «Рюрик, Рюрик. Да здравствует Россия». В штабе Эссена сначала подумали, что это немцы вызывают на ответ – зачем-то им понадобилось знать местонахождение флагмана. Тогда, значит, на какое-то время надо соблюдать радиомолчание. Когда же дознались, Эссен приказал доставить на «Рюрик» капитана «Петра Великого» и радиста. «Обошлись с ними жестоко, – записал в дневнике Ренгартен, – адмирал орал на командира ледокола, а телеграфиста вызвал наверх Колчак, галдел на него, топал ногами, пообещал в следующий раз расстрелять. А адмирал сердился: не повесить ли обоих; я заступился, сказал, что знаю телеграфиста, что он просто сглупил».[611]
Интересно то, что Колчак грозился расстрелять радиста в следующий раз, Эссен же собирался повесить, следующего раза не дожидаясь. Хотя ни тот ни другой, надо полагать, не думали исполнить своей угрозы. Вообще же известно, что за всё время своего командования Черноморским флотом Колчак не подписал ни одного смертного приговора.
Причинами шумных колчаковских разносов служили, как правило, отнюдь не мелкие нарушения дисциплины, вроде неотдания чести. Среди черноморских офицеров ходил рассказ о том, как однажды в городе Колчак наткнулся на какого-то мичмана. Молодой офицер отдал честь, а во фронт, растерявшись, не стал. Колчак сделал под козырёк, щёлкнул каблуками и иронически представился: «Командующий флотом».[612]
Колчака выводили из себя уклонения от исполнения приказов, их неисполнение или плохое исполнение. И гнев обрушивался на тех, с кого больше был спрос, – прежде всего на флагманов и командиров. «Молодёжь восторгалась адмиралом, – вспоминал Ненюков, – а люди постарше только кряхтели и желали ему от души сломить шею».[613]
За сценами адмиральских разносов с живым интересом наблюдали матросы. Им нравилось, как новый командующий гоняет больших начальников. В кубрике и на баке рассказывались наскоро сочинённые истории. В одной из них речь шла о том, как Эбергард, непопулярный среди матросов, передавал командование Колчаку.
«Колчак сделал замечание Эбергарду: „Вы слишком затягиваете передачу командования флотом“. – „Вы не торопитесь. Ведь по сути дела вы ещё ученик“, – презрительно ответил Эбергард. Колчак в том же тоне возразил: „Наполеон тоже в своё время считался учеником, а потом сделался императором…“ – „…Острова св. Елены“, – иронически продолжил Эбергард. Это разозлило Колчака, и он сказал: „Не вам судить обо мне. Я принимаю от вас командование флотом, а не наоборот. Ещё увидят, кто такой Колчак!“»
Эту байку запомнил и донёс до потомства матрос с броненосца «Синоп» А. И. Торяник. В своих воспоминаниях, изданных в советское время, он добавил в истинно партийном духе, как старый большевик: «Мы, матросы, ещё не были тогда настолько политически зрелыми, чтобы „раскусить“ истинное контрреволюционное нутро Колчака и поэтому восприняли смену ненавистного всем немецкого адмирала русским как положительный факт».[614]
Для Черноморского флота приход Колчака стал своего рода очистительной грозой. «В Чёрном море вступление в командование адмирала Колчака вызвало громадное оживление, – писал Ненюков. – Энергичный адмирал, которого сразу прозвали железным за его неутомимость, заставил всех кипеть, как в котле».[615] В командном составе произошли перемены. Кое-кто ушёл сам, кое-кого отправили в отставку. Правда, как отмечал Левговд, «наряду с очисткой флота от сорной травы бывали случаи ухода людей достойных и полезных флоту».[616] Видимо, Колчак иногда действовал слишком размашисто.
На руководящие должности выдвигались новые люди, храбрые и дельные. Начальником штаба при Колчаке стал контр-адмирал С. С. Погуляев, товарищ Колчака по выпуску. Продвигал он на командные посты и князя В. В. Трубецкого, отважного и опытного офицера.
Постепенно Колчак подружился с Черноморским флотом, к которому у него прежде было всё же несколько предвзятое отношение. В кают-компании «Георгия Победоносца» чопорная обстановка времён Эбергарда сменилась непринуждённым оживлением. За обедом офицеры штаба не раз слушали рассказы адмирала о северных экспедициях, о Порт-Артуре, о войне на Балтике. Много говорил он о Японии. Ни одна другая страна, кроме России, не привлекала его так, как Япония.
Выяснилось также, что командующий очень начитан в русской истории. Особенно его привлекала катастрофическая эпоха татарского нашествия. Он считал ошибочным мнение, будто нашествие было стихийным явлением и орды с Востока катились сами по себе, слабо управляемые и неконтролируемые. На самом же деле, говорил он, действия татаро-монгольских военачальников обнаруживали понимание основных принципов стратегии и тактики, гибкое их использование, а кроме того – и ясное осознание своих политических и экономических интересов.[617]
Колчак любил серьёзную музыку, находил время заниматься делами флотского оркестра, бывал на его концертах. В одном из писем Анне Васильевне он с грустным юмором отмечал, что «одного приказания играть симфонии Бетховена иногда бывает недостаточно, чтобы их играли хорошо, но, к сожалению, у меня слишком мало других средств».[618]
С приходом Колчака жизнь в Севастополе заметно изменилась. Когда началась война, Эбергард запретил все балы и увеселения. Колчак сразу же отменил этот запрет. Он говорил, что война – это нормальная жизнь воинов, нельзя им запрещать веселиться в часы отдыха. Иногда он и сам принимал участие в увеселительных мероприятиях. «…Никто не умеет веселиться так, как Вы, с такой торжественностью, забывая о времени, о пространстве и вообще обо всём на свете…» – писала ему Анна Васильевна.[619]
* * *
Первая задача, которую поставил Колчак при вступлении в командование, заключалась в том, чтобы очистить Чёрное море от неприятельских военных кораблей и вообще прекратить неприятельское судоходство на море. Достичь этого можно было только одним способом – наглухо блокировать Босфор и болгарские порты.
По указанию Колчака М. И. Смирнов начал разработку планов минирования неприятельских баз. Колчак пригласил в Севастополь своего старого товарища по кружку офицеров, капитана 1-го ранга Н. Н. Шрейбера, изобретателя малой мины «рыбка», специально предназначенной для подводных лодок. Началось обучение личного состава постановке мин с миноносцев. Были заказаны сети для установки заграждений у баз подводных лодок.[620]
Неожиданно, однако, Колчак вновь натолкнулся на то же самое препятствие, которое в начале войны оказалось непреодолимым. Великий князь Николай Николаевич на посту командующего Кавказским фронтом продолжал придерживаться той же теории, что флот – вспомогательное средство сухопутной армии и самостоятельного значения не имеет. Кавказский фронт и в самом деле сильно зависел от морских перевозок – подкреплений, продовольствия, боеприпасов. Но великий князь предъявлял явно завышенные требования к их охране и не знакомил с их перспективным графиком. Он считал, что флот, как вспомогательное средство, всегда должен быть наготове. В результате, как сообщал Колчак начальнику Генмора адмиралу А. И. Русину, Кавказский фронт всегда предъявлял свои требования внезапно, «с оттенком критического положения и катастрофы».
Чтобы выполнить эти требования, приходилось отказываться от планомерных действий по вытеснению из Чёрного моря неприятельского флота, в том числе и подводного. Миноносцы отрывались от наблюдения за Босфором и направлялись охранять караваны судов. Сети, предназначенные для Варны, использовались для ограждения мест высадки прибывающих на Кавказский фронт частей. Морские перевозки, писал Колчак, требуют безопасности в море, но «они же мешают мне создать эту безопасность, отвлекая мои средства и силы от главной задачи».
Теперь, однако, Колчак не был непосредственно подчинён Николаю Николаевичу и недолго мирился с создавшимся положением. Чёрное море, докладывал он в Генмор, пока не является «безусловно обладаемым внутренним бассейном». Только систематическая работа флота может сделать его таковым. И вся деятельность командования флотом направляется к этой главной цели.[621]
Морские перевозки на Кавказский фронт, а позднее и на Румынский, стали обеспечиваться достаточным, но в разумных пределах охранением. За всё время войны на Чёрном море противнику ни разу не удалось прорвать охранение и нанести удар по караванам судов. За время же колчаковского командования вообще был потерян только один пароход.[622]
Операции по минированию Босфора начались в конце июля. Подводная лодка «Краб», приспособленная для постановки мин, скрытно проникла в самое горло пролива и выставила там 60 мин.[623] Затем Колчак, находившийся на флагманском корабле «Императрица Мария», приказал опоясать минами вход в пролив – от берега до берега. Наутро, однако, начальник дивизиона миноносцев доложил, что не смог выполнить приказ потому, что по миноносцам открыли огонь береговые батареи. Командующий поднял сигнал: «Начальник дивизиона сменяется с должности». Другим сигналом флот был оповещён, что на освободившуюся должность назначается капитан 1-го ранга М. И. Смирнов. Приняв командование, Смирнов сумел за несколько ночей скрытно поставить 560 мин, в том числе – под самым носом у береговых батарей.[624]
Затем настал черёд преподать урок неверным «братушкам», вступившим в войну с Россией на стороне Германии и Турции. Минный пояс, подобный босфорскому, охватил выход из Варны. Заблокирован был также порт Зонгулдак на Анатолийском побережье, где находились угольные копи, снабжавшие Константинополь и турецкий флот. Это нанесло сильный удар по экономике Турции, поскольку сухопутные дороги вдоль побережья были плохи. Значительно ухудшилось также снабжение турецких войск на Кавказском фронте.
Для поддержки заграждений и для наблюдения за противником на расстоянии в 50—100 миль от Босфора постоянно патрулировал отряд кораблей, в который входили дредноут, крейсер и несколько миноносцев. Под самым Босфором всегда находилась на дежурстве подводная лодка.
Одна из таких лодок, «Тюлень», под командой капитана 2-го ранга М. А. Китицына, задержала турецкий пароход. Задержанный неожиданно открыл огонь. Погружаться в воду было поздно, и Китицын принял бой. «Тюлень» остался цел и невредим, а пароход загорелся и выкинул белый флаг. Это был турецкий вооружённый транспорт «Родосто», которым командовал немецкий офицер. Он был вне себя от гнева и стыда, когда узнал, что сдался подводной лодке. Он думал, что ведёт бой с эскадренным миноносцем. Сняв с корабля немцев, Китицын отправил «Родосто» в Севастополь. Эта же подводная лодка однажды среди бела дня проникла в бухту Варны, обошла её на перископной глубине, всё высмотрела и вышла незамеченной.[625]
На некоторое время неприятельские суда, военные и коммерческие, исчезли из Чёрного моря. Но потом немцы протралили канал вдоль берега, и под защитой береговых батарей небольшие суда, а также подводные лодки вновь стали появляться в море. В связи с этим были оборудованы мелкосидящие суда, которые ставили мины чуть ли не у самого берега. В конце октября 1916 года на выходе из Варны подорвалась на мине немецкая подводная лодка «В—45», а через месяц у Босфора – другая подводная лодка, «В—46».[626] К концу 1916 года германо-турецкий надводный флот был прочно заперт в Босфоре – в том числе «Гебен» и «Бреслау». Значительно ослабла активность и неприятельского подводного флота.
19 июля 1916 года, во вторую годовщину начала войны, Колчак издал приказ по Черноморскому флоту.
«Война неизменно связана с лишениями и страданиями», говорилось в приказе, и главная её тяжесть лежит не в собственно боевой деятельности, на которую большинство людей охотно идёт, а в «непрерывной напряжённой работе», не связанной видимым образом с успехами в сражениях.
«И я, как командующий флотом, – писал Колчак, – обращаюсь к его личному составу не с призывом к подвигам и боевой деятельности, ибо верю, что этот призыв не нужен и каждый в бою исполнит, как только может лучше, свои обязанности; я был свидетелем в первый день своего командования, как больные, находившиеся в лазарете линейного корабля „Императрица Мария“, бросили койки и заняли места по боевому расписанию по сигналу боевой тревоги, и для меня ясно, как будет вести себя личный состав Черноморского флота в боевой обстановке, но я призываю всех к повседневной тяжёлой будничной работе и труду, часто незаметному, невознаграждаемому, не дающему сразу результатов, но необходимому и без которого немыслимы ни успешная боевая деятельность Флота, никакие операции, ни достижение конечной цели войны – победы».
Ради этой конечной цели, ради исполнения долга перед Родиной и императором, говорилось в приказе, следует пожертвовать «при надобности своими личными интересами», смириться с временными лишениями. Война должна стать для каждого «желанным временем, лучшим периодом нашей жизни, её главной целью», ибо «любовь к войне, к военной деятельности и боевой работе, благородное стремление к подвигу и славе заложены в душе каждого человека, особенно молодого и здорового».[627]
Текст этого приказа, довольно пространного, но написанного явно на одном дыхании, производит сильное и сложное впечатление, а некоторые места могут вызвать по меньшей мере недоумение. «Любовь к войне»… война как «желанное время» и цель жизни – всё это не вяжется с нынешними представлениями о войне и мире. И надо заметить, что подобное воспевание войны в дальнейшем у Колчака будет ещё заметнее, ещё откровеннее.
В связи с этим необходимы некоторые пояснения.
Прежде всего надо отметить, что подобные мотивы появились у Колчака только в годы войны. В прежнее время, как мы помним, его взгляды на проблемы войны и мира были более взвешенными.
Далее, нельзя забывать, что современные наши воззрения в этой области, в основе своей пацифистские, – всё же достояние по преимуществу гражданского общества. Что существует некий барьер, за пределы коего этим представлениям не следует проникать – в интересах того же гражданского общества. Это тот барьер, который отделяет его от военной среды. Если генералы борются за мир, то какие они генералы? Военный человек должен быть не «голубем», а орлом. Если же орёл из него не уродился, то хотя бы соколом. Ибо в случае войны – а её из нашей жизни никому пока исключить не удалось – не ясно ли, что победа будет не на стороне «голубей» в военных мундирах? Другое дело, когда военный человек перерастает рамки своей профессии и занимает выдающееся место в других отраслях человеческой деятельности, например, в литературе, как Л. Н. Толстой, или в политике, как Д. Эйзенхауэр, – тогда и его взгляды на проблемы войны и мира изменяются, становятся шире, многограннее, гуманистичнее.
Иными словами, надо помнить, кем был издан этот приказ, в какое время и к кому обращен. Приказ исходил от военного человека, был обращен к военным людям и писался в военное время. А кроме того, в те времена Колчак, видимо, ещё не очень себе представлял все разрушительные последствия современных войн.
13 августа 1916 года петроградская газета «Новое время» опубликовала статью «Новый адмирал» (о новом командующем Черноморским флотом). Судя по письму Тимирёвой, на Колчака эта статья произвела «ужасное» впечатление. «Действительно, – подтверждала Анна Васильевна, – это типичный случай беззастенчивого вранья и неприятной развязности. Зато сколько восторга!»[628]
17 сентября «Новое время» опубликовало ещё одну статью о Колчаке – А. А. Пиленко («С командующим в открытом море»). В начале статьи описывалось прибытие командующего на дредноут. Бывалый журналист, привычно жонглируя потёртыми словесными штампами, представил широкой публике первый литературный портрет Колчака:
«…Засвистели дудки, оркестр заиграл, караул звякнул ружьями; точно летя по поверхности волн, синий адмиральский „Буревестник“… сделав изящный изгиб, остановился у броненосца. На трапе показалась фигура А. В. Колчака, нервная, сухая, слегка согнутая вперёд. В газетах уже появилось много статей о „стальном адмирале“, и – я доподлинно это знаю – А. В. Колчак искренне негодовал на „вздорные россказни“ (он при мне стучал по газете и грозил „написать в штаб, чтобы этого больше не разрешали“); поневоле ограничусь самым малым. К тому же трудно передать словами то впечатление сосредоточенной мощи и спокойного упорства, которыми неотразимо веет от облика нового командующего. Он выглядит старше своих лет, вероятно, вследствие двух глубоких морщин, обрамляющих углы рта. Лицо резко оттеняется синевой коротко выстриженных усов и бороды; глаза смотрят куда-то вдаль, точно прикованные к отдалённой, но неизменной цели; характерный крупный нос создаёт несколько хищное выражение… Как я ни боюсь упрёков в трафаретности, но не могу не сказать, что стремительная повадка адмирала и, в особенности, сразу врезывающийся в память профиль, невольно и неудержимо напоминают мне Суворова: тот тоже был весь из нервов, захваченных железной рукой хладнокровия и отваги; у того, мне представляется, тоже было такое выражение, что, мол, это всё пустяки, а я вот знаю суть дела. Как это соединяется с несомненною скромностью, почти застенчивостью, – я объяснить не умею».
Анна Васильевна от души потешалась над банальностью литературных красот этого очерка, а сравнение с Суворовым ей показалось «глупее глупого». Но особо её огорчило то, что, ограничившись внешним портретом («на птицу Вы, правда, похожи»), автор по существу мало что рассказал о «стальном адмирале».[629]
29 сентября газета «Вечернее время» поместила на своих страницах фотопортрет командующего Черноморским флотом. Анна Васильевна передавала слова своей тётушки, взглянувшей на портрет: «Похож на англичанина этот Колчак, и видно, что красив».[630] (Англичане в то время уже брились, а континентальные европейцы ещё носили усы и бороду.)
Так с двух статей в большой столичной газете, с портрета в петроградской «Вечёрке» к Колчаку пришла всероссийская известность.
Молитесь на ночь, чтобы вам Вдруг не проснуться знаменитым, —мудро писала А. А. Ахматова.[631]
* * *
Как-то однажды, ещё до войны, собираясь в заграничное плавание (в Копенгаген), Александр Васильевич спросил Софью Фёдоровну, что ей привезти. В некоторой растерянности (вроде ничего особенно и не надо) она стала перечислять: альбом для фотографий, чтобы на обложке были сцены из морской жизни, черепаховую гребёнку для волос… нет, пожалуй, не надо, лучше сумочку, вышитую бисером, чтобы держать в ней рукоделье, или вообще «что-нибудь небольшое, но забавное».[632]
Александр Васильевич купил большую фарфоровую птицу – не то орёл, не то кречет, в фарфоре эти различия сглаживаются и теряются. Однако у птицы были большие, резко очерченные, выразительные глаза. И странным образом они были похожи на глаза Александра Васильевича. И взгляд у птицы был прямо-таки колчаковский.
Бывая у Софьи Фёдоровны, Анна Васильевна любила смотреть на эту птицу, ловить её взгляд. Ей казалось, что он теплеет, когда встречается с её взглядом.
Анна Васильевна и Софья Фёдоровна скучали по одному и тому же человеку – это их сблизило. Софья Фёдоровна собиралась в Севастополь, но Колчаки были люди небогатые, и у неё не было ничего, в чём она могла бы появиться перед местным обществом как жена командующего. Выходить в чём попало – значило бы компрометировать и себя, и его. Александр Васильевич выслал денег, и теперь Софья Фёдоровна, опираясь на советы Анны Васильевны, делала покупки.[633]
Когда Колчак уезжал, Анна Васильевна не была уверена, что их отношения продолжатся: «Другая жизнь, другие люди. А я знала, что он увлекающийся человек». Но недели через две к ней на дачу (под Гельсингфорсом) явился, в присутствии мужа, громадного роста черноморский матрос и вручил пакет от адмирала.[634] С этого началась их переписка.
Заняв адмиральскую каюту на штабном корабле, Александр Васильевич сразу же повесил на стену портрет Анны Васильевны. Письма к ней он чаще писал, видимо, во время выходов в море, по ночам, когда никто не мешал. С некоторых пор он довольно плохо спал. Устав от бессонницы, он иногда поднимался на палубу, смотрел на звёзды и думал о ней, не зная, что на каком-то безумно далёком светиле пересекаются их взгляды. Потому что она тоже любила писать ему по ночам, когда в доме всё успокаивалось, и тоже, задумавшись, искала глазами знакомые созвездия.
Потом они обнаружили это совпадение. «Мы с Вами не условливались смотреть в одно и то же время на звёзды и думать друг о друге, – писала Анна Васильевна, – это выходит само собой и так ещё гораздо лучше. Вам это не кажется, Александр Васильевич?» (выделено в оригинале).[635]
В нашем распоряжении нет писем Колчака к Тимирёвой за 1916 год. Они были изъяты во время многочисленных её арестов в советское время, и судьба их неизвестна. Но их содержание, вплоть до отдельных фраз, отражается в ответных письмах Анны Васильевны. «…Перечитывая эти дни Ваши прежние письма, – писала она однажды, – я поразилась разнообразием предметов, о которых Вы пишете – от очередных операций до цветов на Вашем столе, от Савонаролы до последних событий в Добрудже и до поклонения звёздам». Ранее она отмечала, что его письма ни на чьи не похожи «ни по содержанию, ни по стилю».[636]
В своих письмах Анна Васильевна тоже писала о многих предметах – о войне, политике, о Балтийском флоте («…Вы точно душу Балтийского моря увезли с собой, и чувствуется громадная пустота, которую некому заполнить…»),[637] об общих знакомых, о своей жизни, своих чувствах и желаниях.
Балтийская осень 1916 года выдалась тёплой и солнечной. Анна Васильевна часто гуляла с Софьей Фёдоровной, а однажды каталась со Славушкой на автомобиле. Славушка стал поразительно похож на отца, и Анна Васильевна давилась от смеха при виде такого миниатюрного Александра Васильевича.[638]
2 октября она сообщала, что Софья Фёдоровна на днях выезжает с сыном в Севастополь. Сама она не раз писала о своих несбыточных мечтах очутиться вдруг «посередине Чёрного моря на „Императрице Марии“ – ненадолго, чтобы Вам не мешать, просто побыть немного с Вами». Однажды Александр Васильевич рассказал ей, что она приснилась ему как привидение, которое стало критиковать его действия по руководству флотом, смеяться над ним и предлагать свои, явно несуразные планы. Анна Васильевна отвечала, что если бы она действительно явилась к нему привидением, то «оно просто смотрело бы на Вас, глупо смеясь от радости видеть знакомое и милое лицо химеры, слышать Ваш голос».[639]
* * *
Севастопольское утро 7 октября 1916 года было ясным и тихим. На кораблях уже сыграли побудку. Колчак ещё спал в своей каюте. В начале седьмого часа его разбудил страшный грохот. Через минуту Колчак был на палубе «Георгия Победоносца». Он увидел огромный столб желтоватого дыма над стоявшей невдалеке «Императрицей Марией». У линкора отсутствовали фок-мачта, передний мостик и одна из труб. Из палубы, рядом с носовой башней, с треском вырывались языки пламени. На броненосце суетились люди, доносились отчаянные вопли.[640]
Первое распоряжение, которое отдал Колчак, – отвести подальше от «Марии» «Екатерину Великую». А через четверть часа катер с командующим подошёл к борту терпящего бедствие корабля. За это время на нём произошёл ещё ряд взрывов меньшей силы.
Взрывы продолжались и тогда, когда адмирал поднялся на борт. Словно какие-то адские силы вдруг пробудились в чреве броненосной махины и наносили изнутри удар за ударом. При каждом взрыве из провала возле первой башни взметался столб пламени, высоко в воздухе рвались снаряды, на палубу сыпались осколки и горящие ленты пороха. Горело нефтяное топливо, закачанное накануне в цистерны, и в клубах чёрного дыма порой тонуло всё вокруг. Пожар распространялся с носа на корму. Уже и на третьей башне загорелись парусиновые чехлы орудий, а на корме – тент. На палубе корчились от боли раненые матросы, которым в суматохе никто не оказывал помощь. А другие лежали неподвижно – им уже нельзя было помочь.[641]
К адмиралу подбежали командир корабля, капитан 1-го ранга И. С. Кузнецов и старший офицер А. В. Городыский. Первый был не совсем одет, а второй бегал в фуражке и шинели, но босиком. Им, однако, удалось остановить начавшуюся было на корабле панику и приступить к организованной борьбе с пожаром. Хотя при первом же взрыве отключилось электричество и пожарные насосы не работали.
Кораблестроители, создававшие первые русские дредноуты, уверяли, что эти броненосцы, в отличие от старых, не будут переворачиваться. Поэтому Колчак, посоветовавшись с командиром и старшим офицером, не стал отводить «Марию» на мелкое место. Решили сосредоточить усилия на борьбе с пожаром.[642]
Затопили, во избежание взрыва, пороховые погреба трёх орудийных башен. С подошедших портовых баркасов приняли шланги и направили их струи в главный очаг пожара. С помощью буксира корабль развернули так, что ветер сносил с него дым и пламя. Загоревшийся тент сбросили в море. Затушили небольшие очаги пожара в разных местах. Около 7 часов утра пожар начал вроде стихать. Но в 7 часов 1 минуту корабль потряс очередной взрыв, 23-й по счёту и почти столь же мощный, как и первый. Броненосец стал садиться носом и крениться на правый борт. Колчак велел срочно снимать с корабля команду и сошёл сам.
«Мария» тонула неспешно и величаво, как подобает императрице. В 7 часов 8 минут прогремел последний взрыв, нос «Марии» ушёл в воду. Корабль медленно наклонялся на правый борт, а затем плавно перевернулся. Огромное зелёное брюхо некоторое время покачивалось на волнах, постепенно погружаясь и пуская высокие фонтаны из отверстий, а затем скрылось под водой. Корабль затонул на глубине до 18 метров. Было 7 часов 17 минут. После первого взрыва прошло чуть меньше часа.
Катера и шлюпки собирали барахтающихся в море людей. Кое-кто из матросов самостоятельно выплыл на пристань. Но многие утонули, другие умерли в госпиталях от ран и ожогов, ушли на дно вместе с броненосцем. Водолазы рассказывали, что два дня они слышали отчаянные стуки из разных мест корабля, но не было никакой возможности прийти на помощь задыхающимся людям.[643]
По спискам к 1 октября 1916 года на «Императрице Марии» числилось 1223 человека. Из них нижних чинов погибло 312, офицеров – один.[644] Инженер-механик мичман Г. С. Игнатьев, пытавшийся развести пары, не успел выйти из трюма. Матросы по большей части спали в жилых помещениях на носу, а офицеры – на корме. Отсюда такая большая разница в числе погибших среди тех и других.
Ещё развозили раненых по госпиталям, когда командный состав «Императрицы Марии» собрался в кают-компании «Георгия Победоносца». За столом сидели грязные, вымокшие офицеры, потрясённые случившимся. Колчак старался сохранять внешнее спокойствие. Каждый рассказывал то, чему был свидетелем. Было установлено, что всё началось с пожара в носовых крюйт-камерах (помещениях для хранения взрывчатых веществ), где находились 12-дюймовые заряды. Пожар вызвал мощный взрыв. Затем начали рваться соседние погреба со снарядами для 130-миллиметровых орудий. Предпоследний взрыв, решивший участь «Марии», видимо, повредил наружный борт или же сорвал кингстоны.[645] Но что стало причиной пожара в одной из крюйт-камер, никто не знал. Высказывались только разные догадки.
Вскоре в Севастополь на несколько дней приехал морской министр И. К. Григорович. Он держался корректно, выражал сочувствие Колчаку, пытался разобраться в причинах катастрофы.
В эти дни Колчак получил много сочувственных писем и телеграмм. Первая из них пришла от Николая II: «Скорблю о тяжёлой потере, но твёрдо уверен, что Вы и доблестный Черноморский флот мужественно перенесёте это испытание».[646]
Командующий Балтийским флотом вице-адмирал А. И. Непенин выразился кратко: «Ничего, дружище, всё образуется».
Архиепископ таврический Димитрий прислал прочувствованное письмо: «Вы наш мужественный вождь, Вас полюбила Россия; Отечество стало верить в Ваши силы, в Ваше знание и возлагает на Вас все свои надежды на Чёрном море. Проявите же и ныне присущие Вам славное мужество и непоколебимую твёрдость. Посмотрите на совершившееся прямо как на гнев Божий, поражающий не Вас одного, а всех нас… и, оградив себя крестным знамением, скажите: „Бог дал, Бог и взял, да будет благословенно Имя Его во веки“».[647]
Тимирёва узнала о случившемся из письма самого адмирала – до этого она слышала только ходившие по Петрограду неясные слухи. Судя по ответному письму Анны Васильевны, Колчак писал, что жалеет о том, что пережил гибель «Марии». Была в письме и просьба, с которой он мог обратиться только к очень близкому человеку: «Пожалейте меня, мне очень тяжело». Тимирёва заметила, что даже почерк у Колчака в эти дни сильно изменился. «Если это что-нибудь значит для Вас, то знайте, дорогой Александр Васильевич, – писала в ответ Тимирёва, – что в эти мрачные и тяжёлые для Вас дни я неотступно думаю о Вас с глубокой нежностью и печалью, молюсь о Вас так горячо, как только могу, и всё-таки верю, что за этим испытанием Господь опять пошлёт Вам счастье, поможет и сохранит Вас для светлого будущего».[648]
Тем временем в Генмор пришла телеграмма от Непенина: «О случае на „Императрице Марии“ много говорят в Ревеле и Гельсингфорсе и написано в шведских газетах, получаемых в Гельсингфорсе. Считаю необходимым объявить об этом офицерам и команде». Это мнение разделял и начальник Генмора адмирал А. И. Русин. «Здесь сплетни растут», – говорилось в его телеграмме.
Колчак же, поддерживаемый Григоровичем, настаивал на том, что официальное сообщение о катастрофе пока преждевременно. Видимо, ему хотелось, чтобы противник узнал о случившемся как можно позднее или, по крайней мере, долгое время находился в состоянии напряжённого ожидания и неуверенности. В архиве имеются две телеграммы Колчака, близкие по содержанию. Во второй из них говорится: «Минмор и я продолжаем держаться мнения о недопустимости в настоящее время официально опубликовывать известный Вам случай. Непенину сообщите о желательности дать указания морским офицерам о случившемся и необходимости некоторое время не разглашать сведения. Министр обращает внимание, что англичане не опубликовывают подобных случаев».
Николай II высказал желание ознакомиться с проектом сообщения ранее его публикации. В конце концов оно было напечатано в газете «Русский инвалид» 26 октября 1916 года.[649]
12 октября, по «высочайшему» повелению, была назначена комиссия по расследованию причин гибели линкора «Императрица Мария». Председателем стал адмирал Н. М. Яковлев, бывший командир «Петропавловска», чудом спасшийся после его гибели. Среди членов комиссии был и генерал-лейтенант флота А. Н. Крылов, в то время уже известный кораблестроитель. Комиссия прибыла в Севастополь и приступила к работе. 31 октября она представила заключение, проект которого был написан Крыловым (впоследствии оно печаталось в книге его воспоминаний).
Возможные причины пожара на корабле комиссия сгруппировала по трём категориям: 1) самовозгорание пороха, 2) небрежность в обращении с огнём и порохом и 3) злой умысел. Поскольку порох был свежей выделки и случаи его разложения комиссии были неизвестны, она признала первое предположение маловероятным.
Вторую группу причин комиссия сочла тоже маловероятной, но – с некоторыми оговорками. Она обратила внимание на то, что пожар возник тогда, когда в крюйт-камеру должен был идти дневальный для измерения температуры. В связи с этим была высказана мысль «о возможности возникновения пожара от небрежности или грубой неосторожности со стороны бывшего в крюйт-камере, не только без злого умысла, но, может быть, от излишнего усердия».
С особой тщательностью был рассмотрен вопрос о возможности злого умысла. Комиссия указала на то, что, вопреки требованиям устава, крюйт-камеры фактически не запираются, ибо в них, помимо дверей, всегда можно проникнуть через лазы, горловины и шахты, да и двери часто распахнуты. В дневное время посещение башни посторонним человеком, одетым в форменную одежду, осталось бы незамеченным.
Кроме того, указывала комиссия, на корабле работали мастеровые, в том числе с Путиловского завода, которые устраняли недоделки и производили текущий ремонт. Поимённой переклички этих рабочих не делалось, а проверялось общее число в каждой партии. Таким образом, доступ на корабль посторонним лицам был слишком свободным. Поэтому комиссия решила, что «возможность злого умысла не исключена», а порядки на корабле облегчали его исполнение. Предпочтение, таким образом, отдавалось третьей группе причин, хотя комиссия оговаривалась, что «прийти к точному и доказательно обоснованному выводу не представляется возможным».[650]
Поскольку комиссия не указала на виновников катастрофы, то весь командный состав, причастный к ней, должен был идти под суд. Это касалось и командующего флотом. Однако Григорович получил согласие государя отложить суд до окончания войны, а пока не давать новых назначений тем офицерам, во главе с командиром корабля, которые причастны к указанным комиссией упущениям. Сам Григорович считал, что имел место «злонамеренный взрыв при помощи адской машины», который устроил «кто-нибудь из подкупленных лиц, переодетый матросом, а может быть, и в блузу рабочего».[651]
4 ноября 1916 года Колчак представил своё «Мнение» по заключению комиссии. Прежде всего он указал на то, что современный порох всё же не является совершенно безопасным в смысле механического на него воздействия. В погребе линкора «Севастополь», писал Колчак, однажды загорелся, вопреки всем теориям, именно такой полузаряд, какие хранились в крюйт-камере на «Марии», и взрыва удалось избежать лишь чудом. В севастопольской лаборатории воспламенился подобный же полузаряд, когда его стали передвигать по столу. «В связи с этим, – писал Колчак, – возможен, хотя и маловероятен, несчастный случай, могущий произойти при какой-либо работе с полузарядами, которую мог выполнять спустившийся в погреб хозяин или дежурный комендор для измерения температуры».
Что касается злого умысла, продолжал Колчак, то эта область допускает «самые широкие предположения». Но наименее вероятной была бы версия насчёт того, что взрыв устроил посторонний человек. Такому человеку, не знающему расположение помещений на корабле, его ходы-выходы, крайне сложно было бы проникнуть в зарядный погреб – «даже обычный путь через шахту в подбашенное отделение для постороннего лица, не знакомого с кораблём, очень труден». И это говорилось со знанием дела, поскольку Колчак, выходя в море на «Императрице Марии», сам обошёл все её лазы, шахты и горловины.
В таком случае, продолжал Колчак, следовало бы искать злоумышленников среди рабочих или команды. В связи с этим в поле зрения комиссии попали путиловские рабочие, которые устанавливали лебёдки для подачи снарядов в бомбовом отсеке носовой башни. Этих рабочих всего пятеро, они хорошо известны, никто из них никуда не скрылся и в ночь перед взрывом они на корабле не были. Другие рабочие, бывшие накануне на корабле, тоже хорошо известны, и «нет также оснований думать о виновности кого-либо из них».
На линкоре, утверждал Колчак, была хорошая команда. Она «любила свой корабль, сознавала его силу». Что касается отмеченных в заключение нарушений устава, то они вызваны в основном расхождением между его требованиями и современной жизнью. Новый порох гораздо менее опасен, чем прежний – естественно, обращение с боеприпасами стало менее деликатным. Кроме того, в нынешней войне боевая тревога начинается сразу после выхода корабля с рейда за боны и заканчивается, когда он пересечёт их линию в обратном направлении. В течение всего похода артиллерийская прислуга не отходит от заряженных орудий, спит, положив голову на снаряды. Все помещения открыты. Команда привыкает к таким порядкам и не сразу перестраивается по возвращении на базу.
Действительной проблемой, указывал Колчак, являются отношения между офицерами и командой. Офицеров катастрофических не хватает, особенно старых и опытных. Приходящая на флот молодёжь, прошедшая ускоренный курс обучения, пока не может восполнить этот недостаток. Доходит до того, что на дредноуте вахтенным начальником назначается мичман по первому году, который мало что на корабле знает и ни за что не может отвечать. Такой же мичман становится командиром башни, а он совсем её не знает – в отличие от её «хозяина», артиллерийского унтер-офицера, изучившего свою башню до мелочей. «С этим связано, – писал Колчак, – полное отсутствие авторитета и влияния офицеров на команду, создающее крайне серьёзное положение на многих судах в отношении воспитания и духа команды».
Было такое и на «Марии», писал Колчак, но это вовсе не значит, что среди команды мог созреть злой умысел. Конечно, злоумышленник всегда может найтись – это напрочь отвергать нельзя. Но фактических доказательств нет. И, подводя итог, Колчак делал вывод «о полной неопределённости вопроса о причинах взрыва и гибели линейного корабля „Императрица Мария“».[652]
В 1920 году, во время иркутского допроса, Колчак высказался сходным образом: «…Я считал, что злого умысла здесь не было…Я приписывал это тем совершенно [непредусмотренным процессам в массах пороха, которые заготовлялись во время войны. В мирное время эти пороха изготовлялись не в таких количествах, поэтому была более тщательная выделка их на заводах; во время войны, во время усиленной работы на заводах, когда вырабатывались громадные количества этих порохов, не было достаточного технического контроля, и в этих порохах являлись процессы саморазложения, которые могли вызвать взрыв. Другой причиной могла быть какая-нибудь неосторожность, которой, впрочем, не предполагаю. Во всяком случае, никаких данных, что это был злой умысел, не было».[653]
Старший офицер «Марии», капитан 1-го ранга А. В. Городыский составил собственную версию случившегося, близкую к тому, что говорил Колчак. 6 октября, писал он, корабль вернулся из боевого похода. Орудия были разряжены, полузаряды отнесли в крюйт-камеру. Но из-за того, что надо было спешно грузить уголь, их вложили в герметичные металлические пеналы (кокары), но не убрали в места постоянного хранения – в соты. Полузаряды остались лежать на полу. Наутро к Городыскому прибежал кондуктор первой башни, чтобы получить ключ от шкафа с ключами. Он должен был измерить температуру в крюйт-камере. Этого кондуктора старший офицер больше не видел, так как вскоре раздался взрыв.
По предположению Городыского, кондуктор, увидев лежащие в беспорядке полузаряды, решил сам, не привлекая матросов, разложить их по сотам и… уронил один из них.
Исправный полузаряд выдержал бы такое падение. Но крюйт-камера дважды подвергалась перегреву, когда температура доходила до 60–70 градусов. Правда, после каждого такого случая производилась выборочная проверка полузарядов. Но возможно, что в проверку попадали только «здоровые» экземпляры, а не попорченные. Последние же, по «закону подлости», могли попасть в жерла пушек, когда корабль выходил в море и орудия его под южным солнцем нагревались до такой же температуры. А потом неиспользованные полузаряды опять направлялись в крюйт-камеру. Падение такого полузаряда могло вызвать пожар, а потом и взрыв.[654]
При всей убедительности этой версии, она нуждается в некоторых уточнениях. Каждый полузаряд в кокаре весил четыре пуда. Вряд ли кондуктор взялся бы в одиночку за такую работу. Но попытаться переместить какой-то один, особенно мешавший ему полузаряд он мог. В таком случае уменьшается вероятность того, что попал в руки и был уронен именно попорченный экземпляр.
Колчака и Городыского попытался опровергнуть современный писатель А. С. Ёлкин, автор книги «Тайна „Императрицы Марии“», написанной в жанре «поиски и находки». Он утверждает, что Колчак и Городыский были неискренни, пытаясь уйти от ответственности за то, что не обеспечили на корабле должный порядок. В неофициальных беседах Колчак якобы заявлял другое – и Ёлкин ссылается на письмо, полученное «из-за океана». «Мне, как офицеру русского флота, – говорится в письме, – довелось быть во время описываемых событий в Севастополе. Работал я в штабе Черноморского флота. Наблюдал за работой комиссии по расследованию причин гибели „Марии“ и сам слышал разговор Колчака с одним из членов комиссии. Колчак тогда сказал: „Как командующему, мне выгоднее предпочесть версию о самовозгорании пороха. Как честный человек, я убеждён – здесь диверсия. Хотя мы и не располагаем пока конкретными доказательствами…“» Автор письма просил не называть его фамилию.[655]
Очень странное письмо. Вряд ли офицер флота написал бы, что он «работал» в штабе. Настоящий офицер написал бы: служил. И неслучайно, наверно, заокеанский корреспондент просил не называть его фамилию. Иначе можно было бы проверить, был ли такой офицер в штабе Черноморского флота.
В своих «поисках и находках» А. С. Ёлкин заходит так далеко, что называет даже имена «диверсантов». Это два инженера из Николаева, которые якобы пронесли на корабль взрывное устройство. В 30-е годы они прошли по одному из чекистских дел как немецкие шпионы с большим стажем, в чём сами и сознались.[656]
В 30-е годы люди в чём только не сознавались на допросах. Но чекисты, как и Григорович в своих воспоминаниях, упустили из виду, что на «Марии» именно пожар предшествовал взрыву, а не наоборот. Сработала бы «адская машина» – рвануло бы сразу.
Колчак и Городыский лучше знали обстановку на кораблях, чем позднейшие чекисты, чем члены комиссии Яковлева и морской министр, наездом побывавшие в Севастополе. Но и они знали далеко не всё. Кубрик и кают-компания, как уже говорилось, жили отдельной жизнью. И вообще флот делился на два мира – офицеров и матросов. Среди нижних чинов «Императрицы Марии», между прочим, ходило мнение, что причиной пожара стало неосторожное курение, о чём они, естественно, не заявляли ни начальству, ни комиссии. Но об этом вспоминает матрос Тимофей Есютин в своей книге, вышедшей в 1931 году.[657]
В орудийной башне проживало 90 матросов. Едва ли не все были курильщики. Главным местом для курения был бак – носовая часть верхней палубы. В минуты отдыха там и собирались матросы. Для курения отводились и другие места, где были установлены специальные фитили, от которых можно было прикурить. Но корабль – большой, бежать туда, где разрешалось курить, бывало далековато, а за короткий промежуток времени между подъёмом и молитвой надо одеться, умыться и убрать постель. Между тем известно, что утром, сразу после пробуждения, заядлый курильщик испытывает почти непреодолимое желание сделать одну-две затяжки. Курение в неразрешённых местах было, надо думать, обычным явлением. Но всё обходилось, пока чей-то окурок или не загашенная спичка не были брошены как-то очень неудачно. Неслучайно ведь взрыв произошёл через 15–20 минут после побудки. Как раз за это время окурок и мог разгореться.
В воспоминаниях Есютина приводится и другая версия. В башне работали самодеятельные портные из числа матросов. Они имели привычку развешивать на рубильниках нитки. В них могла впутаться проволока. Кто-то, не посмотрев, включил ток, и случилось короткое замыкание.
Таким образом, как представляется, катастрофа произошла на бытовой почве, или, точнее, на почве постепенного, но неуклонного падения дисциплины на Императорском флоте, что проявлялось в основном пока в мелочах, хотя далеко не безобидных.
Правда, в другом издании книги Есютина, вышедшем в 1939 году, вовсе не упоминалась ни одна из этих версий. Теперь утверждалось, что взрыв был осуществлён германскими агентами из числа офицеров немецкого происхождения.[658] Это измышление можно было бы отнести на счёт соавтора Есютина во втором издании – некоего Ш. Юферса, который, видимо, пытался политически «заострить» книгу, приспосабливаясь к переменчивой обстановке 1939 года. Но в воспоминаниях другого матроса, А. И. Торяника с линкора «Синоп», тоже говорится, что взрыв устроил адмирал Эбергард со своей «шпионской агентурой».[659] Воспоминания Торяника вышли в 1958 году. Возможно, он и не читал книги Есютина и Юферса. Так что эта версия наверняка тоже ходила среди матросов – особенно с других судов.
Шпиономания, широко распространившаяся в России в 1915–1916 годах, наложила отпечаток и на дело о гибели «Императрицы Марии». Но за этим явлением, шпиономанией, скрывались взаимная подозрительность и растущая враждебность между верхами и низами. Недаром следственная комиссия обратила особое внимание на путиловских рабочих, а матросы кивали на Эбергарда и других офицеров с немецкими фамилиями. И лишь Колчак, свободный от предвзятого отношения к верхам и низам, был свободен и от шпиономании. Мало кто, однако, тогда ожидал, что взрыв на «Императрице Марии», происшедший скорее всего по какой-то простой, бытовой причине, явится предвестником другого взрыва, социального, который через несколько месяцев встряхнул всю Россию.
После гибели «Марии» случилось ещё одно неприятное событие. «Екатерина Великая», выходя ночью в море и ориентируясь на неправильно зажженные огни, села на мель. К счастью, дредноут удалось быстро с неё стащить. Колчак, относившийся к себе хуже, чем прокурор к подсудимому, считал себя виновником обеих аварий. «Командующий за всё в ответе», – сказал он и подал прошение об отставке. Просьба была отклонена. Но свыкнуться с гибелью «Марии» он никак не мог.[660]
Недруги Колчака, такие, как Альтфатер, распускали слух, что адмирал не в себе и ни о чём другом, кроме как об этом злосчастном дредноуте, говорить не может.[661] Это было не так. Колчак продолжал руководить флотом и принимать ответственные решения. В день катастрофы он без колебаний разрешил четверым офицерам пробраться на тихоходном тральщике к берегу Босфора и поставить мины. Операция прошла успешно.[662]
И всё же с Колчаком что-то происходило. Он совсем замкнулся в себе, стал очень молчалив, почти ничего не ел. Срываясь, доходил до крайней степени гнева и злости. Анне Васильевне написал мрачное и холодное письмо, неприятно её поразившее. Заявил, что сознательно отказывается от её отношения к нему и от её писем. «В несчастье я считаю лучше остаться одним», – так объяснил он свой поступок.
В эти дни весьма некстати в Севастополь приехала семья. Встреча, надо полагать, была не очень тёплой. Семья поселилась на квартире, а её глава остался на корабле, почти не бывая дома. Софья Фёдоровна мужественно это перенесла, не стала, подобно мужу, запираться в четырёх стенах, а сразу же занялась благотворительными делами. В те времена, в отличие, к сожалению, от нынешних, это считалось святой обязанностью жён высших командиров и главных начальников.
Анна Васильевна, глубоко обиженная, всё же не приняла своей «отставки». Она написала, что прекрасно его понимает, но всех отталкивать и в себе замыкаться – «всё-таки в этой системе хорошего очень мало». В конце письма она добавила: «Желаете Вы этого или нет, моё отношение к Вам остаётся неизменным».
Колчак всё же ответил, и в следующем письме, очень пространном, Анна Васильевна, как бы между прочим, слегка упрекнула Александра Васильевича за то, что он не очень внимателен к семье: «…В таком маленьком городке, как Севастополь, то, что Вы редко бываете дома, по всей вероятности, очень отмечается и подвергается обсуждениям, для которых, в сущности, не следует давать повода».
Подавленное состояние командующего и некоторые его странности заставили начальника штаба С. С. Погуляева конфиденциально сообщить об этом в Ставку. Николай II тотчас же отправил в Севастополь Бубнова с наказом сообщить Колчаку, что он не видит никакой его вины в гибели «Императрицы Марии», относится к нему по-прежнему и повелевает спокойно продолжать командование. Бубнов вспоминал, что, несмотря на давнюю дружбу с адмиралом, он не без трепета входил в его каюту. Но слова государя возымели на Колчака благотворное впечатление. Беседа сразу приняла дружеский характер и продолжалась довольно долго.[663]
Трудно сказать, чьи слова подействовали сильнее, Николая II или Анны Васильевны, но Колчак в скором времени пришёл в себя, стряхнул «комплекс вины», мешавший ему жить и полноценно исполнять свои обязанности. Теперь его главной целью стала Босфорская операция, а основной заботой – подготовка к ней.
* * *
Босфор и Дарданеллы – узкие ворота, открывающие вход в Чёрное море из Средиземного. По воле державы, владеющей проливами, эти ворота могут вдруг захлопнуться. И тогда экономика других черноморских стран, в том числе России, начинает терпеть большие убытки. В XIX – начале XX века вывоз хлеба, в то время основного русского экспортного товара, шёл в основном через черноморские порты.
Режим черноморских проливов затрагивал интересы не только России, но и многих других государств. И в XIX века он стал регулироваться международными соглашениями. Было установлено, что в мирное время торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы, военным же, за исключением турецких, проход был заказан. В военное время Турция могла по своему усмотрению пропускать или не пропускать через проливы любые суда.
Россию мало устраивал такой режим черноморских проливов. Во-первых, русская торговля оказывалась в слишком большой зависимости от отношений с Турцией. Во-вторых, Россия не могла соединить два своих флота, Балтийский и Черноморский, и использовать Черноморский флот в другом месте, кроме Чёрного моря. Это разъединяло морские силы России, снижало их действенность, повышало расходы на военно-морское строительство. В то же время важнейшие экономические центры на берегу Чёрного моря, как показал опыт Первой мировой войны, были недостаточно защищены от внезапного нападения.
Проблема черноморских проливов могла быть решена во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, когда русские войска вышли к предместьям Константинополя. Но в проливах появился британский флот и всё осталось по-старому.
Но вот и Британия стала нуждаться в русской помощи, когда началась Первая мировая война. Весной 1915 года состоялся обмен нотами между Англией, Францией и Россией, а позднее были заключены соглашения о передаче Константинополя под юрисдикцию России, «если война будет доведена до успешного конца».[664]
Несмотря на этот дипломатический успех, министр иностранных дел С. Д. Сазонов всё же считал, что пока вопрос решён только на бумаге, а «крепко приобретённым» может считаться лишь то, что находится в руках. Закончится война, отпадёт нужда в русской помощи, и союзники найдут способ перетолковать ранее подписанные соглашения.
Настораживало также то, что еще до начала переговоров с Россией о Константинополе союзники начали операцию по овладению Дарданеллами, намереваясь дойти до турецкой столицы. Однако операция была плохо подготовлена, затянулась и в начале 1916 года закончилась эвакуацией союзных войск на Салоникский фронт в Греции. Англофранцузский экспедиционный корпус понёс большие потери, но ещё более значительный урон был причинён турецкой армии.
Неудача Дарданелльской операции союзников укрепила недоверчивое отношение русского сухопутного командования к планам скорейшего овладения Босфором, о чём заговорили после заключения соглашения с союзниками. Алексеев считал Босфорскую операцию «затеей моряков», которая только отвлечёт войска и ослабит фронт. «Ключи от Константинополя лежат в Берлине», – говорил он, давая понять, что успех в войне может быть достигнут только в результате операций на сухопутном фронте.
Моряки, в свою очередь, доказывали, что взятие Константинополя рассечёт Турцию надвое и вызовет неминуемую капитуляцию султанского правительства. Освободятся русская Кавказская армия и Месопотамская армия англичан. Вслед за Турцией падёт Болгария, а затем очередь дойдёт и до Австро-Венгрии. Произойдёт глубокий прорыв в лагерь неприятеля в самом неожиданном для него месте.[665]
Эти доводы произвели сильное впечатление на Николая II, и он стал проявлять повышенный интерес к Босфорской операции. Алексеев же продолжал упорствовать, хотя подвергался сильному нажиму со стороны дипломатов и моряков.
В конце концов, уступив давлению, генерал распорядился составить план операции. Вскоре таковой был представлен. За образец была взята десантная операция японцев под Порт-Артуром. Разработчики исходили из того, что ближайшее к Босфору не укреплённое и не занятое противником место, удобное для высадки, – это устье реки Сакарии, приблизительно на полпути между Константинополем и Зонгулдаком. Дороги плохие, и до турецкой столицы десант доберётся за 4–5 дней. Конечно, за это время противник подтянет подкрепления. Десантная армия должна быть в состоянии взять прикрывающие Босфор укрепления, которые будут защищать силы основного гарнизона и подошедшие части. Поэтому на берег одновременно или с небольшим интервалом должно быть высажено не менее 8–9 дивизий. Алексеев поинтересовался, сколько дивизий может взять на борт транспортная флотилия Чёрного моря. Оказалось, что не более трёх (со всем снаряжением и артиллерией). После этого Алексеев посчитал, что вопрос отпал.[666]
Между тем Штаб Черноморского флота проводил усиленную разведку Босфора. Русские аэропланы, наряду с бомбометанием, занимались фотографированием местности. Подводные лодки подходили почти вплотную к берегу и через перископ делали фотоснимки укреплений. Миноносцы по ночам высаживали на берег разведчиков.
Было замечено, что турки редко обращали внимание на ночные визиты русских миноносцев, а укрепления, возведённые в 1914 году, во многих местах не заняты, окопы пришли в запустение. Орудия, переброшенные в своё время к Дарданеллам, всё ещё не возвращены на Босфор. Турки явно не ожидали нападения, уверовав, что навсегда отбили у кого-либо охоту соваться в проливы.
Общее состояние турецкой армии, как оно вырисовывалось по разным источникам, было крайне тяжёлым. Турция понесла значительные потери в Закавказье и Месопотамии. Часть её сил была скована в Сирии и Палестине, где высадились англичане, и на Салоникском фронте. Отражение англо-французской атаки на Дарданеллы стало, по существу, пирровой победой, обескровившей наиболее боеспособные части турецкой армии. И наконец, немецкое верховное командование, под впечатлением от Брусиловского наступления летом 1916 года, потребовало от Турции отправки в Галицию целого корпуса. В результате в Босфорском укреплённом районе к концу лета 1916 года осталось всего около двух дивизий: одна в Константинополе и на берегах Босфора, другая – на побережье и на укреплениях, охраняющих дальние подступы к Босфору. Кроме того, одна дивизия охраняла Дарданеллы, а другая, резервная, стояла в Смирне (Измире).
Исходя из этих данных, Морской отдел Ставки и Штаб Черноморского флота разработали свой план Босфорской операции, не такой тяжеловесно-академический, как алексеевский, но простой и дерзкий. Намечалось нанести внезапный и стремительный удар в самое сердце Босфорского укреплённого района – по Константинополю.
Колчак, принимавший непосредственное участие в разработке операции, мог в любой момент, закрыв глаза, воспроизвести по памяти, этап за этапом, весь её ход.
Глубокой ночью к берегам Босфора приближается отряд тральщиков и начинает прокладывать в минных полях широкие коридоры. Такая операция однажды уже проводилась у Варны и осталась незамеченной неприятелем.
Близится рассвет, и транспортная флотилия, подойдя к берегу, высаживает по обеим сторонам пролива две дивизии с артиллерией. Место высадки немедленно ограждается сетями, минными заграждениями и дозорными судами.
Встаёт солнце, освещая береговые укрепления и одновременно ослепляя турецких артиллеристов. Корабли начинают обстрел неприятельских позиций, поддерживая движение вперёд высадившихся войск. День уходит на подавление входных батарей и на овладение ими. Тем временем высаживается третья дивизия с тяжёлой артиллерией, а к вечеру флот входит в Босфор. Ночным штурмом десант овладевает группой батарей среднего Босфора. Путь к Константинополю свободен. Транспортная флотилия отправляется за вторым эшелоном десантных войск (две дивизии). Десантный отряд из пяти дивизий овладевает Константинополем, с тылу берёт знаменитую Чаталджинскую позицию, преграждающую доступ к турецкой столице со стороны Балканского полуострова и отражает атаки двух дивизий, переброшенных из Дарданелл и Смирны. Флот выходит в Мраморное море. Десант, закрепившись на занятых позициях, может смело ожидать подхода неприятельских подкреплений с Салоникского фронта, даже если в их составе будут немецкие войска.[667]
Разработчики операции были уверены в её успехе. Современный военный историк В. В. Шигин утверждает даже, что Босфорская операция была обречена на успех.[668] Такая оценка, пожалуй, слишком оптимистична. В реальной жизни задуманное редко разыгрывается как по нотам. И нельзя сказать, что турки совсем уж не охраняли своё побережье. Достаточно указать на один печальный эпизод в начале июня 1917 года. Подводная лодка «Кашалот» после обстрела зданий на турецком берегу попыталась высадить на захваченной шлюпке небольшой десант для их подрыва. Но с берега неожиданно открыли пулемётный огонь, которым был убит один человек и трое ранены.[669]
Нельзя, однако, не признать, что Босфорская операция, в её «морском» варианте, была ярким замыслом и имела много шансов на успех. Быстрота и натиск, положенные в её основу, были поистине суворовские. Так что, может быть, в чём-то и прав был борзописец из «Нового времени», сравнивая Колчака с Суворовым.
Операция планировалась на сентябрь 1916 года, до начала осенних штормов. Однако Алексеев отверг представленный моряками план, посчитав его слишком рискованным. Он по-прежнему отстаивал свой план, для которого необходимы были 10 дивизий. Снять с фронтов такое количество войск он не считал возможным. А транспортная флотилия не могла их перевезти. Алексеев считал вопрос закрытым.
Николай II, всецело сочувствуя морякам и их планам, всё же не счёл для себя возможным оказывать нажим на своего начальника штаба. Однако он дал согласие на формирование в Севастополе специальной дивизии морской пехоты, в которую, по его повелению, из армии и гвардии следовало направить лучших солдат, в том числе георгиевских кавалеров. Остальные четыре дивизии предполагалось взять из Кавказской армии. На формирование и обучение десантного отряда требовалось 3–4 месяца. Поэтому операцию отложили на апрель-май 1917 года. Алексеев не стал возражать против подготовки десанта, очевидно, надеясь, что ещё раньше, в ходе подготовляемого им весеннего наступления в Галиции, война закончится победой.[670]
К осени 1916 года в Штабе флота под руководством Смирнова были разработаны все детальные планы операции и составлены инструкции для производства десанта. Флотские артиллеристы были специально обучены стрельбе для поддержки высадившихся отрядов. Осенью началось формирование Морской дивизии.[671]
По штатам предполагалось, что полковые командиры будут отобраны исключительно из числа георгиевских кавалеров, батальонные и ротные – из числа офицеров, имеющих боевой опыт и награды, а солдаты – из гвардии и лучших, проверенных матросов.
На деле оказалось иначе. Командиры кораблей и воинских частей старались сбыть в Морскую дивизию всех, кто им не годился или доставлял беспокойство. Офицеры, начавшие прибывать в Севастополь, действительно имели награды, но, едва ли не в большинстве своём, отличались пристрастием к спиртным напиткам. Из гостиницы, куда их поселили, почти каждую ночь доносились песни, потом начиналась стрельба, сыпалось оконное стекло.
Среди рядовых первоначально преобладали ополченцы, с солдатской наукой малознакомые, и матросы-штрафники. Последние постарались укоренить в формируемой дивизии свою ненависть к офицерам.
Большие надежды возлагались на гвардейское пополнение. Оно прибыло, с первого взгляда поразив стройностью своих рядов, высоким ростом солдат и их выправкой. Но уже со второго взгляда выяснилось, что в основной своей массе оно состояло из «дедушек» 35–43 лет. Много было больных, особенно ревматизмом. Оказалось, что их обманули, уверив, что посылают в Крым охранять побережье, где много солнца и нет войны. Они пришли в ужас, узнав, что попали в ударную десантную дивизию. «Уж какие мы сражатели», – говорили они, упрашивая перевести их в ополчение. А потом обнаружилось также и то, что среди прибывших немало «политических», то есть затронутых пропагандой.
– Так что – неспокойно… – говорили старые гвардейцы-фельдфебели. Они были чуть ли не единственным элементом, стойкость которого и верность воинскому долгу не вызывали сомнений.
С разношёрстным воинством, собранным в Морскую дивизию, началась настоящая работа, когда прибыл её командир – генерал-майор А. А. Свечин. Он принял меры к пополнению дивизии более надёжным элементом, разделил её на полки, ввёл систематические занятия с нижними чинами. Бесформенная масса людей постепенно стала превращаться в боевую единицу.
Начальником штаба дивизии был назначен подполковник А. И. Верховский. Довольно молодой (всего 30 лет), худощавый, подвижный, несколько даже суетливый, в очках, он не был похож на строевого офицера и не производил делового впечатления. В дивизии он бывал редко, в основном – в Штабе командующего, в Морском собрании. Вообще, как видно, был из тех людей, которые любят бегать по начальству.
Колчак постоянно интересовался дивизией и был хорошо осведомлён обо всём, что там происходило. Н. Кришевский, один из офицеров дивизии, присутствовал однажды при его беседе с начальником Штаба флота. «Мы создадим настоящую морскую пехоту, лихую и знающую десантное дело», – уверенно говорил адмирал, по обыкновению слегка грассируя.
«Адмирал работал невероятно много, – вспоминал Кришевский, – то проводил время сутками в штабе, не выходя с „Георгия“, то садился на миноносец, подымал сигнал „Следовать за адмиралом“ и вёл эскадру… то производил детальный и всегда внезапный смотр какого-нибудь из кораблей или появлялся в госпитале, на батареях, всегда неожиданно, но всегда – продуктивно».[672]
Работа по формированию Черноморской дивизии морской пехоты продвигалась медленно и трудно. Отягчающим обстоятельством стала общая обстановка в стране в конце 1916-го – начале 1917 года. Галопировала инфляция, исчезали продукты первой необходимости, расстраивалась работа железных дорог. В городах появились очереди за продовольствием. Расползались слухи о предполагаемом дворцовом перевороте, о «замирении», о даровой раздаче земли.
На этом фоне совсем разладились отношения между правительством и Думой. Мало того, царь и правительство потеряли прежнюю опору в дворянстве, которое тоже предъявило свои требования. Возник конфликт императорской семьи с великими князьями. Само правительство постоянно сотрясали какие-то странные перетасовки и реорганизации. Министры, не успев сесть в своё кресло и войти в курс дела, уже должны были уходить. В конце концов стало очевидно, что от них требуют не работы, а участия в этих дрязгах, причём на «правильной» стороне. Так, с сентября 1916 года во главе МВД оказался А. Д. Протопопов, человек крайне неорганизованный, не отличавшийся большой работоспособностью и плохо знавший своё министерство. Он не находил времени выслушивать доклады директора Департамента полиции о положении в стране и, похоже, не представлял размеров надвигающейся угрозы.[673]
В Думе лились потоком пламенные речи. Анна Васильевна с некоторых пор стала часто бывать на думских хорах, где собирались журналисты и посетители, наблюдая за прениями. Она писала Колчаку, что вся линия поведения «нашего правительства за последнее время производит впечатление в лучшем случае преступного легкомыслия, если не циничного глумления над страной».[674]
Смирнов, в начале 1917 года побывавший в Могилёве и Петрограде, говорил Колчаку, что он «был поражён ростом оппозиционного настроения по отношению к правительству как среди петроградского общества, так и среди гвардейских офицеров и даже в Ставке». В Черноморском флоте некоторые офицеры тоже возмущались тем, что правительство составляется из случайных людей. Другие же определённо высказывали мнение, что государь должен пойти на уступки.[675] Сам Колчак впоследствии отмечал, что «к существующей перед революцией власти» он относился отрицательно, считая, что среди министров работает один Григорович.[676]
В ноябре 1916 года, после отставки Б. В. Штюрмера, встал вопрос о назначении Григоровича на пост председателя Совета министров. Моряки, да и все военные, с надеждой ожидали этого назначения. Но в последний момент вопрос отпал, потому что императрица посчитала, что Григорович придерживается якобы слишком либеральных взглядов и при его популярности в Думе может быть опасен для престола.[677] Правительство возглавил А. Ф. Трепов. Это был талантливый администратор, на посту министра путей сообщения сумевший на некоторое время упорядочить работу железных дорог. Но на новом посту ему, по сути дела, не дали работать, и перед Новым годом он ушёл в отставку. Вместо него назначен был князь Н. Д. Голицын, находившийся уже в почтенном возрасте и давно отошедший от активной административной работы (последнее время он числился в Сенате). Ни во что не вмешиваясь, ни на чём особенно не настаивая, Голицын стал всего лишь формальным главой правительства, последним при старом режиме.
Было известно, что генерал Алексеев, оставаясь при ежедневных докладах с императором с глазу на глаз, несколько раз поднимал вопрос о прекращении ребяческих игр в чехарду и выработке серьёзного внутриполитического курса. Говорили даже, что однажды разговор на эту тему «принял патетические формы». Но насколько покладист был Николай II перед Алексеевым в военных вопросах, настолько неуступчивым он оказался в вопросах внутриполитических. Генерал же, ступив на малознакомую ему почву внутренней политики, не сумел найти достаточно веских аргументов и подать их уверенно, с внушительным видом.[678] (Последнее, кстати говоря, имеет в споре даже большее значение, чем первое.)
В вопросах внутренней политики Николай II имел другого руководителя – не Алексеева. Этим руководителем была его жена. Александра Фёдоровна обладала страстным, повелительным, несгибаемым характером, по преимуществу мужским. Но должна была добиваться своих целей чисто женским способом – путём полного подчинения себе своего мужа. Отдалив постепенно от него свекровь и других родственников, она, наконец, получила его в полное своё распоряжение. Таков уж был последний император, что им постоянно должен был кто-то руководить. Сначала отец, потом дяди, некоторое время – Столыпин, а потом – жена.
Она читала его дневники и делала там пометки – видимо, поэтому они так малоинформативны и в них так мало того сокровенного, чем хотел бы он поделиться с последующими поколениями. Во время великосветских приёмов и балов она не сводила с него глаз, обмениваясь многозначительными взглядами и улыбками. Находясь в нескольких шагах от него и с кем-нибудь беседуя, она ни на минуту не теряла нить того разговора, который он вёл с кем-то из приглашённых.[679]
Плохо прижившаяся в России и, кроме мужа, никакой опоры в ней не имевшая, она, вольно или невольно, сосредоточилась на проведении в жизнь идеи «народного самодержавия», причём в крайнем её выражении. Только царь и народ, в непосредственном и тесном общении, без всяких преград, барьеров и средостений. Не надо Думы, не надо дворянства, если оно вольнодумствует и интригует, не надо бюрократии, не надо и образованного «общества». «Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом, сокруши их всех…» – тиранила она мужа.[680]
Идея «народной монархии» была не нова и по сути не менее утопична, чем большевистские мечты о мировой революции или о «построении социализма в одной отдельно взятой стране». Даже император понимал, что всё это невозможно. Но ничего поделать не мог ни с ней, ни с собой. Ему нужен был руководитель. Алексеев не смог вытеснить Александру Фёдоровну и стать таковым.
Императрица непоколебимо верила в то, что народ предан своим царям, любит их и пойдёт за ними в огонь и воду. Олицетворением народа для неё был Григорий Распутин. Поэтому она так держалась за него. Распутин же, человек хитрый, любострастный и двуличный, всегда был повёрнут к императорской семье одной своей стороной, благостной, сострадающей и даже по-народному мудрой, а к публике – другой, пьяной, мерзкой и распутной. И императорская семья, и публика были убеждены, что видимая ими сторона – подлинная, а всё остальное – выдумки.
«Народ, что ячмень в поле, – стелется по ветру», – безвестный древний мудрец, изронивший эти слова, в чём-то, наверно, был прав. В начале XX века монархизм русского мужика, пожившего в городе, а иногда на заработках и за границей, был уже не тот, что прежде. А военные трудности, начавшийся развал, правительственная чехарда и слухи о царе и царице, нелепые, порой и мерзкие, ещё более пошатнули прежние представления.
Убийство Распутина в середине декабря 1916 года было воспринято в столичном обществе как смерть тирана. Все откровенно радовались, даже Анна Васильевна, все ожидали каких-то перемен.[681] Но перемен не произошло, что явилось ещё одним доказательством того, что не в Распутине было дело, что не был он главой придворной партии, не назначал и не смещал по своему произволу министров. Ведь не императрица была при Распутине, а он при ней.
Обстановка в стране была тревожной. Но мало кто предполагал, что вот-вот произойдёт то, что в действительности вскоре произошло. Шла война, и люди волей-неволей были заняты этим основным делом. 31 декабря 1916 года, во исполнение директивы Ставки, Колчак издал приказ о формировании Черноморской воздушной дивизии. Её дивизионы, воздушные отряды, станции и посты предполагалось развёртывать по мере поступления морских самолётов и личного состава.[682]
В тот же день отряд кораблей в составе трёх старых броненосцев и двух авиатранспортов отправился к турецким берегам. На флагманском корабле «Иоанн Златоуст» находились вице-адмирал А. В. Колчак и контр-адмирал В. К. Лукин, начальник бригады линейных кораблей.
Стемнело, настала новогодняя ночь, тихая и звёздная. Но на краю неба вдруг появилась длинная чёрная полоса. Она стремительно расширялась, приближаясь к зениту. Засвистел ветер, погасли звёзды и хлынул ливень. Корабли, шедшие без огней, растворились во мгле. Опасаясь столкновений, Колчак приказал отряду как можно точнее держаться на курсе и увеличить ход.
Беспрерывно грохотал гром, а молнии, блиставшие сразу в нескольких местах, образовали вокруг корабля мутно-лиловый световой шар, внутри которого прыгали тени, а за пределами ничего не было видно. Так продолжалось около часа, а затем гроза умчалась, на небе вновь засияли звёзды.
Наступал Новый год, и походный штаб Колчака собирался в тесной командирской столовой. Был накрыт стол, почти все уже подошли, не было только Лукина. Он почему-то вступил в длительные прения с командиром корабля. Когда до наступления Нового года оставалось 5 минут, Колчак велел пойти за адмиралом и привести его за руку.
Лукин, наконец, явился и сел на оставленное для него место. Колчак поинтересовался:
– Вы очень заняты или, быть может, не хотите с нами ужинать?
– Нет, ваше превосходительство, я свободен и хочу есть, но…
– В чём же дело?
– Дурная примета, ваше превосходительство, встречать Новый год с начальником. Говорят, после такого ужина неприятностей не оберёшься.
Все рассмеялись, зная Лукина как крайне суеверного человек. Колчак налил в его бокал красного вина. После ужина пили кофе, беседовали чуть ли не до утра, ожидая известий от ушедших вперёд авиатранспортов. Известия оказались не очень хорошими: близ берега разыгралась волна, и гидросамолёты не смогли оторваться от воды. Бомбардировку турецких берегов пришлось отложить.[683] Так наступил 1917 год.
На посту командующего Колчак всё более убеждался в необходимости религиозного воспитания офицеров и матросов. Уходили в прошлое колебания в области религии, появившиеся у него после Порт-Артура. 5 октября 1916 года, в речи при открытии Морского корпуса в Севастополе он сказал, что «основные черты воинского созерцания находят себе полное подтверждение в основаниях христианской религии» и что «военный человек не может не быть человеком религиозным и верующим».
А 18 января 1917 года командующий собрал флагманов и духовенство Черноморского флота, чтобы обсудить вопрос о состоянии религиозности во флоте. Услышанное мало его утешило. В один голос судовые священники говорили, что уровень религиозности матросов крайне низок – много ниже, чем в армии. Это особенно бросалось в глаза тем священникам, которые перешли во флот из армейских частей. И дело было не только в том, что матросы набирались преимущественно из промышленных районов. Новобранцы теряли религиозность, а вместе с ней и многие другие положительные черты именно во флоте. Так что из их родных мест шли жалобы: «Мы посылаем во флот детей, а получаем чертей». Говорили священники и о своём приниженном положении на корабле, о том, что порой целыми днями приходится бегать, «подобно собачонке», за старшим офицером, выпрашивая разрешение на проведение богослужения.
Закрывая собрание, Колчак сказал, что необходимо усилить религиозное просвещение на кораблях и в этих целях предоставить священникам для чтения лекций не менее двух часов в неделю. Важное значение, отметил он, имеют также неформальные беседы священника с матросами. Все вопросы о богослужениях и лекциях, подчеркнул адмирал, обращаясь к флагманам, должны согласовываться священником лично с командиром корабля, ибо должности старших офицеров ныне, к сожалению, часто занимают люди молодые и неопытные. Надо помнить, сказал Колчак, что священник «является ближайшим помощником командира в деле воспитания всех чинов корабля».[684] Конечно, он понимал, что этих мер недостаточно. Но что он мог ещё сделать? Падение религиозности и ослабление дисциплины во флоте (да и в армии, и в обществе) замечались давно. Нельзя было в одночасье исправить то, что происходило годами и неуклонно подтачивало устои старого режима. Можно сказать – и старой России.
Когда пришла революция
В конце февраля 1917 года Колчак должен был встретиться в Батуме с великим князем Николаем Николаевичем для обсуждения вопроса о сооружении порта в Трапезунде. Заодно надо было согласовать график морских перевозок.
26 февраля Колчак вышел из Севастополя на миноносце «Пронзительный» и сразу же попал в довольно крепкий шторм. «Ночью было крайне неуютно, – писал он Анне Васильевне, – непроглядная тьма, безобразные холмы воды со светящимися гребнями, полуподводное плавание, но к утру стихло. Мрачная серая погода, низкие облака, закрывшие вершины гор, и ровные длинные валы, оставшиеся от шторма, – вот обстановка похода к Трапезунду». На открытом рейде вставший на якорь миноносец бросало из стороны в сторону не хуже, чем в шторм. Колчак хотел было сняться и уйти, но потом всё же спустили вельбот, и командующий флотом со своими помощниками с трудом добрался до причала временного порта.
Главная база снабжения Кавказской армии производила удручающее впечатление: оборванные пленные, работающие в непролазной грязи, «сотни невероятного вида животных, называемых лошадьми», и всюду – хаос и грязь, грязь и хаос…
Комендант города генерал А. В. Шварц, знакомый Колчака по Порт-Артуру, сумел выкроить время, чтобы съездить за город и показать развалины крепости и дворца Великих Комнинов, властителей Трапезундской империи, отколовшейся от Византии и павшей под напором турок через несколько лет после падения Константинополя.
Величественный вид развалин мало исправил то тревожное настроение, которое не оставляло Колчака с момента выхода из Севастополя. Скорее даже наоборот.
Дело в том, что вечером, перед отплытием, командующего угораздило заняться гаданием на картах. Занятие затянулось, потому что голос таинственных сил, управлявших разбросом карт, был невнятен и тревожен. «Дальняя дорога» Колчака никогда не пугала. «Напрасные хлопоты» – это было уже хуже. Но карты, раз за разом, показывали что-то ещё более худшее. А что – он не мог понять. Гадание пришлось прервать, когда подошло время пить утренний кофе.
Потом, уже в пути, он то и дело вспоминал эту ночь. «Напрасные хлопоты» – неужели это Босфорская операция? А что может быть хуже её неудачи? И вот теперь судьба словно бы ответила на этот вопрос, показав ему развалины древней империи. Нельзя было не содрогнуться при мысли о том, что Зимнему и Петропавловке суждено превратиться в живописные развалины, а Петрограду стать таким же грязным и вонючим городом, как нынешний Трапезунд. Колчак знал, что предсказания нельзя понимать буквально, но от острых предчувствий внутри всё холодело.
Вечером того же дня «Пронзительный» вошёл в Батумскую гавань. Было темно и пронизывающе холодно.
Холодным, дождливым утром 28 февраля Колчак отправился на станцию встречать великого князя. Затем были завтрак в поезде, совместный осмотр порта и сооружений, попутное обсуждение «тысячи и одного вопроса». Чтобы немного отдохнуть, великий князь предложил съездить за город, в имение генерала Н. Н. Баратова. «Место поразительно красивое, – писал Колчак, – роскошная, почти тропическая растительность и обстановка южной Японии, несмотря на отвратительную осеннюю погоду». Особенно понравились цветы, магнолии и камелии, «нежные, божественно прекрасные, способные поспорить с розами». «Они достойны, чтобы, смотря на них, думать о Вас», – написал он Анне Васильевне.
По возвращении, уже вечером, был обед у великого князя. Неизвестно, заметил ли он какую-то перемену в облике командующего флотом. Обычно по внешнему виду Колчака многое можно было угадать. Но Николай Николаевич говорил о взятии англичанами Багдада, об успехах экспедиционного корпуса Баратова, посланного навстречу англичанам. А в кармане у Колчака лежала только что полученная телеграмма из Генмора (она пришла в Севастополь, а оттуда её переслали в Батум). В ней сообщалось, что в Петрограде произошли крупные беспорядки, город в руках мятежников, гарнизон перешёл на их сторону.[685]
Сразу после обеда он показал телеграмму великому князю. Николай Николаевич недоумённо пожал плечами. Он не гадал на картах, не посещал накануне развалин, у него не было никаких предчувствий. Но новость была явно плохая, и он понимал, что Колчаку надо немедленно возвращаться в Севастополь, а ему ехать в свой штаб, тем более что все дела в общем-то были решены. Они попрощались. Перед отплытием Колчак отправил по телеграфу в Севастополь распоряжение прервать почтовое и телеграфное сообщение Крыма с остальной Россией, дабы не вносить панику и разброд непроверенными слухами. Разрешалось принимать телеграммы, адресованные только в Штаб флота.[686]
* * *
В феврале 1917 года в столице вновь подскочили цены и исчез хлеб. 21 февраля, за день до отъезда Николая II в Ставку, забастовал Путиловский завод. 23–24 февраля остановились и другие предприятия. Народ вышел на улицы. В субботу 25 февраля толпа разгромила несколько полицейских участков. Кое-где начиналась стрельба, люди шарахались, прятались во дворы, но потом опять выходили на улицы. Появились красные флаги. У Казанского собора и на Знаменской площади шли непрерывные митинги. Люди кричали: «Хлеба! Хлеба!» Неизвестно откуда появившиеся народные радетели тоже кричали: «Долой войну! Долой самодержавие!» В течение нескольких дней в городе произошёл социальный взрыв, никем не планировавшийся и никем не управляемый.
Николай II, едва прибыв в Ставку, получил телеграмму от военного министра генерала М. А. Беляева и письмо от императрицы. В телеграмме говорилось, что в столице происходят беспорядки и что меры к их прекращению будут приняты.[687] «Это – хулиганское движение, – писала Александра Фёдоровна, – мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба… Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам».[688] Ознакомившись с корреспонденцией, император повелел командующему войсками Петроградского военного округа генералу С. С. Хабалову немедленно прекратить беспорядки.
В воскресенье 26 февраля полиция и войска заняли все важнейшие пункты и перекрёстки. В ряде мест войска стреляли в народ. Улицы опустели, и порядок, казалось, был восстановлен. Но, как доносил в Ставку Хабалов, были случаи, когда некоторые из частей отказывались стрелять в толпу и переходили на её сторону.[689]
В Петрограде квартировался 160-тысячный гарнизон. Это были запасные батальоны, в которых шло обучение новобранцев и лиц, призванных из запаса. Фронт постоянно требовал пополнений. Чтобы удовлетворить его запросы и избежать расширения штатов (офицеров не хватало), учебные роты комплектовались вне всяких пределов (до тысячи человек вместо положенных двухсот). Военные службы не справлялись с размещением, обмундированием и довольствием такой массы людей. В казармах воцарился беспорядок, офицеры и унтер-офицеры не могли за всем и всеми усмотреть, создалась обстановка, благоприятная для разных агитаторов.[690]
Утром 27 февраля произошёл бунт в запасных батальонах гвардейских полков. Солдаты пошли в город, подожгли здание Окружного суда и выпустили из тюрьмы заключённых. С этого времени, можно считать, старая власть в Петрограде рухнула и её обрушение стало быстро распространяться по стране.
Дума и либеральная общественность первое время сторонились начавшегося движения. Но уже вечером 26 февраля председатель Думы М. В. Родзянко в телеграмме царю, обрисовав положение, поставил вопрос о том, чтобы «поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство».
Сопоставив панические телеграммы Родзянко с успокоительными донесениями Беляева и Хабалова (первого – в особенности), Николай II решил кое-что всё-таки предпринять. Командующим Северным и Западным фронтами были даны приказания подготовить для отправки в столицу по одной бригаде пехоты с артиллерией и по одной бригаде конницы. Утром 27 февраля император вызвал к себе генерала Н. И. Иванова.
65-летний генерал был известен тем, что в 1906 году подавил восстание в Кронштадте. В начале войны его поставили во главе Юго-Западного фронта. Там он действовал не очень удачно, и его пришлось сменить. Николай пожалел старого генерала и назначил состоять при своей особе. Жил он в отдельном вагоне при Ставке, занят ничем не был, кроме присутствия при царской трапезе, во время которой обычно «многозначительно и мудро молчал».[691] Теперь Иванову было поручено отправиться в Царское Село, возглавить расквартированные там войска и подавить волнения в столице. Николай, видимо, надеялся, что Иванов «тряхнёт стариной». Да кроме того и не оказалось в тот момент под рукой ни одного свободного генерала помоложе. В свою очередь у Алексеева не оказалось в наличии ни одной свободной воинской части, кроме батальона георгиевских кавалеров, охранявшего Ставку. С ним и назначили ехать Иванову. Не исключено, впрочем, что сказалась и свойственная начальнику Штаба скаредность.
Днём 27 февраля, когда император был на обычной прогулке, из Петрограда позвонил его брат. К аппарату подошёл Алексеев. У него в те дни была температура под сорок и он с трудом передвигался. Михаил Александрович, подтвердив, что в столице тяжёлое положение, просил доложить государю, что он не видит другого выхода, кроме отставки нынешнего правительства и создания нового кабинета во главе с председателем Союза земств и городов князем Г. Е. Львовым или председателем Думы Родзянко. Вернувшийся с прогулки Николай II сказал, что он благодарит за совет, а что надо делать – сам знает.
В этот же день пришла телеграмма от председателя Совета министров князя Н. Д. Голицына. Он умолял отправить в отставку весь его кабинет и поручить Львову или Родзянко составить новый, ответственный перед Думой. Алексеев снова поплёлся к царю выполнять нелёгкую свою миссию. Вернувшись, он безнадёжно махнул рукой и сказал, что хочет прилечь, потому что чувствует себя совсем плохо.
Тем временем царь больше часа говорил с кем-то по особому телефону. Офицеры гадали: с Петроградом или с Царским Селом? Окончив разговор, Николай написал на листке бумаги какой-то текст и велел передать его Алексееву. Это была телеграмма Голицыну, в которой говорилось, что он не видит возможности в этих условиях производить какие-либо перемены, но требует от правительства принятия самых решительных мер для подавления бунта. Тогда сомнения рассеялись: раз к Голицыну идёт телеграмма, значит разговор был с Царским Селом – с императрицей.
Разбуженный Алексеев вновь пошёл к государю спросить, надо ли отсылать такую телеграмму. Государь сказал, что надо. В это же время командующему Северным фронтом генералу Н. В. Рузскому было отправлено приказание отправить на Петроград выделенные части, как только они будут готовы.
Часов в 9 вечера стало известно, что государь решил ехать в Царское Село. Это решение, как и все прочие, принимаемые царём в этот день, вызвало в Ставке живейшие возражения. Генерал-квартирмейстер А. С. Лукомский сказал, что ехать в Царское Село опасно – никто ведь не знает, как обстоят там дела. Раз уж государь не идёт ни на какие уступки, говорил он, то резонно было бы ехать в Особую армию, состоящую из гвардейских частей, на которые вполне можно положиться.
Алексеев, вновь разбуженный, в который раз пошёл к императору. Они долго говорили. Алексеев, наконец, вышел и сказал, что государь очень боится за семью.[692] Видимо, он возлагал большие надежды на Иванова и хотел поближе наблюдать события. «Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия!» – записал он в дневнике.[693]
Генерал Иванов с георгиевскими кавалерами отбыл на два часа раньше императорского поезда. Не встречая на пути препятствий, он в ночь на 1 марта прибыл в Царское Село. Там он не сразу сориентировался в обстановке и промедлил. Часть местного гарнизона в это время была ещё верна императору, а часть стала уже ненадёжна. Генерал долго ожидал к себе начальника гарнизона и коменданта города, затем выслушивал их сбивчивые доклады, а тем временем вполне обнаружилось, что он прибыл с одним батальоном и вслед за ним никакие войска не идут. Революционные части окружили прибывший эшелон, разоружили георгиевских кавалеров, а затем выпроводили их обратно.[694]
Императорский поезд вышел из Могилёва в 5 часов утра 28 февраля. В Петрограде к этому моменту уже действовал Временный комитет Государственной думы. Утром, после отхода императорского поезда, в Ставке была получена телеграмма Родзянко о том, что Временный комитет, в целях пресечения хаоса и анархии в столице, принял правительственные функции на себя.[695] У всех создалось впечатление, что власть захватил думский комитет и страной отныне правит Родзянко.
Социалисты, однако, отказались «плестись в хвосте либеральной буржуазии». Группа меньшевиков, решив воссоздать Совет, разогнанный в 1905 году, стала записывать в него чуть ли не каждого из толкавшихся в Таврическом дворце рабочих и солдат.[696] На фабрики и заводы были разосланы приглашения выбрать депутатов. Но кто их мог избрать, когда рабочие и солдаты шатались на улицах? Тем не менее вечером 27 февраля в Таврическом дворце состоялось первое заседание Совета, составленного из довольно случайных лиц. Такое собрание могло, не задумываясь, поддержать любой радикальный лозунг и выкрикнуть свой, ещё радикальнее.
Яркое тому свидетельство – Приказ № 1, принятый 1 марта на соединённом заседании рабочей и солдатской секций и сыгравший роковую роль в развале армии и флота. Впоследствии от него открещивались едва ли не все его творцы. Н. С. Чхеидзе, председатель Исполкома Совета, говорил, что он не имел отношения к этому делу. Н. Д. Соколов, непосредственный автор текста, утверждал, что он только записывал то, что говорили окружившие его солдаты. Если это так, то странно, почему в приказе ничего не говорится о солдатском пайке, махорке и портянках и, наоборот, есть пункты, выдающие навыки абстрактного мышления. Некоторые же выражения, например, о «строжайшей дисциплине» в строю, явно не солдатского происхождения. Видимо, записывалось не всё, что диктовалось, и было много «отсебятины». А вот отмена обязательного вставания во фронт и отдания чести вне службы, а также титулования (ваше превосходительство, благородие и т. п.), запрещение грубого обращения к солдатам – это, конечно, солдатские требования. Видимо, ставилась задача оторвать солдат от офицеров (в том числе при помощи создания солдатских и флотских комитетов), переподчинить их Совету (по крайней мере в политических выступлениях) и одновременно – задобрить. Иначе кто же будет защищать революционный Петроград, если Николай обрушит на него с фронта свой железный кулак? В результате возникла зависимость Совета от солдат гарнизона и зависимость от Совета созданного вскоре Временного правительства, своей собственной воинской силы в столице не имевшего.
Приказ тотчас же был растиражирован в тысячах экземпляров, передан по радио, попал в действующую армию и во флот. В воинских и флотских соединениях вскоре появилось такое же двоевластие, как в Петрограде, а солдаты и матросы, не вчитываясь в разные параграфы приказа, поняли только одно: «Теперь – свобода!»
Императорский поезд был остановлен в ночь на 1 марта недалеко от Петрограда, на станции Малая Вишера. Дальше железнодорожники не пустили, ссылаясь на то, что Любань и Тосно заняты восставшими. Поезд отправился обратно, дошёл до узловой станции Валдай и повернул на Псков, где находился штаб Северного фронта.[697] Из Пскова, через Лугу и Гатчину, можно было проехать в Царское Село.
В 1916 году С. Н. Тимирёв по делам службы побывал в штабе Северного фронта и беседовал с его командующим, генералом Н. В. Рузским. Позднее он вспоминал о нём: «Худощавый, небольшого роста, хорошо тренированный и подтянутый, с пронизывающими холодными глазами и спокойными, уверенными манерами – он выражался ясно, определённо и безапелляционно. Чувствовалось, что спорить с ним и переубеждать его трудно».[698]
1 марта, в восьмом часу вечера, императорский поезд подошёл к перрону станции Псков. В вагон вошли генералы Н. В. Рузский, Ю. Н. Данилов (начальник штаба) и С. С. Саввич (начальник снабжения фронта). Государь гостеприимно пригласил их отобедать. Разговор, начавшийся за обедом, сильно затянулся. Императора прежде всего интересовало, сможет ли он добраться до Царского. Увы, Луга и Гатчина тоже оказались непроходимы. В Вырице, недалеко от Гатчины, в ожидании подмоги с фронтов, обосновался генерал Иванов со своими разоружёнными георгиевскими кавалерами. А Рузский не хотел снимать со своего фронта, непосредственно противостоящего германской армии, достаточно крупные части, не выяснив обстановку в столице. Он осторожно заводил разговор о создании министерства, ответственного перед Думой. В конце концов Николай II, не чувствуя ни в ком опоры, согласился и на это, и на то, что министерство возглавит Родзянко. После этого, довольно уже поздно, гости откланялись, а государь отправился спать, повторяя про себя: «Стыд и позор!»[699]
Рузский в эту ночь, наверно, совсем не спал. После разговора с царём он соединился по прямому проводу с Родзянко. Беседа получилась тоже длинной. Генерал довёл до сведения председателя Думы, что государь уполномочил его сообщить о своём решении создать ответственное министерство и поручить Родзянко его сформировать. Родзянко отвечал, что события зашли уже слишком далеко, происходит самая страшная революция. На сцену вышли социалисты, создавшие «рабочий комитет». То, что предлагается, уже недостаточно – «династический вопрос поставлен ребром». Рузский осторожно спросил, как же можно решить этот вопрос. Родзянко с неудовольствием отвечал, что генерал своими вопросами вконец истерзал ему «и так истерзанное сердце», долго жаловался, что царь не слушал его предостережений, высказал слова осуждения в адрес императрицы и, наконец, сообщил, что в стране распространяются «грозные требования отречения в пользу сына при регентстве Михаила Александровича». Потом добавил, что ныне же ночью он вынужден будет назначить Временное правительство, а «кровопролития и ненужных жертв» он не допустит.[700] (И того и другого к этому времени было уже немало.)
Наутро, 2 марта, Рузский пришёл в вагон к Николаю II и прочитал ему запись разговора с Родзянко. Из дневника императора неясно, с его ли санкции или самолично Рузский переслал её по телеграфу в Ставку.[701]
После отъезда государя из Ставки там было получено более десятка телеграмм от разных лиц и из разных мест о революции в Петрограде и расползании хаоса по стране. Так что Ставка имела достаточно полное представление о том, что происходит. Было ясно, что вследствие успокоительных телеграмм военного министра Беляева (отчасти и Хабалова) петроградским событиям с самого начала не уделили должного внимания. В этом сыграло свою роль и болезненное состояние Алексеева в критический день 27 февраля. Он едва держался на ногах и делал всё через силу. Сознание, надо думать, было затуманено. Иначе он, наверно, не отослал бы Иванова с одним батальоном.
Теперь же, когда движение приняло такие масштабы, борьба с ним стала крайне затруднена. Немного оправившийся от болезни Алексеев это ясно понимал. Чтобы собрать ударный кулак из надёжных войск, требовалось 10–12 дней. За это время революция расползлась бы по стране ещё дальше и, возможно, захватила бы фронт. Значит вставал вопрос о сепаратном мире. А это было бы равносильно поражению, если не хуже того. Николай II, даже если бы и удержался у власти, посадил бы на себя такое пятно, какое ввек не смог бы отмыть. Такое же пятно посадили бы на себя и поддержавшие его генералы.[702]
Взвесив всё это, Алексеев и его ближайшие сподвижники решили, что лучше всего отправить Николая II в отставку, успокоить страну и продолжать войну, конец которой им уже виделся. О возникновении Совета (или «комитета») они слышали, но не придали этому факту большого значения, а Приказ № 1 им ещё не был известен.
Рузский, переслав свой разговор с Родзянко, запросил мнение Алексеева, а также других командующих фронтами, чтобы доложить об этом царю. Сам он высказался в пользу варианта, предложенного Родзянко.
В Ставке срочно была составлена телеграмма, отправленная командующим за подписью Алексеева. Описывая в общих чертах положение в стране и отчасти пересказывая слова Родзянко, начальник штаба Ставки настоятельно советовал дать ответ в определённом смысле: «Необходимо спасти действующую армию от развала; продолжать до конца борьбу с внешним врагом; спасти независимость России и судьбу династии. Это нужно поставить на первом плане, хотя бы ценой дорогих уступок».
Через некоторое время в Ставку пришла телеграмма от командующего Западным фронтом генерала А. Е. Эверта. Он интересовался мнением Рузского и Брусилова (командующего Юго-Западным фронтом). Потом пришли телеграммы от великого князя Николая Николаевича и Брусилова. Первая из них была обращена непосредственно к Николаю II: «Я, как верноподданный, считаю по долгу присяги и по духу присяги, необходимым коленопреклонённо молить Ваше императорское величество спасти Россию и Вашего наследника… Осенив себя крестным знамением, передайте ему– Ваше наследие».
Брусилов в довольно кратком ответе просил доложить императору, что в нынешнем положении единственный выход – отречение от престола в пользу наследника при регентстве Михаила Александровича. Узнав мнение Брусилова и Рузского, Эверт ответил в том же смысле. Дольше всех тянул с ответом командующий Румынским фронтом генерал В. В. Сахаров, пожелавший предварительно узнать мнение всех других командующих. Его любопытство было удовлетворено, но Алексеев просил его телеграфировать уже прямо во Псков, потому что он больше ждать не может.
Телеграмма Сахарова оказалась до краёв наполненной ругательствами по адресу Родзянко и «разбойной кучки людей, именуемой Государственной думой». Однако генерал, «рыдая», всё же советовал царю «пойти навстречу уже высказанным условиям, дабы промедление не дало пищу к предъявлению дальнейших, ещё гнуснейших притязаний».
Собрав телеграммы, Алексеев переслал их Николаю II с очень кратким и подчёркнуто нейтральным сопроводительным текстом: «Всеподданнейше представляю Вашему императорскому величеству полученные мною на имя Вашего императорского величества телеграммы».[703]
В биографической повести-хронике К. А. Богданова «Адмирал Колчак» говорится, что запрос из Ставки относительно отречения государя получил и командующий Черноморским флотом, но, поразмыслив, не стал на него отвечать.[704] То, что такой запрос был послан, предполагают и другие исследователи и комментаторы, например А. В. Смолин. Ответная телеграмма Колчака почему-то отсутствует, пишет он.[705]
В действительности приведённое утверждение К. А. Богданова – это авторский вымысел. Ни Колчака, ни Непенина Алексеев не запрашивал. Балтийский флот находился в подчинении командования Северного фронта, и за Непенина высказался Рузский. Черноморский же флот был непосредственно подчинён Ставке, и Колчака следовало бы запросить. Но Алексеев не сделал этого. Сказалось прочно укоренившееся среди дореволюционного генералитета пренебрежительное отношение к флоту. Впоследствии Колчак рассказывал, что он «совершенно неожиданно» получил из Ставки копии упомянутых выше телеграмм командующих фронтами Николаю II.[706] Это Алексеев сообщил ему для сведения.
Ознакомившись с телеграммами, Николай II согласился на отречение и подписал присланный из Ставки проект манифеста. Но тут же стало известно, что во Псков едут А. И. Гучков и В. В. Шульгин, посланцы Временного комитета Государственной думы и Временного правительства, только что образовавшегося. Император попросил задержать отправку подписанного манифеста до встречи с ними.
Посланцы приехали поздно вечером. Встреча состоялась там же, в салон-вагоне. То, что рассказал Гучков, император почти всё уже знал. Знал он и то, чего от него хотели, – отречься в пользу сына. Николай II ответил, что он думал об этом весь день и понял, что расстаться с сыном не сможет. А потому отрекается в пользу своего брата. После недолгих переговоров были составлены три документа, которые царь подписал, перестав после этого быть царём. Это были указы о назначении Николая Николаевича верховным главнокомандующим, князя Г. Е. Львова (главу Временного правительства) – председателем Совета министров и Манифест об отречении от престола в пользу Михаила Александровича.
Посланцы, довольные успехом, отправились в Петроград. Николай II поехал попрощаться со Ставкой, записав в дневнике классическую по выразительности фразу: «Кругом измена и трусость, и обман!»[707]
На следующий день, 3 марта, отрёкся от престола и Михаил Александрович, заявив, что он может воспринять власть только из рук Учредительного собрания. Говорят, что из всей депутации, явившейся к нему, только П. Н. Милюков и А. И. Гучков настаивали на том, чтобы он немедленно принял корону. Но Гучков говорил как-то вяло и нерешительно. А Милюков, волнуясь и перебивая других, доказывал, что для укрепления нового порядка нужна сильная власть, опирающаяся на привычные для народа символы. Без них Временное правительство не дотянет до Учредительного собрания, оно потонет в океане народных волнений.
* * *
Революционный Петроград несколько дней был охвачен радостным ликованием. По улицам шли бесконечные демонстрации с красными знамёнами. На шляпах, фуражках, в петлицах – всюду были красные банты, ленты, значки, цветы. Даже дети и собаки (разумеется, те, которые на поводке) носили подобные украшения. Монархисты куда-то разбежались или перекрасились в красный цвет. Теперь все были за революцию и свободу. «Нива», старомодный, десятилетиями не менявшийся журнал для отставных чиновников и вдов, – и та печатала восторженные стихи:
Русская революция – юношеская, целомудренная, благая — Не повторяет, только брата видит в французе. И проходит по тротуарам, простая, Словно ангел в рабочей блузе.[708]Но не всё было так хорошо. Анна Васильевна, как-то не в унисон со всеми в эти дни сильно поправевшая, писала Колчаку: «За первым взрывом революции, который я понимаю и принимаю, поднимается такая муть, такая бездна пошлости, сведения личных счетов с гарантией безнаказанности, хулиганства, что становится гадко на душе».[709]
Анна Васильевна, жена морского офицера, знала многое из того, о чём не говорили политики и умалчивали газеты.
С 1 по 4 марта происходили самые страшные события в Балтийском флоте. Началось с Кронштадта. Толпа матросов окружила дом главного командира Кронштадтского порта и военного губернатора Р. Н. Вирена. Старый адмирал скомандовал: «Смирно!» В ответ раздались хохот и свист. С него сорвали погоны, потащили на Якорную площадь и там убили. Бронзовый Макаров видел всё это со своего пьедестала и не мог ничем помочь своему боевому соратнику. Истерзанное тело, в нижнем белье, бросили в овраг за памятником. Там оно лежало несколько дней, потому что революционные матросы не позволяли его убрать. Всего же в Кронштадте 1–2 марта было убито 36 офицеров.[710]
3 марта начались убийства в Гельсингфорсе, причём, как говорили, это делала какая-то специальная команда, переходившая с корабля на корабль и убивавшая по заранее заготовленному списку. Офицеры были разоружены, и корабли находились во власти матросов.
Как обычно, нашёлся «невостребованный» честолюбец, который решил воспользоваться ситуацией. Таковым оказался вице-адмирал А. С. Максимов. Когда-то он вместе с Колчаком и Непениным защищал Порт-Артур, лихо командовал миноносцем. Но Колчак и Непенин, значительно моложе его, выросли до командующих флотами, а он всего лишь исполнял должность начальника Минной обороны Балтийского моря. Максимов неожиданно возлюбил матросов, и матросы возлюбили его. На митинге 4 марта он пообещал служить революции «верой и правдой». Его избрали командующим. Непенин категорически отверг его притязания, заявив, что сменить его может только Временное правительство. Его потребовали на митинг. По дороге туда он был убит. Перешагнув через труп боевого товарища, Максимов стал командующим Балтийским флотом.[711]
Убийц никто не искал. Много лет спустя один из них, П. А. Грудачёв, назвал себя сам. В то время он был молодым матросом береговой минной роты, присутствовал на том митинге, слушал ораторов, ругавших Непенина. Его подозвали трое пожилых малознакомых матросов. Расспросили об отношении к революции и, услышав ожидаемый ответ, сказали, что революция даёт ему первое серьёзное задание. Адмирал Непенин приговорён к расстрелу, приговор должен быть приведён в исполнение сегодня же. Недолго раздумывая, Грудачёв согласился. Подошли к причалу, где стоял штабной корабль «Кречет», подождали, когда адмирал сойдёт на зоз причал. «Я вглядывался в адмирала, когда он медленно спускался по трапу, – вспоминал Грудачёв. – Невысокого роста, широкий в плечах, с рыжей бородкой, вислыми усами и бровями, он был похож на моржа… Спустя несколько минут приговор революции был приведён в исполнение. Ни у кого из нас четверых не дрогнула рука, ничей револьвер не дал осечки».[712] Те трое, которые сагитировали Грудачёва, были, по-видимому, как раз из той расстрельной команды, которая ходила по кораблям. Всего за эти дни на Балтийском флоте было убито 80 офицеров.[713]
* * *
В 1920 году во время допроса в Иркутске у членов комиссии возник вопрос о политических взглядах Колчака. Ответы пленного верховного правителя как-то не воспринимались, и наконец председатель спросил в довольно резкой форме: «Вы уклоняетесь от прямого ответа: были ли Вы монархистом или нет?» – «Я был монархистом и нисколько не уклоняюсь», – ответил Колчак и ещё раз растолковал, что он был прежде всего военным человеком, занимался своим делом, а не политикой, монархию воспринимал как существующую данность, недостатки на флоте объяснял плохой работой самих моряков, а не сваливал на царя, считая, что состояние вооружённых сил зависит прежде всего от самих военных, а не от существующего строя.[714] Таких взглядов придерживалось большинство офицерства, морского и сухопутного. Военные не любили, когда их вмешивали во внутренние дела, тем более во время войны.
Революция для офицерства была, конечно, нежеланной гостьей, поскольку вносила осложнения в то дело, которое они делали. Но и внутренние дрязги тоже изрядно надоели. Хотелось, чтобы это поскорее кончилось и можно было бы в спокойной обстановке довершить эту тяжёлую войну. Поэтому довольно слабое отстаивание старого режима нельзя ставить офицерам в вину. В конце концов Николай был сам виноват, что настроил всех против себя. Если бы Колчак получил запрос от Алексеева, он наверняка ответил бы в том же смысле, что и другие командующие. Ибо главное – сохранить боеспособность вооружённых сил, не дать противнику воспользоваться внутренним замешательством в России. Из этого исходил Колчак в первые дни Февральской революции и далее, вплоть до вынужденной отставки.
Вернувшись из Батума в Севастополь, Колчак получил телеграмму Родзянко от 27/28 февраля, адресованную в Ставку, а также командующим фронтами и флотами. В ней говорилось о том, что «ввиду устранения от управления всего состава бывшего Совета министров» власть перешла к Временному комитету Государственной думы, который «приглашает действующую армию и флот сохранить полное спокойствие и питает полную уверенность, что общее дело борьбы против внешнего врага ни на минуту не будет прервано или ослаблено». Пришла также телеграмма от Григоровича. Он сообщал, что Комитет Государственной думы постепенно восстанавливает порядок. «Надо думать, что принятыми мерами страна избежит сильных потрясений внутри», – писал министр накануне своей отставки.[715]
Обстановка оставалась неясной. Но поскольку неприятель, используя мощную радиостанцию в Константинополе, распространял небылицы и пытался сеять панику, Колчак 2 марта издал приказ по флоту. В нём сообщалось, что в столице произошли вооружённые столкновения, которые были прекращены усилиями Временного комитета Государственной думы и петроградского гарнизона. Командующий призывал всех офицеров, матросов и солдат Черноморского флота «продолжать твёрдо и непоколебимо выполнять свой долг перед государем императором и Родиной». В тот же день Колчак отправил в море на учебные стрельбы линейные корабли «Евстафий» и «Иоанн Златоуст», считая, видимо, их не совсем надёжными. Почтовое и телеграфное сообщение с Россией было восстановлено.[716]
В отсутствие «Евстафия» и «Златоуста» волнения произошли только на «Екатерине Великой». Отдавая дань распространившейся в годы войны шпиономании, матросы потребовали удаления всех офицеров с немецкими фамилиями. Мичман Фок, попытавшийся вечером 3 марта зачем-то пройти в погреба под башней, был остановлен и допрошен матросами, которые заподозрили его в подготовке взрыва. Впечатлительный юноша в ту же ночь застрелился, а наутро матросы потребовали к себе на борт командующего.
Возмущённый поведением матросов, Колчак говорил с выстроившейся на палубе командой резко и нелицеприятно. Он спрашивал матросов: разве можно судить о человеке по его фамилии? В России живёт много немцев, которые верой и правдой ей служат. У адмирала Эссена тоже была немецкая фамилия. И вообще «у нас в России фамилия решительно ничего не значит». Если есть какие-то конкретные факты, о них надо докладывать командиру корабля и командующему флотом, а «выгонять людей только за то, что они носят немецкую фамилию, нет решительно никаких оснований». С этими словами адмирал покинул корабль.[717]
4 марта пришли наконец задержавшиеся известия о событиях 2–3 марта. Были получены манифесты Николая II и великого князя Михаила Александровича. В тот же день Колчак собрал на штабном корабле «Георгий Победоносец» команды всех боевых судов, стоявших на рейде. Огласив манифесты, он сказал, что «династия, видимо, кончила своё существование и наступает новая эпоха». Каковы бы ни были наши взгляды и убеждения, продолжал адмирал, мы имеем обязательства не только перед правительством, но и перед страной, а потому обязаны продолжать войну, которую она ведёт. В ближайшие дни, сказал он в заключение, флот вместе с командующим принесёт присягу новой власти.[718]
На улицах Севастополя в этот день царило праздничное веселье – совсем как в Петрограде в первых числах марта. То там, то здесь возникали стихийные митинги. «Старая преступная власть свергнута на веки веков!.. – шумели ораторы. – Россией будет управлять сам народ!..» В числе слушателей было много матросов. Среди них распространился слух, что во дворе Черноморского флотского полуэкипажа собирается свой, матросский митинг. Туда и начали стекаться матросы с разных кораблей. Дежурный офицер не хотел было пускать чужаков, но его быстро отстранили.
Ораторы, в основном из молодых офицеров, решивших сделать карьеру на революции, выкрикивали примерно то же, что и на улицах: «Революционный народ должен создать такой политический строй, который лучше и полнее будет отвечать его интересам, его силе, его великому порыву!»
Вдруг раздался голос: «Колчака потребовать! Пусть он явится сюда и сообщит о перевороте!»
«Колчака! Колчака!» – завопила толпа в упоении от того, что может теперь по своему желанию вызвать командующего.
Через некоторое время командир полуэкипажа сообщил, что Колчак уполномочил его сообщить о текущих событиях. Но толпа не унималась: «Колчака! Лично требуем!»
Через полчаса на автомобиле подъехал Колчак. Не понимая, зачем от него требуют ещё раз сказать то же самое, что он в этот день уже говорил, он предложил было собравшимся разойтись. Но послышались голоса: «Мы не разойдёмся и вас не пустим. Товарищи, ворота на запор!»
Пришлось говорить. В передаче матроса-большевика А. П. Платонова его речь сводилась к следующему: «Война ещё не кончена, мы должны сохранить боевую способность. Матросы и солдаты, сохраняя порядок, должны будут выполнять приказания офицеров. Враг ещё крепок и силён. Нам нужно довести войну до победного конца». Рассказав ещё кое-что о петроградских событиях, Колчак хотел было закончить и ехать на заседание городской думы, куда его тоже пригласили. Но от него потребовали немедленно послать приветственную телеграмму новому правительству от имени армии и флота. Колчак с готовностью обещал. После этого его наконец отпустили.
Однако митинг на этом не закончился. В Севастополе уже знали и о создании Совета в Петрограде, и о Приказе № 1. А потому из присутствовавших на митинге матросов, солдат и ополченцев был избран Центральный военно-исполнительный комитет (ЦВИК).[719]
Первое время Колчак не признавал этот комитет. Он говорил, что Приказ № 1 имеет силу только для Петроградского гарнизона (формально так оно и было). Но вскоре пришёл приказ военного и морского министра А. И. Гучкова, ряд пунктов которого совпадал с Приказом № 1, а другие пункты его дополняли.[720] Приходилось менять тактику.
Как-то однажды, в первых числах марта, во время обеда в адмиральской кают-компании впервые был нарушен запрет вести разговоры на политические темы. Сначала один офицер, а потом другой заговорили о том, что получаемые из столицы официальные указания неясны и противоречивы, а потому надо самим, сообща, в согласии с мнением командующего, наметить линию своего поведения. Как вспоминал лейтенант Р. Р. Левговд, мнения разделились, офицеры заспорили, и дело едва не дошло до ссоры. Колчак немного поколебался, но потом поддержал мнение большинства присутствующих и велел пригласить вечером 7 марта в Морское собрание всех свободных от службы офицеров армии и флота «для выслушания заявления командующего флотом».
В этот день, 7 марта, по Севастополю разнеслась весть, что в город приезжают комиссары Временного правительства и члены Государственной думы. Многотысячная манифестация, в основном из матросов и солдат, с оркестром и красными флагами направилась к вокзалу.
Как раз в это время в Морском собрании перед офицерами выступал Колчак. По словам Левговда, он говорил, что Россия вступает в новый период своей истории, когда народу приходится самому думать о своём будущем. Но русский народ, воспитанный в системе строгой государственной опеки, не подготовлен к самоуправлению, а потому может впасть в крайность, что угрожает стране неисчислимыми бедствиями. В таких условиях, подчёркивал Колчак, офицеры должны сохранять дисциплину, беспрекословно повиноваться Временному правительству и законным властям и не допускать самочинных действий, которые могут повлечь за собой потерю боеспособности флота.
Заявление было сделано, и собравшиеся могли расходиться. Но несколько человек захотели выступить. Поднялся шум, и Колчаку пришлось взять в руки председательский колокольчик, чтобы ввести дебаты в парламентское русло.
Выступавшие говорили, что сохраняющийся в Севастополе относительный порядок держится только на личном авторитете и обаянии командующего флотом. Между тем пропасть, отделяющая рядовой состав от офицеров, становится всё шире и глубже. Это может кончиться катастрофой, если не создать какой-то выборный орган смешанного состава. В конце концов было решено избрать представителей от каждой части и корабля и послать в ЦВИК. Колчак согласился. На этом же собрании были произведены выборы. В числе избранных оказались подполковник Верховский и лейтенант Левговд, о чём последний почему-то скромно умалчивает в своих воспоминаниях.
Выборы закончились, и как раз в это время с улицы послышались шум и звуки музыки. Вышедшие на балкон офицеры увидели, что Морское собрание со всех сторон окружила многотысячная толпа. На Нахимовской площади, прилегающей к Собранию, волновалось целое море матросских бескозырок. Над головами колыхались красные флаги, а любопытные мальчишки забрались на памятник Нахимову, на деревья и заборы. Хотя толпа вела себя мирно, Левговд вспоминал, что зрелище было жутковатое.
Оказалось, что это та самая манифестация, которая ходила на вокзал встречать посланцев из столицы. Поезд сильно запаздывал, люди заждались. Распространился слух, что офицеры о чём-то договариваются, и толпа направилась к Морскому собранию. Только что избранным делегатам в ЦВИК пришлось выйти на балкон, объяснить смысл принятых решений, говорить, что отныне офицеры и матросы – «одна семья». Послышались крики «ура», вновь заиграл оркестр, и толпа, влекомая не то какими-то своими инстинктами, не то невидимыми руководителями, сняла осаду и направилась дальше по улице.
В конце концов все пришли опять на вокзал. В его здании, в ожидании столичного поезда, состоялось первое заседание объединённого ЦВИК.
Поезд прибыл в 2 часа ночи. Правительственная делегация, как оказалось, состояла из одного человека, коим являлся член Государственной думы и Исполкома Петроградского Совета, меньшевик И. Н. Туляков, в прошлом – токарь из Ростова-на-Дону.
Наутро в гостиницу, где он остановился, явились делегации от рабочих, матросов и солдат, от городской думы, а также командующий флотом. Снова вышли на балкон, снова были речи перед собравшимся народом. Произнесение пустопорожних речей с перемалыванием одних и тех же слов и оборотов было для Колчака делом новым и непривычным, не очень ему нравилось, но делать было нечего – такие настали времена.
Столичный гость в сопровождении штабных офицеров побывал на кораблях. Там он тоже произносил речи, которые, надо сказать, шли в общем-то на пользу, поскольку посланец Временного правительства и Совета призывал к спокойствию и дисциплине, к противодействию внешнему врагу, чтобы он не погубил в России дело свободы.[721]
10 марта, желая покончить с непрерывной чередой митингов и демонстраций, Колчак вывел флот в море. Он считал, что боевая деятельность – лучшее средство против всяких поползновений к «углублению революции». Это признавал и большевик А. П. Платонов, служивший тогда на «Екатерине Великой». «Частые походы, – писал он, – отрывали массы от политики… служили препятствием развитию революции».[722]
Выход в море позволил Колчаку перевести дух. «При возникновении событий, известных Вам в деталях, несомненно, лучше, чем мне, – писал он Анне Васильевне, – я поставил первой задачей сохранить в целости вооружённую силу, крепость и порт… Для этого надо было прежде всего удержать командование, возможность управлять людьми и дисциплину. Как хорошо я это выполнил – судить не мне, но до сего дня Черноморский флот был управляем мною решительно, как всегда; занятия, подготовка и оперативные работы ничем не были нарушены… Мне говорили, что офицеры, команды, рабочие и население города доверяют мне безусловно, и это доверие определило полное сохранение власти моей, как командующего, спокойствие и отсутствие каких-либо эксцессов. Не берусь судить, насколько это справедливо, хотя отдельные факты говорят, что флот и рабочие мне верят… Мне удалось прежде всего объединить около себя всех сильных и решительных людей, а дальше уже было легче. Правда, были часы и дни, когда я чувствовал себя на готовом открыться вулкане или на заложенном к взрыву пороховом погребе, и я не поручусь, что таковые положения не возникнут в будущем, но самые опасные моменты, по-видимому, прошли… 10 дней я почти не спал, и теперь, в открытом море в тёмную мглистую ночь я чувствую себя смертельно уставшим…» Далее он добавлял: «За эти 10 дней я много передумал и перестрадал, и никогда я не чувствовал себя таким одиноким, предоставленным самому себе, как в те часы, когда я сознавал, что за мной нет нужной реальной силы, кроме совершенно условного личного влияния на отдельных людей и массы; а последние, охваченные революционным экстазом, находились в состоянии какой-то истерии с инстинктивным стремлением к разрушению, заложенным в основание духовной сущности каждого человека».[723]
Эскадра подошла к Босфору и блокировала его, показав противнику, что противостоящий ему флот находится, как и прежде, в боевом состоянии. Правда, мглистая погода не благоприятствовала действиям воздушной разведки. Колчак очень сожалел о гибели одного самолёта с двумя лётчиками.
В свою очередь, эскадра была атакована неприятельскими подлодками и самолётами. Приходилось маневрировать и отстреливаться. «Подлодки и аэропланы портят всю поэзию войны, – шутливо жаловался он в том же письме, – я читал сегодня историю англо-голландских войн – какое очарова ние была тогда война на море. Неприятельские флоты дер жались сутками в виду один другого, прежде чем вступали в бои, продолжавшиеся 2–3 суток с перерывами для отдыха и исправления повреждений. Хорошо было тогда. А теперь: стрелять приходится во что-то невидимое, такая же невиди мая подлодка при первой оплошности взорвёт корабль, сама зачастую не видя и не зная результатов, летает какая-то гадость, в которую почти невозможно попасть. Ничего для души нет. Современная морская война сводится к какому-то сплошному беспокойству и безымянной предусмотрительности, так как противники ловят друг друга на внезапности, неожиданности и т. п.».[724]
Вскоре, 22–23 марта, Черноморский флот повторил поход к Босфору. Отряд гидрокрейсеров прикрывался броненосцами «Евстафий», «Иоанн Златоуст» и «Три Святителя». Было сделано много снимков Верхнего Босфора, оказавшихся удачными. Кроме того, самолёты сбросили на турецкие батареи 7 пудов бомб.[725]
Колчак не участвовал в этом походе. По-видимому, он не смог вырваться из того «политического сумбура и бедлама», который продолжался на берегу. В марте-апреле Колчаку пришлось расстаться с ближайшим своим сотрудником, товарищем по выпуску из Морского корпуса, начальником Штаба флота контр-адмиралом С. С. Погуляевым. В своё время он был зачислен в императорскую Свиту. 14 марта Временное правительство отменило все придворные и свитские звания.[726] Но Погуляев продолжал носить на погонах императорские вензеля. Каким-то образом это стало известно Гучкову, и он потребовал, чтобы Погуляев оставил свой пост. «Оставление на ответственных должностях офицеров Свиты невозможно и может иметь нежелательные последствия», – телеграфировал он Колчаку. Адмирал попытался возражать, но Гучков настаивал, и Погуляеву пришлось уйти в отставку. Начальником Штаба флота стал капитан 1-го ранга М. И. Смирнов.[727]
Много времени у командующего отнимала работа с новыми флотскими организациями. Первым председателем Севастопольского ЦВИК был Р. Р. Левговд, колчаковский флаг-офицер. В это время ЦВИК находился в фактическом подчинении у командующего. Он утверждал все постановления ЦВИК, а если у него были возражения, то вносились исправления. Колчак и сам иногда приходил на заседания ЦВИК.
Однако встал вопрос о судовых комитетах, первый из коих самочинно возник на крейсере «Память Меркурия». А. И. Верховский, начальник штаба Морской дивизии, по совместительству ставший членом ЦВИК, предложил ввести это дело в законное русло, точно определить права и обязанности комитетов и направить их деятельность к общенациональной цели – достижению победы. С согласия Колчака он составил «Положение об организации чинов флота, Севастопольского гарнизона и работающих на государственную оборону рабочих». Основные цели комитетов был определены в трёх пунктах: 1) усиление боевой мощи армии и флота, «дабы довести войну до победного конца», 2) поддержка Временного правительства и 3) просветительная деятельность среди матросов, солдат и рабочих. Постановления комитетов подлежали утверждению командирами частей.
19 марта Колчак утвердил этот проект. Верховский срочно выехал в Петроград, чтобы ознакомить с ним военного министра, членов Государственной думы и Исполкома Петроградского Совета. Из Петрограда его направили в Ставку, где 28–29 марта он докладывал свой проект. Несмотря на возражения начальника Штаба Ставки генерала А. И. Деникина, главнокомандующий М. В. Алексеев в основном одобрил проект, и он был введён повсеместно. Возвращение автора проекта в Севастополь было кратковременно – вскоре его произвели в полковники и назначили на должность командующего Московским военным округом. Верховский спешил делать карьеру на волне революционных событий.[728]
С большим сомнением воспринимал Колчак все эти новшества, нигде в мире не виданные и не слыханные, ни в прошлом, ни в настоящем, разве что в глубокой древности, в условиях военной демократии, в полчищах какого-нибудь Аттилы. На деле судовые комитеты оказались не столь покладисты, как ЦВИК. Вскоре после повсеместного их создания команда миноносца «Гневный» потребовала сместить своего командира. На миноносец прибыла делегация Севастопольского совета, долго разбиралась, и в конце концов судовой комитет согласился принять прежнего командира. В течение марта на боевых кораблях произошло до 20 подобных конфликтов. ЦВИК попробовал разработать систему дисциплинарных взысканий, самая строгая из коих предполагала арест на 7 суток. Однако судовые комитеты никогда этого не делали.[729] Офицеры же фактически были лишены такой возможности.
Тем не менее и Колчак, и ближайший его сподвижник Смирнов утверждали, что учреждение судовых комитетов, равно как и ЦВИК, в тех условиях было делом полезным. «Первое время отношения были самые нормальные, – рассказывал Колчак. – Я считал, что в переживаемый момент необходимы такие учреждения, через которые я мог бы сноситься с командами. Больше того, я скажу даже, что вначале эти учреждения вносили известное спокойствие и порядок».[730]
В беседе с корреспондентом московской газеты «Русские ведомости» Колчак отметил «чрезвычайно удачный состав» ЦВИК, назвав по именам некоторых его деятелей. На вопрос о роли военных организаций в настоящем и будущем адмирал ответил: «Созданные революцией, возникшие в период крушения старых форм жизни, эти организации теперь имеют громадное значение. Они устанавливают новую форму дисциплины, внедряя в массы сознание долга и порядка. Они имеют своё дело. Что будет потом, когда установится нормальный порядок военной жизни, заранее предугадать нельзя. Сама жизнь в творящем своём развитии определит, что в этих переходных организациях жизнеспособно и что – нет. Однако же и теперь можно сказать, что некоторые формы этих организаций безусловно останутся и впоследствии. Таково, например, заведование самой командой, продовольствием, обмундированием матросов, что давно принято в английском и американском флотах».[731]
Из этого и некоторых других высказываний видно, что Колчак принял революцию и не собирался враждовать ни с вновь возникшими организациями, ни с Временным правительством. И если в дальнейшем их отношения испортились, то, как увидим, виноват в этом был не только и не столько командующий Черноморским флотом.
Главной дезорганизующей силой во флоте были не судовые комитеты, не ЦВИК и не какая-нибудь «злокозненная» партия. Таковой силой стали митинги, громадные общефлотские митинги, происходившие сначала во дворе полуэкипажа, а затем чаще за городом, в Ушаковой балке. По-видимому, образовалось ядро митингующих, старавшихся не пропустить ни одно из этих сборищ, начавших активно на них выступать, быстро овладевших приёмами примитивной демагогии, познавших вкус власти над разгорячённой толпой. Так зарождалась атаманщина, которая впоследствии захлестнула флот.
Это означало, что в условиях охватившего страну небывалого кризиса общество начинало скатываться к первичным, догосударственным формам своей организации. Это было страшнее всего, в том числе и установившейся позднее власти большевиков.
Анна Васильевна, уже к середине марта на многое насмотревшаяся, писала в одном из писем: «Что бы ни говорили, диктатура черни – глубоко отвратительное явление. Толпа, очень добродушная в первые дни переворота, с каждым днём приобретает всё более зверский вид – тяжело смотреть на эти лица».[732]
На севастопольских митингах начались ожесточённые нападки на офицеров. Под одобрительный рёв толпы ораторы кричали, что надо отобрать у них кают-компании, заставить драить палубу, отбывать вахты в кочегарке.[733]
Колчака пока не трогали. Авторитет командующего флотом среди матросов был очень высок. «Наш Колчак», – говорили они. «Его уважали, ему верили и на него надеялись», – вспоминал очевидец. Командующий по-прежнему всюду ходил без охраны, сопровождаемый начальником штаба или флаг-офицером.
Тем не менее дисциплина заметно упала. На улицах солдаты и матросы давно уже не отдавали честь офицерам и не боялись предстать перед ними распоясанными и нетрезвыми. На кораблях матросы стали собираться не на баке, как прежде, а на шканцах – месте для торжественных построений и молебнов. Теперь здесь валялись окурки и шелуха от семечек, появились уличные торговки со своим товаром. Здесь же собирались митинги, на которые приходили матросы с других кораблей, а иногда и неведомо откуда взявшиеся агитаторы.[734]
Предметом особой ненависти «сознательных» матросов и солдат почему-то стали офицерские погоны. Пытаясь унять страсти, Гучков распорядился о снятии погон. Услышав об этом, матросы стали останавливать на улицах офицеров и срывать с них погоны. ЦВИК поспешил издать приказ, продублировав в нём распоряжение Гучкова. Однако офицеры Авиационной школы направили министру протест. От него пришло разъяснение, что он отменил погоны только у офицеров флота; что же касается армейских офицеров, то у них погоны служат, кроме прочего, признаками отдельных войсковых частей, а потому необходимы. Лиц, насильственно срывающих погоны, Гучков обещал отдавать под суд. После этого группы матросов и солдат останавливали на улицах армейских офицеров, а иногда по ошибке и флотских, и грозно спрашивали, почему они позволяют себе ходить без погон. Не встречая настоящего противодействия, преследования офицеров продолжали разрастаться.[735]
В конце апреля была введена новая форма офицеров флота, без погон, со знаками отличия на рукавах и звездой на кокарде.[736] Сохранилась фотография Колчака в этой форме (в характерной позе с правой рукой, засунутой между пуговицами на кителе). Тучковская форма, надо сказать, выглядит мешковато и нелепо.
С началом весны для командующего флотом началась новая головная боль – «осеменители». Так называли солдат и матросов, просившихся в отпуск на «обсеменение полей». Обычно уже в возрасте, они толпами ходили от Штаба до Исполкома и обратно, с котомками, мешками, унылые, печальные, но настойчивые, добиваясь, чтобы начальство «явило Божескую милость». Постановление Временного правительства от 10 апреля 1917 года об освобождении от воинской службы лиц, достигших 43-летнего возраста, несколько разрядило обстановку. Но зато на многих судах возник некомплект команды, особенно пострадала дивизия морской пехоты.[737]
«В половине апреля, – вспоминал Колчак, – мне стало ясно, что если дело пойдёт таким образом, то, несомненно, дело кончится тем же, как и на Балтийском флоте, т. е. полным развалом и невозможностью дальше продолжать войну».[738]
В первых числах апреля в Одессу прибыл Гучков, среди прочих дел пожелавший встретиться с командующим Черноморским флотом. Колчак прибыл в Одессу 10 апреля на миноносце «Пронзительный». Гучков был очень занят, плохо себя чувствовал, и беседа была довольно краткой. Министр спросил, как обстоят дела на флоте. Колчак, ничего не утаивая, сказал, что его сильно беспокоит «тот путь, по которому пошёл Черноморский флот под влиянием измен, под влиянием пропаганды и появления неизвестных лиц», бороться с которыми нет возможности, «так как теперь, под видом свободы, может говорить кто угодно и что угодно». – «Я надеюсь, что вам удастся с этим справиться, у вас до сих пор всё шло настолько хорошо…» – сказал министр. Колчак возразил, что до сих пор всё держалось на его личном авторитете, но это такое средство, которое «сегодня есть, а завтра рухнет». Правительство же не предоставило ему других средств для поддержания порядка и дисциплины. Гучков не стал продолжать этот разговор, но сказал, что в ближайшее время вызовет его в Петроград.
11 апреля Колчак вернулся в Севастополь, и в тот же день Анна Васильевна сообщила ему в письме, что уже несколько дней ходят упорные слухи о назначении его командующим Балтийским флотом.[739]
* * *
Колчак выехал в Петроград около 15 апреля, и эта поездка в бывшую императорскую столицу навсегда врезалась в его память.
Свергнутый император вместе с семьёй находился под арестом в Царском Селе. Нет худа без добра: теперь не надо было принимать министров и читать их длинные доклады. Вместо этого Николай II читал «Историю Византийской империи», «Графа Монте-Кристо», «Шерлока Холмса», возился на огороде или, вооружившись пилой и топором, валил вместе с садовниками сухие деревья в парке. Оказалось, что за долгие годы его царствования накопилось много сухостоя.
Между тем на улицах Петрограда на все лады трепалось его имя, имя императрицы и Распутина. На Невском красовались огромные афиши с изображением «старца», а публика ломилась в кинематографы на только что отснятые фильмы «Убийство Гришки Распутина», «Распутин в аду», «Тёмные силы – Григорий Распутин».
Даже на Невском почти не стало видно «чистой публики». Она затерялась в толпах матросов, солдат столичного гарнизона и дезертиров. Именно тогда повально распространилась скверная мода лузгать семечки. Их шелуха застилала тротуары, скверы, бульвары, подъезды. Под этой серой пеленой как-то терялись все другие разновидности грязи и мусора. Столичные интеллигенты, воспитанные на античных образах, сравнивали её с пеплом, который обрушил на древние Помпеи проснувшийся вулкан.[740]
На перекрёстках улиц, изображая стражей порядка, стояли штатские люди в повязках. А в глубине кварталов, да и на тех же улицах, выпущенные из тюрем уголовники делали своё дело. К ним присоединялись солдаты революционного гарнизона. Раздражённое население устраивало самосуды. Впрочем, эта кара касалась только мелких воришек – вооружённые бандиты никого не боялись и никому не оставляли шансов.
Колчак остановился в «Астории», большой гостинице, построенной незадолго до войны, а с началом её реквизированной военным ведомством. В вестибюле дежурил наряд матросов из Гвардейского экипажа, грубых и распущенных. Пол был усыпан всё той же шелухой…
Гучков совсем разболелся, не выходил из дома. В первое своё посещение Колчак застал его в постели. Вместе с Колчаком присутствовал его старый знакомый, начальник Штаба Балтийского флота капитан 1-го ранга М. Б. Черкасский, бывший сослуживец по Штабу Эссена. Вице-адмирала Максимова, совсем развалившего флот, Гучков не пожелал видеть.
Министр заслушал доклад о положении дел на Чёрном море и Балтике. Черкасский, в частности, сказал, что матросы настаивают на введении выборного начала на флоте снизу доверху. Гучков вздохнул и обратился к Колчаку: «Я не вижу другого выхода, как назначить вас командующим Балтийским флотом».
Колчак, видимо, был готов к такому предложению «Если прикажете, – ответил он, – я сейчас же поеду в Гельсингфорс и подниму свой флаг». Но, добавил он, вряд ли это исправит положение. На Черноморском флоте дела обстоят лучше в основном лишь в силу его удалённости от центра и некоторой изолированности. Но если всё останется по-прежнему, если будут продолжаться реформы, в корне подрывающие устои воинской дисциплины, там повторится всё то же, что имеет место на Балтике.
Гучков сказал, что он подумает, и спросил ещё раз: «Вы ведь не откажетесь принять это назначение?» Колчак ответил, что привык исполнять приказания.[741]
В эти же дни председатель Государственной думы М. В. Родзянко пригласил Колчака на завтрак. Оттеснённый с авансцены политики, он пытался установить контакты с армейскими и флотскими офицерами, но это плохо у него получалось. Офицеры, по которым прежде всего и ударила революция, видели в нём её зачинщика.
В беседе с Колчаком Родзянко похвалил состояние дел в Черноморском флоте. Колчак сказал ему то же, что и Гучкову: «…У меня идёт такой же внутренний развал, как и везде; пока мне удаётся сдерживать это движение, действуя на остатки благоразумия, но… в настоящее время уже есть признаки, что это благоразумие исчезает…» – «Что же делать, по вашему мнению?» – задал вопрос Родзянко. Колчак ответил, что флот разлагается в результате антиправительственной и антивоенной пропаганды «совершенно неизвестных и безответственных типов». Пресечь их деятельность административным путём у командующего нет возможности. Нельзя ли, спросил Колчак, что-то противопоставить им и кто бы мог помочь в этом деле? Родзянко посоветовал поговорить с Плехановым.[742]
Основоположник русского марксизма Г. В. Плеханов, недавно вернувшийся в Петроград после многолетней эмиграции, сразу же заболел. Это не помешало ему вступить в горячую перепалку с В. И. Лениным по поводу его «Апрельских тезисов». Ленинский призыв к продолжению и углублению революции Плеханов назвал «безумной и крайне вредной попыткой посеять анархическую смуту на русской земле».[743]
И Плеханов, и Колчак о своей встрече рассказали. Правда, рассказ Плеханова мы знаем со слов Н. И. Иорданского, близкого его сподвижника, редактора журнала «Современный мир», а в 1923–1924 годах – полпреда СССР в Италии.
«Сегодня, – говорил Плеханов, – был у меня Колчак. Он мне понравился. Видно, что в своей области молодец. Храбр, энергичен, не глуп. В первые же дни революции стал на её сторону и сумел сохранить порядок в Черноморском флоте и поладить с матросами. Но в политике – он, видимо, совсем не повинен. Прямо в смущение привёл меня своею развязной беззаботностью. Вошёл бодро, по-военному и вдруг говорит: „Счёл своим долгом представиться вам, как старейшему представителю партии социалистов-революционеров…“»
Плеханов попробовал внести ясность: «Благодарю, очень рад. Но позвольте вам заметить…» Но перебить Колчака не удалось. «Я моряк, – продолжал он, – партийными программами не интересуюсь. Знаю, что у нас во флоте, среди матросов есть две партии: социалистов-революционеров и социал-демократов. Видел их прокламации. В чём разница – не разбираюсь, но предпочитаю социалистов-революционеров, так как они патриоты. Социал-демократы же не любят отечества…»
Плеханову, наконец, удалось приостановить собеседника и довести до его сведения, что он не эсер, а социал-демократ и, вопреки его мнению, очень любит своё отечество. Теперь пришла очередь смущаться Колчаку, но, по словам Плеханова, он нисколько не смутился: «Посмотрел на меня с любопытством, пробормотал что-то вроде „ну, не важно“ и начал рассказывать живо, интересно и умно о Черноморском флоте, о его состоянии и боевых задачах. Очень хорошо рассказывал. Наверно, дельный адмирал. Только очень уж слаб в политике…»[744]
Рассказ Плеханова, надо полагать, передан Иорданским в несколько утрированной форме. Но Колчак, видимо, в то время и в самом деле слабо разбирался в партийных группировках и, конечно, не знал такой «тонкости», что социал-демократы разделяются на меньшевиков и большевиков.
«Я поехал к Плеханову, – рассказывал Колчак, – изложил ему создавшееся положение и сказал, что надо бороться с совершенно открытой и явной работой разложения, которая ведётся, и что поэтому я обращаюсь к нему как главе или лицу, известному социал-демократической партии, с просьбой помочь мне, приславши своих работников, которые могли бы бороться с этой пропагандой разложения, так как другого способа бороться я не вижу… Плеханов сказал мне: „Конечно, в вашем положении я считаю этот способ единственным, но этот метод является в данном случае ненадёжным“. Во всяком случае, Плеханов обещал мне содействие в этом направлении, причём указал, что правительство не управляет событиями, которые оказались сильнее его». Когда речь зашла о проблеме черноморских проливов, Плеханов обронил такую фразу: «Отказаться от Дарданелл и Босфора – всё равно, что жить с горлом, зажатым чужими руками».[745]
Встреча с Плехановым была для Колчака очень памятной, но он понял, что практического значения она иметь не будет. И действительно, Плеханов, возглавлявший тогда маленькую социал-демократическую группу «Единство», вряд ли мог чем-нибудь помочь командующему Черноморским флотом.
Анна Васильевна, жившая с некоторых пор в Ревеле, приехала в Петроград для встречи с Александром Васильевичем. Остановилась у родственников. 20 апреля состоялась встреча – после 10-месячной разлуки. И на этой встрече случилась какая-то размолвка. В чём было дело – по источникам понять невозможно. Если судить по её письмам – почти ничего и не случилось. А в его письмах – целая драма.
После этой неудачной встречи Колчак сидел с В. В. Романовым, офицером из Генмора, знавшим об их отношениях и часто помогавшим в пересылке писем. Друзья, видимо, выпивали. Но то ли выпили немного, то ли хмель на Колчака не подействовал. Вернувшись в «Асторию», он просидел до утра, ещё раз просматривая документы для утреннего заседания Совета министров.
Из окна открывался вид на Исаакиевскую площадь, памятник Николаю I и Мариинский дворец, где прежде заседал Государственный совет, а теперь – Временное правительство. В этот вечер до поздней ночи перед дворцом гудела толпа с плакатами: «Доверие Милюкову!», «Да здравствует Временное правительство!». С балкона кто-то выступал, и слышались, по словам Колчака, «бессмысленные „ура“».
А днём здесь была другая демонстрация, с другими лозунгами – «Долой Милюкова! Долой Временное правительство!». Поводом для волнений послужила составленная министром иностранных дел П. Н. Милюковым и одобренная правительством нота союзным державам о готовности России выполнять союзнические обязательства. Левацкие элементы, будоражившие толпу, усмотрели в ней отступление от «международных демократических интересов», а солдаты, видимо, испугались, что их погонят на фронт. Колчак считал глупейшим и нелепым занятием обсуждать на митингах дипломатические ноты.
Утром, перед началом заседания, Колчак решил ещё раз повидать Анну Васильевну, объясниться с ней или просто попрощаться, ибо он «понял или вообразил», что она окончательно отвернулась от него и ушла из его жизни. Но произошло какое-то новое недоразумение. «Я уехал от Вас, у меня не было слов сказать Вам что-либо», – писал он впоследствии.[746]
Заседание Совета министров было назначено на квартире Гучкова, который всё ещё болел. Направляясь туда, на Мойку, Колчак встретил несколько воинских частей, при оружии, которые шли к Мариинскому дворцу, не зная, что правительство соберётся в другом месте. Туда же, к дворцу, стекались колонны рабочих. В этот день в разных частях города произошли столкновения между сторонниками и противниками правительства. Была стрельба, были жертвы. А грабёж магазинов, по словам очевидцев, «принял всеобщие масштабы».[747]
В заседании правительства принимал участие главнокомандующий генерал М. В. Алексеев. Председательствовал князь Г. Е. Львов.[748] Колчак сделал доклад о стратегическом положении на Чёрном море, о состоянии Черноморского флота и ближайших перспективах. Поставлен был вопрос и о Босфорской операции, для которой Ставка всё ещё не выделила требуемых пяти дивизий. Все взоры обратились на Алексеева. Генерал повернулся к Колчаку, пронзил его своим стальным взглядом и отчеканил, что у него нет пяти дивизий: «Во всей армии нет полка, в котором я мог бы быть уверен, и вы сами не можете быть уверены в своём флоте, что он при настоящих условиях выполнит ваши приказания».[749]
Адмирал выстоял, не шелохнувшись, хотя удар был чуть ли не в сердце. Рухнуло то, что должно было стать венцом всей его военно-морской службы. Позднее он писал, что в один момент потерял всё, что для него «являлось целью большой работы и… даже большей частью содержания и смысла жизни». Он добавлял: «Это хуже, чем проигранное сражение, это хуже даже проигранной кампании, ибо там всё-таки остаётся радость сопротивления и борьбы…»[750]
Верный воинской дисциплине, он не стал на заседании правительства вступать в спор с главнокомандующим, спрашивать его, как же он, не имея, по его словам, ни одного надёжного полка, готовит летнее наступление по всему фронту. Было ясно, что Алексеев просто воспользовался обстановкой, чтобы поставить крест на операции, которой не сочувствовал.
Из всех членов правительства только Милюков был сторонником Босфорской операции. А потому тут же решили в очередной раз её отложить. Все понимали, что на этот раз – навсегда. А между тем эта операция, не требовавшая больших сил (пять надёжных дивизий в то время подыскать, наверно, было ещё можно), могла, в случае успеха, укрепить престиж власти и, возможно, даже переломить настроение. А в случае неудачи – это же частная операция, не наступление по всему фронту.
Заседание близилось к концу, когда в комнату влетел маленького роста генерал с монгольскими чертами лица. Это был командующий войсками Петроградского военного округа Л. Г. Корнилов. Он сообщил, что в городе происходит вооружённая антиправительственная демонстрация, но у командования достаточно сил, чтобы её рассеять, – нужна санкция правительства. Князь Львов замахал руками: «Что вы, Лавр Георгиевич! Разве можно прибегать к насилию? Наша сила – в моральном воздействии». «Насилие недопустимо!» – взвился министр юстиции А. Ф. Керенский. Зашевелились М. И. Терещенко (министр финансов) и А. И. Коновалов (торговли и промышленности). Львов поспешил закрыть заседание.
Керенский и Корнилов сцепились спорить. Другие пошли к выходу. Колчак же стоял, всё ещё переживая чувство внутренней катастрофы. К нему подошёл Милюков, страшно усталый, с красными от нескольких бессонных ночей глазами, и молча пожал руку. В эти дни они были товарищи по несчастью.[751]
Вечером Колчак должен был отъехать в Псков на совещание командующих фронтами и армиями. Он ожидал, что Анна Васильевна всё же подойдёт к поезду, но она не пришла и позднее писала, что «с большим трудом удержалась от искушения» увидеть его на вокзале. Вместо этого она, находясь в «убийственном настроении», ввязалась в какой-то уличный митинг и даже выступала там.[752]
На совещании во Пскове, проходившем под председательством Алексеева, Колчак узнал много для себя нового и неприятного. Выяснилось, что на фронте, особенно Северном, ближайшем к столице, тоже начался развал. Солдаты митинговали, не слушались приказов, продавали оружие желающим приобрести, «братались» с немцами у себя на позициях. Как с этим бороться в создавшихся условиях, никто не знал. Когда пришла революция, все надеялись, что она вызовет энтузиазм и повысит боевой дух, а оказалось – наоборот.
После совещания во Пскове пришлось вновь возвращаться в Петроград. Гучков собрал командующих у себя на квартире и устроил чтение проекта «Декларации прав солдата». Проведения её в жизнь добивался Совет, а Гучков у себя в министерстве устраивал «похоронные комиссии», но проект каким-то образом проскакивал через них и опять возвращался к нему на подпись. Теперь Гучков, видимо, надеялся получить от командующих какие-то замечания и опять направить злополучный проект на доработку.
Однако план не удался. Командующие во главе с Алексеевым, не дослушав проекта, встали и пошли. Если министерство, сказали они, решит ввести этот проект, который окончательно развалит армию, пусть вводит – но без нашего участия. Гучков опять остался с этой декларацией, от которой никак не мог отделаться.
Колчак, несколько задержавшись, спросил, должен ли он перейти на Балтику или возвращаться в Севастополь. Министр подумал и махнул рукой: «В сущности, это всё равно, возвращайтесь в Чёрное море».
Это было сказано с такой безнадёжностью, что стало понятно: Гучков собирается в отставку. Ясно обозначался и близкий конец Временного правительства, которое в условиях небывалого кризиса принципиально не желало применять силу, а надеялось на средства морального воздействия. «Гучков, может быть, и понимал положение, – говорил впоследствии Колчак, – но на меня он производил впечатление человека, так далеко зашедшего по пути компромиссов, что для него не оставалось другого пути».[753]
Вскоре Гучков и Милюков действительно ушли в отставку.
После разговора с Гучковым, в тот же день, Колчак выехал в Севастополь. «Из Петрограда я вывез две сомнительные ценности, – писал он, – твёрдое убеждение в неизбежности государственной катастрофы со слабой верой в какое-то чудо, которое могло бы её предотвратить, и нравственную пустоту. Я, кажется, никогда так не уставал, как за своё пребывание в Петрограде. Так как я имел в распоряжении 2 суток почти обязательного безделья в вагоне, то использовал это время наиболее целесообразно: придя в состояние, близкое к отчаянию (эту роскошь командующий не часто сам себе позволит), я просидел безвыходно в своём салоне положенное время, сделав слабую попытку в чтении Еллинека пополнить пробел в своих знаниях по части некоторых государственных вопросов».[754]
Приведённый отрывок из письма к Тимирёвой нуждается в некоторых пояснениях.
Во-первых, «чувство, близкое к отчаянию», и «нравственная пустота» возникли не только вследствие того, что увидел и услышал Колчак в Петрограде и Пскове, и не только вследствие крушения планов Босфорской операции. На всё это наложилась размолвка с Анной Васильевной, очень похожая на разрыв.
Во-вторых, из письма явствует, что Колчак в это время попытался расширить свои познания в области государства и права. Кто-то посоветовал ему прочесть книгу немецкого профессора Г. Еллинека «Общее учение о государстве». Совет был явно неудачен, потому что книга носит сугубо теоретический характер. Последующие попытки, уже по возвращении в Севастополь, разобраться в книге и что-то почерпнуть из неё были, как видно, тоже малоуспешны, и Колчак с раздражением отмечал, что вопрос о том, чем различаются «доминиум» и «империум» для него столь же интересен, как и то, назвать ли происходящее в Севастополе «глупостью или идиотством».[755]
В-третьих, слова насчёт «почти обязательного безделья» нельзя понимать буквально. Сразу же по возвращении адмирал сделал доклад о положении в стране на Собрании делегатов армии, флота и рабочих Севастополя, причём не экспромтом, а по заранее составленному тексту. И у Колчака не было другого времени для работы над ним, кроме как по дороге из Петрограда в Севастополь.
И, наконец, в-четвёртых, приведённый фрагмент в черновике зачёркнут. Отдельные фразы из него впоследствии были использованы в других черновиках. Но именно этот зачёркнутый отрывок, как кажется, наиболее полно передаёт то настроение и те чувства, с которыми Колчак покидал Петроград в апреле 1917 года.
* * *
Вернувшись в свою каюту на штабном корабле, Колчак первым делом собрал все фотографии и письма Анны Васильевны, запрятал их в стальной ящик с хитрым запором, открыть который не всегда удавалось, велел убрать его подальше, а себе приказал не думать о своей любимой. Похоже, однако, что в то время его флот всё же гораздо лучше исполнял его приказания, чем он сам.
В начале мая пришло письмо от Анны Васильевны. Она писала, что на столе у неё стоят розы, которые он ей подарил (осыпаются, но ещё очень хороши), рядом с ними – целая галерея его портретов. А камень, тоже его подарок, она положила в медальон и любит рассматривать его, когда ей тоскливо. А это, добавляла она, сейчас у неё преобладающее настроение.[756]
Что-то в этом письме, однако, отсутствовало, и на Колчака это подействовало так, как будто в костёр плеснули горючего. Он писал ей чуть ли не каждый день. Сохранилось восемь черновиков ответов на это письмо и следующее. Некоторые черновики, видимо, были уничтожены. Писались они чаще во время выходов в море, по ночам, когда командующий имел возможность уединиться. Иногда он выводил на листе: «Глубокоуважаемая Анна Васильевна» – и далее не мог написать ни слова. Тогда он бросал это занятие, выходил на палубу, бродил по ней, как призрак, поднимался на мостик, разглядывал звёзды.
Черновики очень разнятся по стилю и содержанию. Некоторые отличаются нарочитой сухостью и напыщенным тоном: «События, имевшие место при свидании нашем в Петрограде, с точки зрения, Вами высказываемой на наши взаимоотношения, имеют чисто эвентуальный характер».
Иногда же перед нами пронзительно искренняя исповедь страдающего человека:
«В минуту усталости или слабости моральной, когда сомнение переходит в безнадёжность, когда решимость сменяется колебанием, когда уверенность в себе теряется и создаётся тревожное ощущение несостоятельности, когда всё прошлое кажется не имеющим никакого значения, а будущее представляется совершенно бессмысленным и бесцельным, в такие минуты я прежде всегда обращался к мыслям о Вас, находя в них и во всём, что связывалось с Вами, с воспоминаниями о Вас, средство преодолеть это состояние».
Забыть всё это, прекратить переписку, признавался он в другом черновике, – «для меня огромное несчастье и горе». А в третьем чеканил: «Всё то, что было связано с Вами, для меня исчезло…»[757]
Какие-то из этих черновиков переписывались набело, приобретали законченный вид и отсылались по адресу. Какие – неизвестно. На восемь черновиков приходится одно или два письма. Получив одно из них, Анна Васильевна очень обиделась и написала резкий ответ, но потом забраковала его и отослала другой вариант, более примирительный.[758]
Выяснение отношений продолжалось более месяца. Кризис разрешился, когда Анна Васильевна узнала из газет, что Александр Васильевич, не поладив с Исполкомом, подал в отставку. Всё недавнее сразу было забыто, и Анна Васильевна написала прочувствованное письмо: «…Вы сами знаете, как бесконечно дороги Вы мне, как важно для меня всё, что касается и происходит с Вами, как я жду, чем всё разрешится…Какие бы перемены ни происходили в Вашей жизни, что бы ни случилось с Вами, – для меня Вы всё тот же, что всегда, лучший, единственный и любимый друг».[759]
Отставка не состоялась, но для Колчака это письмо стало настоящим спасением. «И вот сегодня, – писал он, – после Вашего последнего письма я чувствую себя точно после тяжёлой болезни – она ещё не прошла, мгновенно такие вещи не проходят, но мне не так больно, и ощущение страшной усталости сменяет теперь всё то, что я пережил за последние пять недель». Другое письмо, написанное спустя неделю, когда обстановка в Черноморском флоте вновь обострилась, он закончил провидческой фразой: «Я не знаю, что будет через час, но я буду, пока существую, думать о моей звезде, о луче света и тепла – о Вас, Анна Васильевна».[760]
* * *
В месяц, когда Колчак сгорал на этом невидимом костре, в Севастополе происходили важные события, в которых командующему приходилось участвовать. Конечно, он старался держать себя в руках, и чаще всего это ему удавалось. И всё же некоторые его поступки и решения, возможно, были бы иными, не находись он постоянно во взвинченном состоянии.
Упомянутый выше доклад на делегатском собрании «Положение нашей вооружённой силы и взаимоотношения с союзниками» Колчак сделал формально по просьбе эсеровской организации, на самом же деле – по собственной инициативе.
25 апреля на трибунах огромного цирка в Севастополе собралось несколько тысяч человек. На площадке, где обычно располагался оркестр, поставили накрытый кумачом стол, за которым расположился президиум Севастопольского совета. Его председатель, меньшевик Н. Л. Конторович, старый революционер, недавно вернувшийся из ссылки, позвонил колокольчиком и громко произнёс:
– Слово предоставляется нашему товарищу, адмиралу революционного флота Колчаку.
Загремели аплодисменты, и адмирал вышел к барьеру.[761]
«Великий государственный переворот, совершившийся во время войны – говорил Колчак, – не мог пройти, не оказав влияния на вооружённую силу. Конечно, нельзя не видеть, не признать положительных сторон многих явлений, возникших под влиянием революции в наших вооружённых силах, но вызывает самые серьёзные опасения переход естественного и временного беспорядка в прогрессирующий развал и дезорганизацию». Старые формы дисциплины рухнули, а новые создать не удалось, да в этом отношении ничего, кроме воззваний, по сути, и не делалось. Например, Балтийский флот, предоставленный самому себе, не занятый боевой работой, пошёл по пути ломки всех установившихся порядков. Это удалось, а изобрести какие-то новые формы организации и дисциплины не получилось. В результате Балтийский флот полностью дезорганизован, и только отдельные его части и суда сохранили боеспособность.
К сожалению, продолжал Колчак, дезорганизация и падение дисциплины распространились и на другие войсковые соединения, в том числе и на фронтовые. В этой связи он обратил внимание на такие явления, как «братание» и дезертирство. «Братающиеся» немцы и австрийцы, сказал он, в некоторых частях были арестованы, и выяснилось, что они занимались разведкой и изучением наших позиций.
В одном ряду с этими явлениями, заявил адмирал, стоят и события 20–21 апреля в Петрограде. Такие события, подчеркнул он, грозят уже «внутренним пожаром, который называется гражданской войной».
Едва ли кто-либо из демонстрантов, выступавших под лозунгами «Долой Временное правительство», «Долой войну», понимал истинный их смысл и значение. И, не ведая, что творят, они прокладывали дорогу тем силам, которые «ведут антигосударственную работу с явной тенденцией к уничтожению всякой организации и порядка», «к поражению и гражданской войне, к государственному разложению и гибели».
В связи с этим Колчак коснулся и вопроса о сепаратном мире. «Вступив в войну и заключив известные обязательства с союзниками, – разъяснял он, – мы получили от них огромную помощь, финансовую и материальную, в виде военного снаряжения и снабжения… Но есть нечто ещё большее – это жизнь, кровь тех, кто пал за общее для всех союзников дело, те десятки миллиардов ценностей, которые сообща вложены в экономику войны и которые так или иначе должны быть компенсированы. Вот внутреннее содержание наших договоров и обязательств с союзниками. И если мы эти обязательства выполнить не сможем или не захотим, то неизбежной логикой событий мы должны будем за них расплачиваться… В решении подобных вопросов нет ни сентиментальностей, ни отвлечённых рассуждений, а есть суровый закон необходимости, по которому нам придётся платить за битые горшки… Как и чем, ответ на это имеется в соответствующих исторических событиях – территорией и теми реальными ценностями, которые к этому времени у нас будут. Мы будем расплачиваться за свою слабость и своей свободой – при известных условиях мы можем получить образ правления не тот, который мы хотим, а который нам укажут, наиболее обеспечивающий реализацию наших обязательств… Нарушение нами обязательств по отношению к союзникам должно привести нас к войне с ними, со всеми проистекающими из такого состояния последствиями». Так что сепаратный выход из войны, указывал Колчак, не принесёт ни мира, ни благоденствия.
«Мы живём в эпоху величайшей войны, в эпоху решения международных и национальных вопросов вооружённой силой, – говорил Колчак. – Можно сочувствовать или нет такому положению вещей – никакого значения для существующей войны эти рассуждения не имеют». В некоторых общественных кругах, продолжал он, создалось представление об «универсальном или мировом» значении нашей революции и немедленном её влиянии «на внутреннюю жизнь и даже политический строй иностранных государств». «Никто, конечно, не станет отрицать значения нашей революции на жизнь наших союзников и соседей, но, – подчеркнул командующий, – это влияние ослабляется теперь мировой войной, в которой лежит центр тяжести всей жизни воюющих государств… Текущая война есть в настоящее время для всего мира дело гораздо большей важности, чем наша великая революция. Обидно это или нет для нашего самолюбия, но это так, и, совершив государственный переворот, нам надо прежде всего подумать и заняться войной, отложив обсуждение не только мировых вопросов, но и большинство внутренних реформ до её окончания».
Первая забота, сказал в заключение командующий, – это восстановление воинского духа и боевой мощи армии и флота, «а для этого надо прекратить доморощенные реформы, основанные на самомнении и невежестве. Надо принять формы дисциплины и организации внутренней жизни, уже существующие у союзников». Кроме того, надо «сократить самомнение незнания и признать, что правительство гораздо лучше нас понимает многие вопросы государственной жизни и в вопросах международной политики МИД гораздо осведомлённее митинговых ораторов… Надо приложить силы к одной цели – спасения Родины».[762]
Доклад Колчака, хорошо подготовленный и произнесённый с большим чувством, произвёл на слушателей громадное впечатление. Командующего поддержали другие ораторы – председатель Совета Конторович, лидер местных эсеров Пампулов, некоторые матросы. Успех Колчака отметил даже большевистский автор Платонов. Под впечатлением от собрания ЦВИК принял решение о посылке делегации от Севастополя в Петроград и на фронт, чтобы поднять боевой дух солдат и матросов. В состав делегации было избрано 190 человек.
Делегация побывала в Москве, Петрограде, объехала фронт. Её члены участвовали в сражениях, некоторые пали смертью храбрых. Однако она мало кого убедила. Не в её силах было остановить тот развал, который энергично подталкивали большевики и которому Временное правительство фактически попустительствовало, а отчасти и содействовало. Керенский, например, оказавшись в кресле военного и морского министра, сразу же подписал «Декларацию прав солдата», которую Гучков тщетно пытался похоронить. Колчак же, отправив делегацию, лишился самых преданных и активных своих сторонников из числа матросов и солдат. «Собралась и уехала делегация, – вспоминал очевидец, – а с нею ушла и душа флота. Настроение понизилось, и какая-то невидимая рука упорно работала, разжигая понемногу страсти».[763] Так что вся эта затея с делегацией скорее всего была ошибкой.
В начале мая в газетах промелькнуло сообщение о том, что ЦК большевиков решил расширить разъяснительную работу в Черноморском флоте и, в частности, направить в Севастополь В. И. Ленина. Это сообщение обеспокоило эсеров, считавших Черноморский флот своей вотчиной. 4 мая было созвано делегатское собрание, которое большинством в 340 голосов (49 воздержалось и 20 было против) высказалось за то, чтобы «всеми имеющимися средствами ни в коем случае не допустить приезда Ленина в Севастополь». Информация о таком решении была послана в ряд ближайших городов. В эти же дни судовой комитет «Георгия Победоносца» постановил отправить телеграмму Временному правительству и Петросовету с просьбой принять меры «для организации порядка, дисциплины и обуздания лиц, подобных Ленину, агитирующих против Временного правительства и требующих сепаратного мира». К выступлению «Георгия Победоносца» присоединились команды «Иоанна Златоуста» и «Очакова».[764]
Сотрудничество, установившееся между командованием и революционными организациями Черноморского флота, было нарушено в середине мая. Конфликт разгорелся из-за того, что ЦВИК заподозрил Севастопольское интендантство во главе с генерал-майором Н. П. Петровым в сговоре с поставщиками кожи, из-за чего матросы получали сапоги худшего качества и в меньшем количестве. В книге А. П. Платонова суть дела изложена неясно, но вполне возможно, что дело действительно было нечисто. Но с другой стороны, может быть, и ЦВИК не вполне учитывал быстрый рост цен на сырьё в условиях инфляции.
Следственная комиссия, созданная ЦВИК, явно вышла за пределы своей компетенции, потребовав дать ей возможность самой заняться операциями с кожей. Петров ответил отказом. Тогда ЦВИК постановил арестовать генерала «за пособничество и соучастие в спекуляции».
Для утверждения этого постановления к командующему была направлена представительная делегация в составе матроса, солдата и рабочего. Но, видимо, эти представители ничего толком объяснить на могли. Колчак выпроводил их, сказав, что арест – дело военной прокуратуры, которая должна иметь веские на то основания.
Дальнейшие переговоры с ЦВИК, видимо, шли не столько по существу дела, сколько об аресте генерала. Исполком считал, что командующий стал на формальную точку зрения, а Колчак не желал, чтобы ЦВИК занимался арестами командного состава – с санкции ли Штаба или без санкции. В конце концов ЦВИК созвал «совет старейшин». Платонов не объясняет в своей книге, что за «старейшины» это были, но из его же изложения следует, что во флоте молодые матросы были настроены более примирительно, а старослужащие – более агрессивно.
«Совет старейшин», собравшийся ночью, вызвал из флотского экипажа патруль и послал его арестовать Петрова, уведомив об этом Штаб флота. Генерал был доставлен на гауптвахту, а из Штаба сообщили, что командующий отправил телеграммы Львову, Керенскому и в Ставку о том, что он не желает более сотрудничать с ЦВИК, который вышел из рамок законности. ЦВИК тоже разослал телеграммы по указанным адресам, заявив, что «не может допустить подрыва своего авторитета кем бы то ни было». Наутро, 13 мая, делегатское собрание утвердило постановление «Совета старейшин». Колчак в данном случае находился в невыгодном положении, потому что интендантство имело плохую репутацию.
Как раз в это время Керенский приехал в Одессу, и 15 мая Колчак выехал на встречу с ним с прошением об отставке. ЦВИК тоже снарядил делегацию к министру, включив в её состав лейтенанта Левговда. Так что против Колчака должен был докладывать его собственный флаг-офицер.[765]
Керенский в ту пору переживал миг своего взлёта и купался в лучах славы. Добраться до него с неотложным и неприятным вопросом было нелегко. В полувоенном френче и фуражке английского образца (которая, как говорили, ему не шла), с красной лентой через плечо, он ездил с митинга на митинг, произносил речи и уезжал под гром аплодисментов.
Колчаку, однако, быстро удалось добраться до министра, и 15 мая в Севастополе была получена телеграмма с требованием освободить генерала, по делу которого будет назначена следственная комиссия. Генерал был выпущен с гауптвахты, но к исполнению обязанностей его не допустили.[766]
Тем временем Одессу облетел слух, что Керенский будет говорить «в самом большом доме» (очевидно, в городской думе). На митинг, как говорили, пришла «вся Одесса». Но Керенский, по словам очевидца, на этот раз был не в ударе. Да и выбранная им тема – «О русском солдате» – не воодушевила публику. За два с половиной месяца революции шатающиеся по городу беспризорные солдаты порядком всем надоели. Аплодисменты получились холодноватыми. И тут за кафедрой неожиданно оказался Колчак, который произнёс горячую речь о забытом и совершенно забитом русском офицере. Он говорил недолго, но по окончании на него буквально рухнул гром аплодисментов. Все бросились к кафедре, ему пришлось пожимать десятки рук, и в окружении восторженной толпы он прошёл на своё место мимо смущённого министра.[767]
В конце митинга был пущен слух, что Керенский отправится на вокзал. Многочисленные почитатели, осаждавшие городскую думу, хлынули туда. Керенский же с Колчаком вышли через служебную дверь и уехали в порт, где их поджидал миноносец.[768]
Оказавшись наедине с Керенским, Колчак увидел обыкновенного человека с обывательской внешностью, вертевшего в руках смешную свою фуражку, очень бледного, измотанного и усталого. Они проговорили почти всю ночь, с 16 на 17 мая, пока миноносец шёл из Одессы в Севастополь.
Колчак настаивал на том, что дисциплина – это то, на чём держится армия. Без дисциплины армия превращается в вооружённый сброд, опасный не для противника, а для собственных граждан. Поэтому дисциплинарные уставы примерно одинаковы во всех армиях и флотах мира.
Керенский же утверждал, что, помимо дисциплины принуждения, существуют «революционная дисциплина», «партийная дисциплина», основанные на сознательности. Революционеров никто не принуждает, а они идут на смерть, на эшафот и на каторгу.
Колчак возражал, что такая дисциплина «создаётся воспитанием и развитием в себе чувства долга, чувства обязательств по отношению к родине», она, эта дисциплина, «может быть у отдельных лиц, но в массе такой дисциплины не существует, и опираться на такую дисциплину для управления массами нельзя». Каждый остался при своём мнении. Колчак с сожалением отмечал, что Керенский «как-то необыкновенно верил во всемогущество слова».[769]
На палубе «Георгия Победоносца» состоялась торжественная встреча министра. Керенский обошёл строй, подавая руку многим матросам, взобрался на люк (он не мог выступать иначе, как с какого-то возвышения) и произнёс речь: «Позвольте мне в вашем присутствии приветствовать командующего флотом, который, будучи в Петрограде, говорил об организации Черноморского флота, указывая на то единение, которое существует здесь, и на то значение, какое он придаёт организации. Да здравствует ваш командующий флотом, лучший представитель офицерского корпуса! Ура!»
Явившись на заседание ЦВИК, Керенский первым делом произвёл в прапорщики его председателя, вольноопределяющегося Софронова. «Наше отношение к Советам рабочих и солдатских депутатов такое, – сказал он, – что без таких Советов правительство работать не может, но такие организации должны работать в полном контакте с правительством».
Когда же начался разбор спорного дела, Керенский сказал, что Севастопольский ЦВИК – организация государственная, что это лучшая организация фронта и что в этом деле ЦВИК «поднял свой престиж на новую, ещё небывалую высоту». Но существуют пределы, за которые лучше не переходить – лишение свободы может быть произведено только компетентной властью.
Колчак, говоривший после министра, повторил его слова о том, что арест можно производить только с санкции юридической власти. Со свойственной ему откровенностью он сказал, что о деле поставщиков он только что узнал. Левговд, выступивший третьим, настаивал на том, что арест был произведён лишь после того, как ЦВИК убедился «в неприемлемости и непримиримости позиции командующего». Снова взял слово Керенский, заявивший, что деятельность Петрова будет расследована, что ЦВИК по существу был прав, но нарушил порядок, что весь инцидент надо считать мелким недоразумением и по старому русскому обычаю его «забыть».
«Вот видите, адмирал, – сказал после заседания Керенский, – всё улажено, мало ли на что теперь приходится смотреть сквозь пальцы…» Скрепя сердце, понимая, что фактически Керенский ничего не уладил, Колчак согласился остаться на посту командующего.[770] Во всей этой истории Керенский проявил максимум дипломатичности, не очень, очевидно, понимая, что кроме неё нужна ещё воля, нужен характер.
Дело Петрова не принесло выигрыша ни Колчаку, ни Исполкому. Выпустив на волю генерала, ЦВИК создал повод для поношений в свой адрес со стороны митинговых ораторов. Колчак же, недоглядевший за интендантами, а потом вынужденный их защищать, пошатнул свой престиж.
18 мая Колчак отвёз Керенского на миноносце в Одессу, а сам проехал в Николаев, где всё ещё достраивались два дредноута. Рабочие не столько работали, сколько митинговали, и надежд на окончание работ было мало. Хотя один из дредноутов, «Александр III», переименованный в «Волю», был очень близок к достройке и даже укомплектован командой. Колчак лично занимался этим вопросом, стараясь собрать на броненосце наиболее надёжных матросов и в дальнейшем противопоставить его всё более распускавшейся команде «Свободной России» (бывшей «Екатерине Великой»). Но когда чудом достроенный дредноут 15 июня (уже после отставки Колчака) вышел в море, на нём развевалась целая вереница флагов – кроме Андреевского, ещё и красные, чёрные (анархистов) и «жовтно-блакитные» самостийной Украины.[771]
После отмены Босфорской операции военные действия на Чёрном море в значительной мере потеряли свою перспективу. Тем не менее Колчак продолжал выводить флот в море, ибо замечал, что это подтягивает его. «Люди распускаются в спокойной и безопасной обстановке, – писал он Анне Васильевне, – но в серьёзных делах они делаются очень дисциплинированными и послушными».[772]
В апреле-мае флагман Черноморского флота линкор «Свободная Россия» только однажды выходил в море (4–6 мая). Под прикрытием дредноута была произведена воздушная разведка Констанцы. Неожиданно нависший густой и мокрый туман сильно мешал проведению операции. Два самолёта были сбиты, а лётчики, как потом выяснилось, попали в плен.[773] Это была последняя морская операция, которой руководил сам Колчак.
Крейсерская операция у Босфора 11–13 мая, очень смелая по замыслу, закончилась неудачно по воле слепого случая. В ночь с 11 на 12 мая крейсер «Память Меркурия» спустил на воду моторные баркасы, а миноносец «Пронзительный» подвёл их к границе минного поля. Отсюда они собственным ходом, в строе кильватера, вошли в пролив, скрытно поставили мины и вернулись на крейсер. На следующую ночь операция была повторена, но во время постановки мин под одним из баркасов раздался взрыв с пламенем. Потоплен был не только этот баркас, но и находившийся рядом. Погибло 17 человек.[774] Так и не узнали, взорвалась ли свежая мина или ранее поставленная, по какой-то причине всплывшая.
Более успешны были обходы крейсеров и миноносцев вдоль Анатолийского побережья, проведённые 7—11 апреля и 16–17 мая. Отдельные набеги на побережье делали миноносцы. При этом топились все попадавшиеся по пути пароходы, шхуны и фелюги, командам которых не мешали спасаться на шлюпках. Артиллерийским огнём уничтожались расположенные на берегу военные склады, казармы, хранилища с горючим. Иногда завязывалась дуэль с береговыми батареями, которые быстро замолкали.[775]
Подводные лодки, регулярно сменяясь, несли дежурство у Босфора. В поле их зрения неоднократно попадали коммерческие корабли, которые они топили. Иногда приходилось вступать в перестрелку с береговыми батареями. Подлодка «Морж» не вернулась с дежурства. Последний раз она упоминалась в оперативной сводке за 11 мая.[776] Судьба её неизвестна. В письме к Тимирёвой Колчак с огорчением писал о гибели отважных моряков при выполнении задания в Босфоре и на подлодке «Морж».[777]
И всё же военные действия на Чёрном море с мая начали затухать. Всё реже выходили в море линкоры, а также и крейсера. Причин было три: отмена Босфорской операции, убыль людей в отпуска (судовые комитеты стали отпускать матросов, совсем не считаясь с начальством) и общее падение дисциплины. В мае и начале июня в море выходили почти исключительно миноносцы и подлодки. Команды других кораблей целыми днями пропадали на митингах.
Начались недоразумения и на миноносцах. Команда «Жаркого» отказалась выходить в море со своим командиром старшим лейтенантом Г. М. Веселаго. В книге А. П. Платонова присутствует такой пассаж: «Веселаго был умный офицер, но вёл себя по-барски и смотрел на команду свысока, хотя относился к ней снисходительно. Команда, чувствуя его презрительно-снисходительное отношение к ней, невзлюбила его и не могла простить ему того, что после революции он, сохраняя кают-компанию для офицеров, не уступил её команде под читальню».[778]
В действительности это был незаурядно храбрый и предприимчивый офицер, неоднократно по ночам ставивший мины в самом устье Босфора, а днём совершенно сбивавший с толку ловким своим маневрированием неприятельских лётчиков, так что они никак не могли сбросить на него бомбу, а он продолжал выполнять задание по фотографированию берега. Матросские заводилы, натерпевшись страху, захотели установить зенитное орудие. Но это можно было сделать только за счёт одного из минных аппаратов, чему командир решительно воспротивился. Судовой комитет потребовал удалить Веселаго за «излишнюю храбрость». Дело рассматривалось на делегатском собрании, которое постановило просить командующего списать с корабля командира и членов комитета, а команду считать невиновной. Колчак с этим не согласился, приказал поставить «Жаркий» в резерв, спустить на нём флаг, а Веселаго перевёл на другую должность.[779]
Посылка делегации не осталась без последствий для Черноморского флота. Правда, Ленин не приехал, но Балтийский флот отправил в Севастополь ответную делегацию, состоявшую в основном из большевиков и снабжённую солидным грузом большевистской литературы.
23 мая была получена телеграмма об аресте балтийской делегации в Симферополе по распоряжению правительственного комиссара. На митингах ораторы совсем разбушевались, толпа взвинтилась, и власти сочли за лучшее выпустить балтийцев и вернуть им багаж. После этого по требованию матросов был снят контроль в Синельникове и Джанкое, и в Севастополь беспрепятственно хлынули большевистские газеты, анархистская и большевистская литература.[780]
Приезд балтийцев совпал с перевыборами судовых комитетов. Гости разъяснили, что вовсе не обязательно, следуя устаревшим правилам, избирать в них до четверти офицеров – у себя на Балтике они избирают, сколько захотят. В результате резко уменьшилось представительство офицеров. У них отняли руководство культурно-просветительной работой, на кораблях стала свободно ходить большевистская и анархистская литература, приглашались большевистские ораторы и лекторы.[781] После перевыборов судовых комитетов сильно изменился и состав ЦВИК.
Большинство мемуаристов, в том числе и Колчак, объясняют развал Черноморского флота деятельностью заезжих агитаторов. В частности, быстрое ухудшение обстановки в конце мая – начале июня связывается с приездом балтийской делегации и сопровождавших её большевистских пропагандистов. Но делегация состояла всего из пяти человек. Не столь уж много, думается, было приехавших вместе с ней ораторов. Собственные большевистские организации на Черноморском флоте были невелики и по числу членов далеко уступали эсеровским. Развалить такую махину, как Черноморский флот, такому малому числу людей было бы явно не под силу. Видимо, дело было в общей обстановке в стране. В другое время агитатор, едва раскрыв рот, сразу же был бы выдан властям самими матросами.
Происходивший в стране колоссальный развал тоже не был всецело связан с деятельностью большевиков. Не они создали тот острый социально-экономический и политический кризис, который был главной причиной этого развала. Но они, конечно, всячески его подталкивали, стараясь на гребне народных волнений выскочить к власти. В то время в своей тактике, всегда очень переменчивой, они чуть ли не открыто смыкались с анархистами. В своей работе «Государство и революция» Ленин писал, что «все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а её надо разбить, сломать».[782] Слом начинался, естественно, с полиции и вооружённых сил.
У большевиков конечно же не хватило бы собственных сил, чтобы раскачать громадную машину государственной власти. Её стали раскачивать те самые люди, на плечах и спинах которых она покоилась. У всех вышли на первый план собственные интересы, подавлявшиеся прежде могучей волей государства, стали вырываться наружу разного рода межклассовые, межсословные и межнациональные противоречия, которых было предостаточно в старой России и которые раньше государством как-то примирялись, а отчасти загонялись вглубь. Началось, как уже говорилось, соскальзывание к догосударственным отношениям – знаменитая русская «атаманщина» времён смут, так буйно разросшаяся в 1917–1920 годах.
Россия была не самой отсталой и слабой страной, участвовавшей в Первой мировой войне. Но только её поразила эта странная болезнь. В чём же дело? Наверно, в том, что к началу войны не были завершены реформы, которые во время первой революции пошли быстро, а потом замедлились и застряли. Другие причины состояли в крайне неудачной внутренней политике в годы войны и в несвоевременной революции. Наконец, ещё одной причиной стала неопытность людей, вставших у руля государственной власти. Мечтательное толстовство князя Львова, наивная вера Керенского в силу своего ораторского искусства, демократический догматизм меньшевиков и эсеров – отсюда происходило то оцепенение власти, которое напоминало первые времена после принятия христианства князем Владимиром, когда всюду бесчинствовали разбойники, а он боялся нарушить заповеди новой религии, применив силу.
Существует мнение, что Россия в то время уже не могла воевать. Тоже странно: государства куда более экономически слабые всё же довели войну до конца – выиграли или проиграли. К тому же и Россия, заключив сепаратный мир, тут же начала новую войну – внутреннюю, гражданскую, и продолжала её, когда мировая война уже закончилась. С внешним противником воевать сил не было, а на внутреннюю брань хватало? Трудно ответить на этот вопрос, и ответы могут быть разные. Колчак, например, пришёл к выводу, что причина охватившего фронт и тыл развала – бездействие власти. И, как кажется, такая точка зрения имеет под собой основания.
В последние недели своего пребывания на посту командующего Колчак уже не ждал и не получал от правительства никакой помощи. Все проблемы приходилось решать, исходя из собственных возможностей. Так, например, растущий некомплект команд можно было восполнить только за счёт больших кораблей, неделями и месяцами стоявших на якорях. Первым был отведён в резерв старый броненосец «Три Святителя», команда которого к тому же отличалась большой распущенностью. Она стала рассылаться по мелким судам, проводившим большую работу и базировавшимся не только в Севастополе, но и в Одессе, Батуме и других гаванях.
Эта мера вызвала недовольство подлежащей расформированию команды. ЦВИК стал за неё заступаться. Начались нападки на начальника Штаба Смирнова и на самого Колчака. Ораторы на митингах кричали, что он крупный помещик, наживающийся на поставках для армии, а потому хочет продолжать войну без конца. Колчак, присутствовавший на одном таком митинге, потребовал слова и объяснил, что всё его имущество состоит из тех чемоданов с бельём, которые его жена успела захватить с собой, когда оставлялась Либава.[783] Это произвело впечатление, но не мог же он присутствовать на всех митингах.
Затем пронёсся слух, что офицеры тайно собираются и что-то затевают. На митинге, состоявшемся 3 июня во дворе полуэкипажа, эта тема обсуждалась с 3 часов дня до 11 часов вечера. (В действительности Союз офицеров и врачей Черноморского флота высказывался за демократическую республику и выражал поддержку Временному правительству, но требовал приостановить реформы, принимаемые под давлением «малосознательной массы матросов», и восстановить единоначалие во флоте.)[784]
5 июня был новый митинг, на котором горячо обсуждался вопрос об одном офицере, который выругался, когда при смене караула ему не отдали честь. Постановили арестовать этого офицера, а заодно и ещё троих. А кроме того, решили отнять оружие у всех офицеров, огнестрельное и холодное. Митинг закончился в 12 часов ночи.
Экстренное делегатское собрание на следующий день приняло постановление о сдаче оружия офицерами. В судовые и полковые комитеты сразу же была послана соответствующая телефонограмма. Затем встал вопрос о Колчаке и Смирнове. Большинство ораторов настаивало на их аресте. Этого же требовали на митинге, который с утра шумел в полуэкипаже. Делегатское собрание после долгих словопрений постановило отстранить обоих от должности. «Мы признаём мировую известность и колоссальные военные заслуги нашего адмирала, – говорил один из делегатов, – но он всё-таки не нужен. Нам нужен прапорщик, который командовал бы флотом и исполнял все наши требования». Вопрос же об аресте решили передать на рассмотрение судовых комитетов. Командующим избрали адмирала Лукина и для работы с ним назначили комиссию из 10 человек.[785]
Во избежание кровопролития Колчак призвал офицеров без сопротивления сдать оружие. Разоружение прошло более или менее спокойно, хотя один офицер в знак протеста застрелился.
Должен был сдать личное оружие и Колчак. Когда пришло это время, он собрал на палубе команду «Георгия Победоносца» и произнёс речь. Он сказал, что офицеры всегда хранили верность правительству, выполняли его приказания, а потому разоружение является тяжким и незаслуженным для них оскорблением, которое он не может не принять и на свой счёт. «С этого момента я командовать вами не желаю и сейчас же об этом телеграфирую правительству», – с этими словами он спустился в свою каюту.
Это был критический момент. Из речи Колчака судовой комитет понял, что командующий сдавать оружие не собирается. Смирнов, обеспокоенный за его жизнь, связался со Ставкой и попросил Бубнова устроить срочный вызов для Колчака в Могилёв или Петроград. Бубнов тотчас же позвонил в Петроград, но Керенского на месте не оказалось.
Между тем Колчак, в состоянии крайнего возбуждения, ходил из угла в угол своей каюты, обдумывая решение. Наконец, он взял свою золотую саблю, пожалованную за Порт-Артур, выбежал вверх и крикнул слонявшимся по палубе матросам: «Японцы, наши враги – и те оставили мне оружие. Не достанется оно и вам!» С этими словами он швырнул саблю в море и вернулся в каюту.
Получилось так, что Колчак оказался единственным из офицеров (кроме застрелившегося), кто не сдал оружие, да ещё в такой демонстративной, запоминающейся форме. От имени всех офицеров он ответил на оскорбление достойным жестом и вызвал огонь на себя. Это было в его духе. Но Смирнов опять побежал связываться со Ставкой. Он сообщил Бубнову, что настроение матросов стало угрожающим и в любой момент может произойти непоправимое. Керенского всё ещё не было на месте, и Бубнов взял на себя смелость послать вызов от его имени.
Тем временем Колчак послал Керенскому телеграмму о том, что на флоте произошёл бунт и в создавшейся обстановке он не находит возможным оставаться на посту командующего и сдаёт свой пост старшему после себя адмиралу. Он вызвал командующего бригадой броненосцев контр-адмирала В. К. Лукина и предложил ему вступить в командование флотом.
Явилась делегация от Исполкома, которая сообщила, что он отстраняется от должности – так же, как и начальник Штаба Смирнов. Колчак, уже вышедший из возбуждённого состояния, ответил, что он уже сдал командование. Делегация потребовала передать ей «секретные документы». Колчак сказал, что передача документов – дело не одного дня, а сейчас он едет к себе домой.
На городской квартире, в кругу семьи, его тоже не оставили в покое: делегаты от Исполкома опять спрашивали «секретные документы», сделали обыск в кабинете, ничего не нашли и удалились. Вскоре пришёл Смирнов. По-видимому, он принёс известие о получении вызова. А потом прибежал флаг-офицер, доложивший, что будто бы состоялось постановление Исполкома об аресте бывшего командующего. Тогда Колчак поехал ночевать на корабль. Он не хотел, чтобы его арестовали на глазах жены и сына.
В своей каюте на штабном корабле Колчак, как ни странно, быстро заснул. Однако в третьем часу ночи его разбудил флаг-офицер. Пришла телеграмма от Временного правительства – длинная, многословная, составленная либо Керенским, либо кем-то из его штата:
«Временное правительство требует: первое, немедленного подчинения Черноморского флота законной власти; второе, приказывает адмиралу Колчаку и капитану Смирнову, допустившим явный бунт, немедленно выехать в Петроград для личного доклада; третье, временное командование Черноморским флотом принять адмиралу Лукину с возложением обязанности начальника Штаба временно на лицо по его усмотрению; четвёртое, адмиралу Лукину немедленно выполнить непреклонную волю Временного правительства: всеми мерами водворить в Чёрном море порядок, подчинение закону и воинскому долгу, возвратить оружие офицерам в день получения сего повеления, восстановить деятельность должностных лиц и комитетов в законных формах, чинов, которые осмелятся не подчиниться сему повелению, немедленно арестовать как изменников отечеству и революции и предать суду; об исполнении сего телеграфно донести в 24 часа, напомнить командам, что до сих пор Черноморский флот почитался всей страной оплотом свободы и революции.
Министр-председатель князь Львов,
Минмор Керенский».
Документ был датирован уже новым днём – 7 июня.
Колчак, как вспоминал Смирнов, был глубоко оскорблён этой телеграммой: командующего флотом обвинили в допущении бунта, тогда как само правительство всё время попустительствовало своеволию матросов.
Днём 7 июня обстановка разрядилась. Исполком, видимо, понял, что несколько зарвался. Председатель Исполкома отбил в адрес правительства бодрую телеграмму: в Севастополе не было никакого бунта, а вышло лишь «недоразумение». Постановлением о сдаче оружия офицерами, говорилось в телеграмме, Исполком предотвратил массовые обыски. Резолюция об аресте Колчака была принята на митинге, но Исполком её не поддержал.
Офицерам в тот же день возвратили оружие. Кстати, выяснилось, что из всех судовых и полковых комитетов за арест Колчака высказалось только четыре, а против – 68. За арест Смирнова – соответственно 7 и 50. Колчак, следовательно, продолжал пользоваться доверием флота и гарнизона, и покинуть Черноморский флот его вынудила только растущая «атаманщина», бороться против которой он, по существу, был лишён возможности.
В этот день в Севастополь приехала миссия американского контр-адмирала Дж. Гленнона, предполагавшая позаимствовать опыт борьбы с подводными лодками. Колчак не принял миссию, заявив, что он уже не командующий. Американцы посетили несколько кораблей, поняли, что в Севастополе им делать нечего, и собрались обратно.[786]
Вечером 7 июня Колчак и Смирнов выехали в Петроград. Провожать их на вокзал пришла группа флотских офицеров, по-видимому, не очень большая. Многие, как видно, просто побоялись проводить адмирала, в критический момент заслонившего их своей грудью.
Колчак, конечно, знал, что покидает Чёрное море надолго, если не навсегда. Почему он оставил в Севастополе жену и сына? Потому, что считал революционный Петроград самым опасным местом в России и, видимо, надеялся впоследствии переправить их в какой-нибудь тихий город. И в самом деле, неизвестно, что приключилось бы с ними, если бы они остались в Петрограде, а он уехал.
Поезд отошёл от перрона и вскоре нырнул в тоннель. Прощай, Севастополь! Если бы Колчак знал своё будущее, он бы добавил: «Прощай, семья!»
А в поезде, немного остыв от борьбы и слегка отстранившись от недавних событий, он понял истинное их значение.
Флот рухнул. Прахом пошла многолетняя работа по его воссозданию и усилению. Это было всё равно, что вновь пережить падение Порт-Артура. Проиграна ещё одна битва с Судьбой.
Вскоре после отъезда Колчака, 12 июня, в море вновь появился «Бреслау», разгромивший маяк и радиостанцию на острове Фидониси и взявший в плен его небольшой гарнизон.[787]
Время скитаний
6 апреля (по-старому – 24 марта) 1917 года США вступили в войну на стороне Антанты. Вскоре после этого (в мае) американское правительство направило в Петроград специальную миссию во главе с сенатором И. Рутом, которая должна была провести переговоры с Временным правительством о координации действий, а заодно – выяснить обстановку в России после падения самодержавия. В состав делегации входил контр-адмирал Джеймс Гленнон с группой своих советников. В июне, как уже говорилось, американские морские офицеры побывали в Севастополе. В Петроград они возвращались в одном поезде с Колчаком и Смирновым. Теперь нашлось время познакомиться и побеседовать.[788]
По прибытии в Петроград, 10 июня, Колчак на какое-то время забыл об американцах. Доклад Временному правительству о севастопольских событиях был назначен на 13 июня. Однако ранее адмирал в беседе с журналистами рассказал о причинах, заставивших его покинуть Черноморский флот. Всех последствий этой беседы он, как видно, не ожидал. 13 июня петроградская «Маленькая газета», называвшая себя «газетой внепартийных социалистов» и издававшаяся А. А. Сувориным, поместила на первой странице воззвание, напечатанное крупным шрифтом:
«Россия, у тебя украли армию. Её знамёнами хлещут по щекам, а Временное правительство воображает, что его от мух обмахивают!.. Князь Львов превосходный председатель Совета министров для мирного времени, но бедственно слаб для времени нынешнего…
Пусть все, сердце которых жжёт боль об армии, будут с красной лентой завтра на улицах!! Собирайтесь в демонстрациях, боритесь за вашу армию!
Мы не хотим диктатора, но для победы нужна железная рука, которая держала бы оружие государства, как грозный меч, а не как кухонную швабру… Пусть князь Львов уступит место председателя в кабинете адмиралу Колчаку. Это будет министерство Победы. Колчак сумеет грозно поднять русское оружие над головой немца, и кончится война! Настанет долгожданный мир!»
На второй странице было помещено интервью Колчака о севастопольских событиях.
Конечно, Колчак не имел отношения к призывам выйти на улицы с «красными ленточками». Но понятно, с каким недоверием встретили его министры, собравшиеся на заседание в тот же день поздно вечером. Прежде чем предоставить слово Колчаку, князь Львов предложил рассмотреть вопрос о помещённом в «Маленькой газете» воззвании «неизвестной организации» с призывом к демонстрации и с требованием свержения правительства. Было решено опубликовать в газетах обращение к населению. «Правительство, – говорилось в нём, – твёрдо решило оказать отпор всеми силами государственной власти попыткам подобного рода, ведущим к гражданской войне, каковы бы ни были внешние предлоги и мотивы, выставляемые при этом». Против «Маленькой газеты» было начато судебное преследование.
Колчак выступал в самом конце затянувшегося за полночь заседания. Подробно рассказав об обстоятельствах дела, он нелицеприятно заявил, что виной всему этому – политика правительства, которое поставило командование «в совершенно бесправное и беспомощное положение». Вслед за Колчаком в этом же духе выступил и Смирнов. Правительство выслушало доклады в глубоком молчании и постановило отложить их обсуждение «впредь до получения подробных и всесторонних данных от комиссии, посланной на место для расследования означенных событий».[789] В Севастополь была направлена комиссия во главе с известным адвокатом, ближайшим сподвижником Керенского А. С. Зарудным.
Колчак, поселившийся на частной квартире, стал ожидать возвращения этой комиссии, мало обращая внимания на поднятый вокруг его имени шум. (14 июня, в связи с выступлением «Маленькой газеты», его имя склонялось на заседании Петроградского совета.[790])
Дня через два или три после заседания правительства Колчака разыскал лейтенант Д. Н. Фёдоров, прикомандированный к американской миссии. Адмирал Гленнон, как оказалось, просил о встрече. Она состоялась 17 июня в бывших императорских покоях Зимнего дворца, где гостеприимное Временное правительство разместило американскую миссию. Её глава, сенатор Рут, в прошлом – военный министр и государственный секретарь, тоже участвовал в разговоре.
Американское правительство, сказал Гленнон, интересуется накопленным русским флотом опытом по минному делу, а также способами борьбы с подводными лодками. К сожалению, изучить на месте все эти вопросы не удалось, и миссия на днях уезжает. А кроме того, продолжал Гленнон, понизив голос, в американском флоте вынашиваются планы пробить морское сообщение с Россией через Босфор и Дарданеллы. Не мог ли бы русский адмирал, недавно вернувшийся с Чёрного моря, помочь в этих делах? По существу, речь зашла о прямом участии в боевых действиях американского флота в Дарданеллах. Колчак это понял и дал согласие. Прощаясь, Гленнон просил никому не сообщать о планируемой операции, даже своему правительству – официальной целью ходатайства американской миссии о командировании в США Колчака с группой офицеров-специалистов будет передача опыта минной войны и борьбы с подводными лодками. «Итак, я оказался в положении, близком к кондотьеру, предложившему чужой стране свой военный опыт, знания и, в случае надобности, голову и жизнь в придачу… Мне нет места здесь – во время великой войны, и я хочу служить родине своей так, как я могу, т. е. принимая участие в войне, а не в пошлой болтовне, которой все заняты», – писал Колчак Анне Васильевне. К горькому чувству, высказанному в письме, примешивалось и удивление: «Я не ожидал, что за границей я имею ценность, большую, чем мог предполагать».[791]
Запрос от американской миссии был послан. Ответ же пришлось ждать около полумесяца. Колчак находился в положении своего рода подследственного по делу о черноморских событиях. Наконец, в конце июня вернулась комиссия Зарудного. Встретившись с Колчаком, он философски заметил, что вся эта история, на фоне разворачивающихся великих событий, ничего не стоит. Гораздо важнее сам факт ухода Колчака с поста командующего. Между тем матросы против него ничего не имеют. И возможно, – тут Зарудный совсем увлёкся, – от него потребуется «героическое самопожертвование», чтобы вернуться к командованию флотом. Выслушав эту риторику, Колчак ответил, что не видит никакого героизма в том, чтобы идти на поводу у матросов. Неизвестно, говорил ли он с Зарудным о единственном условии, при котором он мог бы вернуться к командованию. В письме к Тимирёвой он не раскрывает его суть, но ясно, что имелось в виду решительное подтягивание дисциплины.[792]
Вскоре после этой беседы, 28 июня, состоялось заседание правительства, на котором в качестве товарища министра юстиции присутствовал и Зарудный. На повестке дня стоял один вопрос – о командировании в Америку специальной морской миссии во главе с Колчаком. Заседание почему-то затянулось – с 21 часа 30 минут до половины первого. Возможно, Зарудный докладывал о работе своей комиссии и о разговоре с Колчаком. Однако вопрос был решён положительно: «Командировать в Америку, во исполнение просьбы правительства Северо-Американских Соединённых Штатов, для сообщения флоту республики данных опыта по ведению морской войны, специальную морскую миссию в составе вице-адмирала Колчака и трёх офицеров, по выбору Морского министерства».[793] Теперь предстояла нелёгкая задача согласовать с Керенским состав делегации, который Колчак уже давно наметил.
Керенский вёл неупорядоченный образ жизни, мотался с фронта на фронт, с митинга на митинг, с заседания на заседание, а в двух министерствах, которые он возглавлял, накапливались нерешённые дела, часами и днями сидели просители. Иногда министра вдруг осеняла мысль перевалить дело одних просителей, например, делегации пожилых солдат, на другого просителя, например, на Колчака. Не имея никаких полномочий, адмирал разбирался в солдатском деле, потом ловил министра, чтобы доложить, а тот решал всё по-своему. Ближе приглядевшись к Керенскому, Колчак подметил в нём склонность к формализму и равнодушие к людям. Заметно было и то, что отношение Керенского к Колчаку заметно изменилось после того, как он перестал быть командующим флотом. Лишь в начале июля, поймав Керенского в поезде и проехав с ним несколько остановок, Колчак смог доложить о русской военно-морской миссии в Америку и получить необходимые подписи.[794] После этого оставалось только одно – согласовать с англичанами маршрут русской миссии. Но теперь Колчак, возможно, уже сам начал несколько задерживать это дело.
В Петрограде Колчак встречался с многими бывшими своими сослуживцами. Некоторые из них, как и он сам, были не у дел. Другие кое-как держались во флоте, пока ещё не изгнанные и не убитые. Среди офицерства зрел протест – против униженного своего положения, против правительства, не способного установить элементарный порядок в армии, во флоте, в стране, против антивоенной пропаганды во время войны, «братаний» на фронте и вольных или невольных попыток левых партий толкнуть Россию в объятия кайзеровской Германии. В Петрограде возник ряд офицерских организаций: «Военная лига», «Союз георгиевских кавалеров», «Союз воинского долга», «Союз чести Родины», «Союз спасения Родины», «Общество 1914 года» и др…[795]
Правда, все эти общества и союзы были довольно немногочисленны.
От Временного правительства отшатнулись почти все либеральные партии, в том числе главная из них – кадетская. Они требовали, чтобы правительство решительно порвало со своей зависимостью от Советов и разного рода революционных комитетов. Но это можно было сделать, только опираясь на какую-то другую силу. И взоры либеральных деятелей обращались в сторону армии, прежде всего – в сторону офицерского корпуса.
Растущий в стране хаос беспокоил и предпринимательские круги.
Вскоре после приезда Колчака в Петроград к нему обратился инженер К. В. Николаевский, директор Бессарабской железной дороги. Акционерное общество, владевшее дорогой, имело штаб-квартиру на Невском, 106 (большое пятиэтажное здание в стиле «смелой эклектики», недалеко от Московского вокзала). С мая 1917 года там разместился и созданный при его содействии «Республиканский центр», финансировавшийся правлением дороги, а также некоторыми столичными банками. Официальной целью его было обеспечение общественной поддержки Временному правительству. Постепенно, однако, «Центр» начинал от него отходить.[796] «Республиканский центр» требовал установления в стране сильной власти и водворения порядка, восстановления дисциплины в армии, запрещения деятельности большевиков и анархистов, подобно тому, как была прекращена деятельность монархистов, а также, ввиду «большого общественного значения» Совета и его Исполкома, проверить правильность их избрания – «русскому обществу необходимо быть уверенным, что… случайности избрания, бывшие в дни революции, уже отпали».[797]
В рамках «Республиканского центра» возник военный отдел. Николаевский, явившийся к Колчаку, предложил ему возглавить этот отдел.
Колчак, призывавший когда-то к поддержке Временного правительства, теперь окончательно в нём разочаровался. Он был убеждён, что оно имело достаточно сил, чтобы остановить сползание к хаосу, но не хотело этого делать, надеясь со всеми договориться и запутавшись в уступках и компромиссах. Особое раздражение теперь вызывал у него Керенский.
Колчак согласился стать во главе военного отдела. Он несколько раз бывал на заседаниях «Центра».[798] Как и другие члены этой организации, он не задавался реставраторскими целями. Главное, чего он хотел, – это остановить развитие революции и расползание хаоса. Именно в этом смысле можно сказать, что он стоял на контрреволюционных позициях.
Ближайшую свою задачу Колчак видел в том, чтобы по возможности стянуть воедино разрозненные офицерские кружки и наладить их взаимодействие. Он встречался с многими офицерами и, наверно, именно тогда познакомился с полковником А. И. Дутовым, который был на пять лет его моложе и возглавлял в то время «Совет Всероссийского союза казачьих войск». Дутов не раз бывал на Невском, 106.[799]
В это же время в Ставке возник «Союз офицеров армии и флота». Члены его Главного комитета побывали в Петрограде, встретились с Колчаком, поднесли ему саблю, взамен выброшенной в море, с надписью: «Рыцарю чести от Союза офицеров армии и флота».
Председатель Главного комитета подполковник Л. Н. Новосильцев, член Государственной думы, побывал у Колчака с частным визитом. Адмирал сказал, что скоро ему придётся уезжать в Америку, но поинтересовался, «что, собственно, сделано – какие планы». Гостю пришлось признать, «что серьёзного пока ничего не готово, что скоро ничего ожидать нельзя». Колчак с сожалением вздохнул, заметив между прочим, что, если было бы «что-нибудь серьёзное, а не легкомысленная авантюра», он бы и не поехал, а мог бы, в случае надобности, перейти и на нелегальное положение.[800]
В своих знаменитых «Очерках русской смуты» генерал А. И. Деникин впоследствии писал: «Страна искала имя». Сначала надежды офицерства и либеральной интеллигенции связывались с именем М. В. Алексеева. Были уверены, что этот мудрый человек «не наломает дров». Хотя знали и другое: расчётливый и трудолюбивый стратег, он не рождён с сердцем льва и никогда не бросится на добычу крупнее себя. Он всё же более годился для вторых ролей – при Николае II или Керенском, хотя часто с ними бранился. Когда же в мае Алексеев был смещён с поста верховного главнокомандующего, связанные с ним надежды совсем погасли.
После севастопольских событий, как мы знаем, заговорили о Колчаке. Но у него был один крупный недостаток – он оказался не у дел. В его непосредственном подчинении теперь не было вооружённой силы.
В противовес Петрограду Москва начала «раскручивать» генерала Корнилова. Он был не так интеллигентен, как Колчак, немного даже диковат, но в его руках была реальная сила. 7 июля, когда окончательно выявился провал летнего наступления, он был назначен командующим Юго-Западным фронтом, а через 12 дней занял пост Верховного главнокомандующего, заявив, что отныне он отвечает лишь «перед собственной совестью и всем народом». Теперь, писал Деникин, «искания прекратились», и взоры всех, кто желал твёрдой власти, обратились в сторону Корнилова.[801]
Колчак не рвался к власти и не соперничал с Корниловым. Наоборот, он высоко ценил талантливого и смелого генерала. «В эти несчастные дни гибели русской государственности, – писал он позднее, – на политической арене появились две крупные фигуры – своего рода символы: один государственной гибели, а другой – попытки спасти государство: я говорю о Керенском и генерале Корнилове».[802] В свою очередь и Корнилов считал Колчака своим сторонником и собирался включить его в состав своего правительства.[803]
В конце июня из Ревеля на несколько дней приехала Анна Васильевна. 26 июня они побывали в известном литературно-артистическом кабаре «Привал комедиантов» (в архиве сохранилась программа концерта, который давался в этот день).[804]
«Привал комедиантов» размещался в подвале одного из домов на Марсовом поле. Постоянный посетитель этого заведения, поэт Георгий Иванов вспоминал, что видел там за одним столиком Колчака, Савинкова и Троцкого.[805] «Петербургские зимы» Г. В. Иванова – не самый надёжный мемуарный источник. Сам поэт говорил, что там 75 процентов выдумки и лишь 25 процентов правды. Иванов, наверно, видел там всех троих и мысленно усадил их за один стол. Впрочем, с Б. В. Савинковым, в прошлом – известным эсеровским террористом, Колчак где-то всё же познакомился. Савинков в то время придерживался разумных, патриотических взглядов, а в дальнейшем стал одним из немногих эсеров, признавших правительство Колчака. В свою очередь Колчак, к удивлению многих, включил его в русскую делегацию, сформированную для участия в мирных переговорах в Париже.[806] С Троцким Колчак скорее всего не был знаком.
Этим же летом, как писал Деникин, Колчак вёл «доверительные разговоры» с лидером кадетов П. Н. Милюковым.[807] Но это происходило, конечно, не в «Привале комедиантов». Милюков был слишком положительным человеком, чтобы ходить в кабаре. Колчак искал место в политике – своё и своих сторонников.
И всё же не эти переговоры были для Колчака главным содержанием тех дней конца июня. Главное – это были встречи, беседы, прогулки с Анной Васильевной. Кто бы мог подумать: в 1917 году… тоже были белые ночи! И прогулки затягивались едва ли не до утра. Чёрная кошка, пробежавшая между ними в апреле, теперь бегала где-то в другом месте. Они гуляли, словно молодые. Словно не был он адмиралом, а она – женой адмирала (другого). В романтической дымке белых ночей запомнилось Колчаку его последнее петербургское лето.[808]
Вскоре после отъезда Анны Васильевны произошли известные июльские события в Петрограде.
3 июля солдаты 1-го пулемётного полка потребовали «убрать» Временное правительство и передать власть Советам. На следующий день к ним присоединились ещё несколько полков, а также рабочие некоторых заводов. Из Кронштадта высадился морской десант. Говорили, что была неудачная попытка арестовать Временное правительство. Львов с несколькими министрами перешёл в штаб округа (на Дворцовой площади). Вооружённые демонстранты ворвались в Таврический дворец, где заседал ЦИК Советов, образованный после I Всероссийского съезда Советов, потребовали прекратить «сделки с буржуазией», схватили за грудки лидера эсеров В. М. Чернова. «Мужицкого министра» спасло только вмешательство Троцкого, который призвал матросов не отвлекаться от главного дела «насилиями над отдельными случайными людьми».
Многие считали, что мятеж был подготовлен большевиками. Скорее всего это было стихийное выступление, являвшееся показателем очередной стадии разложения петроградского гарнизона. Правда, большевистское руководство с трудом устояло перед соблазном: «А не попробовать ли сейчас?» Но возникли серьёзные сомнения: провинция вряд ли поддержит, фронт – тоже, да и в столичном гарнизоне не было единства и кое-где уже начинались столкновения между различными частями. Решили возглавить движение, придав ему характер мирной демонстрации. Но как можно было этого добиться, имея дело с толпами вооружённых людей, отвыкших от подчинения? Большевики затягивались в это движение, волей-неволей становились его участниками и ставили под удар свою партию.
Поскольку ЦИК и Петросовет не поддержали выступление, у Временного правительства были развязаны руки. С фронта были вызваны надёжные части, в том числе казачьи. Колчак, находившийся в это время в Петрограде, обратил внимание на то, что вошедшие в город войска, особенно кавалерия, имели вполне боевой вид. Нескольких столкновений было достаточно, чтобы рассеять мятежников. Матросы перепились, произвели разгром и отбыли в Кронштадт.
Июльские события укрепили Колчака в мысли, что правительство давно могло бы навести порядок в столице, если бы захотело. Да и на сей раз плоды победы были плохо использованы. Ленин успел сбежать. Троцкого арестовали, но выпустили, как и других лиц, причастных к мятежу.[809]
7 июля министр-председатель князь Львов ушёл в отставку. Его место занял Керенский, сохранив за собой должности военного и морского министра. Всеми силами он старался показать, что он и есть та самая «сильная личность», о которой многие мечтают. Мятежный Кронштадт на некоторое время был приведён в подчинение. На фронте была восстановлена смертная казнь и созданы военно-революционные суды.
Решительную борьбу повёл новый премьер со своими противниками справа. Колчак был у него на плохом счету. Штаб-ротмистр князь П. М. Авалов, встречавшийся с адмиралом, вспоминал, что у подъезда его квартиры крутились какие-то подозрительные типы. В конце концов Колчаку пришлось оставить эту квартиру и переехать за город, на дачу сестры.[810]
М. И. Смирнов писал, что Керенскому удалось раскрыть «нашу организацию»,[811] то есть военный отдел «Республиканского центра». Но, как всё же кажется, последней каплей, переполнившей чашу терпения присяжного поверенного, была встреча Колчака с генералом В. И. Гурко. Сын прославленного военачальника, героя Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, он некоторое время исполнял обязанности начальника Штаба Ставки, когда Алексеев лечился в Крыму, командовал Западным фронтом (после Эверта) и, не поладив с Керенским, ушёл в отставку. Приехав на несколько дней в Петроград, разыскал Колчака и встретился с ним. Они говорили о положении в армии. Гость высказал надежду, что Корнилову удастся восстановить её боеспособность. На другой день Колчак хотел отдать визит, приехал к Гурко на квартиру и узнал, что он арестован по обвинению в недозволенной переписке с низложенным императором.[812]
21 июля Колчак получил срочную телеграмму от Керенского: «Предлагаю Вам, с чинами вверенной Вам миссии, в кратчайший срок отбыть к месту назначения – САСШ [Северо-Американские Соединённые Штаты – так в те времена в России именовали США. – 77.3.], донеся предварительно о причинах столь долгой задержки отъезда».[813]
Если бы Колчак чистосердечно сообщил Керенскому о причинах задержки, он, не исключено, оказался бы в Петропавловской крепости по соседству с Гурко. Позднее, будучи уже за океаном, он писал Анне Васильевне: «…Моё пребывание в Америке есть форма политической ссылки, и вряд ли моё появление в России будет приятно некоторым лицам из состава настоящего правительства».[814] А спутникам своим он говорил, что уезжать ему вовсе не хотелось и что Керенский, воспользовавшись приглашением американцев, по сути дела, заставил его покинуть Россию.[815]
* * *
Русская военно-морская миссия выехала из Петрограда 27 июля 1917 года. Кроме Колчака, в её состав входили: капитан 1-го ранга М. И. Смирнов, капитан 2-го ранга Д. Б. Колечицкий (артиллерист), старший лейтенант В. В. Безуар (минёр), лейтенант И. Э. Вуич (специалист по торпедам) и лейтенант А. М. Мезенцев (связист).[816]
Выезжали с Финляндского вокзала, ехали по железной дороге вокруг Ботнического залива, по территории Финляндии и Швеции и наконец добрались до норвежского Бергена. Это путешествие Колчак проделал под чужой фамилией, чтобы не навести на себя немецкую разведку, которая могла им заинтересоваться. В Бергене около суток ожидали парохода, который забрал русскую миссию и под конвоем миноносцев доставил в шотландский порт Абердин. 4 августа Колчак писал Анне Васильевне: «Третий день, как я в Лондоне».
В английской столице русская миссия была встречена тепло и радушно. Колчака представили первому лорду Адмиралтейства адмиралу Джону Джеллико. Это был боевой адмирал, командовавший английским Большим флотом в Ютландском бою 31 мая– 1 июня 1916 года (н. ст.), самом значительном морском сражении Первой мировой войны. Многие люди, видевшие двух адмиралов, отмечали их удивительную схожесть: не только во внешнем облике «химеры», но и в манере держаться и говорить. Хотя Джеллико был старше Колчака на 15 лет.
Беседа с Джеллико продолжалась более часа. Лорд достал самые секретные карты минных полей Северного моря и Ла-Манша, и они обсуждали проблемы их эффективности. Под конец разговор зашёл о морской авиации, и Колчак выразил желание принять участие в одной из воздушных операций. Джеллико вызвал начальника морской авиации адмирала Пенна и изложил ему просьбу русского гостя. «Да, сэр», – коротко ответил Пенн, а у Колчака спросил, какого рода операции его более интересуют – против подводных лодок или цеппелинов. Колчак выбрал первое.[817]
Наутро Колчак был на авиационной базе Феликстоу недалеко от Лондона. Он испытал некоторое разочарование, узнав, что незадолго до его приезда уже отправились на задание три летательных аппарата, однотипных тому, на котором ему предстояло лететь. Это была мера предосторожности, предпринятая англичанами, о чём они не предупредили Колчака. И это означало, что встречи с противником не будет. Ибо, завидев эти новейшие английские бипланы, немецкие цеппелины круто сворачивали в сторону, а подводные лодки прятались на глубину.
Самолёт, на котором Колчаку предложено было сделать полёт в качестве одного из членов экипажа, имел два мотора и был вооружён пятью 8-пудовыми бомбами и четырьмя пулемётами. Судя по всему, это была «летающая лодка» «Феликстоу F-2», выпуска 1917 года, с экипажем из четырёх человек и максимальной скоростью 150 км/ч. По тем временам это была грозная боевая машина. Из письма Колчака остаётся неясно, какой вариант машины был ему предложен – с открытой или закрытой кабиной.
После того как русскому адмиралу показали, как обращаться с аппаратом для прицельного бомбометания и пулемётом Льюис, две «летающие лодки» поднялись в воздух. Быстро скрылся из виду английский берег. Внизу расстилалось пустынное сине-голубоватое Северное море с мглистым, в любую погоду, горизонтом. На отмелях, близ голландского берега, Колчак заметил всплывшую мину. В письме к Анне Васильевне он отметил, что с высоты 500 метров такая мина «производит другое впечатление, чем когда проходит по борту миноносца».
Как и ожидалось, поиски противника были тщетны. Только в одном месте Колчак заметил на светлом неглубоком дне какой-то тёмный силуэт. Снизились, осмотрели и не стали бомбить это пятно, по форме напоминавшее затонувший корабль, но никак не подводную лодку.
И всё же полёт произвёл на Колчака огромное впечатление. «Англичане действительно владеют морем не только на поверхности, но и в воздушном районе над этим морем, – писал он, – и немцы только неожиданно могут совершить воздушные рейды… Надо видеть средства, которыми они располагают, чтобы понять, что такое господство над морем или воздухом, и почувствовать, как далеки мы от этого. Надо испытать то чувство уверенности в силе, желание встречи с противником, которое является, когда имеешь действительно совершенное оружие, качественно и количественно превосходящее таковое же у противника. Первый раз на воздухе я испытал это чувство и вспомнил свой флот, свою авиацию, и невесело сделалось на душе… А ведь всё это могло бы быть и у нас, но… лучше не говорить на эту тему».[818]
В те дни, когда Колчак находился в Англии, на рейде главной базы британского флота Скапа-Флоу взорвался линейный корабль «Вангард». Происшествие было тем более ужасным, что, в отличие от взрыва на «Императрице Марии», произошла общая детонация всех боеприпасов, и из экипажа, насчитывавшего 1100 человек, спаслось только двое матросов. Колчак высказывал предположение, что, как и на «Марии», «дело лежит в каких-то внутренних изменениях пороха».[819] Как бы то ни было, этот случай ещё раз показал, насколько уязвимы эти морские гиганты, несмотря на свой грозный вид.
Несколько раз Колчак встречался с генералом Холлом, начальником английского Морского генерального штаба. С ним решался вопрос о переезде в Америку. Все пароходы были страшно забиты, и ждать пришлось две недели. Однажды речь зашла об обстановке в России. «Что же делать, – сказал генерал, – революция и война вещи несовместимые, но я верю, что Россия переживёт этот кризис, но вас спасти может только военная диктатура, так как, если дело будет и впредь так продолжаться, то вы вынуждены будете примириться с немцами и попасть в их лапы».[820]
В одном из писем к Тимирёвой Колчак сообщал, что он побывал «в обществе весьма серьёзных людей», где говорил «о великой военной идее, о её вечном значении, о бессилии идеологии социализма в сравнении с этой вечной истиной, истиной борьбы… о вытекающих из неё самопожертвовании, презрении к жизни во имя великого дела, о конечной цели жизни – славе военной, ореоле выполненного обязательства и долга перед своей Родиной». Эти свои взгляды он открыто называл «апологией войны», не скрывая и того, что война «суть область страданий и лишений физических и моральных». Кто-то из собеседников спросил: «Находите ли Вы компенсацию за всё это или Вы чувствуете горечь разочарования в Вашем служении военной идее и войне?» Колчак отвечал, что «служение идее никогда не даёт конечного удовлетворения». Анне Васильевне же он писал, что встреча с ней – это та награда, которую дала ему война «за всю тяжесть, за все страдания, за все горести, с ней связанные».[821]
Сопоставляя этот фрагмент с другими, ему подобными (их много), с упоминавшимся приказом по флоту, можно было бы подумать, что у адмирала появилось нечто вроде «пунктика», навязчивой идеи в этом воспевании войны. Колчак как бы поддался царившей в России горячке – только наоборот. Когда все твердили: «Мир, мир!» – он с не меньшим жаром упорствовал: «Нет, война, война!»
Но это, похоже, лишь внешнее выражение тех идей, которые окончательно сложились у него в годы войны. Он видел, что окружающий мир – не аркадская идиллия. Он наполнен борьбой – и не столько, как считал Колчак, между классами и сословиями внутри одного народа, сколько между народами, цивилизациями, культурами. Колчак всегда проявлял живой интерес к другим народам и культурам, указывая на всё то, что, по его мнению, можно было бы у них позаимствовать. Он не делил народы на «высшие» и «низшие», не выдвигал завоевательных планов в отношении соседних стран. Даже в вопросе о Босфоре и Дарданеллах для него главное было не завоевать, а лишь «пробить» их для России, хотя бы с помощью союзников. Но он никогда не заблуждался насчёт подлинной подоплёки международных отношений. Потеряв обороноспособность, считал он, Россия станет добычей других государств, больших и малых.
Своим взглядам Колчак подчинял и свою жизнь. В дальнейшем, как увидим, «военная идея» подтолкнула его на то, чтобы взвалить на свои плечи непосильную ношу, а затем, в последние свои дни и часы, помогла подавить в себе то «постыдное жизнелюбие», которое сурово осуждали античные авторы.
Адмиралтейство, наконец, изыскало возможность разместить русскую миссию на вспомогательном крейсере «Глонсестер», входившем в конвой, сопровождавший лайнер «Кармониа» с больными и ранеными канадскими солдатами. 16 августа 1917 года русские моряки вышли в плавание из шотландского города Глазго. Перед отъездом, как писал Колчак, у него возникли «мрачные мысли» насчёт того, как бы американцы не отменили операцию в Дарданеллах: ведь не Рут и не Гленнон принимают в той стране окончательные решения.[822]
Караван спустился вниз по реке Клайд и вышел в пролив между Великобританией и Ирландией. Адмиралтейство запретило выходить в океан с северной стороны Ирландии: там дежурили немецкие подводные лодки, потопившие недавно пять пароходов. Повернули на юг. Ирландское море, когда-то очень оживлённое, теперь было пустынно – война свела к минимуму морскую торговлю и перевозки пассажиров.
Зашли в Ливерпуль и здесь переночевали. Южный выход из Ирландского моря тоже был небезопасен. В дальнейший путь двинулись в сопровождении отряда миноносцев. Вечером Колчак по своему обыкновению долго гулял по палубе. Было холодно и дождливо. В разрывы туч иногда выплывала полная луна, и тогда становились видны очертания ирландского берега. Слышались команды на английском языке. По палубе пробегали матросы. Экипаж был в боевой готовности: приближались к самому опасному району. Глядя со стороны на слаженную морскую работу, Колчак испытывал неловкость: «Странно быть в море, не принимая участия в походе, в сигналах и маневрировании, но что поделать». Подошёл командир корабля и сообщил, что получена радиограмма: в проливе погибает пароход, не то торпедированный подлодкой, не то наскочивший на мину.
Ночью, когда прошли самые опасные места, миноносцы повернули назад. Караван спускался к югу – в сторону от обычных океанских путей, так что скоро повернули назад и два крейсера. Дальше «Кармонию» сопровождал только один крейсер – тот, на котором ехал Колчак. В океане стало тепло и тихо, и только шла бесконечная череда отлогих голубых валов. Колчак вспомнил, что когда-то он интересовался теорией образования волн и даже вёл наблюдения.
Теперь его интересовали другие вопросы. Он начал составлять записку о реорганизации флота. Но кому её подавать? Неужели «присяжному поверенному»? Записка, видимо, не была окончена. Но зато было закончено письмо к Анне Васильевне, писавшееся несколько дней и каким-то чудом до неё дошедшее.[823]
В конце августа (числа 26-го по ст. ст.) лайнер «Кармониа» и крейсер сопровождения отдали якоря на рейде канадского города Галифакса (полуостров Новая Шотландия). Путь от одной Шотландии до другой занял около 11 дней.
Здесь почти не чувствовалась война. Галифакс был весел и оживлён. По улицам ходили люди, многим из которых жить оставалось менее трёх месяцев. 6 декабря 1917 года (по новому стилю) в результате взрыва французского транспорта «Монблан», перевозившего пикриновую кислоту и тротил, половина этого города была сметена и превращена в пепел.
В Галифаксе русских моряков встретил американский морской офицер, сообщивший, что представители Военно-морских сил США ожидают их в Монреале и будут оказывать всяческое содействие.
В Монреале, канадском городе с величественными католическими соборами и более скромными, но уютными англиканскими церквями, Колчака и его спутников ожидали два американских офицера, знакомых уже по миссии Рута.[824] Согласно американским источникам, русская миссия прибыла в США 28 августа 1917 года (в переводе на старый стиль).[825] В Вашингтоне её состав увеличился на одного человека.
Вадим Степанович Макаров, сын прославленного адмирала и старший лейтенант Русского флота, в то время состоял при российском посольстве в США в должности помощника морского агента. До этого он служил на Балтике и был изгнан судовыми комитетами с двух кораблей, почему и оказался за океаном.
С Колчаком он был знаком с начала войны, когда явился на штабной корабль с проектом «массового уничтожения неприятельских подводных лодок». Вахтенный начальник сказал, что все такие изобретатели направляются к Колчаку, но он человек очень занятый и вспыльчивый, а сегодня у него уже было два изобретателя. Так что, весело посоветовал офицер, если Колчак схватится за револьвер, убегать от него надо зигзагами.
Колчак выслушал мичмана спокойно и внимательно, быстро всё понял и доходчиво растолковал несостоятельность проекта, а потом, как вспоминал Макаров, «в столь повышенном тоне стал объяснять мне, что он вообще думает об изобретателях, что я поспешно ретировался».
В другой раз Макаров встретил Колчака уже адмиралом, командиром Минной дивизии. Колчак узнал его, они разговорились, и адмирал пригласил молодого Макарова пообедать к себе на «Сибирский стрелок». «За этим обедом, – рассказывал Макаров, – я ясно увидел, какой адмирал обаятельный человек и очаровательный собеседник». В Вашингтоне Колчак, по просьбе Макарова, взял его с собой на должность флаг-офицера. В дальнейшем он всегда был верен адмиралу и сражался в его войсках.[826]
В Вашингтоне выяснилось, что Дарданелльская операция американского флота не состоится. Колчаку объяснили это нехваткой транспортного тоннажа. К тому же англичане, в частности Джеллико, сказали ему, решительно против такой операции, опасаясь, что она отразится на снабжении Великобритании из-за океана.[827] Однако, как пишут американские историки, в архивах США не удалось обнаружить каких-то упоминаний об этой операции, так что, очевидно, она и не намечалась, а «Гленнон ходатайствовал о миссии Колчака в Америку ради его спасения».[828]
Предположение довольно странное, так как получается, что Гленнон просто обманул Колчака. Вряд ли такое могло быть, тем более что в Петрограде Колчак никакой опасности тогда не подвергался и о спасении не просил. Возможно, поиски в архивах были не очень тщательными и их следовало бы продолжить. Но скорее всего детальной разработки операции в проливах не производилось и дело ограничилось общими разговорами.
Когда отпала главная причина, почему Колчак согласился ехать в Америку, его миссия приобрела по преимуществу военно-дипломатический характер.
В Вашингтоне Колчак прежде всего сделал визит русскому послу Б. А. Бахметеву. (Позднее в фондах российского МИДа обнаружились выписки из письма Колчака к Тимирёвой;[829] посол, как видно, почитывал его письма, посылавшиеся дипломатической почтой, и отправлял в Россию выписки – то ли по собственному почину, то ли по приказанию Терещенко или Керенского.) Затем были нанесены визиты военному и морскому министрам и государственному секретарю. Русские офицеры посетили главную морскую верфь и провели две недели в Военно-морском колледже в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Они основательно изучили уставы ВМС США, особенно в том, что касается дисциплины. Колчак и его спутники знакомили американцев со своим опытом ведения войны на море. Смирнов сделал доклад о методике штабных учений в Русском флоте и об организации его управления. Затем русские офицеры были приглашены на маневры Атлантического флота США. В течение недели они находились на борту флагманского корабля «Пенсильвания». «Американцы были чрезвычайно любезны не только в смысле внешней стороны, но и в смысле ознакомления меня с организацией маневрирования флота, управления им и т. д.», – вспоминал Колчак.
В свою очередь и русский адмирал оставил у американских военных моряков приятные воспоминания. Контр-адмирал Ньютон Маккалли писал позднее: «Среднего роста, очень тёмный, с узким разрезом глаз и непреклонным выражением лица… Он был простым, тактичным, с широким кругозором и полным сильнейшего чувства патриотизма к России. Проявлял заботу к офицерам своего штаба, а также к моряку-ординарцу…»
Колчак выразил желание посетить могилу адмирала Д. Фаррагута. Он совершил специальную поездку, чтобы возложить на неё венок. Американские офицеры, сопровождавшие Колчака, посчитали, что это было знаком уважения к заслугам американцев в полярных исследованиях. Но, возможно, Колчак тем самым хотел также отдать долг памяти «Маленькому Фаррагуту», своему другу Г. Дукельскому, у которого не было своей могилы.
16 октября (н. ст.) русская военно-морская миссия была представлена президенту США Вудро Вильсону.
Трудно сказать, что подтолкнуло президента к тому, чтобы принять русских моряков. Он вёл довольно уединённый образ жизни, редко принимал даже своих министров, а зарубежных гостей – и того реже. Россией прежде никогда не интересовался и мало о ней знал.
Всех, кто шёл на приём в Белый дом, особо предупреждали, что опаздывать нельзя: президент точен, «как астрономические часы». Делегацию провели в зал, где обычно дежурил офицер. Затем надо было пройти через несколько салонов и коридоров. Гостей президента Вильсона обычно поражало отсутствие здесь каких-либо истинно художественных произведений – картин или скульптур. Это говорило о том, насколько мало интересовался искусством 28-й президент США, встретивший русскую делегацию в Овальном кабинете.
Вильсону в ту пору было 60 лет. Он был, как всегда, тщательно одет и застёгнут на все пуговицы – в прямом и переносном смысле. И только очки как-то неуклюже, как плохой всадник, сидели на его крючковатом носу.
Не только разница в возрасте давала о себе знать во время этой короткой беседы. Они расходились едва ли не во всём – президент Вудро Вильсон и его гость адмирал Александр Колчак.
Вильсон – размеренный, холодный, с манерой говорить медленно и степенно. На лице – бесстрастная, непроницаемая маска. У Колчака на лице всегда всё было написано.
Вильсон никогда не курил, а алкоголь принимал только в аптечных дозах – для лечения. Колчак курил и спиртного не чуждался, хотя пьяницей не был. Посещение таких заведений, как «Привал комедиантов», Вильсон счёл бы неприличным.
Вильсон имел плохое здоровье и никогда не занимался спортом. Колчак в Морском корпусе был неплохим спортсменом, имел хороший запас здоровья, но растратил его в арктических экспедициях и двух войнах.
И, наконец, главное – интересы. У Колчака – это сложный и запутанный архипелаг, в центре которого Военное Дело. У Вильсона – широкая и прямая дорога под названием Внутренняя Политика США. Он досконально изучил эту трассу, которая привела его к власти, и сумел поставить на ней свои памятные вехи. А то, что находилось по сторонам, он знал мало и смутно и никогда этим по-настоящему не интересовался.
Аудиенция длилась несколько минут. Президент спросил насчёт военных действий на Балтике. К этому времени завершились сражения за Моонзундские острова и Русский флот потерял Рижский залив. Почему это произошло? Колчак отвечал, что защитники Моонзунда имели хорошо укреплённые позиции, но состояние боевого духа во флоте сейчас таково, что другого исхода ждать было трудно. Ответ был достаточно откровенным, хотя и кратким, но американцам показалось, что русские офицеры не очень разговорчивы в этом вопросе.
Разговора не получилось, приём был окончен. И Колчак не увидел того момента, весьма редкого, когда Вильсон на мгновение вдруг сбрасывал маску и смотрел в глаза собеседника с выражением понимания и тёплого, дружеского участия. А Вильсон не узнал, каким интересным и обаятельным собеседником может быть русский адмирал.
Вообще же Колчак считал, что миссия в Америку не удалась. Надо возвращаться в Россию «и там уже разобраться в том, что делать дальше». В военных условиях ехать домой легче всего было через Тихий океан.
По пути к западному побережью США русские офицеры посетили Большой Каньон в штате Колорадо и Йосемитский национальный парк. В Сан-Франциско Колчак получил телеграмму из России с предложением выставить свою кандидатуру в Учредительное Собрание от кадетской партии по Черноморскому флотскому округу. Колчак ответил согласием, но его телеграмма запоздала. 12 (25) октября Колчак и его офицеры отправились из Сан-Франциско во Владивосток на японском пароходе «Карио-Мару». В Америке задержался только Смирнов.[830]
* * *
Переход через Тихий океан занял две недели. Ви конце октября (ст. ст.) пароход прибыл в японский порт Иокогама, и здесь Колчак узнал, что в Петрограде произошёл переворот, к власти пришли большевики, которые собираются заключить сепаратный мир. За свою богатую событиями и в общем-то несчастливую жизнь Колчак привык, что обычно сбываются именно худшие опасения. Но происшедшее не укладывалось в рамки его личной жизни. Это уже не только личная катастрофа, считал он, а государственная. Это крушение России.
Из двух известий – большевистский переворот и сепаратный мир – для него самым худшим было второе. Большевиков он называл «хулиганствующими политиками», создавшими правительство «чисто захватного порядка». Но он с ними, возможно, в конце концов даже примирился бы, если бы не сепаратный мир. Ибо по существу это был не мир, а капитуляция, позорное поражение, нанесённое врагом не силой оружия, а рассчитанной политикой внутреннего разложения. «Для меня было ясно, – вспоминал он, – что этот мир обозначает полное наше подчинение Германии, полную нашу зависимость от неё и окончательное уничтожение нашей политической независимости».[831]
Спасительный для другого человека аргумент «а что я могу сделать?» на Колчака не действовал. «…На меня же ложится всё то, что происходит сейчас в России, – говорил он самому себе, – хотя бы даже одно то, что делается в нашем флоте, – ведь я адмирал этого флота, я русский…» Выходило так, что он, Колчак, вольный или невольный участник всех этих событий, в том числе и сепаратного мира. Это создавало для него психологически невыносимую ситуацию. Сохранить душевное равновесие, не сорваться в бездну отчасти помогало другое жизненное правило, на котором он утвердился: «…Виноват тот, с кем случается несчастье, если даже он юридически и морально ни в чём не виноват. Война не присяжный поверенный, война не руководствуется уложением о наказаниях, она выше человеческой справедливости, её правосудие не всегда понятно, она признаёт только победу, счастье, успех, удачу – она презирает и издевается над несчастьем, страданием, горем – «горе побеждённым» – вот её первый символ веры».[832] Побеждённым он себя не считал. Значит – надо что-то делать.
Колчак сказал своим офицерам, что предоставляет им полную свободу – ехать в Россию или оставаться за её рубежами. Своё же возвращение на родину в создавшейся обстановке он считает невозможным. Он сообщил им о своём решении обратиться к английскому правительству с просьбой принять его на свою службу, чтобы он мог продолжать войну с Германией. К нему присоединились Вуич и Безуар. Кое-кто из других офицеров, постарше, всё же посчитал нужным вернуться домой, к семье.
Колчак явился на приём к английскому послу в Токио К. Грину и заявил, что он, русский адмирал, и двое его спутников, не признают сепаратного мира, заключаемого большевиками, и просят принять их на английскую службу для активного участия в войне, «как угодно и где угодно», хотя бы в качестве солдат. Английский дипломат с пониманием отнёсся к просьбе и обещал довести её до сведения своего правительства.[833]
Все трое поселились в одной гостинице в Иокогаме. Недели через две Колчака вызвали в английское посольство и сообщили, что правительство Великобритании охотно принимает его предложение. К Колчаку был обращен вопрос: где бы он предпочёл служить? Адмирал отвечал, что у него «нет никаких претензий или желаний относительно положения и места, кроме одного – сражаться». Далее он сказал, что в английском флоте достаточно хороших адмиралов и что он не претендует на место в его рядах: пусть королевское правительство смотрит на него не как на флотоводца, а как на солдата, и «пошлёт туда, куда сочтёт наиболее полезным». Посол попросил Колчака и его спутников не уезжать из Японии до окончательного решения вопроса.[834] Англичане явно не знали, куда пристроить русского адмирала. Ожидание затянулось.
В Иокогаме обосновалась довольно большая русская колония, в основном из военных и гражданских чиновников. Колчак познакомился кое с кем, сделал два-три визита, принял ответных визитёров – и постарался быть от них подальше.[835] Эти люди явно пережидали события, ничего не делая. Они напоминали ему тех аристократов из императорского «Яхт-клуба», которые давали иронические советы и не собирались помочь, когда «Заря» становилась на бочки.
С Вуичем и Безуаром он виделся каждый день, иногда, в качестве гида, показывал им достопримечательности, но предпочитал быть один. В Японии он полюбил одиночество. Приходили письма от Анны Васильевны. Запоздалые, отправленные ещё летом или в начале осени, они были словно голоса из прошлого. Он и сам теперь думал о ней только в прошлом (ревельский сад, белые ночи в Петрограде). Будущее ему представлялось в виде чёрной бездны. Оно не связывалось с Анной Васильевной.
На досуге он стал переводить с английского книгу китайского полководца VI–V веков до н. э. Сунь-цзы. В России в то время она была почти неизвестна. Китайский военный мыслитель писал, что военачальник должен быть прозорлив, обладать беспристрастностью, гуманностью, мужеством и строгостью. Подчёркивалось значение морального состояния войск. С большим знанием дела Сунь писал и о возможности достижения победы без боя – путём натравливания на противника его соседей, разжигания недовольства в его стране, провоцирования вмешательства в военные дела правителей и гражданских властей, доведения неприятельской армии до такого состояния, когда она становится опасной для своего государства. Читая это, Колчак понимал, что развёртывающаяся в России драма – одна из повторяющихся мировых драм. И многое, оказывается, уже описано. Он должен был признать, что книга Суня производит «глубочайшее впечатление»: «В коротких императивных формах заключается такая глубина мысли, такое знание и понимание сущности и природы войны, что… перед Сунем бледнеет Клаузевиц».[836]
Устав от работы над переводом или придя в состояние, когда в голову начинали приходить мысли о том, что японцы иносказательно называют «благополучным выходом», Колчак отправлялся в Камакуру, маленький и древний городок близ Токио. Там, у подножия Большого Будды, он приходил в себя, наполняясь его «экспрессией созерцания и отрешения», размышляя о «счастье покоя небытия» – высшей мечте всех, кто не знал в жизни покоя.
Камакура – это комплекс монастырей и храмов, буддийских и шинтоистских, на берегу Великого океана. По японскому обычаю каждый храм окружает обширный сад. Переходя от храма к храму, Колчак встречал на своём пути многочисленные чайные домики, лёгкие мостики, переброшенные через водоёмы, в которых плескались белые, красные и золотые карпы – и всё это тонуло в зелёных, жёлтых, багряных и фиолетовых красках японской осени.
Русским людям свойственно влюбляться в чужие края, далёкие страны. Колчак полюбил Японию. Ему нравились дисциплинированность и выдержка японского народа, романтическая рыцарственность самурайского духа (хотя он знал и оборотную его сторону). Во время этой почти трёхмесячной эмиграции он вновь заинтересовался философией буддизма. Настоятель одного из монастырей в Камакуре, образованный человек, говоривший по-английски и по-французски, дал некоторые советы относительно литературы. И Колчак погрузился в чтение, которое захватывало его всё более и более. Особенно увлекло его изучение одного из направлений буддизма – дзен-буддизма. Это «странное учение», писал он, представляет собой сочетание «чистого буддийского атеизма с глубочайшей мистикой, суровой морали стоической школы с гуманитарной философией Конфуция». «Свободное добровольное самоотречение чистого буддизма, – продолжал Колчак, – секта Зен заменяет особой дисциплиной в форме, распространяющейся даже на сознание и мышление. Секта Зен смотрит на дисциплину как на известную способность или искусство, которое можно развить определёнными приёмами, и развитие этой способности составляет одну из задач секты».
В том же письме к Анне Васильевне он коротко обмолвился о том, что изучение буддизма «совершенно поколебало» его представление о душе.[837] Колебания в вопросе о бессмертии души, как мы помним, были у Колчака после Порт-Артура. Теперь, видимо, произошло движение в обратную сторону. Неизвестно только, на каком понимании этого вопроса он остановился. По христианскому учению душа имеет начало и не имеет конца. По буддийскому – она не имеет ни начала, ни конца. Она вечна и бесконечна.
С дзен-буддизмом были связаны японские самурайские традиции. Интерес к ним привёл Колчака к новому увлечению – старинным японским оружием. В старых районах Токио он заходил в антикварные лавки, рассматривал в них образцы холодного оружия. «Перед моими глазами, – писал он, – прошли десятки великолепных старых клинков, и надо было сделать большое усилие, чтобы удержаться от покупки…» И он всякий раз удерживался, потому что хотел только одного – купить клинок, изготовленный оружейниками Миочин. Знаменитая династия мастеров, известная в двадцати двух поколениях (1200–1750), снабжала оружием сегунов (военных правителей Японии) и владетельных князей. В критический свой час японский самурай прибегал именно к такому клинку, чтобы сделать себе харакири. Использовать другое оружие для этой цели он считал ниже своего достоинства. Эти клинки, писал Колчак, «действительно – сама поэзия, они изумительно уравновешены и как-то подходят к руке…с железным мягким основанием, великолепно полирующимся, с наварным стальным лезвием, принимающим остроту бритвы, с особым тусклым матовым оттенком и характерной зигзагообразной линией сварки железа и стали».
Однажды, где-то в предместье Токио, он зашёл в довольно убогую лавку. Хозяин по его просьбе принёс несколько старинных сабель и кинжалов в великолепных ножнах, покрытых лаком с бронзовыми украшениями. Колчак, однако, знал, что ножны – всегда позднейшего происхождения. Он в очередной раз отверг всё предложенное. Тогда старый японец, вновь сходив в кладовую, показал ещё один клинок – и посетитель сдался.
Нет, это не было произведение династии Миочин. Это был клинок Гоно-Иосихиро, одного из первоклассных мастеров своего времени – первой половины XIV века.[838] Это оружие предназначалось не для торжественных церемоний и не для самоубийств. Это было оружие для боя, и кто знает, сколько войн оно повидало, сколько воинов сжимало его рукоять.
С тех пор Колчак, когда ему становилось особенно трудно, обычно по вечерам, садился к камину, выключал электричество, брал в руки клинок и начинал его рассматривать. При свете пляшущих языков пламени клинок как бы оживал, по его поверхности скользили тени, появлялись и исчезали какие-то едва различимые образы, потом всё тонуло в тумане и вновь всплывало. Словно и впрямь, как гласило японское предание, в оружии оставалась «часть живой души воина».[839] Это успокаивало. Он ведь тоже воин, и, быть может, когда-нибудь и его тень будет скользить по матовой поверхности этого клинка, скрывающего в себе часть его вечно живой души.
30 декабря 1917 года (ст. ст.) Колчаку сообщили, что он и его спутники направляются на Месопотамский фронт (территория нынешнего Ирака). Решение английского руководства, видимо, было вызвано тем, что Колчак хорошо знал прилегающий к Месопотамии Кавказский военный театр. После взятия Багдада английские войска вели наступление на Мосул, и в дальнейшем предполагалось соединение с русским Кавказским фронтом. Теперь, правда, это отпало в связи с развалом русской армии.
Хотя решение было неожиданным, но Колчак приободрился, ибо эмиграция его всё же сильно тяготила. «Вопрос решён – Месопотамский фронт, – писал он Анне Васильевне. – Я не жду найти там рай, который когда-то был там расположен, я знаю, что это очень нездоровое место с тропическим климатом, большую часть года с холерой, малярией и, кажется, чумой, которые существуют там, как принято медициной выражаться, эндемически, т. е. никогда не прекращаются. Мне известно, что предшественник командующего Месопотамским фронтом умер от холеры. Неважная смерть, но много лучше, чем от рук сознательного пролетариата или красы и гордости революции».[840] (Последнее выражение относилось к взбунтовавшимся матросам.)
Это писалось, видимо, уже тогда, когда в газетах появились известия о массовых убийствах офицеров в Черноморском флоте. «Наконец-то Черноморскому флоту не стыдно перед Балтийским», – со злой иронией сказал Колчак.
Первая волна убийств произошла в середине декабря 1917 года. Тех, кто сидел в тюрьме, расстреливали на Малаховом кургане. Попавшихся на улицах города и на вокзале убивали чем попало. За два дня погибло 128 человек. Вторая волна, в феврале 1918 года, была ещё более кровавой. Тогда, по одним данным, было убито около 250 человек, по другим – 800.[841] Истина, наверно, где-то посредине. Лейтенант Левговд, очевидец этих событий, писал, что «50-тысячная матросская масса в слепом оцепенении и смертельном страхе не смела помешать нескольким тысячам преступников в течение многих месяцев наполнять все уголки Черноморского побережья стонами умирающих и слезами осиротевших».[842]
Колчака постоянно занимали мысли о его семье. Последнее известие о ней относилось к началу осени. После этого никаких ответов на свои письма и телеграммы он не получал. Отправлявшихся в Россию офицеров он просил навести справки, передавал с ними письма – и вновь оставался без ответов.[843]
В это время Софья Фёдоровна и Славушка скрывались у разных знакомых и в матросских семьях, которые помнили своего бывшего командующего. Потом Софья Фёдоровна отправила Славушку к своим знакомым в Каменец-Подольский.[844]
Колчак выехал из Японии в первой половине января 1918 года (ст. ст.). Это путешествие от Иокогамы через Шанхай (с длительной задержкой) до Сингапура, где оно прервалось, заняло около двух месяцев.
* * *
29 марта 1918 года (окончательно переходим, дорогой читатель, на новый стиль), душной тропической ночью, Колчак сидел на веранде сингапурского отеля «Европа». Перед ним на столе стоял портрет Анны Васильевны, и он писал ей очередное письмо.
Он сообщал, что здесь, в Сингапуре, получил настоятельную рекомендацию немедленно возвращаться в Китай для работы в Маньчжурии и Сибири. Новое поручение являлось секретным. Подробно о нём Колчак должен был узнать от русского посланника в Пекине князя Н. А. Кудашева, а пока мог строить только догадки.
«Милая моя Анна Васильевна, – писал Колчак. – …Я сам удивляюсь своему спокойствию, с каким встречаю сюрпризы судьбы, меняющие внезапно все намерения, решения и цели… Я почти успокоился, отправляясь на Месопотамский фронт, на который смотрел почти как на место отдыха… кажется, странное представление об отдыхе, но и этого мне не суждено, но только бы кончилось это ужасное скитание, ожидание, ожидание…»
Отсюда, из Сингапура, Россия казалась страшно далёкой. А здесь всё было чужим. «Даже звёзды, на которые я всегда смотрел, думая о Вас, здесь чужие, – писал он, – Южный Крест, нелепый Скорпион, Центавр, Арго с Канопусом – всё это чужое, невидимое для Вас, и только низко стоящая на севере Большая Медведица и Орион напоминают мне о Вас…»[845] По-видимому, Колчак был далёк от астрологии и не знал, что рождён под созвездием Скорпиона, что в его изгибах, казавшихся ему нелепыми, таится новый поворот его судьбы. Впрочем, и собственная судьба ему начинала казаться нелепой, хотя он не страшился её поворотов…
С первым же пароходом Колчак вернулся в Шанхай. На этом закончилась, не успев начаться, его служба английской короне.
В Шанхае Колчак повидался с А. И. Путиловым, председателем Правления Русско-Азиатского банка, в ведении которого находилась КВЖД, построенная в основном на государственные деньги. Путилов отчасти «просветил» его относительно миссии, которую предполагалось на него возложить.[846]
Из Шанхая по железной дороге Колчак отправился в Пекин и там явился к Кудашеву. Возможно, они были знакомы и ранее. Колчак бывал в Ставке, а Кудашев возглавлял там дипломатическую канцелярию. Сослуживцы отзывались о нём с большой похвалой: держит себя просто, перед начальством не заискивает, своим княжеским происхождением не кичится. Алексееву нравилось, что сложные дипломатические вопросы он умел доложить коротко и ясно.[847]
Кудашев сообщил Колчаку, что именно он настоял на его командировке в Китай, надеясь с его помощью решить некоторые задачи. Ближайшая из них заключается в спасении КВЖД как русской собственности. Русско-Азиатский банк национализировали большевики. Правда, Парижское его отделение перехватило власть над зарубежными филиалами, и банк можно считать восстановленным. Но Правление КВЖД, находящееся в Петрограде, арестовано, и китайские власти могут забрать в свои руки дорогу как «бесхозное» предприятие. Во избежание этого надо восстановить Правление здесь, в Китае. В штатном расписании дороги, продолжал Кудашев, числится охранная стража. Наблюдение за ней и предполагается поручить Колчаку.
Далее дипломат перешёл к главной сути возлагаемой на адмирала задачи. Прогерманское правительство большевиков вызывает противодействие во всех концах страны. На Юге генералами М. В. Алексеевым и Л. Г. Корниловым создана Добровольческая армия. Противобольшевистские силы организуются и на Дальнем Востоке, в частности, в полосе отчуждения КВЖД – отчасти на её средства, а также на деньги, получаемые от союзников по борьбе с Германией. Но всё это делается хаотично, отдельные отряды соперничают друг с другом, и генералу М. М. Плешкову не удаётся объединить их и подчинить дисциплине. Главный способ объединить отряды, говорил Кудашев, – добиться того, чтобы все средства шли через одни руки, то есть через правление КВЖД. Когда эти части сформируются в солидную вооружённую силу, их можно будет двинуть против большевиков.
Отдельный вопрос – Особый маньчжурский отряд атамана Семёнова, который с прошлого года с переменным успехом ведёт борьбу с большевиками. В настоящее время положение его трудное. Он базируется на станции Маньчжурия, начальном пункте КВЖД. Атаман поддерживается и финансируется японцами. Колчак спросил, каковы будут его взаимоотношения с Семёновым, кто будет иметь приоритет. Кудашев ответил: «Конечно, вам придётся войти с Семёновым в компромисс».
В Пекине состоялась встреча Колчака с Д. Л. Хорватом. Патриархального вида генерал с длинной бородой занимал должность управляющего КВЖД со времени её пуска. Он же был и главноначальствующим в полосе отчуждения. Хорват обладал давними связями в дипломатическом мире Дальнего Востока и пользовался авторитетом в Китае и Японии. А кроме того, в его руках были немалые средства, которыми располагала дорога. В Пекин он приехал в связи с намечавшейся реорганизацией Правления. Хорват сказал Колчаку, что прежде всего надо оформить его положение в штатах КВЖД. В Правление всегда входил военный человек, который ведал охраной дороги и вообще военно-стратегической стороной дела. Это место и должен теперь занять адмирал Колчак.[848]
10 мая 1918 года состоялось заседание акционеров КВЖД, избравшее новое Правление. Его председателем стал генерал Янь Шицин, губернатор провинции Гирин. Так был достигнут компромисс с китайскими властями. На должность директора-распорядителя был переизбран Хорват. В Правление вошли также А. В. Колчак, А. И. Путилов, Л. А. Устругов (инженер путей сообщения, комиссар Сибирской железной дороги при Временном правительстве) и другие лица. Колчак был назначен главным инспектором охранной стражи КВЖД. Ему было поручено заведование всеми русскими вооружёнными силами в подконтрольной ей полосе.[849]
Административным центром КВЖД был Харбин. После падения Порт-Артура он стал основным местом, где Россия и Китай обменивались товарами, знаниями, опытом, где встречались и учились друг у друга две великие культуры. Город быстро строился. Рядом со Старым Харбином вырос Новый, с каменными домами, мощёными улицами, большими магазинами. Накануне мировой войны в нём проживало 72 тысячи человек. Свыше половины составляли русские – чиновники, военные, предприниматели, приказчики, интеллигенция, рабочие. В городе было несколько больниц, открылась гимназия, в школах и коммерческих училищах (мужском и женском) вместе с русскими обучались и китайские дети.[850]
В годы войны продолжался экономический рост Харбина, а потом наступили беспокойные времена. На некоторое время здесь установилась Советская власть, но китайские генералы прогнали «совдепов». Однако прежняя благополучная и спокойная жизнь уже не вернулась. Раньше Харбин был дешёвым городом, а теперь всё вздорожало – из Сибири, спасаясь от большевиков, понаехало много состоятельных людей, которые не стеснялись в расходах. В шантанах и кабаках рекой лилось вино. Молодые офицеры и кадеты, избежав злой участи многих своих товарищей, веселились «на всю катушку», допуская далеко не безобидные выходки.[851]
Колчак приехал в Харбин 11 или 12 мая. Правда, в «Дневнике» генерала А. П. Будберга его имя впервые упоминается 10 мая: «Совершенно неожиданно главнокомандующим назначен появившийся откуда-то и, как говорят, специально привезённый сюда адмирал Колчак; сделано это ввиду выявившейся неспособности Плешкова заставить себя слушать. Надеются на имя и решительность адмирала, гремевшего во флоте».[852] Но, очевидно, адмирал в этот день, когда его избрали в Правление, был ещё в Пекине, и Будберг записал поступившие оттуда сведения.
Первые дни по приезде Колчак знакомился с городом и людьми. Многие харбинские названия заставляли вспомнить его родной город: Садовая улица, Первая, Вторая и Третья линии, Большой проспект, Крестовский остров… Но название главной улицы – Китайская напоминало о том, что здесь не Россия, а Сунгари, с её жёлтыми водами, мало походила на Неву.
В полосе отчуждения, включая Харбин, действовало несколько вооружённых формирований. Самый большой из них, Особый маньчжурский отряд атамана Семёнова, фактически Хорвату не подчинялся. Попытки закрепиться на русской территории не удались, и теперь отряд отходил к границе. В семёновском отряде насчитывалось до 5 тысяч человек.[853] В отряде полковника Н. В. Орлова, располагавшемся в Харбине, состояло около 2 тысяч человек – пехоты, кавалерии и артиллерии.[854] Этот отряд формировался примерно так же, как Добровольческая армия на Юге России, – из офицеров, спасавшихся от большевиков и разгулявшихся солдат и матросов. Однако сюда, на Дальний Восток, приток беженцев был слабее.
На восточном конце КВЖД, на станции Пограничная, обосновался отряд атамана И. М. Калмыкова. Маленький и тщедушный атаман, живший, как монах, в тесной каморке с железной кроватью и Библией, был одним из тех колоритных самодуров, коих выплеснули революция и гражданская война. В свой отряд он принимал решительно всех желающих, вплоть до беглых красноармейцев. Но расстреливал своих столь же беспощадно, как и чужих. Все члены отряда совершали примерно одни и те же безобразия, но почему одних он карал, а других нет – никто не мог понять.[855] Семёновский и калмыковский отряды получали деньги и оружие от японцев, грабили население, русское и китайское, а также скопившиеся на станциях составы. Калмыковский отряд был меньше семёновского. Другие отряды, сформировавшиеся в Харбине и на КВЖД, были совсем малочисленны.
11 мая в харбинских газетах было напечатано интервью с Колчаком, который обещал восстановить законность и порядок. Прежде всего адмирал решил прибрать к рукам орловцев, которые, как отмечал Будберг, по своему составу были «много лучше семёновских… меньше распущены и менее развращены».[856]
Колчак приехал в казармы орловского отряда, познакомился с командованием, побеседовал с рядовыми членами, принял приглашение на вечеринку, которая устраивалась в одной из рот по случаю её праздника. За праздничным столом поднимались тосты «за Родину», «за Белую мечту», «за главного вождя и героя адмирала Колчака». Адмирал говорил ответные тосты и, наверно, впервые за последнее время оттаял душой, оказавшись среди своих по духу людей и загоревшись их воодушевлением.[857]
Известие, полученное на следующий день, было как ушат холодной воды. На окраине Харбина, в огородах, нашли изрубленный труп некоего Уманского, бывшего преподавателя Хабаровского кадетского корпуса. Говорили, что он выдавал большевикам прятавшихся кадет, а потом зачем-то и сам перебрался на КВЖД. Никто не знал, чьих рук это дело. Одни кивали на орловцев, другие на калмыковцев. В обоих отрядах были хабаровские кадеты. Среди рабочих и простых обывателей поднялся ропот. И те и другие были недовольны растущей дороговизной, волной преступности и скучали по большевикам, которые задаром вселяли их в буржуйские квартиры. Рабочие железнодорожных мастерских грозили забастовкой.
Вопрос разбирался в вагоне у Колчака в присутствии начальника его штаба генерал Б. Р. Хрещатицкого, полковника Орлова и местного прокурора. Выслушав собравшихся, Колчак попросил прокурора постараться найти виновных.[858]
Печальный инцидент с Уманским не отразился на взаимоотношениях Колчака с орловским отрядом, который стал надёжной его опорой. Теперь следовало как-то наладить отношения с атаманом Семёновым.
28-летний Григорий Михайлович Семёнов в ту пору был атаманом самочинным, поскольку лишь в октябре 1918 года амурские и уссурийские казаки избрали его своим походным атаманом, а забайкальские – ещё позднее, когда он утвердился в Чите.
Родился будущий атаман в семье забайкальского казака на пограничном карауле Куранжи. Мать его, говорят, была бурятка. Детство протекало в тесном общении с бурятскими и монгольскими сверстниками. Семёнов выучил их языки и стал своим человеком в среде этих народов.
Оренбургское казачье училище стало для диковатого подростка своего рода «университетом». Там он не только познал азы военного дела, но отчасти приобщился и к культуре. Писал стихи, в коих описывал страдания простого народа. С увлечением читал Белинского, Добролюбова и Писарева. Но началась служба на далёкой окраине, и молодой офицер вновь окунулся в ту первобытную обстановку, из которой вышел. Стихи забросил, но, как видно, сохранил неприязнь к барам, начальству и генералам.
Во время войны совершал лихие набеги в тыл неприятеля, стал георгиевским кавалером, побывал на Месопотамском фронте, куда не доехал Колчак. А потом Временное правительство назначило его комиссаром по организации добровольческих частей из бурят и монголов. Ему присвоили чин есаула, что соответствовало капитану в армейской пехоте. Свой отряд он сформировал как раз к октябрю 1917 года и с ним начал борьбу против большевиков, которых воспринимал как «красных господ».
Первое время, не имея ни денег, ни оружия, отряд бедствовал. Семёнов обращался за помощью к русскому, английскому и французскому консулам в Харбине. Но эти господа воротили нос от малообразованного офицера. Тогда он явился к японскому консулу. Здесь, наоборот, за него ухватились. И впоследствии, когда уже отгремела гражданская война, Семёнов с большой теплотой вспоминал о японских офицерах Куросава и Куроки, которых считал лучшими своими друзьями. От японцев Семёнов получил деньги и оружие. Конечно, это сопровождалось советами и наставлениями. Но, как видно, они делались весьма деликатно. А кроме того, Семёнов был не настолько уж дик, чтобы кусать руку, которая его кормила.
Советы и наставления касались не только конкретных действий, но имели и общетеоретический характер. Семёнов многое усвоил из японской военно-политической доктрины. В своих воспоминаниях он писал о необходимости «большой работы на пути объединения народов Востока и создания Великой Азии». С этими взглядами связаны и планы выделения русского Дальнего Востока в автономную область под протекторатом Японии, которые он вынашивал в годы гражданской войны.
Весной 1918 года семёновское воинство состояло из слабо спаянных между собой бурятских, монгольских и казачьих отрядов. Но главную его экзотику представляло ближайшее аристократическое окружение атамана. Барон Р. Ф. Унгерн фон Штернберг и граф А. И. Тирбах, молодые офицеры-сорвиголовы и анархисты в погонах, сумели преодолеть недоверие Семёнова к «господам», доказать ему свою преданность, в какой-то мере подчинить его своему влиянию и совсем уж испортить его репутацию. Ибо в самоуправстве, грабежах, порках населения и расстрелах неугодных лиц они немало его превосходили. И, наверно, больше всего именно им нравилась надпись, которую Семёнов сделал на дверях своего вагона: «Без доклада не входить, а не то выпорю».[859]
Колчак знал, что с Семёновым ему предстоят трудные переговоры, но надеялся, что чувство долга и патриотизма подскажет обоим, как найти компромисс. Незадолго до отъезда на станцию Маньчжурия Колчак встречался с главой японской военной миссии генералом Накашимой. Адмирал ознакомил его с планами развёртывания русских частей на КВЖД и с размерами желательных поставок оружия. (Только Япония, фактически не занятая в войне, имела тогда свободное вооружение.) Генерал сказал, что такие поставки вполне возможны, а затем неожиданно спросил: «Какие вы компенсации можете предоставить за это?» Колчак ответил, что за оружие заплатит дорога. Генерал разъяснил, что финансовый вопрос его не интересует. Обнаружив, что Накашима клонит куда-то в другую сторону, Колчак ответил, что говорить о других компенсациях у него нет полномочий.
Затем Колчак обратился к японскому представителю ещё с одной просьбой: поставлять оружие и деньги не непосредственно разным отрядам, а через один центр – хотя бы через Хорвата. Ибо сепаратные поставки – главная причина недисциплинированности и неподчинения этих отрядов, вследствие чего невозможно согласовать их действия. Генерал в общей форме обещал учесть эту просьбу и спросил: «Вы к Семёнову поедете?» Колчак ответил, что очень скоро.[860]
О приезде адмирала атаман был предупреждён телеграммой. Колчака сопровождали полковник Орлов, лейтенант флота Н. Ф. Пешков и П. В. Оленин, старый знакомый Колчака, представлявший в данном случае харбинскую общественность. Конвоировал делегацию отряд орловцев.
К немалому удивлению Колчака и его спутников, перрон обычно оживлённой станции оказался пуст. Колчака не только никто не встретил, но и все пассажиры куда-то исчезли. Ординарцы нашли на вокзале семёновского генерала М. П. Никонова. Он был одет по-домашнему и на станцию зашёл как бы случайно. Его попросили к адмиралу, и он сказал, что Семёнов находится по ту сторону границы и ведёт бой.
Колчак пригласил Никонова в свой вагон. Тем временем Пешков произвёл собственную разведку и выяснил, что Семёнов сидит дома. Тогда у лейтенанта родился план: пусть Александр Васильевич запросто, не как адмирал, а только как русский человек явится к атаману и обо всём с ним договорится. В реальности своего плана он убедил сначала Орлова и Оленина, а затем они втроём пошли убеждать Колчака.
Никонов к этому времени уже ушёл. «Адмирал, – вспоминал Орлов, – угрюмо ходил взад и вперёд по вагону… Увидя вошедших, на минуту остановился, взглянул на них, пригласил садиться и снова зашагал».
Сопоставление воспоминаний Орлова и Колчака говорит о том, что пришедшие не знали того, что знал адмирал. «…Затем мне совершенно определённо заявили, – рассказывал Колчак, – что Семёнов получил инструкцию: мне ни в коем случае не подчиняться». Кто заявил? Может, старый генерал Никонов проговорился, или кто-то другой успел уже сообщить.
Орлов, Пешков и Оленин доложили обстановку и не очень уверенно изложили свой план. Колчак продолжал ходить по вагону, а когда все трое замолчали, с минуту подумал и сказал:
– Хорошо, я сделаю то, о чём вы просите.
Уже вечерело, накрапывал дождик. Достали фонари, и адмирал в сопровождении нескольких человек отправился искать вагон, где сидел атаман.
Через час делегация вернулась. Колчак, выглядевший ещё более угрюмым, приказал ехать. Перрон вдруг заполнился публикой, которую всё это время где-то держали и, видимо, настраивали против адмирала. Потому что вела она себя недружелюбно, а когда поезд тронулся, некоторые дамочки показывали вслед ему кукиш.[861]
Колчак и Семёнов по-разному рассказывали об этой единственной их встрече. Но в общем можно понять, о чём шла речь.
В воспоминаниях Семёнова много дезинформации. Он утверждал, что все эти дни сражался с красными, и однажды ему сообщили, что адмирал прибыл на станцию Маньчжурия и желает его видеть. Семёнов оставил позицию и явился к Колчаку. «По-видимому, настроенный соответствующим образом в Харбине, – продолжал атаман, – адмирал встретил меня упрёками в нежелании подчиняться Харбину, вызывающем поведении относительно китайцев и слишком большом доверии к моим японским советникам, влиянию которых я якобы подчинился». По мнению адмирала, сообщал атаман, Япония и США «стремились использовать наше затруднительное положение в своих собственных интересах», добиваясь ослабления России на Дальнем Востоке. В ответ Семёнов якобы говорил, что в своё время, приступая к формированию отряда, он предлагал Колчаку и Хорвату его возглавить, но они отказались (Колчак тогда был в Японии и вряд ли что-то слышал о Семёнове и его отряде), а теперь отряд окреп, и он, Семёнов, не потерпит вмешательства в его дела и будет давать отчёт «только законному и общепризнанному Общероссийскому правительству». «Свидание наше, – писал Семёнов, – вышло очень бурное, и мы расстались явно недовольные друг другом… От этой встречи с адмиралом у меня осталось впечатление о нём, как о человеке крайне нервном, вспыльчивом и мало ознакомленном с особенностями обстановки на Дальнем Востоке».[862] Надо, однако, заметить, что многие мемуаристы, особенно из числа недругов Колчака, сильно преувеличивают его вспыльчивость.
Колчак же вспоминал, что разговор с Семёновым был совсем не бурным и довольно коротким. «В чём дело? – спросил Колчак. – Я приезжаю сюда не в качестве начальника над вами, я приехал с вами поговорить об общем деле создания вооружённой силы… Я привёз вам денег от Восточно-Китайской железной дороги». Он предполагал передать Семёнову 300 тысяч руб. Семенов отвечал, что он ни в чём не нуждается, деньги и оружие получает от Японии, а от Колчака ему ничего не нужно. Колчак сказал, что в таком случае помощь от дороги ему оказана не будет, а эти деньги пойдут на нужды других частей.[863] Здесь разговор с Семёновым представлен в сильно сжатом виде – как-никак он длился около часа.
Разыгранный на станции спектакль явно был подготовлен, и только посещение Колчаком семёновского вагона не входило в сценарий. Здесь атаману пришлось импровизировать. И он действовал, надо думать, не только под влиянием японских инструкций, но и исходя из своего предвзятого отношения к «господам». В адмирале он видел одного из них. Имелось и опасение, что переход под командование Колчака и Хорвата поставит его в разряд заурядных командиров.
После разговора с Семёновым Колчак с горечью пришёл к выводу, что этот отряд, самый большой, для него потерян. Он перестал интересоваться им и брать его в расчёт. Он утешал себя мыслью, что забайкальское направление, где действовал Семёнов, не имеет первостепенного значения. Иное дело – владивостокское. Станция Пограничная, где сидел Калмыков, была расположена на русской территории. От неё до Владивостока – рукой подать. Занятие Владивостока, с его большими военными складами, сразу решило бы вопрос об оружии. Поэтому главную свою задачу Колчак видел в подготовке имеющихся у него отрядов, главным образом орловского, для операций на Владивосток. Он начал создавать также военную флотилию на Сунгари.
Японское командование разведало о планах Колчака и забеспокоилось. Занятие Колчаком Владивостока не входило в его расчёты. У Колчака состоялась новая встреча с Накашимой. Генерал пообещал поставить вскоре оружие и, между прочим, посоветовал забрать у Семёнова орловскую кавалерию, когда-то ему переданную. Колчак понял, что его подталкивают к новому столкновению с Семёновым. «Я бываю очень сдержан, – говорил он впоследствии, – но в некоторых случаях я взрываюсь». В совете Накашимы он уловил насмешку и провокацию и повёл себя недипломатично. Он сказал, что, наверно, вернул бы эти части, если бы Накашима ему не мешал. А потом выложил всё – и насчёт денег, переданных атаману вопреки его возражениям, и насчёт инструкций, и насчёт инсценировки на станции. А в заключение обвинил генерала в подрыве дисциплины в русских формированиях. На это Накашима обиженно ответил: «Я японский офицер, я никогда не позволил бы себе нарушение дисциплины в каких-нибудь других частях. Вы наносите мне тяжкое обвинение…» – и собеседники холодно расстались. После этого груз оружия был задержан в Дальнем.[864]
Семёновцы же – очевидно, под воздействием японцев – начали задираться против верных Колчаку отрядов. Однажды Колчак получил от начальника одной из станций КВЖД телеграмму о том, что отряд семёновцев во главе с хорунжим Борщевским грабит цейхгаузы и местное население, а сопротивляющихся порет. Колчак выслал туда взвод орловцев. Семёновцы под конвоем были доставлены в Харбин. Адмирал приказал разоружённых солдат отпустить, а хорунжего отдать под суд: «То, что суд постановит, то и сделаю: постановит суд, чтобы его расстрелять – расстреляю, постановит, чтобы послать куда-нибудь – пошлю».
В Харбин срочно примчался Семёнов. В колчаковский штаб явился семёновский представитель в Харбине полковник Л. Н. Скипетров и заявил, что если Борщевского не освободят, он арестует двух офицеров-орловцев. Адмирал ответил, что тогда он арестует трёх семёновцев. Скипетров ушёл со словами: «Ну а я буду арестовывать всегда на одного больше». Разнёсся слух, что Семёнов хочет арестовать самого Колчака. Адмирал продолжал свободно ходить по городу, но на железнодорожной станции сложилось напряжённое положение. 29 мая Будберг записал в дневнике, что «всю ночь адмиральский вагон охранялся орловцами с пулемётами, а стоявший недалеко семёновский поезд находился в боевой готовности, выставив пулемёты из окон и направив их в вагон главнокомандующего».[865]
В конце концов Семёнов отступил и уехал, а Скипетров возобновил свои кутежи с катанием женщин на автомобиле по ночному городу.[866]
Японская военная миссия тем временем стала предпринимать попытки «сманивания» и разложения орловского отряда. К Орлову явился подполковник Куросава и стал уговаривать его перейти к Семёнову. Колчак – морской офицер, говорил Куросава, он не может командовать сухопутными войсками. Подобные же беседы велись и с другими офицерами орловского отряда. Но никто из них, включая Орлова, на уговоры не поддался.[867]
В такой обстановке Колчак решил поспешить с выдвижением орловского отряда на восток. 1 июня он выдвинулся на станцию Пограничная. Но из-за недостатка боеприпасов пришлось задержаться с началом боевых операций. Ни орловцы, ни сам Орлов этой «ссылкой» не были довольны, считая, что здесь они зря проводят время. Плохо на отряд действовало и близкое соседство с всегда пьяными калмыковцами.[868]
Между тем резко обострились отношения Колчака с Хорватом, который оказался не таким стойким, как Орлов и орловцы. Ещё во время инцидента с Борщевским Колчак и Хорват сильно разошлись во мнениях, и речь зашла об отставке Колчака. Однако к Хорвату явилась делегация в составе полковника Орлова, его начальника штаба Венюкова и русского консула Попова, которая потребовала оставить Колчака на посту главнокомандующего. Хорват тогда отступил. Но через неделю после отбытия орловцев из Харбина он своей властью сместил Колчака и на его место вновь назначил Плешкова. После этого Хорват уехал в Пекин, видимо, для консультаций с Кудашевым.
Колчак отказался оставить должность и вызвал в Харбин роту орловцев, а Кудашев не поддержал Хорвата. Между Колчаком и вернувшимся из Пекина Хорватом, как говорят, произошла бурная сцена. Потом на вопрос Хрещатицкого, как быть с адмиралом, Хорват ответил: «Надо потерпеть». В эти же дни японцы устраивали официальный обед по случаю отъезда Накашимы. Колчак приглашён не был. Подвыпивший генерал открыто поносил Колчака и советовал русским офицерам прогнать его прочь.[869]
В ту пору, когда Колчак с маленьким отрядом противостоял воле великой державы, он получил неожиданную и очень сильную моральную поддержку. 12 мая вдруг пришло письмо от Анны Васильевны. Оказалось, что она с мужем на Дальнем Востоке и случайно узнала его адрес. «Несколько раз я брал в руки письмо, и у меня не хватало сил начать его читать, – писал он в ответ. – Что это, сон или одно из тех странных явлений, которыми дарила меня судьба?»[870]
Вскоре Анна Васильевна выехала в Харбин, предупредив телеграммой. Они должны были встретиться на вокзале, после почти годовой разлуки, совершив навстречу друг другу путешествие в несколько тысяч вёрст, и… не узнали друг друга в толпе. Анна Васильевна носила траур по своему отцу, умершему в феврале, а Александр Васильевич был в орловской форме защитного цвета. Такими они друг друга никогда не видели.
Анна Васильевна уехала к своей подруге. На следующий день она разыскала его вагон, но не застала его там и оставила записку. Вечером они, наконец, встретились.
Сначала он навещал её в семье подруги, а затем попросил переехать в гостиницу. Он приходил к ней по вечерам, усталый, измученный, ругал «старую швабру Хорвата». У него началась бессонница. А перед Анной Васильевной встал вопрос, возвращаться ли к мужу. Колчак в шутливой форме говорил, что она может не возвращаться. Конечно, она понимала, что он не шутит. Тогда она заговорила всерьёз, и он сказал, что решать должна она сама.
Однажды он заснул у неё на руках. И она, глядя на него, спящего, решила, что больше никогда с ним не расстанется.[871] С этого времени и до конца его жизни она стала его надёжной опорой.
Конфликт с Хорватом вроде бы уладился. Но не в нём было дело. Поход на Владивосток нельзя было начинать, не получив оружия и боеприпасов. И только Япония могла это дать. Дело зашло в тупик. Между тем из Сибири доходили вести о восстании чехословаков и свержении там Советской власти. Надо было действовать. Колчак решил съездить в Японию. Он всё же думал, что Накашима занимался в основном самодеятельностью, а не исполнял инструкции японского Генерального штаба.
30 июня Колчак уехал в Японию. Недели через две Н. В. Орлов получил от него письмо. «В интересах общего нам дела, – писал Колчак, – я решил покинуть Харбин и отправиться в Японию. Вместо меня командующим Российскими войсками остаётся генерал Хрещатицкий… Свою настоящую миссию я признаю необходимой, так как нам нужна материальная помощь иностранцев. И я буду пока работать здесь в этом направлении… Итак, будем продолжать наше служение Родине с прежней энергией и верой-надеждой на осуществление нашей заветной Белой Мечты».[872]
* * *
В Японии Александра Васильевича уже ожидала Анна Васильевна. Вскоре, однако, пришло письмо от её мужа, С. Н. Тимирёва, и ей пришлось ехать во Владивосток решать свои семейные проблемы.
Сергей Николаевич хотел сохранить семью, но Анна Васильевна была неумолима, даже жестока. Наверно, она была права: и в самом деле пришла пора так или иначе разрубить этот затянувшийся узел. В июле 1918 года их брак был расторгнут постановлением Владивостокской духовной консистории.[873] Анна Васильевна вернулась в Японию к Александру Васильевичу. Маленький сын Тимирёвых, Володя, жил в Кисловодске у своей бабушки В. И. Сафоновой.
В Токио Колчак явился к послу В. Н. Крупенскому с просьбой устроить ему встречу с руководством японского Генерального штаба. Посол был недоволен тем, как вёл себя Колчак с японцами: «Вы поставили себя с самого начала в слишком независимое положение по отношению к Японии… Они себе составили мнение о вас, как о своём враге… и поэтому они, конечно, вам не только помощи не будут оказывать, но будут оказывать противодействие вашей работе». Однако просьбу Колчака посол всё же выполнил.
Аудиенция у начальника Генштаба генерала Ихары носила, по-видимому, протокольный характер. Разговор по существу шёл с его помощником, генералом Танакой. В беседе участвовали также посол Крупенский и генерал Н. А. Степанов, приехавший с Юга России. Адмирал сказал, что он считает Японию державой, дружественной России. Сам он остаётся верен союзническому долгу в общей войне с Германией. Он просил у японских представителей помощи в приобретении небольшой партии оружия, чтобы выбить из Владивостока красные части, состоящие в основном из венгерских и немецких военнопленных. К сожалению, его действия были неправильно поняты, и он натолкнулся на скрытое и открытое противодействие.
– …Ваше превосходительство, – говорил Колчак, – если бы в моём распоряжении был огромный корпус, к которому можно было бы применять метод разложения по германскому образцу, я бы понял, но у меня только два полка, что же к таким силам применять такие средства. Это по меньшей мере неудобно.
Танака рассмеялся, подумал и сказал:
– Знаете, адмирал, останьтесь у нас в Японии; когда можно будет ехать, я скажу вам, а пока у нас здесь есть хо рошие места, поезжайте туда и отдохните.
Колчак тоже подумал, не нашёл другого выхода и ответил:
– Хорошо, я останусь пока в Японии.[874]
Это было похоже на интернирование, сделанное в самой деликатной форме. Японцы убедились, что управлять Колчаком очень трудно. И в то же время он был слишком крупной фигурой. Такая известная и трудноуправляемая личность на Дальнем Востоке им была не нужна.
Колчак немного задержался в Токио, поджидая Анну Васильевну. Однажды к нему явился британский генерал Альфред Нокс. Долговязый блондин спортивного вида, старше Колчака на несколько лет, он излучал деловитость и оптимизм. По-русски говорил почти без ошибок, с небольшим акцентом. (Сказывалось долгое пребывание в России, когда он состоял при английском посольстве в Петрограде.) В завязавшемся разговоре Колчак поделился своими харбинскими впечатлениями, а затем перешли к положению во Владивостоке. Нокс поставил вопрос со всей прямотой: «Каким образом можно создать власть?» (Большевистские Советы ни он, ни Колчак властью не считали.) Беседовали долго, и Колчак обещал представить генералу записку по этому вопросу.[875]
Они понравились друг другу, кажется, с этой первой встречи. Нокс вообще нравился многим русским, с кем имел дело. Генерал М. А. Иностранцев, встречавшийся с ним впоследствии в Сибири, писал, что это был «сердечный и отзывчивый человек, чрезвычайно полюбивший Россию, болевший за неё, переживавший её страдания, как свои личные».[876]
Затем, по совету Крупенского, Колчак нанёс визит французскому послу в Токио Э. Реньо. Видимо, уже тогда предполагалось, что он будет назначен главой французской миссии во Владивостоке. Реньо был профессиональным дипломатом, долго служил на Ближнем Востоке и тамошние дела знал лучше, чем русские. По-русски не говорил. Но к России и к русским всегда относился благожелательно. Беседа с Реньо, видимо, носила более общий и официальный характер.[877]
Встретив Анну Васильевну, Колчак поехал с ней отдыхать. Судя по письмам и воспоминаниям Анны Васильевны, они побывали на двух курортах – Никко (в 100 километрах от Токио, в горах) и Атами, тоже недалеко от Токио, но на берегу океана.[878] В Никко он работал над запиской для Нокса. Чтобы выяснить положение во Владивостоке, он послал туда на разведку Вуича, просматривал и изучал газетные сообщения.
5 апреля 1918 года Япония, в ответ на убийство двух своих граждан, высадила во Владивостоке десант. Вслед за тем небольшой десант высадили и англичане. Но в городе продолжала существовать Советская власть, пока 29 июня её не свергли чехословацкие легионеры. Тотчас же туда из Харбина переехало «Временное правительство автономной Сибири» во главе с эсером П. Я. Дербером. Колчак знал этих людей. Их «правительство» прежде ютилось в вагоне, стоявшем в одном из тупиков на харбинской станции. Ни денег, ни оружия, ни войск оно не имело. Они тогда заманивали Колчака к себе, но он отмахивался от них, как от назойливых мух. Во Владивостоке эти люди, как видно, продолжали жить в том же вагоне, в каком приехали из Харбина.
В борьбе за власть решил попытать счастья и старый Хорват, переехавший на станцию Гродеково и объявивший себя «верховным правителем» России. Считая Хорвата самым авторитетным лицом на русском Дальнем Востоке, Колчак считал полезным временное объединение здесь власти в его руках. Но Хорват пригласил в состав своего правительства таких людей, которых Колчак знал по Харбину и не питал к ним уважения. Поэтому он отклонил предложение Хорвата занять в его правительстве пост морского министра.
В руках Колчака оказался ряд постановлений и распоряжений этих правительств, и он понял, что они заняты только борьбой за власть, а конкретными делами по налаживанию жизни не занимаются. В то же время постановления земства, введённого в Приморье в 1917 году Временным правительством, носили деловой характер. Это понравилось Колчаку. Он не знал тогда, что в этих новых земствах сильны позиции большевиков, которые до поры до времени стараются себя не показывать. Колчак решил, что надо делать ставку на местное самоуправление, а также на помощь союзников.[879] В них ему впоследствии тоже пришлось горько разочароваться.
В беседе с корреспондентом иркутской газеты «Свободный край» Колчак сказал, что воссоздание государственности надо начать с вооружённой силы – сначала в виде отдельных отрядов при союзных войсках. На освобождённых от большевиков территориях, при наведении там элементарного порядка, можно будет восстанавливать местное самоуправление. По мере расширения этих территорий оно обеспечит созыв более широкого представительного органа, например, Сибирской областной думы, которая создаст правительство. В его подчинение вступят русские воинские формирования. В дальнейшем, когда воссозданный на востоке фронт уйдёт далеко на запад, это правительство примет меры для достижения конечной цели – созыва Российского Учредительного собрания.[880] Эти же положения легли в основу записки, представленной Ноксу.
Колчак не признавал того Учредительного собрания, которое было избрано в нездоровой обстановке всеобщего возбуждения в конце 1917 года и, по его мнению, не выражало действительной воли народа. Призванное решить национальные задачи России, оно начало единственное своё заседание с пения «Интернационала». И весь ход этого заседания отражал только борьбу партийных интересов. Со свойственной ему прямотой Колчак говорил, что разгон этого Собрания является заслугой большевиков.[881]
Из России приходили неясные и отрывочные известия. Сообщалось, что в Самаре собираются члены разогнанного Учредительного собрания. Это, конечно, не привлекало Колчака. Стало известно, что в Омске образовалось Сибирское правительство. Генерал Степанов, приехавший с Юга, рассказал о создании Алексеевым и Корниловым Добровольческой армии.
Зная, что на Дальнем Востоке японцы работать ему не дадут, Колчак решил пробираться на Юг, чтобы разыскать свою семью, а потом явиться к Алексееву и Корнилову. Он не знал, что Корнилов погиб ещё в апреле. Алексеев же всё чаще и тяжелее болел.
В сентябре стало известно, что Нокс и Реньо на одном пароходе едут во Владивосток. Видимо, с помощью Нокса Колчак получил место на этом пароходе. Японцы не препятствовали его отъезду. А с Анной Васильевной он условился, что вызовет её, как только где-то прочно устроится.[882]
16 сентября 1918 года Колчак отправился во Владивосток. Заканчивались скитания по дальним и чужим странам. А на родине, в России, у него теперь не было своего угла и неизвестно где ютилась семья. Не было и Русского флота, вырастившего и воспитавшего его, в который он, в свою очередь, вложил много сил. Всё сгорело в огне и дыму этой войны – остался один пепел. Рухнуло и государство. Теперь всё надо было создавать заново. Он возвращался в Россию не только для того, чтобы воевать, но также чтобы и строить.
Глава шестая Омск бросает вызов Москве
14 мая 1918 года на станции Челябинск остановился поезд с чехословацкими солдатами. На прицепленной к нему открытой платформе был закреплён фургон, и чешский солдат его чинил. Мимо проходил эшелон с беженцами и австро-венгерскими военнопленными. Кто-то швырнул кусок железа и попал в голову чеха, который потерял сознание.
Месть чехословацких легионеров была скорой и беспощадной. Поезд остановили, отцепили от него три вагона с пленными, выгнали их на пути. Быстро, с применением рукоприкладства, провели следствие, вытащили прятавшегося за спины молодого венгра, который совершил хулиганский поступок, и тут же закололи его штыками. Безоружные венгры ничего не могли сделать против вооружённых чехов и словаков.
Челябинский Совет задержал нескольких участников самосуда. Тогда чехи и словаки захватили вокзал, оцепили центр города, разоружили местный гарнизон и перерезали телефонную линию. Когда Совет освободил арестованных, легионеры ушли из города, но продолжали удерживать вокзал.[883]
Родственные славянские народы чехи и словаки не любили венгров, которые в тогдашней Австро-Венгрии были одной из двух господствующих наций. Во время Первой мировой войны чехи и словаки массами сдавались в плен. Венгры же дрались по-настоящему.
В плену среди чехов и словаков развернулось движение за воссоздание собственной государственности. Чтобы добиться этого, надо было сокрушить империю Габсбургов. Первая дивизия, сформированная из чехов и словаков, в 1917 году выдвинулась на Восточный фронт и показала стойкость в боях. Вскоре была сформирована вторая дивизия, затем третья. Их свели в Чехословацкий корпус, или легион, как его называли сами чехи и словаки.
Чехословацким частям не хватало офицеров. Вакантные должности заполнялись отчасти собственными выдвиженцами. Так, прапорщик Радола Гайда, по профессии фельдшер, стал командовать полком. Приглашались и русские офицеры, изгнанные солдатскими комитетами из своих частей.
Когда был заключён Брестский мир, Чехословацкий национальный совет решил перебросить корпус на Западный фронт, во Францию. Французское правительство охотно приняло это предложение и включило корпус в состав своих войск. Советское же правительство оказалось как бы между двух огней. С одной стороны, оно не хотело окончательно портить отношения с Антантой. С другой же стороны, Германия была недовольна тем, что из России, заключившей с ней мирный договор, перебрасываются подкрепления её врагам.
Политическое руководство и командование корпуса вполне лояльно относились к Советской власти. Корпус отказал в помощи Центральной Раде, которую теснили большевики. Не получил помощи и генерал Алексеев. 26 марта 1918 года, после долгих переговоров, с Советским правительством было заключено соглашение об эвакуации Чехословацкого корпуса через Владивосток. Корпус должен был сдать основную часть своего оружия, оставив для самозащиты только одну вооружённую роту на эшелон. Этот пункт соглашения вызвал в корпусе большое недовольство и всячески саботировался. Значительная часть оружия осталась несданной.[884]
То ли поэтому, то ли под давлением Германии, но большевистское руководство, сославшись на высадку японцев во Владивостоке, распорядилось приостановить эвакуацию и затеяло новые переговоры. Это вызвало ропот и недовольство среди легионеров. Поползли слухи, что их хотят заключить в лагеря, а потом выдать Австро-Венгрии, где их ждёт суд за измену. Стали раздаваться голоса, что во Владивосток надо пробиваться силой оружия.
Когда в Москве стало известно об инциденте в Челябинске, власти арестовали двух членов Чехословацкого национального совета. Находясь под арестом, они разослали по эшелонам телеграммы с приказанием сдать всё оружие. Как раз в это время в Челябинске собрался съезд чехословацких военных делегатов. Московские аресты усилили на съезде позицию так называемой «военной партии» во главе с Богданом Павлу. Съезд постановил прекратить сдачу оружия и двигаться во Владивосток «собственным порядком».
Ответный ход большевиков был не очень расчётлив. 25 мая нарком по военным делам Л. Д. Троцкий разослал телеграмму:
«Все Советы на железной дороге обязаны, под страхом тяжёлой ответственности, разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который найден будет вооружённым на железнодорожной линии, должен быть расстрелян на месте; каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооружённый, должен быть выброшен из вагонов и заключён в лагерь военнопленных… Одновременно посылаются в тыл чехословаков надёжные силы, которым поручено проучить мятежников… Ни один вагон с чехословаками не должен продвинуться на Владивосток…»[885]
В действительности местные Советы не имели никакой возможности «выбрасывать» легионеров из эшелонов, а у самого наркома не было «надёжных сил», чтобы «проучить» мятежников. Телеграмма, посылавшаяся с целью запугивания, возымела обратное действие. Расценив её как объявление открытой войны, легионеры стали разгонять Советы и разоружать подразделения Красной Армии.
В то время Чехословацкий корпус (40 тысяч бойцов) являлся единственной крупной и хорошо организованной военной силой на всём пространстве страны, охваченной хаосом и беззаконием.
Придя к власти, большевики вскоре заявили себя жёсткими государственниками. Но они долго не могли справиться с разгулявшейся «атаманщиной», при помощи которой пришли к власти и которой было немало в их собственных рядах. Кроме того, они сразу задались целью не просто восстановить в стране государственную власть и наладить нормальную жизнь, казавшуюся многим из них пошлостью и мещанством. Нет, они сразу стали вводить «социалистические преобразования». «Красногвардейская атака на капитал», имевшая явные черты «атаманщины» и в короткое время лишившая собственности тысячи людей, создала для новой власти массу врагов – от крупных воротил до мелких хозяйчиков. Дело дошло и до простого мужика, «укрывателя хлеба» – в деревне тогда, в обстановке безудержной инфляции, не прятал хлеб только тот, кто его не имел, а таких там пока было ещё немного.
13 мая 1918 года ВЦИК утвердил декрет Совнаркома о предоставлении наркому продовольствия чрезвычайных полномочий, вплоть до применения вооружённой силы, в деле продовольственных заготовок. В деревню были двинуты продотряды. В обращении к ним председатель Совнаркома В. И. Ленин и нарком продовольствия А. Д. Цюрупа писали: «Хлеб надо достать во что бы то ни стало. Если нельзя взять хлеб у деревенской буржуазии обычными средствами, то надо взять его силой». 11 июня были учреждены волостные и сельские комитеты бедноты (комбеды).[886] Члены их, назначавшиеся сверху, сосредоточили в своих руках всю власть на селе. Древнее мирское самоуправление, включая сельский сход, фактически было ликвидировано. Всё это сопровождалось разгулом беззакония при изъятии «хлебных излишков», на деле же – всего имеющегося хлеба. Такого деревня ещё не знала.
Географию крестьянских восстаний 1918 году (в советской литературе – «кулацких мятежей») трудно определить точно. Они охватили почти всю страну. Карательные отряды едва успевали их подавлять. И когда в такой обстановке восстали чехословацкие легионеры, положение большевиков стало критическим. Если бы чехи и словаки повернули тогда на Москву, ленинскому Совнаркому пришлось бы совсем туго.
К началу конфликта чехословацкие эшелоны растянулись на шесть с половиной тысяч вёрст. Головные составы, под командой генерала Дитерихса, выходили на КВЖД.
Михаил Константинович Дитерихс (1874–1937) родился в России, в семье чешского происхождения. Участвовал в Русско-японской войне. Первую мировую войну начинал на Юго-Западном фронте. Потом командовал русской дивизией на Салоникском фронте. Вернувшись в Россию, отклонил предложение Керенского занять пост военного министра и был назначен генерал-квартирмейстером Ставки при главнокомандующем Корнилове. Позднее чехословацкие легионеры попросили его возглавить их корпус, и он принял командование над ним. Вскоре после разрыва с большевиками авангардные части корпуса, руководимые Дитерихсом, взяли Владивосток.[887]
Чехословацкий авангард сильно оторвался от следовавших за ним эшелонов. Ближайшими к Дитерихсу частями, стоявшими в Новониколаевске, командовал Р. Гайда. В ночь на 26 мая его войска, совместно с тайно сформированным отрядом русских офицеров, захватили город. Офицерские отряды существовали во многих городах Сибири и сыграли видную роль в антибольшевистском движении. Их руководители в условиях подполья действовали под другими фамилиями. Потом они присоединили их к настоящим. Так появились А. Н. Гришин-Алмазов и П. П. Иванов-Ринов.
Эшелонами в Челябинске командовал русский офицер С. Н. Войцеховский. Арьергардными же частями, подходившими к Пензе, – чешский офицер С. Чечек. Стремясь воссоединить свои силы, чехи и словаки начали наступление вдоль железной дороги: Чечек и Войцеховский – на восток, а Гайда и Дитерихс – на запад. Взяв Пензу и вскоре вернув её большевикам, Чечек переправился через Волгу и 8 июня занял Самару. Войцеховский же и Гайда 10 июня соединились у Омска. Затем Войцеховский двинулся навстречу Чечеку и 6 июля соединился с ним в Златоусте.[888] Гайде же и Дитерихсу, совместно с войсками союзников и отрядами атамана Семёнова, удалось наладить сквозное движение по Транссибирской магистрали только в начале сентября.
После этого чехословацкий корпус мог сосредоточиться во Владивостоке и ожидать транспортов в Европу. Но у руководства Антанты к этому времени возникла идея при помощи корпуса восстановить Восточный фронт против Германии, а заодно свергнуть большевистское правительство. Чехи и словаки были против втягивания их во внутрироссийские распри и хотели как можно скорее уехать из русского хаоса. Командование корпуса не могло не учитывать эти настроения. Поэтому Войцеховский, соединившись с Чечеком и взяв общее командование в свои руки, постарался расширить свой фронт на север. 22 июля был взят Симбирск, а 6 августа – Казань. Красные уходили из этого города столь поспешно, что оставили в нём золотой запас Российской империи, вывезенный туда, когда создалась угроза Петрограду со стороны немцев. Не успела уехать из Казани и Академия Генерального штаба, также в своё время эвакуированная из Петрограда.
В дальнейшие планы Чехословацкого корпуса входило овладение Екатеринбургом и Пермью, откуда намечалось движение на Вологду,[889] где Северная железная дорога пересекалась с Архангельской. Из Архангельска путь в Европу был много короче, чем из Владивостока.
На следующий день после взятия Казани, 7 августа, восстал Ижевский завод. Огромное предприятие, принадлежавшее казне, выпускало винтовки. К концу войны численность рабочих на нём достигла 27 тысяч. После Брестского мира на завод вернулись ранее мобилизованные рабочие – ещё несколько тысяч. А производство резко пало, заработки – тоже, множество людей осталось без работы. Начались перебои с хлебом. Власти ничего не делали, чтобы решить проблемы, вставшие в связи с окончанием войны, а недовольство пытались заглушить репрессиями. Бои на заводе шли целый день, и к ночи красные были изгнаны.
Аналогичная ситуация сложилась на Боткинском заводе. Через 10 дней восстал и он. К восстанию присоединились крестьяне соседних деревень и рабочие мелких заводов.[890]
На территориях, откуда были изгнаны большевики, возникли органы новой власти. 8 июня, сразу после вступления легионеров в Самару, там был образован Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), претендовавший на всероссийскую власть. Сначала в него входило 5 человек, потом подъехали другие члены распущенного большевиками Собрания, так что состав расширился до 97 человек. Председательствовал эсер В. К. Вольский. Текущее управление осуществлял Совет управляющих ведомствами во главе с эсером Е. Ф. Роговским.[891] В Комуче сложилось явное засилье эсеров, которые сочувствовали многим большевистским новшествам и не спешили с ними расстаться. Самарские обыватели с недоумением показывали на красный флаг, который развевался над зданием, где заседала новая власть: «Почему не убрали эту красную тряпку?»[892]
Комуч начал создавать свои вооружённые силы (Народную армию) сначала на добровольной основе. Командование одной из первых дружин было предложено подполковнику Генерального штаба В. О. Каппелю. «Согласен, – ответил он. – Попробую воевать. Я монархист по убеждению, но стану под какое угодно знамя, лишь бы воевать с большевиками. Даю слово офицера держать себя лояльно к Комучу». В дальнейшем отряды, которыми командовал Каппель, сыграли важную роль во взятии Казани.
Комуч попытался провести мобилизацию, но население не желало воевать и всячески уклонялось. Народная армия Комуча унаследовала многие черты «керенщины» (в виде разных комитетов и прочих нововведений того времени) и в целом оказалась не очень боеспособной.
В Томске вскоре после изгнания большевиков вновь собралась Сибирская областная дума, когда-то ими разогнанная. Она предложила ранее образованному Сибирскому правительству приступить к своим обязанностям. Председатель этого правительства Дербер находился во Владивостоке, связь с которым ещё не наладилась. Поэтому новым председателем был избран 55-летний П. В. Вологодский.
Коренной сибиряк, родившийся в семье сельского священника, Пётр Васильевич учился на юридическом факультете Петербургского университета, но был исключён из него за «неодобрительное поведение», что выразилось в посещении кружка сибирских областников. Позднее он сдал экзамены в Харькове и получил университетский диплом. Несколько лет служил по судебному ведомству в Сибири на мелких должностях. В 1897 году ушёл в отставку в чине коллежского секретаря. С этого времени занимался адвокатской практикой в Омске, выступал защитником на некоторых политических процессах. Ему удавалось смягчать приговоры, и ни один из его подзащитных не был приговорён к смертной казни. Был избран во II Думу, но, как видно, сильно задержался с выездом. Пока ехал, Дума была распущена. В июле 1917 года был назначен старшим председателем Омской судебной палаты. По какому-то недоразумению его одно время приписывали к эсерам, хотя таковым он не был. Скорее – сибирским областником. Вообще же он был человек беспартийный. Административного опыта у него, по правде говоря, было мало. Но в Сибири он слыл человеком безупречно честным и порядочным. Правительство, возглавляемое таким человеком, вызывало уважение.[893]
Наиболее колоритной фигурой в Сибирском правительстве был 28-летний Иван Андрианович Михайлов, сын народовольца, родившийся в каторжной тюрьме. Он закончил юридический факультет Петербургского университета, но затем занялся проблемами финансов и экономики. Был ближайшим помощником А. И. Шингарёва, когда тот занимал во Временном правительстве сначала пост министра земледелия, а затем – финансов. Его политические убеждения были неясны даже его ближайшим сотрудникам. Скорее всего он был чистый прагматик. В начале революции выступал как эсер, а переехав в Сибирь и войдя в Сибирское правительство, стал действовать независимо от эсеров и мало с ними считаясь. Эсеры прозвали его Ванькой Каином. А от сослуживцев он получил прозвище «Иван Интриганович».
Михайлов действительно был мастером закулисных действий и разного рода заговоров. Деятельный, энергичный, хороший спорщик, обладавший даром властного обаяния, он постоянно был занят тем, что группировал вокруг себя одних министров, а других выдавливал из правительства. Таланты, которыми его наделила природа вовсе не скупо, он, к сожалению, больше расходовал на подобного рода возню, чем на настоящее дело. И в кресло министра финансов сел по своей самоуверенности и по недостатку в Сибири классных специалистов. Ибо финансы – такая область, которой нельзя овладеть с наскока, в которой масса потайных ходов и выходов, знакомых только тем, кто, просидев на этом поприще десятки лет, ушёл с головой в это царство гномов, с его тихими подземными войнами, в результате которых одни становятся венчанными и невенчанными королями, а другие хватаются за голову, в одночасье теряя всё.[894]
На пост военного министра в Сибирское правительство был приглашён Гришин-Алмазов. Единственный настоящий эсер в правительстве, министр «туземных дел» М. Б. Шатилов, «путаник и вздыхатель», как называл его один из мемуаристов,[895] большого влияния не имел. В целом же Сибирское правительство было гораздо правее и прагматичнее самарского Комуча.
Томск, интеллектуальный и культурный центр Сибири, расположенный в стороне от Транссибирской железной дороги, не мог стать сибирской столицей. Временное Сибирское правительство переехало в Омск, город на берегу Иртыша – там, где его пересекает Великая магистраль. Сибирская же дума (Сибоблдума, как её называли) осталась в Томске.
Административный центр Акмолинской области и Степного генерал-губернаторства, Омск, маленький и захолустный, никогда не претендовал на роль столицы. Просто поблизости не оказалось другого подходящего города. Новониколаевск (ныне Новосибирск) тогда был ещё меньше Омска, а Иркутск находился слишком далеко.
Путешественники, побывавшие в Омске, писали о его широких, прямых и немощёных улицах, застроенных амбарами и деревянными домиками, о малом количестве садов, о колокольнях церквей и минаретах мечетей, нарушавших унылое однообразие архитектурного силуэта. Пыль омских улиц, с каким-то особым седым оттенком, необычайно лёгкая и подвижная, вихрем носилась за каждым извозчиком, каждой телегой, увивалась за пешеходами, лезла в глаза, уши, нос, висела над городом. Осенью и весной она превращалась в грязь, а зимой её сменяли снежные заносы. По ночам весь Омск тонул во мраке, ибо уличное освещение отсутствовало.
И всё же этот город, выросший в окружении берёзовых рощ, был по-своему живописен. В центре его высился Казачий Никольский собор – архитектурный шедевр, построенный по проекту выдающегося зодчего В. П. Стасова. Здесь хранилось древнее знамя Ермака, главная достопримечательность города.
Путешественники отмечали многолюдную пестроту и разноликость омских улиц, где всегда можно было увидеть казака в фуражке с красным околышем (казачку же – разряженную в красные ситцы), киргиза (по-нынешнему – казаха) в халате и высокой шапке, переселенца в лаптях и сибирского старожила в смазных сапогах. Здесь встречались коренная Россия, Сибирь и Средняя Азия. Омские же ярмарки (весенняя и осенняя) вмещали в себя всё, чем были богаты здешняя земля и соседние края – от возов с мукой, хлебом, овощами до целых гор сушёной рыбы с Волги и Каспия.
До постройки железной дороги Омск был совсем патриархальным городом, большинство населения которого (казаки и мещане) занималось хлебопашеством. По переписи 1897 года здесь числилось всего 37,4 тысячи жителей. Транссибирская магистраль многое изменила. Город превратился в крупный транспортный узел, в котором поступавшие из России товары перегружались из вагонов на пароходы, а направлявшиеся в Россию из сибирских глубин и из Средней Азии – наоборот.
Выросло число промышленных предприятий. Появились рабочие посёлки – Нахаловка (характерное название, говорящее о том, что строительство велось без отвода земли), Волчий Хвост, Атаманский Хутор. Численность рабочих достигла 2,5 тысячи человек. Центр города заметно отстроился. Появились каменные дома, построенные в новомодном и затейливом стиле «модерн». Если бы не пыль, путешественник мог подумать, что он в Москве на Петровке.
В 1912 году в Омске насчитывалось 133 тысячи жителей. Действовали мужская и женская гимназии, выходило несколько газет. А осенью 1917 года было открыто первое высшее учебное заведение – Коммерческий институт, через полгода – Сельскохозяйственный, а ещё через полгода – Политехнический.[896]
В отличие от Томска, Омск имел заметную военную специфику. Здесь издавна находился штаб округа, действовали военно-учебные заведения – Сибирский кадетский корпус и военное училище. Главное же – Омск был столицей Сибирского казачьего войска, верхушка которого пользовалась в этом городе особым влиянием. Казачье офицерство, крепко спаянное, не слишком образованное, имело очень простые взгляды на политику и предпочитало простые решения.
Восстановив существовавшие в городе военные структуры, Гришин-Алмазов в конце июня 1918 года произвёл мобилизацию младших возрастов – тех, которые не были затронуты окопным пацифизмом. Мероприятие прошло успешно, без массового дезертирства и волнений.
Гришин-Алмазов проявил себя деятельным и умелым военным администратором. Новая армия строилась на основе строгой воинской дисциплины, без всякой «керенщины». Погоны не вводились, и это позволяло сибирякам сманивать к себе красноармейцев: «Переходи, не бойся, мы такие же беспогонные».[897] 25 июля силами Чехословацкого корпуса и Сибирской армии красные были изгнаны из Екатеринбурга.
Деятельности Гришина-Алмазова в должности военного министра скоро пришёл конец. В последних числах августа в Челябинске проходило совещание с делегацией Комуча. Присутствовали представители Чехословацкого корпуса и союзников. На банкете, после совещания, подвыпивший Гришин-Алмазов в ответ на колкость одного из иностранцев наговорил кучу дерзостей и чехам, и союзникам. У Сибирского правительства возникли неприятности с союзными представителями, и Гришин-Алмазов, вопреки возражениям Михайлова, был отправлен в отставку. Вскоре он уехал на Юг.[898]
Пост военного министра занял генерал-майор П. П. Иванов-Ринов, который первым делом ввёл погоны. Новый министр был грубоват, прямолинеен, злопамятен и имел склонность к интриге. Стратег он был неважный, и Сибирская армия распылилась и увязла в боях за обладание десятками маленьких городков и заводов, окружающих Екатеринбург.
* * *
Большевиков не ввёл в растерянность стремительный поворот событий, когда от них стали откалываться огромные регионы. 29 мая 1918 года ВЦИК принял «Постановление о принудительном наборе в Рабоче-крестьянскую армию».[899] Мобилизация шла медленно, с трудом. Массовый характер носило дезертирство. До самой осени добровольчество оставалось главным источником формирования Красной Армии.[900] Тем не менее большевикам удалось к сентябрю 1918 года сосредоточить на Волжском фронте около 70 тысяч вполне боеспособных войск. Численный перевес оказался на стороне красных, ибо в противостоящих им разнородных армиях и отрядах вкупе насчитывалось 55 тысяч штыков и сабель (20 тысяч – чехи и словаки, 15 тысяч – Народная армия, 15 тысяч – оренбургские и уральские казаки и около 5 тысяч – ополчения Ижевского и Боткинского заводов).[901]
В Чехословацком корпусе, после лёгких побед столкнувшемся с возросшим сопротивлением, замечалось быстрое падение боевого духа. Не действовали больше увещания в том смысле, что, сражаясь против красных, чехи и словаки воюют с Германией и Австро-Венгрией за освобождение своей страны. Солдаты бросали позиции или отказывались туда идти, требовали отправить их в тыл, заявляя, что не желают проливать кровь «за какой-то „славянский романтизм“».[902]
10 сентября красные овладели Казанью, 12 сентября пал Симбирск. Вскоре была утрачена Сызрань. 7 октября пала Самара. После этого на линии фронта, значительно сдвинутой на восток, образовался Ижевско-Боткинский выступ. Командование антибольшевистских сил не оценило его стратегического значения и не пришло на помощь рабочим дружинам, защищавшим свой район. Под ударами красных они должны были отойти. 14 ноября последние отряды повстанцев переправились через Каму. После этого ижевское и воткинское ополчения были переформированы в две дивизии, отличавшиеся своеобразием внутреннего устройства и необычайной стойкостью в боях и походах.
Военные неудачи поставили вопрос о скорейшем объединении всех антибольшевистских сил. 8 сентября в Уфе собралось Государственное совещание, в котором участвовали делегации Комуча, Сибирского и Уральского правительств, казачьих войск (Оренбургского, Уральского и Сибирского), национальных правительств Башкурдистана и Алаш-орды, а также главных политических партий, за исключением большевиков. Присутствовали наблюдатели от союзников и Чехословацкого национального совета.
Работа шла трудно, сговориться долго не удавалось. Наконец было решено, что временным верховным органом всероссийской власти будет Директория из пяти человек. Правое крыло Совещания решительно воспротивилось избранию в её состав Вольского. В свою очередь эсеры и меньшевики одного за другим отвергли М. В. Алексеева, A. И. Деникина и А. В. Колчака.[903] В конце концов останови лись на следующих кандидатурах: Н.Д.Авксентьев (эсер), Н. И. Астров (кадет), генерал В. Г. Болдырев (командующий Народной армией), П. В. Вологодский и Н. В. Чайковский (энес). На случай смерти или длительного отсутствия каж дый член Директории получил своего заместителя: Аст ров – В. А. Виноградова, кадета, члена III и IV Думы, Авк сентьев – эсера А. А. Аргунова, Вологодский – профессора B.В. Сапожникова, министра просвещения в Сибирском правительстве, Чайковский – эсера В. М. Зензинова. Алек сеев, доживавший свои последние дни, немало бы удивил ся, если бы узнал, что он попал в «заместители» к малоиз вестному генералу Болдыреву.
Директория получила временный мандат – до 1 января 1919 года. Если бы к этому времени удалось собрать вместе более половины членов Учредительного собрания (исключая из расчёта большевиков и левых эсеров), власть перешла бы к нему. В противном случае мандат продлевался до 1 февраля, а потом Учредительное собрание брало власть в свои руки, даже если бы собралось менее половины его членов (но более трети).
Было также решено, что с образованием Директории прекратят существование все местные правительства, а также Сибирская областная дума.
23 сентября на заключительном заседании Государственного совещания состоялось торжественное провозглашение новой власти – Временного Всероссийского правительства (Директории).[904]
Астров был на Юге, Чайковский – в Архангельске. Реально состав Директории сложился такой: Авксентьев, Болдырев, Виноградов, Вологодский и Зензинов. Председателем был избран Авксентьев.
Ввиду приближения фронта Директория не могла долго оставаться в Уфе. Екатеринбург тоже был недалеко от фронта. Встал вопрос о переезде в Омск, где уже имелся готовый аппарат власти.
Омское правительство эсеры считали реакционным. К тому же как раз в сентябре в Омске произошли события, не предвещавшие ничего хорошего. Воспользовавшись отсутствием нескольких министров, левые члены Сибирского правительства, В. М. Крутовский и М. Б. Шатилов, договорились с председателем Сибирской думы И. А. Якушевым о введении в правительство ещё одного левого министра, известного сибирского литератора и этнографа А. Е. Новосёлова. 21 сентября все четверо были арестованы по распоряжению начальника омского гарнизона полковника В. И. Волкова. Находясь под арестом, Крутовский и Шатилов написали, явно не добровольно, заявления об отставке. Новосёлов же был отвезён в Загородную рощу и убит. После этого арестованные были выпущены, Волкова сняли с должности, а офицеры, совершившие убийство, скрылись. Эсеры указывали на Михайлова как на организатора всего этого дела. Чехи сгоряча попытались его арестовать, но не так-то просто оказалось поймать министра финансов, имевшего в городе несколько конспиративных квартир. Вопрос об участии Михайлова в заговоре так и не выяснился.[905]
Убийство Новосёлова не заставило Авксентьева отказаться от переезда в Омск. Председатель Директории надеялся, что Болдырев, как главнокомандующий, сумеет взять военных под свой контроль, а реакционный дух омских бюрократов Директория постепенно нейтрализует путём «обволакивания», то есть назначая на ключевые должности своих сторонников.[906]
Решение было ошибочным. Но – так уж непредсказуемы бывают повороты судьбы – благодаря этой ошибке члены Директории выпутались из перипетий Гражданской войны и благополучно закончили свои дни.
Поднявший свой крест
9 октября 1918 года Директория приехала в Омск. Вокзал был переполнен встречающими. На платформе выстроился почётный караул. Оркестр исполнил «Коль славен» и «Марсельезу». Были рукопожатия, речи. Духовенство отслужило молебен. Затем состоялся военный парад. «Всё шло чудесно. Официальная сторона – безупречна», – писал в воспоминаниях генерал Болдырев, член Директории и Верховный главнокомандующий.[907]
Возможно, генерал всё же лукавил, когда писал эти слова. Ведь многие слышали, как войсковой старшина И. Н. Красильников, стоя за спиной членов Директории, сказал кому-то, ухмыляясь: «Вот оно, воробьиное правительство, махни рукой – и разлетится». С самим Болдыревым на параде произошёл конфуз. Надо было объехать фронт и поздороваться с войсками. Но лошадь отказывалась стронуться с места, видимо, боясь войск. Не удавались никакие попытки привести её в движение. Тогда вперёд выехал военный министр Сибирского правительства Иванов-Ринов, и лошадь главнокомандующего послушно пошла вслед за его лошадью. Кто-то из местных военных, видимо, зная, что Болдырев неважный наездник, нарочно подсунул ему плохо выезженную лошадь.[908] Вряд ли Болдырев чувствовал себя «чудесно», плетясь за казачьим атаманом.
Директория, ни перед кем не обязанная отчитываться, формально являлась коллективным диктатором. В России только самодержавные цари имели такой объём прав. И недаром Зензинов, ярый противник монархии, в шутку, но горделиво говорил, что к каждому члену Директории можно обращаться со словами «Ваше однопятое величество».[909] Шутка, однако, мало соотносилась с действительностью. Ибо на самом деле даже вся Директория, в её целом, не имела и пятой части той власти и того влияния, какими обладали русские цари. На то были разные причины, объективные и субъективные.
Председатель Директории Н. Д. Авксентьев родился в Пензе, но значительную часть жизни провёл в Париже, Берлине и Лейпциге. Заканчивал там образование, прерванное на родине (в 1899 году исключён из Московского университета за участие в беспорядках), писал диссертацию по философии, посещал революционный кружок. В России бывал лишь наездами – когда сопровождал транспорты с революционной литературой. Однажды попался, но сумел выкрутиться. В 1905 году вернулся было на родину, но вскоре оказался в Обдорске (ныне Салехард). Бежал оттуда (в те времена убежать из ссылки было делом несложным). В 1917 году – снова в России. Доказывал, что «путь, ведущий к свободе, приведёт к победе». Председательствовал на крестьянском съезде, хотя о русских крестьянах имел лишь теоретические представления. Считался чуть ли не самым правым среди правых эсеров, но на посту министра внутренних дел во Временном правительстве почему-то попустительствовал большевикам.
Приехав в Омск, постарался внушить местному люду, что намерен восстановить крепкие государственные основания. Приказал разыскать старые Положения и штаты и по ним всё строить. Ввёл позабытое было титулование. Себя велел называть «Ваше высокопревосходительство». Окружил себя адъютантами.
Однако вся эта помпа в имперском стиле плохо сочеталась с «опарижаненной», по выражению одного мемуариста, внешностью франтоватого 40-летнего интеллигента, столь не похожего на столпов прежнего строя. А по нём, этом строе, многие начинали уже печалиться, хлебнув лиха за полтора года революции. Кроме того, Авксентьев так и не смог избавиться от свойственной многим революционерам склонности к длинным речам, произносимым с большим подъёмом, но бедным по содержанию. Когда-то такие речи встречались на ура, но теперь они напоминали прошлогоднюю «керенщину». Колчак, вскоре познакомившийся с Авксентьевым, говорил, что это переиздание Керенского.[910]
В. М. Зензинов, сын крупного чаеторговца, был знаком с Авксентьевым ещё со времён революционных кружков. Зензинов сыграл важную роль в создании эсеровской партии и одно время даже входил в её боевую организацию. Был в трёх ссылках, дважды бежал. Из последней ссылки, в Якутию, не бежал, видимо, потому, что серьёзно увлекся исследованиями местного края и участвовал в одной полярной экспедиции.
Быстро оставив террористическую деятельность, Зензинов сосредоточился на внутрипартийной работе и издании эсеровских газет. «Зензинов – честнейший человек, – писал о нём Болдырев, – лично мне он был симпатичен и почему-то всегда представлялся пишущим передовицы для партийной газеты».[911]
Генерал В. Г. Болдырев, сын бедного крестьянина, имел простонародные привычки и соответствующую внешность – плотный, крепкий, рябой (после оспы), бородка клинышком. Благодаря усердию, трудолюбию и целеустремлённости, очень часто свойственным выходцам из низов, пробился в офицеры, окончил Академию Генерального штаба, ещё при царе стал генералом. Особенными дарованиями не обладал, но после Февраля демократическое происхождение ускорило его карьерный рост. Командуя корпусом, сдал Ригу, но к неудачам тогда уже привыкли, никто разбираться не стал, и Болдыреву, поддержавшему Керенского в борьбе с Корниловым, поручили командование армией. На этом посту он отказался выполнять несообразные приказы большевистского главнокомандующего Н. В. Крыленко и попал в тюрьму. Там-то, как говорят, он и сошёлся с эсерами.[912]
В. А. Виноградов, адвокат из Астрахани, просидевший в Думе два срока, был одним из малозаметных членов кадетской партии. Редко выступал и находился в тихой оппозиции к П. Н. Милюкову, считаясь левым кадетом. На этой основе сблизился с Н. В. Некрасовым. И последний, став во Временном правительстве министром путей сообщения, пригласил к себе Виноградова на должность товарища министра. Дружба Виноградова с Некрасовым была известна – потому эсеры и пригласили его в Директорию, что им нужен был левый кадет, а Некрасов, замешанный в предательстве Корнилова, для Сибири не подходил. Человек мягкий, неустойчивый, тяготевший то к правым направо, то к левым, он и в Директории, как и в Думе, ничем не блистал. Но здесь дело сложилось иначе. Авксентьев и Зензинов голосовали, как правило, одинаково. С другой стороны, установилась солидарность между Вологодским и Болдыревым. Голос Виноградова, таким образом, оказался решающим.[913] И этот мягкий балласт, перекатываясь с одной стороны на другую, лишил Директорию всякой устойчивости.
На первых порах Директория сумела добиться некоторых успехов. Сложили полномочия и самораспустились Уральское правительство и Алаш-Орда. Сложил полномочия, но почему-то не захотел распускаться Совет управляющих ведомствами, переехавший из Самары в Уфу. И, наконец, была решена проблема «Сиболдумы», избранной в 1917 году по классовому принципу, без участия состоятельных граждан, и ставшей у всех бельмом на глазу. Авксентьев съездил в Томск и уговорил своих товарищей по партии разойтись. «1 января мы всё равно соберёмся», – сказали они, намекая на предполагаемое открытие Учредительного собрания.[914]
Тем не менее над Директорией быстро сгущались тучи. Офицеры, и не только казачьи, считали её эсеровской, а эсеров и большевиков они полагали «одного поля ягодами». На торжественных банкетах офицеры, отведав спиртного, заставляли оркестр играть «Боже, царя храни», а от присутствующих требовали, чтобы они вставали. Члены Директории, чехи и другие противники монархии демонстративно удалялись. А наутро Болдырев вызывал к себе начальника Омского гарнизона генерала А. Ф. Матковского и требовал, чтобы участники скандальной выходки были наказаны.[915]
Болдырев быстро превращался из военного в политика. Он участвовал в заседаниях Директории (без него там окончательно восторжествовали бы эсеры), вёл переговоры о формировании правительства, встречался с иностранными представителями, присутствовал на официальных мероприятиях. На фронте не бывал. Свои обязанности главнокомандующего (совсем, как Николай II) свёл к выслушиванию ежедневного доклада начальника штаба Ставки генерала С. Н. Розанова и даче общих указаний.
«Я не имел возможности лично осмотреть войска и детально ознакомиться с положением на фронте, что ставилось и ставится мне многими в вину, – писал он в воспоминаниях. – Это было бы вполне справедливо, если бы откинуть некоторые обстоятельства, прежде всего – моё присутствие необходимо было в Директории… кроме того, надо было возможно скорее осуществить вопрос о выдвижении на фронт сибиряков, которым необходимо было хотя бы показаться, и, наконец, непосредственное руководство фронтом было в достаточно прочных руках генерала Сырового, Дитерихса и нескольких других старых и опытных русских генералов и офицеров».[916]
Ян Сыровой (правильнее – Сыровы, но в гражданскую войну его никто из русских так не звал) командовал Чехословацким корпусом и по совместительству – всем Поволжским фронтом. Дитерихс был его начальником штаба. Дела на фронте шли неважно. На севере Сибирская армия и 2-я чехословацкая дивизия ещё с лета, взяв Нижний Тагил, стояли у Кушвы, а на волжском фронте красные продолжали наступление на Уфу. В середине октября 1-я чехословацкая дивизия вдруг снялась с позиций и забила своими эшелонами железную дорогу. Но даже это не заставило Болдырева выехать на фронт, хотя положение там складывалось катастрофическое.
Зато главнокомандующий нашёл-таки время, чтобы «показаться» в одной из омских казарм. Осматривая выстроившийся батальон, он увидел, что половина солдат стоит босиком, другие – без штанов, в одних кальсонах. Командир сообщил, что те, кому не досталось сапог, сидят без горячей пищи – ведь не побежишь босиком на кухню, когда уже выпал снег.[917]
Конечно, всё можно было свалить на военного министра Иванова-Ринова, который и в самом деле неважно относился к своим обязанностям. Но были и объективные трудности. Во всей Сибири, например, не было ни одной суконной фабрики. Ближайшая была в городе Белебее Уфимской губернии,[918] а туда уже пришли красные. Так что рассчитывать можно было только на поставки союзников или закупки за границей. Но для этого надо было вести большую и систематическую работу по определению потребностей, составлению заявок, размещению заказов. Между тем Директория и Сибирское правительство увязли в пререканиях по формированию нового кабинета министров.
В сентябре, ещё до Директории, неожиданно возникла другая проблема. Как уже говорилось, первые мобилизации, при Гришине-Алмазове, прошли довольно спокойно. Когда же за это взялся Иванов-Ринов, начались бунты. Видимо, Иванов-Ринов затронул те возрастные группы, которые Гришин-Алмазов призывать избегал. Новый министр действовал круто. Общества, которые отказывались давать призывников, подвергались «вооружённому воздействию военной власти», как деликатно называли в газетах вызов войск и массовые порки. В одной деревне, Шемонаихе, Змеиногорского уезда на Алтае, выпороли 30 человек.
Особенно крупные восстания в связи с мобилизацией в сентябре 1918 года вспыхнули как раз на Алтае – в уездах Змеиногорском (к югу от Барнаула) и Славгородском (к западу). Местные гарнизоны и милицейские силы оказались настолько слабы, что сломить их сопротивление не составляло труда. Весь Славгородский уезд со 2 по 10 сентября был в руках восставших. Попавших в плен офицеров беспощадно перебили. Восставшие вывесили красный флаг и образовали «рабоче-крестьянский штаб». Советскую форму правления они отвергли.
Кроме мобилизации, крестьян сильно раздражало также стремление правительства прекратить незаконные порубки в казённых лесах. Сибирский мужик всегда считал, что дерево в лесу ничего не стоит – руби и вези. Поэтому попытки властей ввести порубки в законные рамки натыкались на явное и неявное сопротивление. С падением старого режима для порубок наступило раздолье. Но Сибирское правительство стало брать казённые леса под защиту. Совсем рубить, конечно, не запрещалось, но надо было платить деньги. Денег у крестьянина всегда мало, и платить он не любит.
В Мариинском уезде Томской губернии лесничий пожаловался на крестьян села Чумай. Туда были посланы рота пехоты и отряд милиции. Их окружили и взяли в плен. Солдат заперли в холодном сарае, участь же офицеров была ужасна. Впоследствии были обнаружены трупы с вырезанными на спинах ремнями.
Каждая из подобных историй заканчивалась прибытием достаточного количества войск, наскоро проведённым дознанием и расстрелом зачинщиков, подлинных или мнимых.[919] Правительственные чины утверждали, что эти восстания – плод агитации беглых красноармейцев и венгров. Вряд ли это так, ибо известно, с каким недоверием крестьяне, особенно в глухих местах, относятся к чужакам. И судя по знакомству с военными терминами (те же «штабы»), с азами военного дела, по особому озверению в отношении офицеров, главными зачинщиками были местные крестьяне из числа фронтовиков. Последние, как известно, во многих сёлах в это время установили свою диктатуру.
Такие большие восстания были новым явлением для Сибири. В 1905–1907 годах всё в основном сводилось к порубкам.
Судя по всему, Сибирское правительство не пользовалось популярностью и уважением в толще народа. Правительство без царя, но с офицерами – это наводило на подозрения, что господа нарочно так придумали, чтобы притеснять народ. А Директория вообще не укладывалась в голове: сразу пять царей – и все вместе они как один царь. Впрочем, о Директории во многих сибирских селениях, наверно, не успели узнать. Конечно, народному сознанию монархическая власть, столь необдуманно и поспешно изничтоженная в 1917 году, была привычнее и понятнее. Если же не монархическая, то в любом случае – единоличная. Такая власть была ближе и понятнее также и офицерству.
И даже среди интеллигенции, в общественных кругах зрело разочарование в коллективной власти – во всех тех её формах, которые промелькнули за эти полтора года: Временное правительство, бессильное и безвольное, большевики, ни с чем не желающие считаться, кроме своих партийных программ и интересов, однодневное Учредительное собрание – увеличенная копия Временного правительства, Комуч, бледный снимок с большевиков, наконец, Директория, явно нежизнеспособная с первых своих дней. Росло убеждение, что только какой-то авторитетный и мужественный человек, честный, с железной волей, стоящий вне партий, но патриотически настроенный, взяв всю власть в свои руки, способен объединить усилия нации и вывести её из катастрофы.
В октябре в Омске сложился довольно широкий блок общественных организаций, стоящих на антибольшевистских позициях. В него входили представители кадетской партии, торгово-промышленного класса, кооперативов, отдельных организаций народных социалистов, плехановского «Единства» и правых эсеров. Значительная часть «Омского блока», за исключением левого крыла, стояла на той позиции, что временно, на период преодоления кризиса, необходимо установить диктатуру одного лица. Эту идею проповедовали и два наиболее активных деятеля блока – А. В. Сазонов, «сибирский дед», как его называли, – бывший народоволец, а затем видный кооператор, и В. Н. Пепеляев, один из сибирских депутатов в IV Думе, входивший в кадетскую фракцию, позднее – комиссар Временного правительства в Кронштадте, просидевший там две недели в каземате, пока правительству не удалось его оттуда вызволить. «Омский блок» имел связи с казачеством и с военными.[920]
Идея единоличной власти, таким образом, распространялась всё шире, а Директория с первых дней пребывания в Омске оказалась в изоляции.
Престиж Директории ещё более пошатнулся в результате скандала, происшедшего после издания руководством эсеровской партии инструкции местным партийным организациям. Эсеровский ЦК во главе с В. М. Черновым, собравшись 11 октября в Екатеринбурге, принял документ, в коем объявлялось, что на совещании в Уфе вопрос о государственной власти фактически решён не был. Поэтому членам партии предлагалось сплачиваться вокруг съезда членов Учредительного собрания, учиться военному делу и вооружаться, чтобы в любой момент быть готовыми дать отпор реакции. Это было понято, как призыв к созданию собственных вооружённых сил партии. Болдырев потребовал объяснений от Авксентьева и Зензинова. Последний отвечал задиристо, а первый попросил отложить вопрос до тех пор, пока он не распустит Сибоблдуму.[921] Между тем было известно, что оба члена Директории поддерживают постоянные контакты с ЦК своей партии, хотя и не одобряют скандальный документ.
Вопрос постарались замять, что, конечно, не удалось. Противники Директории, прежде всего из числа офицеров, стали говорить, что эсеровская партия готовит заговор с целью захвата власти.
* * *
Колчак прибыл во Владивосток, судя по всем расчётам, 20 сентября или днём раньше. Город, где он много раз бывал, трудно было узнать. В гавани стояло множество иностранных военных кораблей. Среди них возвышался грозный «Хизен», японский броненосец, в прошлом – русский «Ретвизан». Все лучшие казармы, дома были заняты иностранными войсками и представительствами. На улицах хулиганили американские солдаты, самые недисциплинированные среди союзных войск. Фактически в городе всем распоряжались иностранцы, прежде всего – чехи и японцы.[922]
Узнав о приезде Колчака, многие морские офицеры захотели с ним встретиться. Все спрашивали: что делать, кого поддерживать, кому подчиняться? Ознакомившись с обстановкой, Колчак созвал частное совещание морских офицеров. Адмирал сказал, что из всех соперничающих правительств он поддержал бы только Сибирское. Оно возникло, судя по всему, без постороннего влияния и сумело провести мобилизацию. Такое мероприятие нельзя осуществить без известной поддержки населения.[923]
Приезд Колчака совпал с пребыванием во Владивостоке Вологодского, который вёл переговоры об установлении здесь власти Сибирского правительства. Без особых трудов удалось уговорить самораспуститься правительство П. Я. Дербера. Хорват же, чувствуя, очевидно, за собой поддержку Японии, долго не соглашался расстаться с титулом «верховного правителя» России. Пришлось пойти на уступки и дать ему другой титул – «верховного уполномоченного правительства на Дальнем Востоке». Область, подвластная Хорвату, впоследствии иронически именовалась «вице-королевством Хорватия».
21 сентября Колчак посетил Вологодского. Председатель правительства был очень занят и спешил. Беседа была короткой. Адмирал сообщил, что все морские части, находящиеся во Владивостоке, признают власть Сибирского правительства и подчиняются его распоряжениям. В газетах же сообщалось, что Колчак «доложил о восстановлении и задачах Тихоокеанского флота».[924]
В это же время во Владивосток приехал и генерал Гайда, чтобы покрасоваться в лучах славы перед иностранными дипломатами и корреспондентами. Колчак, который натолкнулся на трудности с отъездом из Владивостока, зашёл попросить о содействии в чешский штаб. Там и произошла его встреча с Гайдой. Оба оставили о ней воспоминания. Колчак, правда, ничего не сказал о первом своём впечатлении о собеседнике. Приходится прибегнуть к помощи других лиц – журналиста Л. В. Арнольдова и генерала А. П. Будберга. Высокий, худой, «с тяжёлым, хотя и оригинальным лицом», – так описывал Гайду Арнольдов.[925] Характеристика Будберга гораздо злее: «…Здоровый жеребец, очень вульгарного типа, …держится очень важно, плохо говорит по-русски».[926]
Гайда утверждал, что прежде он уже слышал о Колчаке. Однако на чешского генерала, видимо, произвёл впечатление прежде всего внешний вид посетителя: впалые щёки, говорившие о материальной нужде, поношенный штатский костюм и особенно – мягкая широкополая шляпа, придававшая гостю, как писал Гайда, «пролетарский вид».[927] Гайда подумал, что безработный адмирал ищет, куда пристроиться.
Разговор, однако, у них был долгий – его хватило на две встречи. В пересказе Колчака он выглядит более последовательно и логично – эту версию и возьмём за основу.
Сначала говорили об антибольшевистском фронте на Урале. Колчак спросил, как объединяется командование русских и чехословацких частей. Гайда отвечал, что постоянного объединения пока нет. Вопрос решается в каждом отдельном случае: если больше чехов и словаков, то командование переходит к ним, – и наоборот. Колчак сказал:
– По-моему, это большой недостаток в борьбе, раз нет объединённой вооружённой силы, хотя бы только по опера тивным заданиям.
Гайда напомнил, что он уже делал представление Вологодскому о том, чтобы в целях объединения действий тех и других частей его назначили командующим Сибирской армией.
– Как вы относитесь к этому? – спросил он.
Колчак уклончиво ответил, что этот вопрос надо решить, исходя из общего соотношения русских и чехословацких сил.
Заговорили о Директории. Гайда решительно сказал, что она нежизненна. Колчак спросил, какая власть в таких условиях могла бы быть наиболее эффективна. Гайда уверенно ответил, что только военная диктатура.
Колчак возразил:
– Военная диктатура прежде всего предполагает армию, на которую опирается диктатор, и, следовательно, это может быть власть только того лица, в распоряжении которого на ходится армия, но такого лица не существует, потому что нет общего командования. Для диктатуры нужно прежде всего крупное военное имя, которому бы армия верила, ко торая бы знала это лицо… Диктатура есть военное управле ние, и она базируется в конце концов всецело на вооружён ной силе, а раз этой вооружённой силы нет пока, то как вы эту диктатуру создадите?
Гайда отвечал, что это вопрос будущего, но без диктатуры не обойтись.[928]
В воспоминаниях Гайды нет упоминания о том, что он уже в то время выдвигал свою кандидатуру на пост командующего Сибирской армией. Вместо этого утверждается, будто Колчак заявил, что Гайда должен взять власть в свои руки, и попросил у него «какое-нибудь место, лучше административное». Всё это, конечно, крайне сомнительно. Во-первых, Колчак в то время никого, кроме Алексеева, на посту Верховного главнокомандующего и диктатора представить себе не мог. Во-вторых, Колчак никогда не рвался к военно-административной работе в тылу, вдали от сражений.
На следующий день после второй встречи Гайда со своим штабом уехал из Владивостока, не взяв с собой Колчака, который, по его словам, не успел собраться.[929]
По пути, 28 сентября, на станции Маньчжурия Гайда повстречал Пепеляева, ехавшего во Владивосток. Разговор зашёл о том же – о диктатуре. Стали перебирать возможных кандидатов. Гайда отверг Алексеева: «Очень ценен, как специалист, но он стар для диктатора». Деникин подошёл бы, но он далеко. И Гайда назвал Колчака.
– Его возможно поддержать, – сказал Пепеляев. – Но когда это может быть?
– Дней через двадцать. Чехов мне удастся убедить, – пообещал Гайда.[930]
Дневник Пепеляева, где воспроизведён этот диалог, – очень надёжный источник, ибо последующие события не наложили на него отпечатка (в отличие, скажем, от воспоминаний Гайды и допроса Колчака). Так что можно считать, что в результате двух бесед Гайда, человек в общем-то трудноуправляемый, попал под влияние Колчака.
Несмотря на то что правильное движение по Транссибирской железной дороге ещё не было налажено, Колчаку вскоре после отъезда Гайды как-то удалось выехать из Владивостока. Поезд был в пути 17 дней. 13 октября Колчак приехал в Омск, рассчитывая задержаться здесь на несколько дней, чтобы выяснить, каким образом можно пробраться на Юг. Однако уже на следующий день к нему явился адъютант Болдырева и сообщил, что главнокомандующий просит его посетить.
В беседе с Болдыревым Колчак рассказывал о своих дальневосточных впечатлениях. Экономическое завоевание Дальнего Востока иностранными державами, сказал он, «идёт полным темпом». Болдырев попросил адмирала задержаться в Омске. Колчак, в свою очередь, попросил разрешения поставить свой вагон на Ветке.[931]
Знаменитая омская Ветка, ряд запасных путей и тупичков напротив внушительного здания Управления Омской железной дороги, за это время повидала многих известных людей. Здесь располагалась Директория, пока Сибирское правительство нарочито долго подыскивало для неё квартиры и помещения. Болдырев, кажется, так и остался жить на Ветке, потому что приглянувшийся ему особняк на берегу Иртыша оказался во владении одного из министерств, которое выставило там вооружённую охрану. Здесь же, на Ветке, проживали иностранные дипломаты, которым в маленьком и уже перенаселённом Омске не смогли найти соответствующих их рангу апартаментов.[932] Теперь здесь на несколько дней расположился Колчак.
В тот же день, 14 октября, видимо, после визита к Болдыреву, Колчак написал письмо генералу Алексееву, заявляя о своём желании поступить в его распоряжение в качестве подчинённого. «Вы, Ваше высокопревосходительство, – писал Колчак, – являлись всё это время для меня единственным носителем Верховной власти, власти Высшего военного командования, для меня бесспорной и авторитетной». В этом же письме содержится и первое высказывание Колчака о Директории: «Я не имею пока собственного суждения об этой власти, но, насколько могу судить, эта власть является первой, имеющей все основания для утверждения и развития».[933] (Колчак, надо думать, имел всё же в виду омскую власть в целом, а не пятичленную Директорию.)
После встречи с Болдыревым Колчак нанёс визиты другим членам Директории. В эти же дни он познакомился с представителем Добровольческой армии в Омске полковником Д. А. Лебедевым, с несколькими казачьими офицерами, в том числе с полковником В. И. Волковым. (У последнего, в собственном доме, он вскоре снял квартиру.) Колчак обратил внимание на то, что офицеры, армейские и казачьи, в один голос ругали Директорию, утверждая, что это та же самая «керенщина», которая приведёт к новой катастрофе.[934]
16 октября Болдырев вновь вызвал Колчака и предложил ему пост военного и морского министра. Колчак сначала ответил отказом, не желая, видимо, связывать с Директорией своё имя и судьбу. Болдырев настаивал. Тогда Колчак сказал: «Хорошо, я войду, но повторяю, Ваше превосходительство, что если я увижу, что обстановка и условия будут неподходящи для моей работы и расходятся с моими взглядами, я попрошу освободить меня от должности. Я ставлю ещё одно условие:…считаю необходимым в ближайшее время уехать на фронт для того, чтобы лично объехать все наши части и убедиться в том, что для них требуется».[935]
Направляясь в Омск, Авксентьев намеревался распустить Сибирское правительство, как и все местные правительства. Однако оно вскоре дало понять, кто на самом деле в Омске хозяин. Директории пришлось вступить с ним в длительные и напряжённые переговоры о составе Всероссийского правительства.
Директория предлагала следующие кандидатуры: Колчак (военный и морской министр), Ю. В. Ключников (иностранных дел), В. В. Сапожников (просвещения), С. С. Старынкевич (юстиции), Л. А. Устругов (путей сообщения), Е. Ф. Роговский (внутренних дел) и И. М. Майский (ведомство труда). Сапожников и Устругов уже упоминались в настоящей книге. Ключников был профессором международного права Московского университета и активным участником Ярославского восстания в 1918 году. Старынкевич одно время состоял в партии эсеров и входил в боевую группу. Роговский был членом Учредительного собрания от партии эсеров и членом Комуча, возглавлял там ведомство государственной охраны. Меньшевик Майский в правительстве Комуча руководил ведомством труда.
Против Колчака Сибирское правительство не возражало. Активно возражал только Иванов-Ринов, находившийся в то время на Дальнем Востоке. Он соединял в своих руках три должности (военного министра, главнокомандующего Сибирской армией и атамана Сибирского казачьего войска) и ни с одной из них не желал расстаться. Его поддерживал начальник Штаба Сибирской армии генерал П. А. Белов (до Первой мировой войны – Г. А. Виттекопф). С другой стороны, против Колчака высказывался лидер эсеров В. М. Чернов, считавший, что включение его в состав правительства – это «начало конца». Колчак в это время ещё ничем эсерам не насолил, а в Севастополе активно с ними сотрудничал. Но для Чернова всякий старорежимный генерал или адмирал, видимо, был символом реакции.
Сибирское правительство возражало против Роговского и Майского, настаивая на назначении министром внутренних дел Михайлова, а министром труда – Л. И. Шумиловского, учителя из Барнаула, уже занимавшего этот пост в Сибирском правительстве и в связи с этим вышедшего из рядов меньшевистской партии, чтобы своею деятельностью вольно или невольно не затронуть её репутацию.[936]
Насчёт Шумиловского Директория быстро уступила, но ни в коем случае не желала видеть Михайлова во главе МВД. С другой стороны, члены Сибирского правительства не хотели допускать на этот пост Роговского, с которым молва связывала эсеровские попытки создать собственное войско. Переговоры на какое-то время зашли в тупик. Энергичный Михайлов нравился Колчаку, и однажды он попытался похлопотать за него перед Болдыревым. Генерал ответил, что Михайлов как министр внутренних дел «не внесёт столь необходимого успокоения».
Не было согласия и внутри самой Директории, так что Авксентьев и Зензинов однажды даже пригрозили своей отставкой. На следующий же день начальник Штаба Розанов явился на свой утренний доклад вместе с Колчаком, и они долго убеждали Болдырева в необходимости постепенного сокращения состава Директории до одного человека. Речь шла о том, что Болдырев в конце концов должен был получить диктаторские полномочия. Болдырев отверг этот план, заявив, что уход левых из Директории «будет весьма болезненным и вызовет осложнения с чехами».[937]
По распоряжению Болдырева Колчак стал посещать заседания правительства. Слушал прения министров и угрюмо молчал. Вынужденная бездеятельность его тяготила. Ему казалось, что обе стороны, Директория и правительство, погрязли в спорах и забыли о настоящем деле.[938]
Так оно в действительности и было. На станции Омск, например, скопилось свыше 500 вагонов с беженцами и эвакуированными из Поволжья учреждениями. Они задерживались по той причине, что от властей не было распоряжений о распределении их по местам назначения. Вагоны продолжали прибывать, и Омскому узлу грозила полная закупорка.[939]
В эти дни адмирал редко выходил из квартиры. Но когда он появлялся на улице или в общественном месте, его узнавали, несмотря на гражданскую одежду, и обращали на него внимание. Всё же такие знаменитости, как Колчак, редко залетали в Омск. 29 октября правительственная газета «Сибирский вестник» опубликовала большую статью о Колчаке. «Адмирал Колчак, – говорилось в ней, – несомненно, является одним из самых популярных героев настоящей мировой войны».
Генерал М. А. Иностранцев вспоминал, что Колчака он впервые увидел осенью 1918 года во время обеда в омском ресторане. Ему указали на него, и Колчак, перехватив брошенный в его сторону любопытный взгляд, быстро отвернулся. Но генерал успел рассмотреть его лицо. «…И нужно сказать, – вспоминал он, – оно произвело на меня впечатление своею характерностью и выразительностью. Смуглый цвет кожи и чёрные, с сильною уже проседью волосы придавали ему вид уроженца Юга, а большой нос с горбинкой и гладко, по-английски выбритые щёки и подбородок сообщали его лицу что-то классическое, напоминающее бюсты римских выдающихся людей и императоров. Но особенно выделялись глаза. Весьма тёмные, близкие к чёрным, они поражали своим блеском и глубиной, и по их выражению можно было сказать, что принадлежат они человеку чрезвычайно решительному и энергичному. Однако быстрое перебегание с предмета на предмет и какая-то как будто лихорадочная тень, мелькавшая в них, показывали также на то, что обладатель их – человек в высшей степени нервный и горячий. Главного недостатка Колчака, а именно малого у него количества зубов, несмотря на сравнительно ещё молодые года… я рассмотреть в то время не мог, так как говора его не слышал, и обнаружил уже впоследствии, во время службы при нём, равно как не видел и другого дефекта его всей фигуры – весьма небольшого роста и непропорционально длинных с туловищем рук, ибо адмирал сидел».[940]
Малое количество зубов – следствие цинги, перенесённой в Порт-Артуре. Проседь в волосах в 1918 году была лишь заметной, а через год Колчак почти совсем побелел.
К началу ноября вроде бы удалось достичь соглашения. Михайлов остался на посту министра финансов. Министром внутренних дел был назначен томский губернский комиссар (губернатор) А. Н. Гаттенбергер. Роговский получил пост товарища министра. В его ведении оказалась милиция. Все вроде согласились – кроме Колчака. Он считал, что такой компромисс – это мина, заложенная под правительство. Если есть подозрения, что Роговскому поручено создание сепаратных эсеровских вооруженных сил, значит, надо совершенно отстранить его от этих дел. Упорство Колчака, казалось, завело переговоры в тупик.
Вопрос, наконец, решился на заседании правительства 31 октября, когда Вологодский сообщил, что все усилия его по созданию новой власти не дали результатов, а потому он отказывается от ведения дальнейших переговоров и выходит из состава Директории и правительства. После этого Вологодский встал и вышел из комнаты.
Место председателя занял министр снабжения И. И. Серебренников. Глядя на Колчака, он выдержал паузу и, убедившись, что все остальные тоже на него смотрят, попросил адмирала «спасти положение дел, войти в состав Совета министров, примирившись с присутствием в Совете некоторых нежелательных для него лиц». Колчак, наконец, уступил.[941] После этого Совет министров согласился на назначение Роговского, а Вологодский взял назад своё заявление об отставке.
Достигнув соглашения, Сибирское правительство сложило с себя полномочия. 5 ноября состоялось совместное заседание Директории и Всероссийского правительства. Был зачитан указ о назначениях министров и их товарищей. Девять из 14 министров прежде входили в Сибирское правительство.
На следующий день был устроен банкет. Явилась избранная публика, занявшая заранее распределённые места. Рядом с Колчаком оказались пустые кресла (люди не явились). «Казалось, адмирала выделили из всех прочих и в то же время покинули, – вспоминал товарищ министра народного просвещения Г. К. Гинс. – Его проницательные чёрные глаза иногда озарялись ласковым и горячим блеском. Они становились тогда лучистыми и обаятельными. Адмиралом интересовались, за ним следили, он был слишком яркой фигурой на сибирском горизонте… Но часто адмирал опускал глаза, его длинные веки скрывали их, лицо становилось непроницаемым и угрюмо мрачным». Авксентьев, вдоволь наговорившись, обратил внимание на Колчака, предложил за него тост и попросил выступить. Колчак ограничился несколькими фразами. Присутствующие, удивлённые таким немногословием, сдержанно поаплодировали.[942]
7 ноября Колчак приступил к исполнению своих обязанностей военного и морского министра. Оказалось, что его предшественник не создал никакого аппарата управления военным ведомством. Первые приказы Колчака касались формирования центральных органов Военного министерства и Главного штаба.[943]
Сразу же произошло первое столкновение с Болдыревым. Военный министр, зная, что армия плохо одета и вооружена, заинтересовался тем, куда идёт оружие и обмундирование, поступающее из Владивостока. Возник вопрос и о том, каково соотношение поставок того и другого в армию и милицию. Болдырев воспринял эти вопросы как покушение на свои полномочия. Разговор принял довольно резкий характер, и Болдырев, как говорят, заявил, что Колчак принят в правительство по настоянию одной иностранной державы (видимо, Англии), но он всё же вылетит из него, если будет вмешиваться не в свои дела. Колчак ответил, что подаёт в отставку. Тогда главнокомандующий снизил тон и разрешил военному министру съездить на фронт, чтобы определить размеры необходимых поставок.
Поезда ходили плохо и редко, но Колчак узнал, что в Екатеринбург, для участия в церемонии вручения знамён 2-й чехословацкой дивизии, отправляется расквартированный в Омске батальон английских войск во главе с полковником Джоном Уордом. Колчак обратился с просьбой к англичанам прицепить его вагон к их поезду, что и было сделано.[944] 8 ноября Колчак выехал на фронт.[945] Во время поездки он по своему усмотрению распоряжался поездом, направляя его туда, куда ему было надо. Видимо, Нокс дал соответствующее указание Уорду.
Тем временем против Директории созрел заговор, разветвлённый и хорошо продуманный. Главными его организаторами были Пепеляев и Михайлов. Первый из них был связан крепкими узами с цензовой сибирской общественностью, а через неё – и с более широкими кругами торгово-промышленного класса, крупных и мелких собственников. В этих кругах зрело недовольство тем, что в Сибири складывается такое же положение, как в прошлом году в России: социалисты берут власть за глотку, а она перед ними безвольно отступает. Особые опасения возникали в связи с тем, что на будущий год вся власть должна была перейти к эсеровскому Учредительному собранию.
Среди членов правительства Михайлов был, пожалуй, единственным активным заговорщиком. Но в Совете министров, даже обновлённом, он сохранил роль неформального лидера и во многом опирался на сочувствие и поддержку коллег.
Очень нетрудно было привлечь к заговору казачье офицерство, давно мечтавшее пугнуть «воробьиное правительство». Правда, казачьи офицеры, зная, что им будет поручено таскать из огня каштаны, заявили свои условия. Полковник Волков во время переговоров с Пепеляевым выставил четыре пункта: 1) заверение в том, что в общественных кругах сочувствуют перевороту, 2) участие в заговоре Михайлова, 3) согласие союзников и 4) производство его, Волкова, в генералы. По первым двум пунктам полковник получил от Пепеляева полные заверения. Выполняя третье условие, заговорщики связались с офицерами британской военной миссии Дж. Нельсоном и Л. Стевени. Перед ними пришлось раскрыть карты, и в конце концов они заявили, что союзники гарантируют своё невмешательство, если переворот будет бескровным. Каким-то образом – не исключено, что был разговор с самим Колчаком, – Волкова успокоили и относительно четвёртого пункта.[946]
Наконец, последнее по счёту, но не по значимости – гнездо заговорщиков Болдырев, как ни странно, привёз с собой из Уфы. Начальником Штаба Ставки он назначил генерала С. Н. Розанова, перешедшего фронт в лаптях и крестьянской одежде и в таком виде явившегося в Уфу. Розанов был храбрым воякой, прямолинейным в своих действиях и грубоватым в общении. Политикой не занимался и заговоров не составлял. Остальной же штат офицеров Ставки был набран из профессоров Академии Генерального штаба, захваченной в Казани. Это была тесно сплочённая корпорация, и ни Болдырев, ни Розанов порой не знали, чем они занимаются.[947] Главную роль среди них играл полковник А. Д. Сыромятников, занимавший должность генерал-квартирмейстера и замещавший Розанова во время его отсутствия. Пожив в «Совдепии» и увидев, как энергично закручивают гайки большевики, эти офицеры хотели, чтобы и в антибольшевистском лагере восторжествовали порядок и элементарная дисциплина.
Активную роль в организации переворота играл полковник Д. А. Лебедев, приехавший из Добровольческой армии и считавшийся представителем А. И. Деникина, хотя никаких официальных полномочий у него не было. На Лебедева была возложена задача вести переговоры с командующими армиями, действующими на фронте.
Знал ли Колчак о готовящемся перевороте и участвовал ли в заговоре? На этот счёт среди мемуаристов и историков существуют разные мнения. «Адмирал Колчак не знал о существовании заговора, хотя лично сочувствовал идее военной диктатуры», – это слова М. И. Смирнова, ближайшего сподвижника Колчака.[948] Гинс, для которого переворот произошёл неожиданно, писал в воспоминаниях: «Могу также с уверенностью сказать, что о перевороте ничего не знал и Колчак».[949]
Современные историки, в руках коих имеются документы, неизвестные мемуаристам, пишут осторожнее. К. А. Богданов излагает этот вопрос так, как о нём рассказывал Колчак на допросе. Накануне переворота к нему явилась делегация казачества и офицеров Ставки, говорили о смещении Директории и о передаче ему власти. Колчак же ответил, что у него в руках нет вооружённой силы, что он член правительства, которое ведёт борьбу с Директорией, а потому помимо правительства ничего предпринять не может.[950] Вроде бы заговорщики получили отказ, но почему-то ушли удовлетворённые и приступили к исполнению своих планов. Потому что, как увидим, ответ Колчака соответствовал сценарию заговора.
И. Ф. Плотников справедливо отмечает, что нельзя утверждать, будто «правительственный переворот и провозглашение А. В. Колчака верховным правителем оказались для него совершенно неожиданными». Однако оговаривается, что сам Колчак в подготовку переворота вовлечён не был – «работа проводилась за его спиной».[951]
По правде говоря, в этих оговорках чувствуются попытки «выгородить» Колчака, а между тем в «выгораживании» он не нуждается.
Вряд ли заговорщики стали бы добиваться власти для Колчака, не будучи уверены, что он её примет. А если бы он в решительный момент отказался? Тогда заговорщики могли оказаться в самом тяжёлом положении. Дело могло дойти до суда и расстрела. А кроме того, были моменты, когда личное участие адмирала в организации заговора было необходимо. Например, командующие армиями на фронте ни с кем другим не стали бы окончательно договариваться, кроме как с самим Колчаком.
Но Колчак поддержал этот заговор, или, можно даже сказать, вступил в него, вовсе не потому, что жаждал личной власти. Мы помним, он ведь предлагал такую власть Болдыреву. Но тот отказался. Тогда, может быть, следовало обратиться к Хорвату? Но Хорват был малоизвестен за пределами КВЖД и Дальнего Востока. Он был не строевой, а «железнодорожный» генерал – его вряд ли признала бы армия. Хорвата не поддержали бы и союзники – его прояпонская ориентация уже не являлась секретом. Ещё меньше шансов было у Иванова-Ринова – кроме казачества, его не поддержал бы никто. Тогда кто, кроме Колчака, в том месте и в тот момент мог взять на себя ответственность за судьбы страны?
«Кто, кроме меня?» – этот вопрос встал перед Колчаком второй раз в жизни. Первый раз – когда речь шла об опасной экспедиции по спасению Толля. Мы помним, что тогда Колчак, человек прямой и вовсе не интриган, очень искусно организовал «заговор», чтобы на совещании у великого князя, где он не присутствовал, было принято правильное решение. Теперь второй раз Колчаку пришлось учинять «комплот», и он доказал, что умеет это делать. Но оба раза, с обычной, житейской точки зрения, это были заговоры на свою голову – по существу, против самого себя. Ведь он и тогда, и сейчас допускал возможность того, что дело может кончиться очень плохо. «Лично я считаю, – писал Серебренников, – что адмирал Колчак был осведомлён о заговоре и дал заговорщикам своё согласие принять на себя бремя диктатуры, ибо я уверен, что без этого предварительного согласия адмирала устроители переворота едва ли рискнули совершить таковой».[952]
Другой мемуарист, оставшийся неизвестным, писал, что адмирал «не размышлял, не производил арифметических вычислений, не взвешивал шансов своих и противника, а с полной и безотчётной верой в честность союзников и в волю народа к освобождению, всем сердцем своим ринулся в борьбу». «Не размышлял» – это, может быть, неверно, а то, что не производил арифметических подсчётов – это точно. Тот же мемуарист добавлял, что Колчак непременным условием заговора поставил его бескровность и личную безопасность членов Директории.[953]
Но изложим всё по порядку.
5 ноября у Колчака побывал В. Н. Пепеляев. Все, кто встречался с ним, обращали внимание на его сюртук, который был явно ему маловат. Это ещё более подчёркивало дородность его фигуры. У Пепеляева было бульдожьего типа лицо с мясистыми щеками. Зычный голос мог невзначай оглушить собеседника, а маленькие глазки сквозь стёкла очков неустанно его сверлили. Пепеляев словно олицетворял собою твёрдость и волю – хотя внешность часто бывает обманчива.
По-видимому, Колчак прежде уже встречался с Пепеляевым, потому что они сразу, без околичностей, заговорили о деле – о диктатуре. Пепеляев сказал, что Национальный центр, подпольная антибольшевистская организация в Москве, возлагает основные надежды на Алексеева, но имеет в виду и Колчака. Ему, Пепеляеву, поручено переговорить с адмиралом, чтобы не возникало противостояния этих двух имён. Колчак отвечал, что генерал, если он жив, «для него и сейчас является верховным главнокомандующим». «Если бы я имел власть, – сказал Колчак, – то, объединившись с Алексеевым, я бы отдал её ему». Видимо, вопрос о передаче власти Колчаку в Сибири в принципе был уже решён, и теперь шла речь о том, чтобы избежать столкновения с белым Югом.
– Диктатор должен иметь два основания, – продолжал Колчак, – победу и огромные личные достоинства. У Алексеева пока нет первого, но есть второе. У меня нет ни того ни другого, но если будет нужно, я готов принести эту жертву. Однако форсировать событий не надо. Власти нужно оказать поддержку.
В дальнейшем, отметил адмирал, всё будет зависеть от того, насколько тесной выяснится связь Авксентьева и Зензинова со своей партией.
В тот же день, но уже после беседы, в Омск пришла телеграмма о том, что Алексеев умер ещё 8 октября.[954]
Разговор с Пепеляевым был до столкновения Колчака с Болдыревым. Потом была поездка на фронт. Колчак участвовал в церемонии вручения знамён 2-й чехословацкой дивизии в Екатеринбурге. Потом состоялась его встреча с генералом Гайдой, командующим Екатеринбургской группировкой. Затем был банкет. А после него Колчак и Гайда побеседовали с глазу на глаз. Эта беседа, как и прошлая, описывалась ими по-разному.
Колчак говорил, что речь сначала зашла о положении в Омске, причём адмирал отметил, что компромисс между Директорией и правительством получился очень шатким, единства власти по-прежнему нет, и чем это закончится – неизвестно. Гайда согласился, что Директория – «несомненно, искусственное предприятие». Затем опять перешли к диктатуре, но конкретных имён не обсуждали, хотя Колчак сказал, что диктатором должен стать человек, непосредственно командующий войсками. На это Гайда ответил, что только не из казачьих кругов, потому что «они слишком узко смотрят на этот вопрос». Тем самым он отмёл Иванова-Ринова и Дутова.
Гайда же вспоминал, будто Колчак «зондировал почву относительно себя» и понял разговор в том смысле, что он, Гайда, не будет ему препятствовать.[955]
Оба упустили один момент. Дело в том, что в это время разгорелся конфликт между Гайдой, с одной стороны, и, с другой, – командующим Сибирской армией Ивановым-Риновым и его начальником штаба Беловым. Дело дошло до того, что Гайда потребовал убрать Белова в течение 48 часов, угрожая двинуться на Омск. Ультиматумы и угрозы пойти походом на Омск – это было в духе Гайды.
Похоже, Гайда во время беседы так же торговался с Колчаком, как торговались с Пепеляевым казаки. Волков хотел быть генералом, а Гайда не прочь был занять место Иванова-Ринова.[956]
Потом Колчак выехал на линию фронта, которая по-прежнему проходила близ Кушвы. Встречался и говорил с офицерами и солдатами, воочию убедился, как плохо они вооружены, накормлены и одеты. Некоторые носили такие фантастические одеяния, на которых не было никаких знаков различия.[957] Колчак понял, что Иванов-Ринов и Белов действительно не занимались своим прямым делом.
Тем временем к Гайде явился полковник Лебедев и, видимо, осведомлённый о его взглядах, запросто показал ему список кандидатур, из коих надо было выбрать диктатора. Среди них были Иванов-Ринов, Дутов, Болдырев, Хорват, Дитерихс, Семёнов. Адмирал Колчак, как вспоминал Гайда, стоял на последнем месте. Гайда сказал, что из всего списка он поддержал бы только Колчака: Болдырев для таких целей слишком слаб, а все другие, по его мнению, – монархисты.[958]
С фронта Колчак вернулся в Екатеринбург, и здесь у него была ещё одна беседа с Гайдой. Последний уверял, что они говорили на общие темы, но скорее всего разговор носил вполне конкретный характер. Колчак поддержал Гайду в конфликте с Ивановым-Риновым и Беловым. Болдыреву от имени военного министра была послана телеграмма с настоятельной рекомендацией устранить от командования обоих.[959] После этого поезд полковника Уорда с прицепленным к нему вагоном Колчака направился в Челябинск, в штаб командующего фронтом генерала Сырового.
В Челябинске состоялся официальный завтрак, во время коего Колчак познакомился с Сыровым и Дитерихсом. После завтрака все трое удалились на совещание. Полковник Уорд уединился было в своём вагоне, но к нему вдруг без всяких церемоний вломился французский майор Ф. Пишон с бутылкой шампанского. Оказывается, пришло известие о Компьенском перемирии. Первая мировая война закончилась. Союзники выпили за победу, а потом Уорд отправился погулять по городу, «разбросанному и покрытому снегом», во многом похожему на Омск.
Когда он вернулся, ему сообщили, что совещания окончены и надо возвращаться в Омск. Это удивило англичанина: ранее предполагалось, что адмирал съездит также на Уфимский фронт. Если судить по дальнейшим событиям, совещание в Челябинске для Колчака было не очень удачно. Чехи считали, что Директория находится в их руках и никакой диктатор им не нужен. С Дитерихсом же у Колчака отношения, видимо, не сложились с самого начала. Не исключено, что с генералом тоже вели переговоры и что он был знаком с тем списком, который возил с собой Лебедев. В таком случае, он смотрел на Колчака как на соперника и пришельца, явившегося на всё готовое.
Спешный отъезд из Челябинска мог иметь две причины: либо пришли какие-то известия из Омска, либо на фронт Колчака просто не пустили.
Генерал Сыровой, полный и грузный, с чёрной повязкой, прикрывавшей утраченный правый глаз, был похож на Кутузова. Но это, видимо, было чисто внешнее сходство. Войну он вёл спустя рукава. Армия отступала, а генерал больше думал не о спасении России от супостатов, а о возвращении в своё отечество, тем более что пришло такое радостное известие. На фронте Колчак ничего хорошего увидеть не мог, и для чехов был полный резон поскорее избавиться от беспокойного министра.
Около 11 часов утра на следующий день, 16 ноября, поезд Уорда прибыл в Петропавловск. Здесь пришлось подождать около часа, потому что навстречу шёл поезд генерала Болдырева. Главнокомандующий решил, наконец, съездить на фронт. Ровно в 12 часов Колчак вошёл в вагон Болдырева и вернулся оттуда в пять вечера. Он был настолько голоден, что не стал ждать, когда в его вагоне приготовят обед, а пошёл к Уорду с просьбой что-нибудь перекусить.
И Колчак, и Болдырев позднее утверждали, что разговор у них вроде был пустячный. Колчак рассказывал, как он ездил на броневике на фронт, а Болдырев сообщил, что в Омске среди казаков какое-то брожение, но он этому значения не придаёт.[960] Однако пустячный разговор не мог идти около пяти часов, причём расстались, надо думать, не очень дружески, если Болдырев не пригласил гостя пообедать.
Перекусив, Колчак начал задавать Уорду вопросы: «Является ли в Англии военный министр ответственным за снабжение армии одеждой, экипировкой и за общее положение британской армии?», «Что подумали бы в Англии, если бы главнокомандующий сказал военному министру, что все эти вещи вовсе его не касаются, что он может иметь при себе небольшое управление из двух чиновников, а не штаб?» и так далее.[961] Видимо, между Болдыревым и Колчаком вновь разгорелся тот самый спор, который они не «доспорили» в Омске.
На следующий день, в половине шестого утра, Колчак прибыл в Омск. В этот день он издал приказ по военному ведомству, объявив о сформировании и начале действия ряда управлений.[962] Но главное, в этот день он, видимо, дал знак, что пора начать. Удручённый плачевным состоянием армии, равнодушием чешского командования, нежеланием Болдырева сотрудничать в общем деле, он, надо полагать, решил, что далее откладывать это дело бессмысленно и опасно.
В Омске в это время шла конференция кадетской партии. По докладу Пепеляева была принята резолюция с осуждением соглашения, принятого на Уфимском совещании, и с признанием временной единоличной диктатуры единственным выходом из создавшегося положения. Вечером заговорщики собрались на последнее совещание. «Участвовали все, – записал Пепеляев в дневнике. – Решено… Полная налаженность».[963]
Это было действительно так. Разведывательный отдел Ставки точно выяснил, где будут находиться Авксентьев, Зензинов, Аргунов и Роговский в ночь на 18 ноября. В поезд генерала Болдырева заранее был назначен офицер связи, который, получив условную телеграмму, стал задерживать все получаемые и отправляемые главнокомандующим телеграммы. Были выключены провода, соединяющие телефоны начальника омского гарнизона генерала Матковского с воинскими частями и штабами. Из Омска заблаговременно были выведены некоторые ненадёжные части.[964]
Директория, похоже, чуть ли не до последнего момента ни о чём не подозревала, что говорит не в пользу Роговского, ответственного за контрразведку. Члены Директории с оптимизмом смотрели в будущее, ожидая своего официального признания со стороны союзников: вот приедет генерал Жанен – и всё решится.[965]
Вечером 17 ноября на квартире Роговского происходило частное совещание группы эсеров. Около полуночи дом был оцеплен казаками из отряда войскового старшины И. Н. Красильникова. Несколько офицеров и рядовых вошли в квартиру. Они произвели обыск, арестовали Авксентьева, Зензинова и Роговского и отвезли их в штаб Красильникова. Здесь их ожидал Аргунов, арестованный в гостинице, где он проживал. Через полчаса всех четверых посадили на грузовик и отвезли за город. У арестованных ёкнуло сердце, когда они проезжали через Загородную рощу, где был убит Новосёлов. Но оказалось, что везут их в Сельскохозяйственную школу, которую отряд Красильникова превратил в свою казарму. Здесь арестованные были заперты в одну из комнат.[966]
Несмотря на выключенные телефоны, Матковскому кто-то всё же доложил, что казаки вышли на улицы и арестовали Директорию. Генерал социалистов не любил, но казачья вольница ему тоже не нравилась. Он приказал частям гарнизона выйти из казарм и силой оружия восстановить порядок. Уже выступила сербская рота Степного корпуса, когда в Ставке заметили, что переворот вот-вот сорвётся. Матковского, поначалу ничего не желавшего слышать, с трудом удалось убедить, что казаки выступили не самочинно. Тогда он отменил свои приказания.[967]
Утром 18 ноября собралось экстренное заседание Совета министров. Вологодский сообщил об аресте двух членов Директории. Пепеляев отметил в дневнике, что сначала дело не клеилось и «могло всё лопнуть», но Михайлов попросил перерыва, «поработал» с министрами, и вторая часть заседания прошла более организованно. Было отвергнуто предложение Вологодского арестовать Красильникова. Особенно резко возражал Г. К. Гинс, который заявил, что Красильников «сделал то, что давно надо было сделать», а у Совета министров нет таких сил, чтобы арестовать заговорщиков. Были и другие выступления в этом же духе. В ходе прений Виноградов вдруг заявил, что слагает с себя обязанности члена Директории.[968] Это означало, что Директория окончательно развалилась.
Констатируя этот факт, Совет министров в своём постановлении отметил, что Временное Всероссийское правительство (Директория) «с самого своего возникновения, не имея единства воли и действия, не пользовалось в глазах населения и армии должным авторитетом» и что «после происшедшего оно ещё в меньшей мере способно поддерживать порядок и спокойствие в государстве». Исходя из этого, Совет министров объявил Директорию прекратившей свою деятельность и взял на себя всю полноту государственной власти.[969]
Возник вопрос: что делать с этой властью? Возвращаться ли к прежнему положению, когда всё решало Сибирское правительство? Большинство было против этого, ибо правительство – это увеличенная в размерах Директория. Здесь ещё труднее добиться единства воли и действия. «Оставалось как будто только одно: диктатура», – вспоминал Серебренников.
В этом смысле и высказался Колчак. Серебренников писал, что произнесённая им речь по существу была программной. «Колчак, как я потом убедился, – добавлял он, – мог временами говорить хорошо и сильно, действуя на слушателей убеждённостью и большой искренностью своих слов. И на этот раз он говорил весьма убедительно и сильно».[970]
После этого правительство рассмотрело заранее заготовленный проект «Положения о временном устройстве власти в России». В первом пункте говорилось: «Осуществление верховной государственной власти временно принадлежит верховному правителю». Ему же подчинялись все вооружённые силы государства (п. 2). Согласно пункту 4, все проекты законов и указов должны были рассматриваться в Совете министров и, по одобрении их, восходить на утверждение верховного правителя».[971]
Когда Совет министров большинством голосов одобрил это «Положение», председатель правительства Вологодский и его заместитель Виноградов заявили о своей отставке. Виноградова особо не удерживали. К Вологодскому же все бросились с уговорами. Он расчувствовался, прослезился – и остался.[972]
Затем приступили к выборам верховного правителя. Розанов, присутствовавший на заседании, предложил Болдырева. Его кандидатуру поддержал и Колчак. Устругов, министр путей сообщения, выдвинул Хорвата. Был выдвинут и Колчак. Когда началось обсуждение кандидатур, его попросили выйти из комнаты. Обсуждение, как вспоминал Колчак, шло долго. Возможно, ему, ожидавшему в кабинете Вологодского, это только так показалось.[973] Согласно приложенному к журналу заседания «Листу закрытой баллотировки» из 14 избирательных записок с именем Колчака оказалось 13. За Болдырева проголосовал, видимо, только Вологодский. Сам он потом писал, что голосовал за Хорвата, но, наверно, перепутал.[974]
Самый левый член правительства, министр труда Л. И. Шумиловский впоследствии не побоялся перед лицом большевистского трибунала произнести следующие слова:
«Я считал, что адмирал Колчак, как сильная личность, сможет сдержать военную среду и предохранить государство от тех потрясений, которые неизбежно грозили справа. Эти мотивы – популярность в демократических странах – Америке и Англии, умение поставить себя в военной среде, подтверждённое его положением в Черноморском флоте, – и заставили меня подать голос за него. Я видел в этом гарантию, что те страшные события, которые происходили перед этим и которые только что произошли, не повторятся. Я голосовал за Колчака как за единственный выход из создавшегося тяжёлого положения… как за меньшее из зол…Я потом пришёл к убеждению, что он плохой верховный правитель. Но я считал его безукоризненно честным человеком. И ни одного факта, который бы разбил мою веру [в него], за весь период мне не удалось узнать».[975]
Когда Колчака пригласили в заседание и ознакомили с результатами голосования, он заявил, что «принимает избрание его от Совета министров в верховные правители и что он в политике своей не пойдёт ни по пути партийности, ни по пути реакции, а главной задачей своей государственной работы, в тесном единении с Советом министров, поставит организацию и снабжение армии, поддержание в стране законности и порядка и охрану демократического строя». В этом же заседании Совет министров присвоил Колчаку звание Адмирала Флота (полного адмирала).[976]
В числе первых посетителей, пришедших к нему как к верховному правителю, были полковник В. И. Волков и войсковые старшины А. В. Катанаев и И. Н. Красильников. Они повинились в том, что «руководимые любовью к родине… по взаимному соглашению и не имея других сообщников», арестовали среди ночи членов правительства Авксентьева, Зензинова, Роговского и Аргунова и заперли их в Сельскохозяйственной школе за городом.[977] На лицах казаков было искреннее раскаяние, а в глазах плясали весёлые зайчики. Он сказал, что отдаст их под суд, а они ушли ничуть не испуганные. Надо было доиграть эту комедию до конца. Как и большевики, он пришёл к власти при помощи «атаманщины» и, видимо, понимал, что с нею ещё придётся столкнуться.
«Атаманщина», большевики, чехи, японцы, мужицкие бунты… Он не забывал об этом ни на час, но сегодня всё это отступило на второй план, создав фон для того ошеломляющего события, которое он ожидал и даже готовил, но в которое, наверно, не верил до последнего момента. Он, офицер из небогатой дворянской семьи, по матери – почти простолюдин, стал в один ряд с русскими царями, получил почти такой же объём власти, хотя пока не на всей территории России, а только на её Востоке. Конечно, и власть была не такая – её ограничивал этот самый фон, составленный из мятежей, пожаров и иностранных вторжений. И, несомненно, он понимал, что это власть только на какое-то короткое время, а чем и как всё закончится – ведает один лишь Бог.
Остаток дня был посвящен главным образом устройству судьбы арестованных. Было решено перевести их в город на одну из занимаемых ими квартир, а затем выслать за границу. Но для этого следовало обеспечить их безопасность в пути (Уорд с готовностью согласился дать английский конвой), выписать заграничные паспорта, запросить китайские и японские власти о пропуске их через свою территорию и т. д.[978] К концу дня Адмирал «чрезмерно устал», как записано в дневнике Пепеляева.
Была уже ночь, когда В. Н. Пепеляев, Д. А. Лебедев и генерал А. И. Андогский, начальник Академии Генштаба, засели за обращение к народу. У них под рукой было несколько проектов, из которых один (неоконченный) принадлежал Колчаку, другие – офицерам Ставки.[979] Окончательный текст обращения «К населению России» был опубликован на следующий день:
«18 ноября 1918 года Всероссийское Временное правительство распалось.
Совет министров принял всю полноту власти и передал её мне – Адмиралу Русского Флота, Александру Колчаку.
Приняв Крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, – объявляю: я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной Армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашённые по всему миру.
Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, труду и жертвам!»[980]
Слова о том, что народ сам изберёт себе образ правления, который пожелает, означали, что верховный правитель по окончании гражданской войны предполагает собрать новое Учредительное собрание. (В новогоднем обращении, опубликованном 14 января 1919 года, оно было названо Всероссийским Национальным собранием.[981]) Слова о «кресте власти» взяты, скорее всего, из колчаковского проекта. Это выражение адмирал употребил также в своём разговоре по прямому проводу с Болдыревым: «Я принял этот тяжёлый крест как необходимость и как долг перед родиной».[982]
Делами, связанными с Директорией, занимался в основном министр юстиции С. С. Старынкевич. Он же посещал четверых арестованных – сначала в Сельскохозяйственной школе, потом – на квартире Авксентьева. Им сказали, что они свободны, но за пределами квартиры правительство не гарантирует им безопасность. В первый день по переезде в город их свободно посещали родственники, друзья и знакомые. Но в их числе оказались чешские офицеры, и посещения пришлось прекратить.
В ночь на 21 ноября все четверо были вывезены из Омска особым поездом в сопровождении русско-английского конвоя. Поезд доставил их до станции Чаньчунь – дальше дорога на юг контролировалась японцами.[983] Все высылаемые получили от казны пособия: Авксентьев, Зензинов и Роговский – по 25 тысяч франков, Аргунов, как человек семейный, – 47 тысяч.[984]
Перед отъездом из Китая они опубликовали совместное заявление с протестом против учинённого над ними насилия. Примечательно отсутствие в нём личных выпадов против Колчака. Больше всех досталось Старынкевичу, Вологодскому и казачьим офицерам. О получении пособия от казны не упоминалось.[985] Вскоре «напарижаненный» Авксентьев и его спутники вернулись в Париж и там сильно мешали допуску Омского правительства, как представителя России, к участию в Версальской мирной конференции. Впрочем, через некоторое время Авксентьев стал призывать западные страны к поддержке Колчака и Деникина, считая их способными к демократическому перерождению.[986]
Генерал Болдырев был в Уфе, когда до него дошло наконец известие о перевороте. Поскольку в армии теперь оказалось два главнокомандующих – Колчак и Болдырев, – генерал Сыровой издал приказ, чтобы исполнялись только его распоряжения. Вечером 19 ноября Болдырев вызвал Колчака к прямому проводу. Разговор принял резкий характер, причём Болдырев требовал немедленно восстановить Директорию. Он также сказал Колчаку, сославшись на Дитерихса, что его распоряжений как главнокомандующего «слушать не будут».[987] Собеседники ни о чём не договорились, и Болдырев выехал в Омск. За день до переворота, будучи ещё единственным главнокомандующим, он издал приказ о присвоении чина генерал-майора полковнику В. О. Каппелю,[988] что оказалось последним его делом на этом посту.
В Омск Болдырев приехал дня через три, уже остывшим и убедившимся, что былого не возвратить. Сразу по прибытии его попросили к адмиралу. На этот раз разговор протекал спокойнее. Колчак предложил Болдыреву выбрать новую должность по своему желанию. Самолюбие не позволило генералу принять это предложение.[989] 28 ноября он отбыл во Владивосток, получив от казны пособие в 50 тысяч франков.[990] Колчак послал Хорвату телеграмму с просьбой беспрепятственно пропустить в Японию генерала Болдырева, его личного секретаря и двух адъютантов.[991]
21 ноября состоялся суд по делу Волкова, Красильникова и Катанаева. Председательствовать был назначен генерал А. Ф. Матковский, с нормами юстиции малознакомый. Обвинителя почему-то не назначили. В его отсутствие защитникам без труда удалось доказать, что преступление, в котором обвиняются офицеры («посягательство на верховную власть с целью лишить её возможности осуществлять таковую»), совершено не было: арест Авксентьева и Зензинова не разрушил Директорию. Подразумевалось, но не говорилось прямо, что с юридической точки зрения переворот совершил Совет министров, а не три офицера. В связи с этим суд постановил считать их «в предъявленном им обвинении по суду оправданными».[992]
Колчак впоследствии говорил, что он тогда дал понять, что не допустит кары над этими людьми, что всю ответственность за происшедшее он берёт на себя. Суд же нужен был для того, подчёркивал он, чтобы придать гласности обстоятельства переворота.[993] Предполагалось, в частности, осветить антигосударственную деятельность эсеров в те дни. Это отчасти удалось. Защитники, правда, не смогли доказать прямую связь Авксентьева с группой Чернова, но явное попустительство с его стороны было налицо. Зензинов же и Роговский поддерживали с этой группой тесный контакт. Защитники указывали и на то, что эсеровские руководители, помимо попыток создания собственных вооружённых сил, занимались хищением средств из Уфимского казначейства, направляя их на партийные нужды.[994]
Вскоре после суда Волков, как и было ему обещано, получил чин генерал-майора. Красильников и Катанаев стали полковниками.
Генерал М. А. Иностранцев писал в воспоминаниях, что в массах городского населения Сибири переворот был встречен «довольно равнодушно». Среди интеллигенции же «большинство радовалось совершившимся событиям, чувствуя, что с установлением диктатуры… если не исчезнут совершенно, то во всяком случае ослабеют внутренние партийные раздоры и борьба… Наконец, были и среди интеллигенции люди, обнаружившиеся, впрочем, значительно позже, которые принципиально осуждали переворот… и, не будучи настоящими большевиками, тем не менее не желали ни правых, ни эсеров, а чего-то ещё левее. Но таких было очень мало».[995]
Ещё спокойнее, чем городские низы, отнеслось к установлению диктатуры крестьянство. Правда, из Иркутской губернии шли сообщения о том, что омский переворот населением «был принят как монархический, заговорили о реставрации, пало поступление налогов».[996] Но это было явное искажение действительности, поскольку губернаторское место в Иркутске занимал эсер П. Д. Яковлев.
Кадетская конференция, работавшая 18 ноября последний день, послала восторженное приветствие новой власти.[997] На следующий день о поддержке правительства Колчака заявил Омский блок, в том числе входившие в него социалистические группы.[998] Приветственные телеграммы приходили от многих воинских частей. С Дальнего Востока пришли телеграммы от Хорвата и Иванова-Ринова, которые уведомили адмирала о полной своей лояльности.[999]
Но возникли и трудности. Из Уфы, от Совета управляющих ведомствами, который упорно отказывался самораспуститься, на имя Вологодского пришла телеграмма с требованием «освободить арестованных членов правительства, объявить врагами родины и заключить под стражу виновников переворота, объявить населению и армии о восстановлении прав Всероссийского временного правительства». В противном случае авторы телеграммы угрожали объявить Вологодского «врагом народа», довести об этом до сведения союзников и мобилизовать силы для свержения «реакционной диктатуры».[1000]
Зашевелились и члены Учредительного собрания, съехавшиеся в Екатеринбург. 19 ноября все они (человек 60–70) устроили экстренное заседание в гостинице «Пале-Рояль» (в маленьком уездном городке в ходу были парижские названия). После бурных дебатов съезд членов Учредительного собрания постановил «образовать из своей среды комитет… уполномочить его принимать все необходимые меры для ликвидации заговора, наказания виновных и восстановления законного порядка и власти на всей территории, освобождённой от большевиков». «Всем гражданам, – говорилось в резолюции, – вменяется в обязанность подчиняться распоряжениям комитета и его уполномоченных». В состав комитета вошли почти одни эсеры: В. М. Чернов, В. К. Вольский, Н. В. Фомин и др. Одновременно была принята и другая резолюция, не столь многословная, но деловая: «…тотчас же захватить типографию одной из буржуазно-реакционных газет» и отпечатать там воззвание против Колчака.[1001]
Воззвание было напечатано, попало в войска, и вскоре в «Пале-Рояль» явились солдаты одного из сибирских полков, чтобы бить учредиловцев. Полному разгрому гостиницы помешал Гайда. Он разместил в ней роту чехословацких солдат, а учредиловцам посоветовал в 24 часа покинуть Екатеринбург. Члены Учредительного собрания выехали в Челябинск, к генералам Сыровому и Дитерихсу.[1002]
И тот и другой тёплых дружеских чувств к Колчаку не питали. (Дитерихс, впрочем, не жаловал и Директорию.) К тому же они должны были учитывать позицию своего политического руководства – Отделения Чехословацкого Национального совета в России. Главные его деятели во главе с Б. Павлу в это время отправились во Владивосток встречать военного министра Чехословацкой республики генерала М. Р. Штефанека, который должен был совершить инспекционную поездку в Чехословацкий корпус. В отсутствие их другие члены Отделения, гораздо более левые, приняли официальное заявление, в коем осудили переворот 18 ноября и выразили надежду, что «правительственный кризис, созданный арестом членов Временного правительства, будет разрешён законным путём».[1003]
Ввиду всего этого Сыровой и Дитерихс долгое время не признавали Колчака верховным правителем и главнокомандующим. Причём Дитерихс выражался даже более резко и определённо.[1004] Сразу после переворота чехи намечали провести военную демонстрацию против Омска,[1005] но быстро одумались, увидев, что союзники этому не сочувствуют.
Англичане, в своё время негласно осведомлённые о заговоре, поддержали Колчака с самого начала. Полковник Уорд сообщил ему, что расквартированный в Омске английский батальон находится в его распоряжении. Полковник Фассини Комосси, командир итальянского батальона, прибывшего в Красноярск, приветствовал Колчака как верховного правителя.[1006] Позиция других союзников, в том числе американцев, французов и японцев, была сдержанно-выжидательной.[1007]
24 ноября в «Правительственном вестнике» была опубликована декларация, подписанная Колчаком и членами правительства. В ней торжественно провозглашалось: «Считая себя правомочным и законным преемником всех бывших до конца октября 1917 года законных правительств России, правительство, возглавляемое верховным правителем адмиралом Колчаком, принимает к непременному исполнению, по мере восстановления целокупной России, все возложенные на государственную казну денежные обязательства, как то: платёж процентов и погашений по внутренним и внешним государственным займам, платежи по договорам, содержание служащих, пенсии и всякого рода иные платежи, следуемые кому-либо по закону, по договору или по другим законным основаниям». После этого французские представители заметно подобрели, а чехи поубавили свой гонор.
Учредиловцы, высланные Гайдой из Екатеринбурга, в Челябинске ничего не добились. Чехи были заняты какими-то своими делами и почти не обращали на них внимания. Решено было ехать в Уфу, под крылышко Совета управляющих ведомствами бывшего Комуча.
Здесь разрабатывались планы провозгласить Совет управляющих правительством Европейской России, взять под свой контроль золотой запас, вывезенный из Самары, и двинуть на Колчака некоторые части Народной армии, сняв их с фронта. Чешское командование энергично противодействовало этим мерам, уверяя, что с Колчаком оно само разберётся, но как-то всё откладывало это дело. Тем временем учредиловцы и члены Совета управляющих вели пропаганду против Колчака в народе и войсках, задерживали телеграммы из Омска, стараясь прервать его связь с фронтом, Оренбургом и Уральским казачеством, делали попытки выемки финансовых средств из отделений Банка.
3 декабря из Омска был передан приказ Колчака об аресте бывших членов Самарского Комуча и Совета управляющих ведомствами. С этой целью из Челябинска в Уфу был послан 41-й Уральский полк. Сыровой негласно предупредил эсеров, и их лидеры успели скрыться. Военные арестовали и доставили в Омск около 30 деятелей бывшего Комуча. Колчак, просмотрев списки арестованных, сразу увидел, что все они – случайные люди, никто из них не подписывал телеграмму Вологодскому. Верховный правитель вызвал министра юстиции и спросил: «Что делать с этими лицами?» Старынкевич ответил, что надо произвести следствие, возможно, они участвовали в попытке мятежа, а кроме того, в Уфе было напечатано большое количество денег, которые ушли на нужды эсеровской партии – с этим тоже надо разобраться. «Хорошо, – сказал Колчак, – в таком случае возьмите этот вопрос на себя, мне лично эти лица не нужны».[1008]
Главные эсеровские деятели, в том числе Чернов и Вольский, ушли в подполье. На нелегальном совещании было решено сосредоточиться на борьбе с «буржуазной реакцией» и начать переговоры с командованием приближающейся Красной армии. Чернов, правда, предлагал сначала «нащупать почву». Ближайшей целью считалась организация восстания в Уфе перед приходом красных.
Восстание организовать не удалось. Когда большевики взяли Уфу, девять членов эсеровского ЦК вышли из подполья и вступили с ними в переговоры.[1009] Чернов же выехал в Москву, жил там формально на нелегальном положении, но выступал на митингах, призывал к борьбе против Колчака и Деникина, руководил эсеровскими организациями в Сибири. Чекисты, конечно, знали о его местонахождении, но не трогали его. В сентябре 1920 года, когда он решил выехать за границу, ему не стали чинить препятствий – учитывая, очевидно, его заслуги в борьбе с Колчаком и Деникиным.[1010]
Вольский, признавший Советскую власть, но большевиком не ставший, начиная с 1923 года неоднократно арестовывался и ссылался, а в 1937 году был расстрелян. Из числа перебежчиков прижился у большевиков только Майский. Впоследствии он стал полпредом в Финляндии и послом СССР в Великобритании.
События в Екатеринбурге и Уфе эхом отозвались в Оренбурге. Атаман Дутов не мечтал о всероссийской власти. Он хотел только сохранить свою власть в Оренбургском крае, который считал своей вотчиной, и старался ладить с любым правительством, которое его не трогало. Он дружил с Комучем, потом – с Директорией, а когда понял, что её песенка спета, сразу же признал Колчака. Но, наверно, не подозревал, что за время дружбы с эсерами в его собственном окружении появились их сторонники.
В ночь с 1 на 2 декабря в Оренбурге состоялось тайное совещание с участием главы Башкирского правительства Ахмета-Заки Валидова, командующего Актюбинской группой полковника Ф. Е. Махина, атамана 1-го округа Каргина и члена Учредительного собрания В. А. Чайкина. Валидов предлагал арестовать Дутова, объявить о непризнании Колчака и подчинении Учредительному собранию. Махин и Каргин указали на то, что такой переворот может привести к развалу фронта. Разошлись, ни на чём не согласившись, а потом о тайном совещании кто-то донёс. На следующий же день Махин был командирован за границу, Каргин уволен с должности, а башкирские полки направлены из Оренбурга на фронт. Валидов перешёл на сторону Советской власти и увлёк за собой значительную часть своих войск, другие разошлись по домам. Это подорвало фронт и открыло большевикам дорогу на Уфу.
И. Г. Акулинин, один из видных оренбургских казачьих офицеров, писал, что башкиры – храбрые и дисциплинированные воины, склонные, однако, слепо следовать за своими предводителями, которые манипулировали ими, как хотели.[1011] Впрочем, есть свидетельства, что башкиры в массе своей относились к большевикам резко отрицательно и около половины башкирских частей, уведённых Валидовым, вернулись назад. В конце 1918-го – начале 1919 года был сформирован Башкирский корпус, входивший в состав Отдельной Оренбургской армии.[1012]
Тем не менее переворот 18 ноября не обошёлся без потерь для антибольшевистского движения на Востоке России. Оно вышло из него более консолидированным, но его политическая база стала более узкой. Теперь это было и в самом деле Белое (а не антибольшевистское) движение.
Тут же, однако, выявились проблемы внутри Белого движения. 23 ноября из Читы на имя Вологодского пришла телеграмма от атамана Семёнова. Он сообщал, что не может признать Колчака верховным правителем, поскольку Адмирал, как говорилось в телеграмме, находясь в Харбине, не давал ни оружия, ни обмундирования Особому маньчжурскому отряду, который вёл неравную борьбу с «общим врагом родины». Атаман заявлял, что на пост верховного правителя он рекомендует Деникина, Хорвата или Дутова – «каждая из этих кандидатур мною приемлема».
В тот же день от Семёнова пришла ещё одна телеграмма – настоящий ультиматум: если в течение 24 часов не будет получено сообщение о передаче власти одному из указанных лиц, атаман объявит об автономии Восточной Сибири.[1013] Семёнов, как видно, решил использовать перемену власти в Омске, чтобы приступить к осуществлению своего плана выделения части Сибири из России.
К делу был привлечён Дутов, который послал Семёнову длинную телеграмму, упрашивая признать власть Колчака. Переговоры по прямому проводу с атаманом и его подручными вёл генерал Б. И. Хорошхин, председатель Совета Союза казачьих войск. Он напирал на казачью солидарность: все казачьи войска на Востоке России уже признали верховного правителя, и только Семёнов «отделяется от общей семьи». Семёнов, однако, продолжал гнуть своё. Задерживая правительственные грузы на железной дороге, нарушая телеграфную связь, он давал понять, что в его силах вообще порвать сообщение с Дальним Востоком.
Однажды, вспоминал Гинс, он сидел на заседании Совета верховного правителя (новый орган, созданный с приходом к власти Колчака). В кабинет вошёл «изящный и статный полковник с симпатичной наружностью». Это был Лебедев, недавно назначенный на пост начальника Штаба верховного главнокомандующего. Он сказал, что только что говорил с Семёновым по прямому проводу и поставил перед ним вопрос: «Признаёте ли вы власть Адмирала?» – «Не признаю», – отвечал атаман. Тотчас же было решено объявить действия Семёнова «актом государственной измены» и отрешить его от всех должностей. Это было оформлено приказом № 61 от 1 декабря 1918 года.[1014]
Мера была явно поспешная и непродуманная. О подписании и отсылке приказа не сообщили даже Хорошхину. Генерал был поставлен в неудобное положение, когда узнал об этом от самого атамана. Семёнов заявил, что после телеграммы Дутова он хотел было «предпринять благой выход», но теперь этот выход «забаррикадирован» самим Адмиралом, и он не знает, «какой можно предпринимать ещё выход». Что же касается задержки грузов, добавил атаман, то это клевета, и «все лучшие силы казачества Востока» не верят Колчаку.[1015]
Решено было предпринять против Семёнова карательную экспедицию. Генерала Волкова отправили в Иркутск с приказом собрать там войска и двинуть их на Читу. Местные казачьи отряды, юнкера, солдаты гарнизона – вот всё, что удалось собрать Волкову. С этим не очень внушительным воинством он был задержан японцами близ Байкала. Они заявили, что не допустят в Забайкалье военных действий. Вообще же в этом конфликте Семёнова поддерживали японцы, Колчака – англичане, а французы занимали уклончивую позицию.[1016]
Конфликт затянулся и долгое время оставался неурегулированным. Омским властям приходилось терпеть бесконечные бесчинства Семёнова и его подручных: полные и частичные реквизиции грузов на железной дороге, в том числе военных, перехватывание правительственных телеграмм, вмешательство в действия администрации железной дороги, выемки денег из отделения Государственного казначейства, обыски и грабежи пассажиров, а также расстрелы на месте тех, кто был признан «большевистским агентом» (чаще всего гибли невинные люди).
* * *
Декабрь 1918 года выдался морозным. Адмирал ездил по Омску в лёгкой солдатской шинели, инспектировал войска, выступал перед солдатами. Когда ему посоветовали одеваться теплее, он резко ответил:
– Пока наши солдаты ходят раздетыми, я о себе заботиться не имею права![1017]
Судя по дневнику Вологодского, Колчак слёг около 11 декабря. У него обнаружили запущенную форму воспаления лёгких.[1018] Болезнь длилась долго и протекала тяжело также и потому, что верховному правителю «мешали» болеть то некоторые настырные личности, то разыгравшиеся в Омске драматические события. Сказывалась и бытовая неустроенность.
С конца ноября он перебрался в здание Главного штаба. Жить в этом муравейнике среди постоянно снующих людей было беспокойно и неудобно. В начале декабря было решено отвести под резиденцию верховного правителя дом купцов Батюшкиных – тот самый одноэтажный особняк на берегу Иртыша, в который не пустили Болдырева. Пока оттуда выезжало Министерство снабжения, пока здание ремонтировалось – Колчак заболел. В необжитой ещё дом пришлось въезжать с температурой и в полуобморочном состоянии. Первыми, кого принял Колчак в новой резиденции, были французские представители – Реньо, с которым он ехал осенью во Владивосток, и генерал Жанен, старый знакомый ещё по императорской Ставке, которого он почти позабыл.
Ожидалось, что Жанен привезёт официальное признание омского правительства, но он приехал совсем с другим. Его направили в Россию, чтобы доделать кое-какие дела, оставшиеся от минувшей войны, в частности же – ликвидировать большевистское правительство, связанное с поверженным кайзером. Те, кто посылал Жанена, смутно представляли себе положение в России – по обе стороны фронта. Жанену были предоставлены широкие полномочия. Генерал, во время войны не командовавший никаким соединением крупнее пехотной бригады, должен был возглавить все союзные войска к западу от Байкала, в том числе и русские. Ноксу поручались организация тыла и снабжение армии.
Долго задерживаться в России Жанен не собирался. Высадившись во Владивостоке, он заявил: «В течение ближайших 15 дней вся Советская Россия будет окружена со всех сторон и будет вынуждена капитулировать».[1019] Видимо, генерал имел столь же смутные представления о положении в России, как и его парижское начальство. Накануне приезда Жанена в Омск его полномочия были подтверждены телеграммой глав правительств Англии и Франции – Д. Ллойд-Джорджа и Ж. Клемансо.[1020]
15 декабря состоялась встреча с Адмиралом. «Колчак полагал, – писал Жанен в своём „Сибирском дневнике“, – что теперь, когда он стал у власти, державы откажутся от проектируемого назначения меня и Нокса. Радиотелеграмма неприятно разочаровала его. Он обращается к нам с бурными, многословными и разнообразными возражениями сентиментального характера». Суть этих «сентиментальных» возражений сводилась к тому, что нельзя быть диктатором, не имея в своём подчинении армии, что армия была создана не союзниками и воюет без них, что она потеряет доверие к верховному правителю, если будет отдана в руки иностранцев, и что общественное мнение «не поймёт этого и будет оскорблено».
Реньо, сохраняя доброжелательное спокойствие, пытался приводить всё новые и новые аргументы в пользу принятого решения, особенно напирая на обещанную союзниками помощь. Жанен заявил, что он, как «дисциплинированный солдат», будет настаивать на выполнении данного ему приказа. «Хотя, – добавил он с ноткой презрения, – обязанности, которыми меня хотят почтить, не доставляют мне ни малейшего удовольствия, и я бы от них охотно избавился».
У больного окончательно лопнуло терпение. «Чем объяснить эти требования, это вмешательство?! – воскликнул он. – Я нуждаюсь только в сапогах, тёплой одежде, военных припасах и амуниции. Если в этом нам откажут, то пусть совершенно оставят нас в покое. Мы сами сумеем достать это, возьмём у неприятеля. Это война гражданская, а не обычная. Иностранец не будет в состоянии руководить ею. Для того чтобы после победы обеспечить прочность правительству, командование должно оставаться русским в течение всей борьбы».[1021]
Первая встреча не привела ни к какому соглашению, переговоры затянулись. В конце концов при помощи генерала Сырового удалось найти компромисс.[1022] 19 января 1919 года верховный правитель издал приказ, согласно которому Жанен вступил в командование всеми войсками в Сибири, за исключением русских и японских, а Нокс взял в свои руки дело заграничного снабжения армий и помощи в тылу.[1023]
Под начало Жанена прежде всего перешли чехословацкие части. Но этого ему было мало. Вскоре стали создаваться польские части из военнопленных и проживавших в Сибири поляков, заявивших себя «иностранцами», чтобы избежать мобилизации на фронт. Потом появились, несмотря на недовольство русских властей, латышские и эстонские подразделения. А Жанен уже присматривался к украинцам, считая их тоже «иностранцами».[1024]
Нокс и Жанен – это были две противоположности, две границы очень широкого и почти мистического для жителей Сибири понятия «союзник» – столько было связано с ним надежд и разочарований. Недаром они, Нокс и Жанен, недолюбливали друг друга.
Нокс быстро приспособился к сибирским условиям и даже в Министерство иностранных дел, случалось, запросто заходил в валенках – прямо к министру, шокируя некоторых не в меру чопорных чиновников.[1025]
Жанен, наоборот, сам постоянно бывал чем-то шокирован: «трясущимся и заросшим бородой» лицом Вологодского, «красными руками» Ключникова, «вылезающими из слишком коротких рукавов», наконец, кучами мусора на улицах сибирских городов.[1026] Действительно, в России всё ещё многие носили бороду и усы, когда в Европе и Америке уже брились. Трудновато было не только с модной одеждой, но и вообще с одеждой. Поэтому у Пепеляева не застёгивался на животе сюртук, у Ключникова же рукава были не по фигуре. А кучи мусора возникли потому, что во время Гражданской войны городское хозяйство по обе стороны фронта пришло в упадок. Позднее эти кучи превратились в горы.
Нокс не рвался командовать. Он выбрал для себя очень важную отрасль (снабжение) и делал это дело добросовестно и энергично. Ездил с Колчаком на фронт, чтобы самому увидеть, в чём нуждаются солдаты. Было известно, что за спиной Нокса стоит британский военный министр У. Черчилль, который действительно хочет победы белых.
Жанен, как писали знавшие его люди, был очень честолюбив, хотел оставить по себе «память в истории». Он был явно и глубоко разочарован, когда ему отказали в верховном командовании. Стал говорить, что русские не любят и не ценят иностранцев, ссылался на пример М. Б. Барклая де Толли, намекая, что и его, Жанена, стратегический талант остался невостребованным на сибирских просторах – и всё из-за упрямства этого бешеного адмирала.[1027]
И, наконец, ещё одно отличие. Нокс мог вспыхнуть и разразиться праведным гневом. Однажды, узнав, что большая партия поставленного им обмундирования застряла на складах и попала к красным, он потребовал себе орден Красного Знамени. В Омске оценили горький юмор английского генерала. К тому же он потом успокоился и вновь взялся за дело. На войне как на войне – бывало, и белые захватывали у красных обозы с очень нужными вещами.
Жанен никогда не выходил из себя, не кричал. Поначалу он нравился многим – весёлый, обходительный. Но вскоре от него в Омске как-то отшатнулись, словно предвидели, как он потом раскроется.[1028]
* * *
Кризис болезни пришёлся на третью декаду декабря. В эти дни Колчак почти не вставал и с трудом говорил. В Омске ходили разные слухи, в том числе и о возможной смене верховного правителя.
В эти дни у Колчака бывали только Д. А. Лебедев, управляющий делами Г. Г. Тельберг и И. И. Сукин – молодой человек, бывший секретарь российского посольства в Вашингтоне, быстро вошедший в доверие к Адмиралу. Больше никого Колчак не принимал. Исключение было сделано только для делегации Омского блока, в состав которой входили и социалисты. Колчак заставил себя одеться, вышел и, едва держась на ногах, молча выслушал их приветственную речь.[1029]
Вновь возникшее в Омске неустойчивое положение было использовано большевистским подпольем для начала восстания, которое, как предполагалось, должно было перерасти в общесибирское. Восстание давно и тщательно готовилось. Планировалось захватить резиденцию верховного правителя, комендатуру и Главный штаб, а также телеграф, радиостанцию, вокзал, склады с оружием, тюрьму, где было много большевиков и других политзаключённых, и лагерь, в котором содержались пленные красноармейцы и венгры. На узловой станции Куломзино (по ту сторону Иртыша) намечалось разоружить чехословацкий эшелон, взять под свой контроль мост через Иртыш и отрезать Омск от фронта.[1030]
21 декабря, накануне восстания, военная контрразведка арестовала группу втянутых в заговор рабочих и захватила явочную квартиру со складом оружия. Никто из руководи телей в руки контрразведки не попал, но они всё же дали от бой. По каким-то причинам некоторые отряды несвоевре менно получили приказ об отмене восстания, а другие (в Куломзине) вовсе не получили.
В ночь на 22 декабря взбунтовались две роты омского гарнизона. Повстанцы захватили тюрьму и объявили, что все политические свободны. Большевики тотчас примкнули к восставшим, а эсеры и меньшевики заколебались. Но освободители дали понять, что свобода – дар бесценный, которым нельзя не воспользоваться. Волей-неволей арестанты должны были покинуть тёплую тюрьму и идти ночью на мороз.
Восстание в Омске закончилось неудачной атакой на лагерь военнопленных. Утром правительственные войска заняли тюрьму.
Но за рекой, в Куломзине, события развернулись по-иному. Отступившие из Омска повстанцы и местные рабочие дружины разоружили железнодорожную милицию, заняли станцию, депо и посёлок. Утром из города в Куломзино были двинуты войска с пулемётами и артиллерией. Повстанцы отчаянно сопротивлялись, но, не имея артиллерии, долго продержаться не смогли. Их окружили и загнали в депо, где им пришлось сложить оружие. К вечеру мятеж был подавлен.
Солдаты правительственных войск, плохо одетые, были обозлены тем, что им пришлось столько времени стынуть на холоде. Свою злобу они вымещали на пленных. Командирам с трудом удалось остановить расправы. Был создан военно-полевой суд, который милосердием тоже не отличался. По официальным данным, в Куломзине погибли при подавлении мятежа 124 человека, расстреляны по приговору суда 117 и оправданы 24. Правительственные войска потеряли 24 человека убитыми, погибло также семь человек из состава Чехословацкого корпуса.[1031]
Колесики правительственного механизма двигаются независимо друг от друга, но часто их движение фатальным образом совпадает или не совпадает.
22 декабря верховный правитель издал приказ, в котором благодарил войска, участвовавшие в подавлении мятежа. Тех же, кто принимал в нём участие или был к нему причастен, предписывал предать военно-полевому суду.[1032] Кто мог подумать, что на основании последнего пункта, если его толковать очень расширительно, к военно-полевому суду можно притянуть кого угодно?
В тот же день, 22 декабря, в омскую тюрьму явился прокурор, который вёл дело об арестованных в Уфе учредиловцах. Он, наконец, пришёл к выводу о их невиновности и хотел выпустить их на свободу. Но оказалось, что ночью их уже освободили мятежники.[1033]
В этот же день на улицах Омска был расклеен приказ начальника омского гарнизона генерала В. В. Бржезовского о том, что все арестанты, покинувшие минувшей ночью тюрьму, должны в неё вернуться. Вернувшимся добровольно гарантировалась безопасность, так как побег признавался вынужденным. Не явившихся могли расстрелять на месте поимки. Такая же кара грозила хозяевам их квартир.[1034]
Кое-кто из покинувших тюрьму предпочёл скрыться. Но некоторые к вечеру вернулись. А другие были задержаны милицией на улицах и тоже оказались в тюрьме. В числе последних были Г. Н. Саров, редактор уфимской газеты «Народ», и Е. Маевский (В. А. Гутовский), редактор челябинской газеты «Власть народа». Последний из них, меньшевик, был известным петербургским журналистом. Взявшись редактировать «Власть народа», он превратил этот жёлтый провинциальный листок в серьёзную политическую газету. Переворот 18 ноября он не признал. Осложнились его отношения с военной цензурой и вообще с военными властями. Он был арестован и приговорён военным судом к трём месяцам тюрьмы.[1035]
Вечером 22 декабря, в соответствии с приказом верховного правителя, был образован военно-полевой суд. Председателем был назначен В. Д. Иванов, строевой генерал, не имевший никакого понятия о порядке производства судебных дел. К тому же, как он потом сам говорил, это была его вторая бессонная ночь. Он очень устал, был ранен и контужен в голову. Два других члена суда, полковник Попов и солдат Галинин, никакой роли фактически не играли.[1036] По замыслу устроителей, действия суда должны были направляться и контролироваться дежурным адъютантом комендатуры поручиком Н. А. Черченко. Он докладывал председателю суда, кто в чём виноват, доставляя эти сведения из тюрьмы вместе с заключёнными, а потом отчитывался о ходе дел перед начальником гарнизона генералом Бржезовским и комендантом города полковником Бобовым.
В три часа ночи с 22 на 23 декабря в омскую тюрьму явились поручики Черченко и Барташевский. Первый из них принёс записку от председателя суда с просьбой выдать трёх обвиняемых (без указания фамилий). Другой, 20-летний Феофил Барташевский из отряда Красильникова, привёл с собой пехотный конвой. Офицеры потребовали выдать им матроса Бачурина, красного командира, Винтера, коменданта тюрьмы при красных, и Маевского. Затем, углубившись в списки, офицеры назвали также большевиков Руденко, Фатеева и Жарова. Начальник тюрьмы, только что назначенный, незнакомый со всеми формальностями, выдал всех шестерых, взяв только расписку с Барташевского. Заключённые ушли под конвоем и больше в тюрьму не возвращались.[1037]
Через час в тюрьму явился капитан П. М. Рубцов, начальник унтер-офицерской школы. Его сопровождал довольно сильный конвой. У него не было никакой записки, но, ссылаясь на «личное приказание верховного правителя», он потребовал выдачи И. И. Кириенко, видного меньшевика, члена II Думы, а также И. И. Девятова, известного эсера, считавшегося членом Учредительного собрания, хотя по спискам он там не числился.[1038] Оба были приведены, но Рубцов почему-то медлил.
Через некоторое время к тюрьме подошла партия арестованных в числе 44 человек. Это были участники мятежа, выловленные днём. Конвоиры спросили начальника тюрьмы. Рубцов, назвавшись таковым, взял у них список, просмотрел его, присоединил к партии Кириенко и Девятова и приказал одному из своих офицеров всех увести. После этого он оставался в тюрьме до тех пор, пока офицер не вернулся и не доложил, что приказ исполнен.[1039]
Едва ушёл Рубцов, как в тюрьму вновь явился Барташевский. Не имея никакой бумаги, он, ссылаясь на личный приказ верховного правителя, потребовал Девятова, Кириенко и Попова. Начальник тюрьмы объяснил, что первых двух уже увели, а большевик К. А. Попов, бывший председатель Омского совдепа, лежит в тифозном бараке. От общения с тифозным поручик уклонился. Он позвонил куда-то по телефону, взял список заключённых и выбрал членов Учредительного собрания Фомина, Брудерера, Марковецкого, Барсова, Сарова, Локтева, Лиссау и фон Мекка. Относительно последнего начальник тюрьмы впоследствии признал, что вышла ошибка – он не был членом Учредительного собрания. В действительности же из всей восьмёрки членом Учредительного собрания был только Н. В. Фомин, видный эсер и кооператор. Среди «учредиловцев», собравшихся в Самаре, потом переехавших в Екатеринбург, а оттуда в Уфу, как видно, было много самозванцев (надо же было поскорее составить кворум). Потом это сыграло роковую роль в их судьбе, ибо Барташевский был уверен, что уводит «учредиловцев». Никто из уведённых в тюрьму возвращён не был.[1040]
Родственники и близкие исчезнувших людей заволновались и забегали уже на следующий день. В тюрьме им объяснили, что люди были отправлены в суд. Там ничего определённого не сообщали. Н. В. Фомина, жена члена Учредительного собрания, через министра юстиции сумела довести случившееся до сведения верховного правителя. Колчак потребовал от председателя суда дела членов Учредительного собрания. Из суда сообщили, что эти дела к ним ещё не поступали. Стало ясно, что люди убиты. Колчак приказал главному военному прокурору полковнику Кузнецову начать дознание. Одновременно было начато следствие и прокурором Омского окружного суда В. Н. Казаковым. Начальнику гарнизона Бржезовскому Колчак послал записку с просьбой оказывать всяческое содействие Фоминой в розыске тела убитого мужа.[1041]
Вскоре на левом берегу Иртыша, напротив крепости, в снегу была обнаружена кровавая дорожка. Она привела к небольшому снежному холмику. Под ним было найдено десять трупов с пулевыми и штыковыми ранениями. Среди них опознали Фомина, Маевского и других.[1042]
О находке на берегу Иртыша сообщила омская газета «Заря», потом – другие газеты, вплоть до Харбина и Владивостока. Общественность была потрясена, иностранные дипломаты немедленно довели случившееся до сведения своих правительств. От русского посла в Париже В. А. Маклакова пришёл тревожный запрос: правда ли это? Как такое могло случиться? Похороны Фомина были открытыми и многолюдными. Присутствовал представитель от верховного правителя.[1043]
Между тем следствие шло вяло. Были допрошены многие очевидцы и участники тех трагических событий, когда город на две ночи и один день оказался в руках военных, но никто задержан не был. Это позволило Барташевскому и некоторым другим офицерам бежать на Семиреченский фронт к атаману Б. В. Анненкову, откуда выдачи не было.
14 января 1919 года постановлением Совета министров была образована чрезвычайная следственная комиссия во главе с сенатором А. К. Висковатовым. Ей удалось разыскать и допросить многих лиц, даже Барташевского. Немного отсидевшись в Семипалатинске, поручик решил съездить в Омск, чтобы забрать кое-что из вещей. В Омске он попал на гауптвахту по делу, о коем, наверно, уже и забыл, – о подлоге официального документа с приложением фальшивой печати. Там его и достали следователи.[1044]
Обвинения были предъявлены только Барташевскому и Черченко. Все другие участники событий, даже Рубцов, проходили как свидетели. Как всегда, все сваливали вину друг на друга, меняли показания. Однако сопоставление фактов всё же даёт возможность получить общее представление о ходе драмы.
Вечером 22 декабря командующий Омским военным округом генерал Матковский созвал совещание командиров частей, участвовавших в подавлении мятежа. Когда совещание закончилось, Бржезовский подозвал капитана Рубцова и сказал, что ему поручается расстрел 44 повстанцев, которые будут доставлены в тюрьму. Одновременно, надо думать, было дано аналогичное задание относительно Кириенко и Девятова. Рубцов, правда, утверждал, что он отправил их с отдельным конвоем в суд, но по дороге они попытались бежать и были застрелены, а тела отвезены в Загородную рощу и похоронены вместе с 44 повстанцами. Но, как мы знаем, начальник тюрьмы говорил, что Кириенко и Девятов были уведены вместе со всеми. Генерал Иванов, председатель суда, вспоминал, что дело о 44 повстанцах он рассматривал последним, уже под утро.[1045] Сопоставление времени показывает, что на казнь были осуждены уже расстрелянные.
В тот же вечер поручик Черченко получил от коменданта города полковника Н. В. Бобова записку с фамилиями пяти человек. Барташевский и Черченко забрали из тюрьмы шестерых, но довели до Гарнизонного собрания, где заседал суд, всё же пятерых. Красноармеец Руденко был застрелен по дороге – как утверждали, при попытке к бегству. Но уже в самом суде к партии был присоединён ещё один подсудимый – Маков.
Во время суда Черченко вызвали в комендатуру. Бобов спросил, как идёт суд, а потом сказал, что все пятеро, упомянутые в записке, должны быть расстреляны. Когда Черченко вернулся в суд, приговор был уже вынесен. Винтера, у которого обнаружились связи с белой контрразведкой, отправили на гауптвахту. Маевского приговорили к каторжным работам, остальных – к расстрелу. Получилась неувязка – Маевский был в «списке пяти». Черченко позвонил Бобову и получил ответ: «Расстрелять всех».[1046]
В это время Барташевский привёл ещё восьмерых. Кто-то ему сказал, что суд уже закончил работу. Барташевский беспечно ответил: «И без суда расстреляем». Между тем суд сидел без дела на втором этаже, и генералу Иванову, как он показывал, никто не сообщил, что привели новую партию.[1047] О том, что суд прекратил работу, Барташевскому сказал скорее всего Черченко, который не хотел, чтобы опять были неувязки.
Две партии, осуждённых и неосуждённых, соединили в одну (13 человек) и повели – куда? В позднейших показаниях Барташевский утверждал, что в тюрьму. Там надо было оставить опоздавших на суд и вместе с ними – Маевского, а остальных потом расстрелять. Но арестанты якобы плохо себя вели – переговаривались, пытались распропагандировать солдат, сделали две попытки побега. Поэтому, согласно уставу, он решил их расстрелять. Черченко, однако, утверждал, что попыток побега не было. Барташевский, в свою очередь, говорил, что самого Черченко там не было.[1048]
Нет, однако, сомнения, что конвоиры не собирались вести арестантов в тюрьму, а сразу повели на Иртыш. Но обращает на себя внимание то, что партия состояла из 13 человек, а было найдено только 10 трупов. В связи с этим надо вспомнить то, о чём Барташевский говорил в первых показаниях, но умалчивал потом – о возникшей среди конвоируемых панике.[1049]
Барташевский был юношей жуликоватым, но в расстрельных делах участвовал, видимо, впервые, опыта не имел. Черченко, наверно, тоже растерялся, когда среди арестантов, понявших, что их будут расстреливать, началась паника. Конвоиры не только стреляли, но и работали штыками, стараясь никого не упустить из разбегающейся толпы. И всё же можно предположить, что троим удалось бежать. Эсеры потом вспоминали, что тела уфимского редактора Г. Н. Сарова и работника культурно-агитационного отдела Народной армии М. Локтева остались неразысканными.[1050] Третьим исчезнувшим мог быть кто-то из большевиков.
Следственная комиссия не окончила свою работу, не добралась до Матковского, Бржезовского и Бобова. «Это есть недостаток организации нашей судебной власти, – говорил впоследствии Колчак. – …Все стараются не давать определённых ответов, стараются дело затруднить…» Говоря об омских убийствах, он подчёркивал: «…Это был акт, направленный против меня, совершённый такими кругами, которые меня начали обвинять в том, что я вхожу в соглашение с социалистическими группами. Я считал, что это было сделано для дискредитирования моей власти перед иностранцами и перед теми кругами, которые мне незадолго до этого выражали и обещали помощь».[1051]
Многие, в том числе министры Серебренников и Старынкевич, считали, что это дело рук Иванова-Ринова.[1052] Атаман сибирских казаков действительно был из тех, кто может подложить свинью и тихо отойти в сторону. С Колчаком у него были свои счёты: Колчак занял его место военного министра, когда Иванов-Ринов был на Дальнем Востоке, освободив же это место, предложил его не ему, а генералу Степанову, своему знакомому по Японии, а вдобавок – ещё и сместил с поста командующего Сибирской армией. И в самом деле, участие во всех этих делах конвоя из состава отряда Красильникова может считаться косвенным доказательством причастности Иванова-Ринова.
Но несомненна причастность также Бобова и Бржезовского. А от них ниточка тянется к Матковскому и Лебедеву. Колчак был убеждён, что ни Бржезовский, ни Матковский не участвовали в заговоре. А об участии Лебедева, видимо, не допускал и мысли, считая, что он ему «предан с кишками».[1053] Один из мемуаристов, генерал П. Ф. Рябиков, писал, что Лебедев был человеком малообщительным, замкнутым, всегда сдержанно корректным.[1054] Было известно, что его взгляды близки к крайне правым. Понятно, что он должен был испытать недовольство и тревогу в связи с недавним приёмом верховным правителем делегации Омского блока, в состав которой входили и некоторые социалисты. Возможно, возникло желание, воспользовавшись случаем, «расквитаться» с социалистами, отпугнуть их подальше от Колчака. А то, что задуманное мероприятие нанесёт удар по авторитету Колчака и всего омского режима, – это, наверно, в голову не пришло. Политик он был слабый. Не исключено, таким образом, что одним из вдохновителей кровавых событий этой ночи был человек из ближайшего окружения Колчака, самый, казалось, ему преданный.
В январе 1919 года оплата труда рабочих Омска и Куломзина была повышена на 25 процентов.[1055] С этой зимы до следующей крупных городских восстаний в Сибири больше не было. Иркутское и Черемховское восстания в декабре 1919 года произошли уже в совершенно другой обстановке.
* * *
Покидая фронт, чехи передали новому командованию свою главную стратегическую идею – наступать не на Москву, а на Вологду, чтобы соединиться с архангельской группировкой белых войск и получать помощь союзников гораздо более близким путём – через Архангельск и Мурманск.
Несмотря на свою оригинальность и изящество, замысел был похож на авантюру. Противник мог нанести удар по растянувшейся коммуникации и отрезать армию от её урало-сибирской базы. То, что было впору для «бродячего» Чехословацкого корпуса, не очень годилось для Сибирской армии, крепко связанной с тем местом, где она была создана, и тем обществом, из коего вышла. Болдырев, однако, загорелся этой идеей. Её энергично поддерживал Нокс. Исходя из общего стратегического плана, в Ставке была разработана начальная операция по его осуществлению. В историю Гражданской войны она вошла под названием «Пермской». По наследству всё это перешло к Колчаку.
Главная роль в готовившемся наступлении отводилась Екатеринбургской группе под командованием Гайды. Туда направлялись все пополнения, оружие, боеприпасы, амуниция.[1056] В армии, стоявшей под Кушвой, было сосредоточено 45 тысяч штыков и сабель. Войска, державшие фронт под Уфой, в это время не получали почти ничего.
Советское командование, оттеснив противника далеко от Волги, успокоилось за судьбу Восточного фронта и занялось Южным. Туда перебрасывались резервы с Восточного фронта и маршевые роты из глубины страны. Более того, на Южный фронт были направлены некоторые части, действовавшие в оренбургских и башкирских степях. Правда, северный участок Восточного фронта (3-я армия под командованием М. М. Лашевича) вызывал у красных опасения и был несколько усилен.[1057]
В составе Красной армии численное преобладание всё более переходило к мобилизованным. В основном это были деревенские парни, идеологически ещё не обработанные – боевой дух у них был невысок. «Интернационалисты» (венгры, австрийцы, латыши, китайцы) – те, на ком прежде держалась Красная армия, – теперь, вследствие небольшой своей численности и невосполнимых потерь, уже не могли играть значительной роли. К тому же с окончанием войны венгры и австрийцы засобирались домой.[1058] Ударной силой оставались матросы, в том числе черноморские (например, с «Евстафия»), которыми когда-то командовал Колчак. Они давно могли бы разойтись по домам, как разошлись солдаты старой армии. Но суровый крестьянский труд многих уже не устраивал. Им надо было «делать революцию». Те же, кто был из мастеровых, не могли вернуться на свои фабрики и заводы, которые сплошь стояли по причине той же самой революции. Некоторые матросские отряды переодевались во всё красное.[1059] Но первые же бои заставляли отказываться от этого революционного дурачества.
Самым слабым участком на Восточном фронте красных был как раз тот, где большевистские армии вели наступление по расходящимся направлениям – на Уфу и Оренбург. Если бы удар был обращен против них, белые армии, возможно, могли бы уйти гораздо дальше.
Силы Красной армии, противостоявшие Екатеринбургской группировке, насчитывали около 24 тысяч штыков и сабель (не считая резервов в Перми). Гайда имел, таким образом, почти двойное превосходство. При этом ударная группировка белых под командованием генерала А. Н. Пепеляева, младшего брата В. Н. Пепеляева, расположенная на сравнительно небольшом участке западнее Нижнего Тагила, насчитывала более десяти тысяч штыков и сабель.[1060]
Наступление началось 27 ноября, когда правофланговая группа генерала Г. А. Вержбицкого, преодолевая проволочные заграждения, стала обходить Кушву двумя колоннами. 2 декабря они соединились в окрестностях города, и Кушва была взята штыковой атакой.[1061]
29 ноября в наступление перешла ударная группировка. В непрерывных сражениях, при 20-градусных морозах, продвигаясь по колено в снегу, солдаты Пепеляева за полмесяца преодолели расстояние в 100 вёрст и 14 декабря взяли узловую станцию Калино.[1062] Тем самым были отрезаны от Перми отступавшие с севера соединения красных. Армия Лашевича оказалась фактически разделённой надвое.
10 декабря начала наступление 2-я Чехословацкая дивизия – последняя чехословацкая часть, остававшаяся на фронте. В одном из первых же сражений чехи потеряли 30 человек.[1063] Это произвело на них столь тяжёлое впечатление, что они заявили, что дальше Кунгура не пойдут. 20 декабря 7-я Уральская дивизия под командованием генерала В. В. Голицына и 2-я Чехословацкая дивизия с двух сторон ворвались в Кунгур, из которого была выбита дивизия В. К. Блюхера. Одна её часть успела отступить по железной дороге на Пермь, другой же пришлось совершить тяжёлый переход на санях и пешком к городу Оса.[1064] После Кунгура чехословацкие войска окончательно оставили фронт.
Части Красной армии, в двухнедельных боях понёсшие чувствительные потери, быстро откатывались к Перми. Попытки пополнить отступавшие полки маршевыми батальонами из мобилизованных местных крестьян только снижали боеспособность армии. Резервы расходовались для «затыкания дыр», а в линии фронта образовывались всё новые и новые.[1065]
Красное командование надеялось, что Пермь удастся удержать. Город был опоясан несколькими рядами окопов и проволочных заграждений. Здесь же находились последние армейские резервы. В советской литературе утверждается, что белые взяли Пермь благодаря чистой случайности. Один из резервных полков, выдвинутых на фронт, перешёл к белым, и в образовавшийся разрыв фронта проскользнули части генерала Пепеляева.[1066] В воспоминаниях Гайды об этом ничего не говорится. Не обнаружено подобных сведений и в других белогвардейских источниках.
Гайда вспоминал, основываясь на имевшихся у него военных сводках, что одна из колонн ударной группировки захватила пригород Перми Мотовилиху с её орудийным заводом, а оттуда проникла в Пермь. Другая же колонна успела перерезать железную дорогу Пермь – Кунгур, не дав возможности частям дивизии Блюхера усилить пермский гарнизон. 24 декабря Пермь перешла в руки белых. В плен была взята 21 тысяча красноармейцев. Захватили 60 орудий, 100 пулемётов, несколько бронепоездов и вмёрзшую в лёд речную флотилию.[1067] Всего же в ходе декабрьских боёв советская 3-я армия потеряла около половины своего состава.
После взятия Перми части генерала Пепеляева продвинулись вперёд километров на двадцать и надолго остановились у станции Шабуничи. Дело в том, что на левом фланге Екатеринбургской группировки противник оказывал отчаянное сопротивление и пытался даже перейти в наступление, чтобы отрезать выдвинувшиеся вперёд войска Пепеляева.[1068] Пришлось прибегнуть к сложной перегруппировке, чтобы усилить левый фланг. Кроме того, южнее, в районе Уфы, дела по-прежнему шли неблагополучно.
В начале декабря командование бывшей армии Комуча решило дать сражение наступающим на Уфу красным и в дальнейшем действовать смотря по его исходу. Были собраны и брошены в бой последние резервы. Противник был остановлен и даже обращен вспять. Белые на некоторое время овладели городом Белебеем. Но решительный удар нанести не удалось, и красные вскоре возобновили наступление.[1069] 31 декабря они вошли в Уфу. Каппель и Войцеховский отвели свои войска на правый берег реки Белой.[1070] Отойдя ещё немного на восток, они закрепились у станции Иглино. Оставление Уфы открыло Оренбург для удара с севера.
Известие о взятии Перми вызвало ликование в Омске. Постановлением Совета министров за большой вклад в подготовку Пермской операции Колчак был награждён орденом Святого Георгия 3-й степени.[1071]
На фоне этого веселья прошло почти незамеченным сообщение о потере Уфы. Хотя в стратегическом отношении Уфа была важнее Перми. С точки же зрения военной экономики – наоборот: военные заводы в Перми и Мотовилихе колчаковской армии нужны были позарез. Одно компенсировалось другим. Борьба с большевиками приобрела упорный характер, а в Омске всё ещё тешили себя иллюзией скорой победы. Эти иллюзии, как видно, разделял и Колчак.
В конце декабря произошла реорганизация вооружённых сил Омского правительства. Камская и Самарская группировки (бывшая армия Комуча) были преобразованы в Западную армию, которую возглавил генерал М. В. Ханжин. Екатеринбургскую группировку преобразовали в Сибирскую армию. Командование ею сохранил за собой Р. Гайда. О разрешении ему перейти на русскую службу Колчак ходатайствовал перед чехословацким военным министром генералом Штефанеком, приезжавшим в Омск. Министр согласился, но дружески предупредил адмирала: «Гайда вас погубит: или будет фельдмаршалом, или придётся изгнать его с позором».[1072]
Несколько позднее на базе оренбургских казачьих и башкирских воинских соединений была сформирована Южная армия во главе с генералом П. А. Беловым.
В середине декабря в Омск приехала Анна Васильевна. Устроилась на частной квартире, поступила работать переводчицей в Отдел печати при Управлении делами Совета министров и верховного правителя.[1073] Её приезд помог Александру Васильевичу справиться с болезнью. Вызванный из Томска профессор, осмотрев Колчака, предупредил, что ему должен быть дан совершенный покой, иначе болезнь может перейти в скоротечную чахотку.[1074] К Новому году, однако, дела пошли на поправку, и верховный правитель вскоре вновь взвалил на себя ту ношу, от коей на какое-то время и лишь отчасти освободила его болезнь.
«Полёт к Волге»
Во времена Гражданской войны мало кто думал об обороне. В умах господствовали наступательные идеи. Каждая из противоборствующих сторон, даже если её дела становились из рук вон плохи, не оставляла мысли в ближайшие месяцы окончить войну путём полного разгрома противника. Военные действия перемещались по огромной территории, сея смерть и разрушения. Впоследствии военные историки отмечали такую особенность Гражданской войны, как «пространственность театра».
Передвигалась линия фронта – менялось соотношение людских и материальных ресурсов той и другой стороны. Так что вычислить его можно только приблизительно, избрав для подсчётов какую-то конкретную дату, например 1 января 1919 года. Подсчёты показывают, что красные в это время контролировали территорию, где проживало 72 413,1 тысячи человек, белые же – 34 137,5 тысячи человек.[1075] На стороне красных был перевес в 2,12 раза. К тому же в руках белых были в основном аграрные окраины бывшей империи со слаборазвитой промышленностью (Сибирь, Север, Дон, Кубань, Северный Кавказ). Слабость собственной промышленной базы отчасти восполнялась поставками союзников, прежде всего Англии.
На войне не всегда побеждает тот, в чьих руках более значительные людские ресурсы. Быстрые и продуманные действия численно более слабого, но лучше организованного противника, особенно в начале схватки, могут решить её исход. Но затягивание войны обычно идёт на пользу тому, чей козырь – численный перевес. Белые могли взять верх только в том случае, если бы значительно опередили красных в создании массовой регулярной армии и незамедлительно двинули её на Москву.
* * *
14 января 1919 года «Правительственный вестник» опубликовал за подписью Колчака новогоднюю декларацию правительства. Кратко и выразительно написанная, она призывала народ сплотиться вокруг правительства в борьбе с большевиками. «Обеспечение армии всем необходимым и устроение тыла составляет основную задачу правительства», – говорилось в документе. Обращаясь к «деятелям крайних течений», то есть к социалистам, правительство предупреждало, что «их будущее и будущее демократии зависят от умения ограничить себя в настоящем, когда напрягаются последние усилия, чтобы спасти страну и свободу». С другой стороны, в декларации осуждались действия тех, кто, «якобы защищая государственность, колеблет в действительности силу и достоинство власти, прибегая к самоуправству». К лицам, находящимся на военной и гражданской службе, выдвигалось требование «полного подчинения». Особо оговаривалось, что правительство «не видит оснований для борьбы с теми партиями, которые, не оказывая поддержки власти, не вступают и в борьбу с нею».
В заключение правительство объявляло, что его цель состоит в том, чтобы «освободить страну от большевистского гнёта, спасти последние остатки народного достояния и приступить затем в полном порядке и разумно к переустройству народной жизни на началах свободного участия народа в органах общегосударственного и местного самоуправления». «Только тогда, – подчёркивалось в декларации, – будет прочно и на справедливых основаниях обеспечен землёй российский земледелец, возродится русская промышленность и обеспечены будут за русским рабочим лучшие условия труда и существования». Правительство обещало в ближайшее же время созвать комиссию для разработки Положения о выборах во Всероссийское Национальное собрание.
Гинс, участвовавший в принятии документа, позднее вспоминал, что было намерение объявить амнистию всем «учредиловцам». Но стало известно, что кое-кто из них ведёт переговоры с большевиками, и эту мысль оставили. Декларация получилась слишком «обтекаемой» ещё и потому, что правительство, в том числе Колчак, стояли на позиции «непредрешенчества». Считая себя временной властью, они не хотели «предрешать», подменяя собою волю народа, главные вопросы русской жизни – о земле, о собственности, о форме государственного правления. «…Как было бы полезнее, – писал Гинс, – если бы в своей декларации Совет министров объявил, что он отменяет нелепые распоряжения о военной цензуре, назначает председателя комиссии по выборам в Учредительное собрание, объявляет крестьянству, что не будет отбирать у него земель».[1076] Оказавшись в эмиграции, Гинс многое понял и на многое взглянул иначе. Но тогда никто не думал, что борьба затянется и примет такой оборот. Тогда казалось, что изгнание большевиков – дело нескольких месяцев.
Совет министров, несколько переформированный после 18 ноября 1918 года, действовал в неизменном составе до конца года. Потом из него ушли Ю. В. Ключников и И. И. Серебренников. Первый – потому что верховный правитель в вопросах внешней политики всё более прислушивался к голосу Сукина. Второй лишился поста вследствие слияния Министерства снабжения с Министерством продовольствия. С уходом Серебренникова правительство лишилось умеренного во взглядах, скромного и трудолюбивого работника. В своих воспоминаниях он с сожалением отмечал, что Н. С. Зефиров, возглавивший объединённое министерство, стал менять ориентацию с кооперации на частных предпринимателей.[1077]
Пост министра иностранных дел согласился занять С. Д. Сазонов, уже бывший в этой должности с 1910 по 1916 год. Правда, заполучить его в Омск, хотя бы на время, так и не удалось. Он оставался в Париже и, пользуясь своей известностью и авторитетом, отстаивал интересы России перед главами держав-победительниц, съехавшимися на Версальскую мирную конференцию. В Омске аппаратом МИДа управлял Сукин, назначенный товарищем министра.
По настоянию Колчака Морское министерство было выделено из Военного как самостоятельное. Его возглавил давний соратник верховного правителя М. И. Смирнов, получивший чин контр-адмирала.
Политическая роль Совета министров сильно уменьшилась, когда был образован, вскоре после переворота, Совет верховного правителя. Он собирался по средам и субботам у него в доме. Председательствовал сам Колчак. Постоянно должны были присутствовать председатель Совета министров, министры внутренних и иностранных дел, финансов, а также управляющий делами Совета министров и верховного правителя. Кроме того, Колчак приглашал некоторых лиц по своему усмотрению. Обсуждались текущие политические дела. Деятельность Совета министров сместилась преимущественно в законодательную область.[1078]
Для надзора за законностью действий всех органов власти и должностных лиц было решено восстановить Правительствующий сенат. Торжественное его открытие состоялось 29 января 1919 года. Верховный правитель А. В. Колчак принёс Сенату присягу «служить государству Российскому, не щадя жизни и памятуя единственно о возрождении и преуспеянии его, а верховную власть осуществлять согласно законам государства, до установления образа правления, свободно выраженного волей народа».[1079]
Омск был беден людьми. Наиболее опытные и знающие люди, «цвет нации», оказались на Юге, в эмиграции или в Советской России, где помогали большевикам строить их государство. В Омске таких людей можно было пересчитать по пальцам, не забыв и самого Колчака. Среди министров, военачальников, губернаторов и, наконец, сенаторов преобладали «середнячки» или случайные лица. Тем не менее Сенат вовсе не был декоративным учреждением. Под огнём его критики оказывался и верховный правитель, любивший вводить принятые законы немедленно, до решения Сената об их распубликовании.[1080]
В отличие от большевиков, старавшихся всё переиначить, приспособив к своим сиюминутным нуждам, в Омске, ещё со времён Директории, увлеклись противоположным – восстановить все органы власти, как они были при царе. В точности воспроизводились прежние министерства и ведомства с их управлениями, даже теми, без которых пока можно было обойтись, с их штатными расписаниями, рассчитанными на общеимперский объём работы. Не было только вышколенного петербургского чиновничества, и в созданной по имперским меркам громоздкой административной машине поселились провинциальные нравы: чиновники собирались в десятом часу утра, а к трём часам все министерства уже пустели. Вся тяжесть экстренной работы, вызванной условиями войны, ложилась на энтузиастов-одиночек, которые засиживались до ночи. Сверхурочные занятия не вознаграждались, а чиновничье жалованье было скромным (даже министр получал только 2,5 тысячи сибирских рублей). Через шесть – девять месяцев такой изматывающей работы человек изнашивался и терял работоспособность.
Адмирал видел это и ставил вопрос о реорганизации и сокращении аппарата управления с улучшением оплаты труда чиновников. Но своевременно ничего не решили, а потом спохватились, заторопились, начали выявлять бездельников, сокращать штаты, но известно, с какой упругостью противодействует чиновничество всяким таким попыткам.[1081]
И всё же нельзя преуменьшать того факта, что за короткое время в небольшом сибирском городе был создан (хотя и по старым образцам) вполне дееспособный государственный аппарат. На него опиралось правительство Колчака, которое какое-то время на равных вело борьбу с захваченной большевиками метрополией – не за отделение от неё, а за её освобождение от «захватной власти». Впоследствии это по-своему оценил председатель Сибревкома И. Н. Смирнов, который докладывал В. И. Ленину, что «в Сибири контрреволюция сложилась в правильно организованное государство с большой армией и мощным разветвлённым госаппаратом».[1082]
Колчаковскому государству явно не хватало представительного органа, хотя бы временного. С другой стороны, возможен ли был его созыв в условиях Гражданской войны? Можно ли было допустить новый всплеск страстей, который неизбежен в предвыборной кампании и которым непременно воспользовались бы большевистские агенты? И возможно ли было допускать такое в действующей армии? Между тем Колчак был убеждён, что армия не может быть изолирована от этого дела, ибо «нельзя жертвующим за возрождение отечества своею жизнью и кровью отказать в участии в нём».[1083]
Твёрдо решив воздержаться на время войны от созыва представительного органа с законодательными функциями, Колчак решил начать подготовку к его созыву, не дожидаясь её окончания. 11 марта 1919 года Совет министров принял постановление «Об образовании подготовительной Комиссии по разработке вопросов о Всероссийском Представительном Собрании учредительного характера». Комиссия, правда, долго не созывалась, но 16 мая указом верховного правителя был наконец определён её состав и назначен председатель – редактор газеты «Отечественные ведомости» (издававшейся в Уфе и Екатеринбурге) А. С. Белевский (Белорусов).[1084]
Некоторое подобие представительного органа в колчаковском государстве в это время уже было. Через несколько дней после переворота 18 ноября бывший государственный контролёр С. Г. Федосьев, последний при Николае II, подал Колчаку записку об учреждении Чрезвычайного государственного экономического совещания. По первоначальному проекту предполагалось преобладание в нём представителей от торговли и промышленности. Совет министров расширил представительство от кооперации, и в таком виде 22 ноября 1918 года указ был утверждён. Совещание должно было обсуждать вопросы укрепления финансовой системы, восстановления производительных сил и товарообмена, снабжения армии. Члены Совещания назначались верховным правителем.[1085]
До революции Сибирь была хлебной житницей России. Сибирский хлеб, сибирское масло вывозились за границу. Во время войны экспорт продовольствия приостановился, и его излишки стали оседать на кооперативных складах и в крестьянских закромах. В 1919 году многие сибирские крестьяне ещё хранили остатки урожая 1916 года. Как вспоминали современники, «зимой 1919 года Сибирь изобиловала мясом, маслом и чудным пшеничным хлебом».[1086]
Не было изобилия только в промышленных товарах – наоборот, ощущался острый недостаток. В экономике бывшей империи существовало такое положение, что сибирская кожа шла в Москву и Варшаву, а оттуда в Сибирь возвращались сшитые из неё сапоги и ботинки. Теперь приходилось ориентироваться на иностранные рынки. Но протолкнуть по Сибирской железной дороге, слабой и забитой военными перевозками, экспортные грузы во Владивосток и импортируемые товары в Сибирь было сверхтяжёлой проблемой. Во Владивостоке и Харбине склады ломились от поступивших из-за рубежа товаров, а в сибирских городах и сёлах их часто нельзя было купить ни за какие деньги. Для проталкивания товаров использовались подкупы, подлоги и прочие махинации. Солидные торговые фирмы, действовавшие до революции (А. Ф. Второва, Стахеева и др.), после большевистского разгрома так и не оправились, и на смену им пришли сообщества рвачей-спекулянтов, наживавших огромные состояния на разнице цен между Владивостоком и Омском.[1087] Этот класс спекулянтов сыграл в общем-то печальную роль в судьбе омского режима.
Кроме транспорта, уязвимым местом сибирской экономики являлось денежное обращение. Сложилось так, что основная часть российского запаса драгоценных металлов (свыше 700 миллионов золотых рублей) оказалась в Омске. На большевистской территории этот запас не превышал 600 миллионов. На юге у Деникина и на севере у генерала Е. К. Миллера не было ничего.[1088] Средства же для печатания денег (печатные станки и соответствующая бумага) были только у большевиков.
Первые советские рубли были напечатаны скорее из престижных соображений и имели ограниченное хождение. По обе стороны фронта наиболее солидными денежными знаками, которые старались приберегать, были старые дореволюционные купюры. Их называли «романовскими». Пользовались уважением и деньги, выпущенные при князе Львове. Их почему-то называли «керенскими». Но самыми ходовыми были «керенки» – маленькие купюры, похожие на этикетки, достоинством в 20 и 40 рублей.
Не испытывая нравственных терзаний, большевистское правительство печатало «романовские» деньги с портретом расстрелянного царя, а также и все прочие выпуски. «Керенки», наиболее простые в исполнении, печатались на десятки миллиардов рублей. Всё это основывалось на золотом запасе – в том числе и на том, который находился в Омске. Часть эмиссии проникала и на территорию Омского правительства. Например, при взятии Перми в числе прочих трофеев оказалось и такое сомнительное приобретение, как ходившие там советские «керенки». Получалось, что Омское правительство финансировало большевистские расходы.
В октябре 1918 года Сибирское правительство решило выпустить собственные деньги. Не являясь всероссийским, оно не сочло для себя возможным основывать их на российском золотом запасе. Оно могло подкрепить их только своим собственным авторитетом. И потому выпускаемые купюры достоинством от 100 до 5 тысяч рублей получили форму «5-процентных краткосрочных обязательств Государственного казначейства Сибири». Это напоминало казначейские обязательства, выпущенные во время войны. Взят был, с некоторыми изменениями, и их текст, с упоминанием 12-месячного срока. Были выпущены и разменные знаки достоинством 5 и 10 рублей. Жалованье чиновникам, рабочим казённых заводов и военным было решено выдавать только сибирскими обязательствами.[1089]
Сибирские рубли стали свободно ходить среди населения. Никто, конечно, не ожидал, что они принесут пятипроцентный доход. В России привыкли, что пишется одно, а делается другое. Однако сразу же начались трудности.
Сибирские деньги изготавливались на бывшей частной фабрике, перешедшей в казну и теперь называвшейся Экспедицией заготовления государственных бумаг.[1090] Печатавшая прежде афиши и этикетки, она, конечно, не могла быстро обеспечить денежной массой огромное пространство от Урала до Тихого океана. Среди рабочих кое-где начались волнения из-за невыплаты заработной платы. Особенно остро ощущалась нехватка мелких разменных денег. На фронт иногда привозили жалованье в таких крупных купюрах, что его невозможно было раздать.[1091]
В феврале 1919 года Колчак, вернувшись с фронта, выступил перед Государственным экономическим совещанием. Он сообщил его членам, что солдаты при 25-градусном морозе целыми днями сидят в окопах, плохо одетые и обутые. Он напомнил, что только эта тонкая цепочка замерзающих людей отделяет всех здесь живущих от большевиков.
Речь Адмирала, как говорят, произвела жуткое впечатление на собравшихся. Воспользовавшись этим, председатель совещания Федосьев, слегка фрондировавший против правительства, выступил с нападками на Михайлова. Упомянув о случаях недовольства рабочих и солдат в связи с невыплатой денег, он заявил, что в случае трагических последствий виноват будет министр финансов – его руки окажутся в крови. Михайлов хладнокровно отвечал, что его руки не в крови, а в типографской краске. Он с утра до вечера сидит в типографии, а когда он в своём кабинете, то больше всего занимается рассылкой наличности по регионам.[1092]
Только к марту сибирскими «обязательствами», то есть крупными купюрами, были обеспечены все отделения Государственного банка. Кризис же с мелкими купюрами, несколько притупившись, затянулся надолго и полностью отпал только к осени, когда быстро растущая инфляция крупные купюры превратила в мелкие.
Другая проблема состояла в том, что новые деньги, напечатанные самым нехитрым способом, на простой бумаге и без водяных знаков, сразу же ввели во искушение многих людей. Особую предприимчивость обнаружили китайцы и японцы. Первые работали настолько артистично, что их продукция ничем не отличалась от настоящих денег. Японцы же поставили это дело на промышленную основу. В Японии полиция однажды накрыла одну из таких фабрик. Суд над её владельцами затянулся до конца омского режима. В первой инстанции они были приговорены к каторге, но кассационная инстанция оправдала фальшивомонетчиков на том основании, что Омское правительство не было признано Японией. В целом же сумма фальшивых купюр достигала сотен миллионов рублей, и Министерство финансов вынуждено было рекомендовать своим отделениям не принимать только очевидные подделки.[1093]
Неожиданные проблемы возникли на Дальнем Востоке и КВЖД. Владивостокское отделение Русско-Азиатского банка получило распоряжение от своей дирекции в Шанхае не признавать сибирские «обязательства» в качестве денег. Вслед за этим и правление КВЖД, фактически находившееся в руках этого банка, объявило об отказе принимать эти деньги в оплату за свои услуги. Трудно понять, что заставило руководителей этих двух мощных корпораций нанести удар в спину дружественному режиму. Может, сыграла роль скрытая неприязнь к Колчаку или Михайлову. Однако их примеру последовали все иностранные банки, открывшие свои отделения во Владивостоке якобы для обслуживания своих экспедиционных войск, а в действительности работавшие не только с войсками.
Самым несговорчивым оказался английский Гонконг-Шанхайский банк. Его представители цитировали злополучную надпись на купюре (всего один год действия), ссылались на Русско-Азиатский банк и разводили руками. Попытки подействовать через Нокса успеха не имели. Закрыть Владивостокское отделение банка – означало испортить отношения с Англией, самой верной своей союзницей. Чтобы заполучить иностранную валюту, приходилось с большими потерями обменивать сибирские деньги на «романовские», «керенские» или «керенки».[1094]
Самой крупной статьёй доходов Омского правительства была винная монополия (246 миллионов рублей за первую половину 1919 года). Адмирал сначала был против подобной меры пополнения казны,[1095] но потом примирился. 244 миллиона рублей дали в казну железные дороги. Далее, сильно отставая, шли доходы от таможенных и акцизных сборов, а также прямые налоги (45 миллионов рублей). Последние, в общем-то небольшие, собирались с трудом. Было замечено ускользание от подоходного налога крестьянства (самого многочисленного слоя населения) и спекулянтов (самого состоятельного). Разбаловавшийся за годы революции сибирский мужик при слове «подати» хватался за дробовик, у спекулянтов же было другое оружие – взятка. Ни тот слой, ни другой так и не стали опорой омского режима.
В целом же доходы Омского правительства за первые шесть месяцев 1919 года составили около 843 миллионов рублей. Расходы же превышали доходы примерно в семь раз. Львиную долю всех расходов поглощала армия, включая и Чехословацкий корпус.[1096] За счёт чего же погашалась разница между доходами и расходами? Конечно же за счёт того, чем усиленно занимался Михайлов, не боясь запачкать свои руки, – за счёт типографского станка. Этот метод добывания огромных средств впоследствии привёл омский режим к финансовому краху. Но на первых порах он оказался довольно действенным. В условиях стабилизации внутреннего положения стала возрождаться экономическая жизнь. Заработали фабрики и заводы, возобновилась торговля, открылись банки.[1097]
* * *
Николай II и его семья были расстреляны чекистами в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Следующей ночью под Алапаевском были убиты ещё пятеро членов императорского дома. Месяцем ранее близ Мотовилихи, под Пермью, был застрелен брат царя, великий князь Михаил Александрович. Большевики сообщили только о расстреле царя. Мало кто читал это сообщение, многие не поверили, а потому в народе и обществе ходили самые разнообразные слухи.
Следствие об убийстве царской семьи было начато екатеринбургскими судебными властями через несколько дней после изгнания большевиков, но первое время велось неудовлетворительно. Колчак, желавший внести ясность в этот вопрос, в январе 1919 года поручил генералу М. К. Дитерихсу, временно оказавшемуся не у дел, ознакомиться с ходом следствия и забрать все его материалы. Дитерихс, чей монархизм был известен, понял это поручение в том смысле, что ему отныне вверено общее руководство следствием. Хотя он не был профессиональным следователем и не имел соответствующей подготовки.
В начале февраля 1919 года верховный правитель вызвал к себе следователя по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколова и предложил ему ознакомиться с материалами следствия, доставленными из Екатеринбурга. Было решено, что Соколов, взявшись за расследование, проведёт его тщательно и всесторонне, не ограничиваясь рамками убийства в доме купца Н. Н. Ипатьева.
Адмирал предполагал также немедленно, не дожидаясь окончания следствия, опубликовать официальное сообщение о всех убийствах членов императорского дома, совершённых большевиками на Урале. С этой целью Соколов подготовил записку для верховного правителя и членов Совета министров. Она не подлежала публикации, поскольку в ней содержались сведения, которые по закону нельзя было разглашать до окончания следствия. Не разобравшись в деле, управляющий делами Совета министров Г. Г. Тельберг передал эту записку в омскую газету «Заря», где она и была напечатана. Узнав об этом, Колчак распорядился конфисковать весь не успевший разойтись тираж газеты. Но, конечно, записка уже получила широкую огласку.
После этого скандала было решено не делать официального сообщения до конца следствия. Но оно затянулось, а в народе по-прежнему ходили разные слухи. Так, например, в августе 1919 года в прифронтовой зоне, близ города Ишим, распространялся, не без содействия большевистских агентов, слух о том, что в Омске казаки свергли Колчака и посадили на престол Михаила Александровича.[1098] А в октябре того же года по алтайским деревням, встречаемый колокольным звоном, разъезжал цесаревич Алексей. Задержанный контрразведкой, он оказался почтовым служащим Пуцято.[1099]
Соколов заканчивал своё следствие уже в эмиграции. Между ним и Дитерихсом возникла полемика. Генерал считал, что следствием руководил он, а Соколов был ему «придан». Обиженный Соколов отвечал, что Дитерихс много помогал следственной работе, но следствие вела всё же не военная власть, а судебная в лице его, Соколова, ибо дело следователя «есть свободное творчество». Однако тот и другой отмечали, что Колчак очень интересовался следствием и оказывал ему всяческую поддержку.[1100]
* * *
В начале января 1919 года Колчак, ещё не вполне здоровый, ездил в Челябинск на совещание с участием высших военных руководителей. Г. X. Эйхе, в то время – красный командир, а затем военный историк, писал, что на этом совещании было решено отказаться от северного направления и нанести главный удар по 5-й армии красных, занимающей фронт в районе Уфы.[1101] Этот вывод, однако, не вполне согласуется с теми выдержками из документов, которые приводит сам Эйхе. В сопоставлении с воспоминаниями Гайды они рисуют несколько иную картину.
Как утверждал Гайда, – и с ним здесь можно согласиться – главной стратегической идеей по-прежнему оставалось нанесение удара в северном направлении (Пермь – Вятка – Вологда). Соединившись с белыми силами Архангельского района, предполагалось повернуть на Москву.
Но были и другие предложения. Атаман Дутов, видимо, из «местнических» соображений, советовал наступать южным флангом, чтобы соединиться с Деникиным. Положение Оренбургской армии становилось всё более шатким. Дутов это видел (хотя на совещании уверял всех в обратном) и хотел получить значительные подкрепления. Но сосредоточить под Оренбургом ударный кулак и потом поддерживать наступление было делом очень непростым. Российские железные дороги были повёрнуты так, что из Москвы в Оренбург можно было попасть по прямой линии, а из Омска – только через Самару. Кроме того, соединение с Деникиным, ещё не признавшим всероссийскую власть Колчака, могло иметь непредсказуемые последствия. Поэтому сочли за благо, если каждый будет вести борьбу самостоятельно. «Кто первый попадёт в Москву, тот будет господином положения», – сказал Колчак. План Дутова отклонили.
Генеральное наступление предполагалось начать в апреле. А пока, в ходе подготовительных операций, надо было вывести войска на исходные рубежи, удобные для начала решающих сражений. Прежде всего ставилась задача восстановить положение, существовавшее до декабрьского наступления красных на Уфу. Поэтому направление главного удара было решено временно перенести на Уфимское направление. Западная армия должна была разбить противостоящую ей 5-ю советскую армию, овладеть районом городов Бирск – Уфа – Стерлитамак – Белебей и выдвинуться на линию реки Ик, к границам Казанской и Самарской губерний. Предполагалось, что одновременно Сибирская армия вытеснит противника из района Сарапул – Вятка – Ижевский завод.
Военные планы, о коих доложил в Челябинске Лебедев, были составлены со знанием дела, но грешили недооценкой сил и возможностей противника. На большевиков по-прежнему смотрели как на анархистов, умеющих только разрушать и не умеющих строить. Поэтому главные операции готовились не спеша, без должного учёта фактора времени. А кроме того, возникли и непредвиденные задержки.
Главная из них была вызвана наступлением красных на Оренбург, которое началось вскоре после челябинского совещания. Армия Дутова понесла сокрушительное поражение. 21 января Оренбург был оставлен. Красные продвинулись далее на восток и взяли город Орск. Линия фронта Западной армии сильно удлинилась, и генералу Ханжину, командующему армией, пришлось изыскивать силы для прикрытия нового участка.
Ещё одна задержка была связана с тем, что в это же время большевики попытались начать наступление на Кунгур, чтобы отрезать выдвинувшуюся вперёд Пермскую группировку. Здесь им удалось продвинуться лишь на 20–40 вёрст. Но Гайда использовал это как предлог, чтобы затянуть передачу в армию Ханжина 7-й Уральской дивизии горных стрелков, которая должна была войти в состав ударной группировки. Таким образом, операции, считавшиеся подготовительными, начались почти через два месяца после совещания в Челябинске.[1102]
* * *
В середине февраля по Уралу и Зауралью прошла череда свирепых буранов – с церквей срывало кресты, заносило дороги и железнодорожные пути. Именно в эти дни Колчак, совсем уже выздоровевший, отправился в свою первую большую поездку в должности верховного правителя. Вскоре, правда, бураны прекратились, наступила ясная, морозная погода. За 18 дней (8—26 февраля) Колчак посетил Курган (9 февраля), Челябинск (10–11 февраля), Златоуст (12 февраля), Троицк (15 февраля), Екатеринбург (16–18 февраля), Нижний Тагил (18 февраля), Пермь (19 февраля), Тюмень (25 февраля).[1103]
Позднее в омской газете «Сибирская речь» была напечатана серия очерков об этой поездке, вышедшая из-под пера петербургского литератора С. А. Ауслендера, племянника поэта М. А. Кузмина. Молодой ещё человек, он до революции писал рассказы из европейской истории XVIII века, а когда началась Гражданская война, пробрался в Омск и, как писал Л. В. Арнольдов, «быстро заразился нашей влюблённостью в Адмирала».[1104]
К пунктам длительных остановок, как сообщал Ауслендер, правительственный поезд обычно подходил в девять часов утра. Вдоль перрона выстраивались шеренги войск и ряды встречающих. Слышалась команда «на караул!», в напряжённом ожидании вытягивались не только военные, но и гражданские, и «в дверях вагона в серой солдатской шинели появлялась фигура верховного правителя».
«Власть – это не радость, не утоление личного честолюбия, это тяжёлое и священное бремя, которое надо уметь нести твёрдо, мужественно и торжественно, – писал Ауслендер, размышляя о стиле общения Колчака с народом, обществом, армией. – Он знает это хорошо и умеет всех, кто увидел его хотя бы раз проходящим медленно вдоль рядов со взглядом пристальным и почему-то всегда печальным, умеет заставить всех почувствовать это почти не передаваемое словами величие и жертвенную тяжесть власти».[1105]
Приняв рапорт начальника гарнизона и поздоровавшись с войсками, Колчак приглашал в свой поезд представителей земств, городских самоуправлений и других общественных организаций. Велись беседы о нуждах местного края. Иногда Колчак приглашал сопровождавших его ответственных чиновников, и некоторые вопросы тут же решались.
Затем Адмирал ехал в город – осматривал войска, посещал госпитали, беседовал с военными властями. Ближе к вечеру надо было присутствовать на объединённых заседаниях земского и городского самоуправлений и на даваемых в его честь обедах. На тех и других часто вставали одни и те же вопросы. Так, например, произошло в Челябинске.
Челябинское земство было по преимуществу крестьянским, и потому сразу встал вопрос об отношении правительства и самого верховного правителя к аграрно-крестьянскому вопросу.
«Возврата к старым земельным отношениям быть не может», – твёрдо заверил Колчак. Но оговорился, что правительство не может взять на себя окончательное решение земельного вопроса – «этот сложнейший вопрос должен быть решён для всей России в целом, должен быть решён будущим национальным Учредительным собранием». В текущей же работе, подчеркнул Колчак, «правительство будет базироваться на принципе желательности мелкого землевладения за счёт крупного». Челябинское земское собрание постановило напечатать речь верховного правителя и распространить её среди крестьян.
После речи верховного правителя вышел настоятель местного собора, сказал о своей глубокой вере в чудо воскресения России и благословил Адмирала, преклонившего колени, образом Спасителя. Эта сцена, как свидетельствовал Ауслендер, произвела глубокое впечатление на всех присутствующих и на самого Колчака.[1106]
А вечером, на торжественном обеде, Колчак поднял тост за русское крестьянство. В пересказе Ауслендера его речь звучала так: «Неумолимый закон чисел говорит, что крестьянство составляет главную основу Российского государства. Крестьянство давало армию, поражавшую весь мир своим беззаветным геройством, вписавшую много славных страниц в историю России. В будущем устройстве государства главная роль будет принадлежать крестьянству. Несмотря на все испытания и искушения, он верит, пламенно и твёрдо верит, что крестьянство, с его крепким, здоровым умом, сумеет выявить… свою волю к строительству государства». Отвечая на другой тост, он сказал, не скрывая волнения, что «счастливейшей минутой его жизни будет та, когда… он сможет передать власть правительству, опирающемуся на национальное Учредительное собрание, выражающее подлинную волю русского народа».[1107]
Двухдневное пребывание в Челябинске верховный правитель и его спутники посчитали очень удачным. Здесь, казалось, было достигнуто полное взаимопонимание и даже единение с общественностью. Каково же было негодование Адмирала, когда он узнал из газет, что сразу же после его отъезда военные власти за какие-то провинности арестовали и выслали из города председателей городской думы и земской управы. Колчак, конечно, тут же отменил эти распоряжения. Но оказалось, что это ещё не всё. В екатеринбургской газете «Отечественные записки» цензурой была снята передовая статья с приветствием верховному правителю по случаю его приезда. Вычеркнута была и информация о его пребывании в Челябинске вместе с речами по крестьянскому вопросу. Прапорщик, занимавший должность военного цензора, сослался на инструкцию, которая запрещала публиковать сведения о поездках начальствующих лиц на фронт с оперативными целями. В Нижнем Тагиле делегации рабочих было отказано в приёме у верховного правителя. Случайно узнав об этом, Колчак распорядился пропустить к нему рабочих.[1108]
Этих примеров было достаточно, чтобы Колчак мог воочию убедиться, насколько справедливы доходившие до него жалобы на то, что военные установили в прифронтовой полосе режим мелочной диктатуры, вмешиваясь во все дела.[1109] А эта полоса тянулась до самого Омска. К сожалению, борьба с этим злом, порождённым Гражданской войной, так и не дала значительных результатов.
С рабочими Колчак встречался не только в Нижнем Тагиле, но и в Перми и Златоусте. В Перми он посетил пушечный завод. В беседе с верховным правителем рабочие с удивлением обнаружили, что он основательно знает заводскую жизнь, условия производства, технику.[1110]
Пребывание на Урале предполагалось использовать для окончательного урегулирования отношений с чехами. Специально для этой цели в Екатеринбург приехали Богдан Павлу и Ян Сыровой. Но накануне встречи один из чешских офицеров зачем-то захотел пройти, пренебрегая всеми правилами, к поезду верховного правителя, охранявшемуся взводом сербских солдат. Окрики часовых не возымели действия, и они применили оружие. На следующий день чешский офицер умер от ран. Чехи были возмущены и, не желая входить в суть дела, потребовали наказания не только часовых, но и начальника охраны. Встреча с чехословацкими представителями не состоялась, и отчуждение осталось.[1111]
На затерянной среди Уральских гор маленькой станции, близ Уфимского фронта, Колчак вручал георгиевские кресты. Высший знак воинской доблести после Февраля демократизировался – теперь его могли получить не только офицеры, но и солдаты. Длинный их ряд, молодых, безусых, вытянулся вдоль перрона. В прозрачном горном воздухе как-то особенно проникновенно прозвучала возвышенная и печальная мелодия гимна «Коль славен наш Господь в Сионе…».
Главнокомандующий негромким, но чётким голосом поздоровался с войсками, и началась церемония награждения. Было заметно, что многие волнуются – особенно, как показалось Ауслендеру, один широкоплечий и краснощёкий парень из ижевских рабочих. Когда Адмирал повторил перед ним формулу награждения – «От имени Русской армии в воздаяние подвигов, совершённых Вами на пользу родины, награждаю Вас Георгиевским крестом», – в его глазах блеснули слёзы. Когда же к его шинели были уже приколоты крест и ленточка, стоявший рядом офицер доложил о чём-то верховному правителю. Ни слова не говоря, Колчак взял у адъютанта ещё один крест, более высокой степени, и приколол рядом с первым. И потом, переходя с левого фланга на правый, мимо строя, который расцвёл оранжево-чёрными георгиевскими лентами, верховный правитель ещё раз остановился у того парня и поправил на его груди ордена и ленточки.[1112]
Побывал Колчак и на Пермском фронте. На станцию, где остановился его поезд, приехали крестьяне и поднесли верховному правителю хлеб-соль. В поезде их напоили чаем. Состав двинулся дальше и дошёл до того места, где путь был испорчен. Тогда Гайда, Колчак и Анатолий Пепеляев с сопровождающими офицерами пересели в сани и двинулись дальше. Шальной неприятельский снаряд, разорвавшись, осыпал последние сани снегом и землёй. Колчак добрался до самой передовой позиции. Забравшись в железнодорожную будку, наблюдал бой белого и красного бронепоездов. Потом пили чай с чёрным хлебом в ближайшей деревне. Где-то рядом ухнуло ещё несколько разрывов.[1113]
Как бы подводя итог всему им сказанному и сделанному за эти дни, он сказал на обеде в Перми: «Я поднимаю бокал за нашу Родину – единую и нераздельную, за нашу Родину, свободную и независимую, за нашу Родину, живущую по вере православной, при мирном производительном труде, при наличии армии, храброй и непобедимой, при правительстве, отвечающем воле народной, – вот за эту Родину я поднимаю бокал».[1114]
Давно ли, казалось, бороздил он волны Чёрного моря, давно ли бродил по дорожкам японских парков – и все его помыслы занимала война. И она всё ещё нескончаемо длится, захватывая все его силы, всю энергию, сжигая и коверкая всё вокруг, но теперь он мечтает о мирной жизни, о мирном производительном труде.
Трудно сказать, чем такое было вызвано: то ли устал от войны, как миллионы его сограждан, то ли возвысился над прежним своим пониманием проблем войны и мира. Скорее всего – и то и другое.
Но… как ни важен мир, гораздо важнее победить большевизм. Иначе не будет той России, мирной, процветающей, сильной, свободной, какой она ему представлялась. В Омске Виктор Пепеляев посоветовал ему совершить такую же поездку по всей Сибири – до Владивостока. Колчак спросил: «Мне скоро предстоит ехать на фронт снова, а туда когда же?» Пепеляев продолжал настаивать: надо принять «героическое решение», надо показаться Сибири. Верховный правитель согласился,[1115] но так и не выбрал время до тех пор, когда ехать в глубь Сибири было уже нельзя. Тогда за допущенную ранее ошибку пришлось дорого заплатить.
* * *
В начале 1919 года верховное командование Советской республики главное внимание уделяло Украинскому фронту, где начали операции войска Франции и Греции. Северный, Восточный и Южный фронты считались второстепенными.[1116]
Восточный фронт красных имел сильные фланги и слабый центр. На северном его участке около 50 тысяч штыков и сабель двух армий противостояли 53-тысячной Сибирской армии генерала Гайды. На юге три красные армии (1-я, 4-я и Туркестанская – в общем около 36 тысяч штыков и сабель) загнали далеко в степь армию атамана Дутова (около 14 тысяч). В дальнейшем красное командование предполагало повернуть эти армии на север и через Троицк и Челябинск зайти в тыл Сибирской и Западной армиям белых, отрезав их от Омска.
В центре Восточного фронта было иное соотношение. Здесь 5-я армия под командованием Ж. К. Блюмберга (11 тысяч штыков и сабель) имела своим противником Западную армию генерала Ханжина, численность коей за зиму была доведена до 40 тысяч человек.[1117] Ударное соединение Западной армии под командованием генерала В. В. Голицына сосредоточилось севернее Самаро-Златоустовской железной дороги. В его состав входили 7-я Уральская дивизия горных стрелков, Ижевская бригада (из рабочих-повстанцев) и 3-я Оренбургская казачья бригада – наиболее боеспособные части Западной армии. В центре Восточного фронта превосходство белых в живой силе было почти четырёхкратным, а по направлению главного удара – вообще трудноопределимым, ибо это был слабо контролируемый стык между 5-й и 2-й армиями. Перед Колчаком и его командованием открывался уникальный шанс нанести удар в глубь Советской республики. В конце февраля ударные части выдвинулись на линию фронта.[1118]
Красные войска, стоявшие под Уфой, были измотаны непрерывными боями местного значения. Сосредоточение ударной группы белых красная разведка обнаружила лишь в конце февраля. Сразу же был составлен план: захватить станцию Аша Балашовская (ныне город Аша), занять горные проходы, а затем по руслу реки Уфы зайти в тыл обнаруженной группировки и обрушить на неё удар.[1119] По-видимому, Блюмберг слабо себе представлял численность этой группы. 4 марта 26-я дивизия красных перешла в наступление вдоль железной дороги и в течение последующих дней, с трудом преодолевая сопротивление противника, заняла несколько деревень и хуторов и почти дошла до Аши Балашовской, когда выяснилось, что дальнейшее наступление для неё гибельно.
4 марта перешли в наступление и белые – в направлении на город Стерлитамак. Сразу же было занято несколько деревень.[1120] Это было отвлекающим ударом, что для красных стало очевидным далеко не сразу.
6 марта Сибирская армия перешла в наступление на Вятском направлении и натолкнулась на жёсткое сопротивление. Перешедшие в тот же день в наступление части ударной группировки Западной армии в направлении на Бирск сначала тоже продвигались с трудом.
Первый громкий успех пришёл не к Западной армии, а к армии Гайды, которая уже 7 марта овладела уездным городом Оханском, а на следующий день – городом Осой. Но в дальнейшем продвижение Сибирской армии замедлилось. В нём уже не было того порыва, которым она была одушевлена в декабре. К 12 марта, за шесть дней наступления, армия Гайды продвинулась на разных участках на 40–50 вёрст.[1121]
Армия же Ханжина, прорвав фронт, вышла на оперативный простор. Ехали на санях, делая по 30–35 вёрст в день.[1122] 8 марта с налёта взяли Бирск – живописно расположенный город на реке Белой, к северу от Уфы. После этого наступающие части повернули на юг, в направлении на станцию Чишмы, охватывая Уфу с запада. В течение нескольких дней они шли по тыловым учреждениям 5-й армии, сея панику в её рядах. РВС армии во главе с Блюмбергом 11 марта спешно выехал из Уфы, и в течение трёх дней, до 14 марта, армия фактически была в неуправляемом состоянии. Да и потом, когда армейский штаб остановился на станции Белебей-Аксаково, не сразу удалось разыскать штабы дивизий и установить с ними связь.[1123] 13 марта белые заняли Уфу. Красные бежали столь поспешно, что, как сообщалось в оперативной сводке Ставки, иногда бросали шинели и даже сапоги.[1124]
14 марта в руки белых перешла станция Чишмы. Но полного окружения оказавшихся в мешке частей Красной армии осуществить не удалось – не был своевременно перекрыт тракт Уфа – Стерлитамак.[1125] Тем не менее некоторым частям выход был закрыт. Так, в одной из сводок сообщалось о сдаче в плен в полном составе 239-го советского полка, в других говорилось о вылавливании разбежавшихся красноармейцев.[1126] Несмотря на неудачу полного окружения 5-й армии, Уфимская операция белых была хорошо задумана и успешно осуществлена.
Белое командование решило повторить попытку поймать красных в мешок. Но маневр не удался, наступающие части перепутались, и потребовалось несколько дней, чтобы привести их в порядок. За это время красные успели устроиться на новом месте, к ним подошли подкрепления из 1-й армии (шесть полков).[1127] В районе Стерлитамака возникла сильная группировка противника, которая начала наступление на Уфу. Оно с трудом сдерживалось противостоящими частями. Борьба приобрела затяжной характер, некоторые деревни несколько раз переходили из рук в руки. Всё это время фронт висел на волоске, ибо бои шли верстах в 35–40 южнее Уфы. Сильно помог белым, но не переломил обстановку переход на их сторону в полном составе Башкирского кавалерийского полка.[1128]
Дело решило возвращение на фронт, после короткого отдыха, Ижевской бригады. 2 апреля противник был здесь решительно обращен вспять, а 5 апреля был взят город Стерлитамак.[1129]
Белое командование сильно рисковало, продолжая всё это время наступление в юго-западном, западном и северозападном направлениях (на Белебей, Бугульму и Мензелинск). Здесь красным не помогли ни фронтовые резервы, ни присланные главным командованием.[1130] Наименьшим за это время было продвижение на Белебеевском направлении, наибольшим – на Мензелинском. 22 марта был взят город Мензелинск. Хотя вскоре он был оставлен, но части Западной армии удержались на рубеже реки Ик – там, где, согласно директиве командования, они должны были быть к 1 апреля.[1131]
На фронте Сибирской армии в это время шли затяжные бои южнее Пермской железной дороги, у сёл Клёновское и Петропавловское, и борьба приобретала позиционный характер. Лишь на крайнем северном фланге Сибирской армии произошло знаменательное событие – её войска, действовавшие в районе реки Печоры, 25 марта соединились с частями Архангельского правительства.[1132] В дальнейшем они стали проводить совместные операции против красных.
С конца марта отступление 5-й армии приобрело хаотический характер. Она несла большие потери, главным образом пленными и разбежавшимися. В свою очередь белое командование, совсем потеряв осторожность, вело наступление сразу по пяти расходящимся направлениям – Оренбургскому, Бузулукскому, Белебеевскому, Бугульминскому и Мензелинскому. Если раньше удар наносился сжатым кулаком, то теперь – растопыренной пятернёй. Северный вариант наступления был, похоже, совсем оставлен. Западная армия, выйдя на реку Ик, не стала ждать, когда Гайда возьмёт Вятку.
Овладев Стерлитамаком, войска Адмирала частью повернули на юго-запад, на Бузулук, а основной колонной продолжили движение на юг – на Оренбург. В этом направлении к 22 апреля они вышли на реку Салмыш и начали переправу, намереваясь в дальнейшем перерезать железную дорогу, связывающую Оренбург с Москвой. 25 апреля белые были уже в 20 верстах северо-восточнее и восточнее Оренбурга.[1133]
Части, повернувшие к Бузулуку, в середине апреля с большим трудом переправились через разлившуюся реку Дёму и в этом районе надолго задержались.[1134]
7 апреля части Западной армии взяли Белебей, город и станцию на Самаро-Златоустовской железной дороге. В сводке за 14 апреля сообщалось, что «ведётся бой за город Бугуруслан». Следующая сводка в архивном деле отсутствует, а через три дня сообщалось уже о боях в 30–35 верстах западнее Бугуруслана.[1135] По-видимому, этот уездный город Самарской губернии, в 167 верстах от Самары, был взят 15 апреля.
Двумя днями ранее был взят город Бугульма.[1136] После этого Бугульминское направление в сводках стало называться Симбирским.
5 апреля Западная армия вернула себе Мензелинск, а 21-го прорвалась к Каме в районе села Бережные (Набережные) Челны, где было захвачено 18 пароходов и 47 барж.[1137]
После этого возникла угроза Чистополю, уездному городу Казанской губернии, в 143 верстах от Казани, а от устья Камы – примерно вдвое ближе. Опасаясь скорого выхода войск Колчака на Волгу, Ленин 26 апреля телеграфировал члену РВС Восточного фронта, своему давнему сподвижнику С. И. Гусеву (Я. Д. Драбкину): «Надо принять экстренные меры помощи Чистополю. Достаточно ли внимательно отнеслись Вы к этому? Все ли возможности исчерпали? Телеграфируйте».[1138] Именно в этот день белые взяли Чистополь.[1139]
К середине апреля стало очевидно, что на центральном участке фронта, занимаемом Западной армией, от Камы до оренбургских степей, решается исход борьбы на всём Восточном фронте, а может, и в целом по стране. Красное командование начало стягивать свои силы с флангов Восточного фронта к центру. Теперь 40-тысячной Западной армии противостояла уже 24-тысячная 5-я армия, а отчасти – и 1-я. Зато Сибирская армия получила более весомое преимущество перед 2-й и 3-й армиями.[1140]
С начала апреля наступление Сибирской армии стало энергичнее, хотя на Вятском направлении сдвиги по-прежнему были небольшие. Сибирская армия наступала преимущественно в Прикамье – и тоже по направлению к Волге. 8 апреля был взят Боткинский завод, 11 апреля – город Сарапул Вятской губернии, причём в плен, согласно сводке, попало 2,5 тысячи красноармейцев. 13 апреля был освобождён Ижевский завод.[1141] Затем боевые действия сместились в сторону прикамских городов Елабуги и Мамадыша.
На южном участке Восточного фронта перешли в наступление армии оренбургских и уральских казаков. Первая из них 10 апреля вновь овладела Орском. Уральские казаки 17 апреля взяли город Лбищенск,[1142] затем осадили свою столицу, город Уральск, и стали совершать рейды в Самарскую и Саратовскую губернии.
Положение красных осложнялось недружелюбным отношением к ним местного населения и восстаниями в тылу. В начале марта вспыхнуло восстание в Сенгилейском уезде Симбирской губернии, перекинувшееся в Сызранский уезд той же губернии и Ставропольский Самарской. Ставрополь (ныне город Тольятти) несколько дней был в руках восставших. Крестьянские отряды, многолюдные, но плохо вооружённые (300 человек при одном пулемёте или шесть винтовок на 200 человек), терпели жестокие поражения в стычках с карателями. По данным ВЧК, в ходе подавления Сенгилеевско-Сызранского восстания были убиты в боях и расстреляны свыше одной тысячи повстанцев. По сведениям же разведки белых – до пяти тысяч.
Остатки повстанческих отрядов просачивались в другие уезды, и там тоже начинались восстания. Стратегически важная станция Кинель, близ Самары, несколько дней в марте находилась в руках повстанцев, вследствие чего было прервано сообщение с Оренбургом и Туркестаном. В некоторых местах начинались чисто партизанские действия (разбор пути, порча телеграфа). Вслед за повстанцами на левый берег Волги перебирались карательные отряды ВЧК. Один из них 31 марта был захвачен белыми на реке Ик.[1143]
10 апреля в Симбирске состоялось совещание высшего командного состава Советской республики и Восточного фронта с участием председателя РВСР Троцкого. Здесь было принято нелёгкое решение об отказе, ввиду изменившейся обстановки, от плана выхода Южной группы войск (1-я, 4-я и Туркестанская армии под командованием М. В. Фрунзе) в глубокий тыл белых в районе Челябинска. Было решено передвинуть Южную группу на запад, к Оренбургу, для флангового удара по наступающим на Самару частям Западной армии.[1144] Одновременно на пост командующего 5-й армией вместо Блюмберга был назначен М. Н. Тухачевский.
Зима 1918/19 года была снежной, а весна 1919 года – дружной. С середины апреля стали вскрываться и разливаться реки. Даже незаметные летом ручьи превращались в труднопреодолимые препятствия, а дороги – в грязное и непролазное месиво. Интендантство, как водится, запоздало с поставкой сапог. Солдаты и офицеры срочно сбрасывали размокшие валенки и переобувались в лапти и опорки. Обозы и артиллерия увязали в грязи, не поспевая за наступавшими частями. Пополнения блуждали по степи в поисках места своего назначения, потому что между штабами нарушилась всякая связь, кроме телеграфной, а телеграф имелся только на железнодорожных станциях. Наступление сильно замедлилось, а кое-где и вовсе прекратилось.[1145]
Красные находились не в лучшем положении. Но всё же для них это была долгожданная передышка. А кроме того, на юге, в оренбургских степях, половодье началось раньше и быстрее закончилось. Жаркое степное солнце высушило дороги. Это позволило довольно быстро выполнить тот маневр, который был намечен на совещании 10 апреля.
* * *
Стремительное наступление колчаковских войск произвело сильное впечатление на современников. Прежде всего – в белом лагере.
В мае к атаману Семёнову явилась представительная казачья делегация. Провела с ним переговоры, и дело вроде было улажено. Иванов-Ринов сообщал, что атаман «выражает готовность безусловно подчиниться правительству, возглавляемому адмиралом Колчаком, твёрдо веря, что позорное пятно государственной измены будет с него снято».[1146]
Тогда, в апреле-мае 1919 года, перед Колчаком многие склонялись и расшаркивались. Атаман был прощён. Но от отправки на фронт уклонился. А потом, когда настали иные времена, потихоньку взялся за старое. В сентябре 1919 года, беседуя с китайским генералом Чжан Цзолинем, Семёнов сказал, что «официально он признаёт омское правительство, но фактически не подчиняется Омску».[1147]
30 мая 1919 года главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России генерал А. И. Деникин издал приказ № 145, в коем говорилось: «…Спасение нашей Родины заключается в единой Верховной власти и нераздельном с нею едином Верховном командовании. Исходя из этого глубокого убеждения, отдавая свою жизнь служению горячо любимой Родине и ставя превыше всего её счастье, я подчиняюсь адмиралу Колчаку как Верховному правителю Русского государства и Верховному главнокомандующему русских армий. Да благословит Господь его крестный путь и да дарует спасение России».[1148]
По неясным причинам в Омске об этом приказе узнали только 20 июня, когда пришла телеграмма от Деникина, причём в ней выставлялись условия такого подчинения: «…восстановление единой неделимой России, не предрешая будущей окончательной формы правления; борьба против революционной организации большевиков до полного уничтожения; военные действия сибирских армий согласуются с общими планами кампании и главного командования Добровольческой армии».
Колчак ответил на телеграмму Деникина: «Признание Вами Верховной власти, выросшей на Востоке России, знаменует собой великий шаг к национальному объединению, для достижения которого мы положим все наши силы. Основные начала политической и военной программ Добровольческой армии, изложенные в Вашей телеграмме, совершенно разделяются мной и правительством. Общность цели и глубокое внутреннее единение между нами обеспечат успех взаимодействия. Ваше сообщение укрепляет во мне веру в скорое возрождение единой России».[1149]
Указом верховного правителя от 24 июня 1919 года Деникин был назначен заместителем верховного главнокомандующего «с оставлением в должности главнокомандующего Вооружёнными Силами на Юге России». Ещё ранее, указом от 10 июня, генерал-губернатор Северной области генерал-лейтенант Е. К. Миллер и командующий антибольшевистскими силами на Северо-Западном фронте генерал Н. Н. Юденич, признавшие власть Колчака, были назначены соответственно главнокомандующими Северным и Северо-Западным фронтами.[1150]
В письме донскому атаману генералу А. П. Богаевскому Колчак, сообщая о назначении Деникина на пост заместителя верховного главнокомандующего, отмечал при этом: «Таким образом устанавливается преемственность Верховного командования, и с этой стороны я могу быть спокойным. Более сложным представляется вопрос о преемственности власти Верховного правителя, и я не решаю его пока ввиду огромной политической сложности этого дела».[1151]
Так на территории России возникло и просуществовало около полугода несколько странное, «лоскутное» государственное образование, состоявшее из трёх разрозненных частей (только Омское и Архангельское правительства на некоторое время соединили свои территории, да и то в глухой, труднодоступной местности). Законы, принимавшиеся в Омске, были обязательны для всех территорий. Омское правительство оказывало финансовую помощь Югу. В Северном районе ощущался острый недостаток хлеба, и представители правительства Миллера делали закупки в Сибири (но, как говорится, не факт, что закупленный хлеб удалось переправить в Архангельск). Но самого главного – тесной координации военных действий – достичь так и не удалось.
Колчак, выдвинувшийся на руководящую роль в российской контрреволюции, стал излюбленной мишенью советской разоблачительной пропаганды. На одном из плакатов был напечатан не очень грамотный стишок:
Богатей с попом брюхатым И с помещиком богатым Из-за гор издалека Тащут дружно Колчака.И здесь же были карикатурно обрисованы все эти персонажи, включая и Адмирала. На другом было написано, что «старая обезьяна» Колчак (в действительности – на четыре года моложе Ленина) хочет «отобрать землю у крестьян и отдать её помещикам», «вернуть фабрики и заводы капиталистам-хозяевам», «банки отдать обратно банкирам».
Конечно же так изображали того, кого боялись. «Победы Колчака на Восточном фронте, – писал Ленин, – создают чрезвычайно грозную опасность для Советской республики. Необходимо самое крайнее напряжение сил, чтобы разбить Колчака».[1152] В такое чудо, видимо, не вполне верилось, а потому изыскивались другие средства, помимо военных, чтобы приостановить наступление колчаковских армий.
В воспоминаниях американского дипломата У. Буллита рассказывается о том, что в начале апреля 1919 года президент В. Вильсон получил от советского правительства предложение заключить перемирие на всех фронтах в России на условии признания де-факто всех существующих правительств, каковых в этом документе насчитывалось 16, не считая Центрального района с Поволжьем, где предполагалось сохранить власть большевиков (в частности, территория Омского правительства разделялась на Урал и Сибирь, хотя Уральского правительства давно уже не было). Комментируя этот документ, Буллит писал: «…Ленин, естественно, рассчитывал расширить область большевистского правления, как только он сможет безопасно это сделать, невзирая ни на какие обещания, которые он вынужден будет дать. Однако… Ленин предлагал Западу уникальную возможность предотвратить насильственное завоевание коммунистами прилегающих областей». Вильсон, занимавшийся в это время проблемой послевоенного устройства Германии, не проявил интереса к этому документу, передал его помощникам, и предложение не было принято.[1153]
Этот эпизод, если он правильно изложен Буллитом, интересен в двух своих моментах. Во-первых, Ленин действительно считал положение советского правительства отчаянным. Во-вторых, он готов был разделить территорию России на 17 частей, лишь бы сохранить власть большевиков в одной из них.
В Москве, Петрограде, во всей коренной России многие ждали Колчака. Сторонников там у него было не меньше, если не больше, чем у большевиков. Однако, запуганные, затерроризированные, они в большинстве своём мало что делали, чтобы он пришёл. М. А. Кузмин, когда-то приветствовавший Февральскую революцию, а затем Октябрьскую, писал в 1919 году:
Неужели навсегда далека ты, Былая, золотая свобода? Неужели якорь песком засосало, И вечно будем сидеть в пустом Петрограде, Читать каждый день новые декреты, Ждать, как старые девы (Бедные узники!), Когда придут то белогвардейцы, то союзники, То Сибирский адмирал Колчак. Неужели так?[1154]Весеннее наступление заставило «подобреть» тех иностранных представителей в Омске, которые прежде относились к Колчаку недоброжелательно. На Пасху 20 апреля генерал Жанен, в сопровождении большой свиты, в парадном мундире, при орденах, благоухающий одеколоном «Шипр» (это сейчас «Шипр» – принадлежность пенсионеров и пьяниц, а тогда он имел успех у самых изысканных кавалеров) явился в особняк на берегу Иртыша, христосовался по-православному с адмиралом, а потом они выпили по рюмке старой смирновки, чистой и прозрачной как слеза.
В воспоминаниях Л. В. Арнольдова есть записи об этом замечательном дне, первой и последней Пасхе в столичном Омске. На заутрене в главном омском соборе присутствовал сам верховный правитель. А потом начались гуляния по центральной омской улице – Любинскому проспекту. Праздничная толпа, не помещаясь на тротуарах, зауживала мостовую. Автомобили и коляски осторожно пробирались среди пешеходов. Арнольдову попал на глаза длинный, защитного цвета открытый автомобиль. За рулём был солдат-шофёр, рядом – офицер. Всё это Арнольдов отметил про себя безучастно и вдруг вздрогнул – сзади сидел Адмирал! Автомобиль плавно и неспешно проскользнул мимо и затерялся в перспективе улицы. Охраны – никакой.[1155] Колчак словно знал, что пасть от руки уличного террориста – не его судьба.
3 июня Колчаку была вручена нота пяти держав (Англии, Франции, Италии, США и Японии) от 26 мая 1919 года. «Союзные и объединившиеся державы», отмечая своё постоянное желание «принести России мир и порядок», ставили перед правительством Колчака ряд условий, при которых оно могло бы получать от них постоянную помощь: 1) созыв, по достижении Москвы, нового Учредительного Собрания, перед которым правительство должно быть ответственно, или же, если порядок ещё не будет восстановлен, призыв к исполнению обязанностей старого, избранного в 1917 году, «на то время, пока не будут возможны новые выборы»; 2) свободные выборы на контролируемой территории в органы местного самоуправления (земства, городские думы) и их нормальное функционирование; 3) недопущение восстановления старого режима или введения «специальных привилегий» в пользу какого-либо класса или организации, поддержание гражданских и религиозных свобод; 4) признание независимости Финляндии и Польши, мирное решение пограничных споров с участием Лиги Наций; 5) подтверждение автономии прибалтийских и закавказских республик, а также закаспийских территорий, мирное урегулирование отношений с ними при посредничестве, если потребуется, Лиги Наций; 6) судьбу румынской части Бессарабии должна определить мирная конференция; 7) созданное на демократической основе правительство России присоединится к Лиге Наций и будет сотрудничать с её членами «в деле всемерного ограничения вооружений и военных организаций». И, наконец, от Колчака требовалось подтверждение его декларации о русском государственном долге.
Ответ Колчака союзные представители получили уже на следующий день, 4 июня. Верховный правитель писал, что главная цель его правительства состоит в том, чтобы «восстановить в стране мир и обеспечить русскому народу право свободно определить своё существование через посредство Учредительного собрания». Он ещё раз подчёркивал, что взятую на себя власть не намерен удерживать «ни на один день дольше, чем это потребуется благом страны», и что «в день окончательного разгрома большевиков» первой его заботой будет назначение выборов в Учредительное собрание, которому он передаст всю полноту власти. В то же время он решительно заявлял, что возглавляемое им правительство не считает возможным возобновить действие прежнего Учредительного собрания, «избрание в которое происходило под большевистским режимом насилия и большая часть членов коего находится ныне в рядах большевиков».
«Признавая естественным и справедливым последствием Великой войны создание объединённого Польского государства, – говорилось в ноте, – правительство считает себя правомочным подтвердить независимость Польши, объявленную Российским Временным правительством в 1917 году, все заявления и обязательства которого мы на себя приняли». Окончательное размежевание границ между Россией и Польшей, указывалось в ноте, входит в компетенцию будущего Учредительного собрания. Кроме того, Колчак высказывал готовность немедленно признать де-факто существующее финское правительство, но не считал себя и своё правительство, как власть временную, правомочными окончательно решать вопрос о Финляндии. Правительство, говорилось в ноте, может подготовить решения об автономии прибалтийских, кавказских и закаспийских народов, но определение пределов этой автономии опять-таки входит в компетенцию Учредительного собрания, равно как и вопрос относительно Бессарабии.
Колчак подчёркивал, что «не может быть возврата к режиму, существовавшему в России до февраля 1917 года». В новой России все сословия и классы будут равны перед законом. «То временное решение земельного вопроса, на котором остановилось моё правительство, – заявлял Адмирал, – имеет в виду удовлетворение интересов широких кругов населения и исходит из сознания, что только тогда Россия будет цветущей и сильной страной, когда многомиллионное крестьянство наше будет в полной мере обеспечено землёй». Что же касается местного самоуправления, то оно уже действует на освобождённой от большевиков территории, а в дальнейшем его права будут расширяться.
Колчак подтвердил своё прежнее заявление о признании всех старых государственных долгов России. Он выразил также готовность «уже теперь обсудить с державами все связанные с Россией международные вопросы в свете тех идей сокращения вооружений, предотвращения войн и миролюбивой и свободной жизни народов, завершением которых является Лига наций». Колчак, таким образом, ещё раз подчеркнул, что будущая Россия ему видится миролюбивым и демократическим государством. Как видно, он действительно преодолел свою прежнюю «влюблённость» в войну (не путать с военным делом).
Нота союзникам была не «отпиской», а серьёзным документом, отражающим действительные основы внутренней и внешней политики правительства Колчака. Хотя к устроенному союзниками «экзамену на демократичность» он относился несколько иронически. Однажды, во время чаепития в компании нескольких генералов, Колчак сказал, что «Учредительное собрание, или, вернее, Земский собор», он собрать «безусловно намерен, но лишь тогда, когда вся Россия будет очищена от большевиков и в ней настанет правопорядок, а до этого о всяком словоговорении не может быть и речи». А кроме того, добавил Адмирал, в Учредительное собрание он пропустит лишь «государственно здоровые элементы и людей работоспособных и знающих, а не говорунов». Как видно, эсерам, то есть «говорунам», вовсе не отводилось места в новом Учредительном собрании.
Генерал М. А. Иностранцев, присутствовавший при этом, сделал свои выводы: «Я увидел, что лично сам Колчак намерен обходиться без помощи народа и общественности и думать со всем тяжёлым положением, в котором находилась наша родина, справиться сам и один. Мне впервые… пришла мысль, что в минуты, переживаемые Россией, как и всякими другими государствами в революционное время, могут появиться люди одного из трёх типов, представляемых нам историей, а именно: типа – или Вашингтона, т. е. строителя нового государства, или – типа Наполеона, т. е. диктатора, или иначе строителя государства на новых началах, или же, наконец, типа генерала Монка, времён английской революции, стоящего во главе реставрации, и мне, впервые же, пришла мысль, что Колчака не пленяет ни слава Вашингтона, ни неувядаемые лавры Наполеона, а ему, вероятно, более всего улыбается скромная роль Монка».
Иностранцев был тонким наблюдателем, но не владел всей ныне доступной информацией, особенно по гражданским вопросам. Он правильно заметил, что Колчак свою роль считал временной. Однако Адмирал явно не собирался, в отличие от генерала Дж. Монка, вручать завоеванную власть монарху. Неоспоримые права на власть, с его точки зрения, принадлежали не какому-либо случайно оставшемуся в живых великому князю, а новому Учредительному собранию. А до создания условий, позволяющих его созвать, Колчак был намерен действовать жёстко и авторитарно, хотя и не «сам и один» – тут опять-таки можно не согласиться с Иностранцевым. Колчак ценил помощь советников, в том числе и коллективных – в лице, например, Экономического совещания.
Многие в Омске надеялись, что «экзамен на демократичность», в случае успешной сдачи, откроет дорогу к официальному признанию правительства Колчака как законного российского. Союзники ответили довольно быстро – нотой от 12 июня. Но ответ был разочаровывающим. «Союзные и дружественные державы, – говорилось в ноте, – счастливы, что общий тон ответа адмирала Колчака и его основные положения находятся в соответствии с их предположениями. Ответ содержит удовлетворяющие их заявления о свободе, мире и самоуправлении русского народа и его соседей. Поэтому они готовы предоставить адмиралу и присоединившимся к нему помощь, упомянутую в предыдущем сообщении». По-видимому, сыграло свою роль ухудшение положения на фронте.[1156]
Март и апрель были периодом наибольших военных успехов Колчака. Но даже в это время в правительстве не прекращались склоки и трения. Сначала под давлением военного министра Степанова и при содействии В. Н. Пепеляева из состава кабинета был «выдавлен» министр внутренних дел Гаттенбергер. Его место занял Пепеляев. Потом, уже в мае, ушли в отставку министр юстиции Старынкевич и министр просвещения В. В. Сапожников. А затем дошла очередь и до Степанова, должность коего перешла к Лебедеву, оставшемуся на посту начальника Штаба верховного главнокомандующего.[1157] Всё это не нравилось верховному правителю, который подозревал, что многие из этих перестановок вызваны не делом, а борьбой чьих-то амбиций и сиюминутных интересов. Но он явно не знал, как навести порядок в Совете министров.
В апреле в Омск из Харбина приехал генерал барон А. П. Будберг. В его дневнике содержится ряд резких, порой уничтожающих характеристик многих деятелей омского режима. Одно из немногих исключений – это Адмирал: «30 апреля: …Являлся к верховному правителю… Вынес симпатичное впечатление: несомненно, очень нервный, порывистый, но искренний человек; острые и неглупые глаза, в губах что-то горькое и странное; важности никакой; напротив – озабоченность, подавленность и иногда бурный протест против происходящего – вот то, что дало мне наше первое свидание для его характеристики».[1158] Потом, правда, Будберг стал называть Колчака «полярным мечтателем» и «полярным идеалистом».
В марте-апреле правительство приняло ряд важных постановлений, не все из которых оказались вполне удачными.
Инициатором одного из них был верховный правитель, в марте снова побывавший на фронте и ещё раз воочию убедившийся, что армия снабжается очень плохо – вплоть до отсутствия у солдат нижнего белья. 18 марта, за подписью Колчака и Вологодского, был издан указ «О реквизиции белья у населения к востоку от линии Екатеринбург – Челябинск – Троицк, не исключая и сих городов». Всё мужское население в городах, в зависимости от своих доходов, должно было «в кратчайший срок» сдать от одного до четырех комплектов белья. «Бельё должно быть совершенно годное к носке и представлено в исправном виде, – говорилось в указе. – Каждый комплект белья состоит из рубашки, кальсон и пары носков или пары портянок».[1159]
Мера была явно непопулярная и исполнялась туго. В апреле акмолинскому губернатору пришлось продлить крайний срок сдачи белья до 15 мая.[1160] Нехватка белья в армии нисколько не уменьшилась.
Однажды в июне Колчак вернулся с фронта очень рассерженным. М. А. Иностранцев, в то время – генерал для особых поручений при Ставке, срочно был вызван к верховному правителю и уже в приёмной мог слышать, какой силы «шторм» разразился в его кабинете. Разносу подвергался начальник интендантского ведомства. Когда Иностранцев прошёл в кабинет, он увидел, что у Колчака глаза «нервно блистали, брови сумрачно сдвинулись, говорил он весьма резко и отрывисто». «Рука с перочинным ножом беспощадно резала рукоятку кресла, на котором он сидел» (скверная привычка, появившаяся у Колчака в Омске).
«У армии нет белья, – говорил Адмирал, – люди снашивают рубашки до того, что их приходится прямо бросать, все люди завшивели, а интендантство уверяет меня, что всё есть, но только будто бы неумело доставляется к армии». Колчак был убеждён, что интенданты всё разворовывают. Другим объектом его гнева была сибирская буржуазия. «Если бы тут были большевики, – говорил он, – они бы не церемонились. Они бы мигом обобрали этих разжиревших сибирских купцов, и в Красной армии было бы всё, а мы – церемонимся, а они спекулируют и наживаются, и до армии им нет никакого дела».
Иностранцеву поручалось на следующее же утро произвести внезапную реквизицию у торговцев всех материалов, пригодных для шитья белья, вплоть до шёлка «Пусть лучше армия носит шёлк, чем зазнавшиеся омские купцы», – говорил Адмирал. Добытый материал предполагалось передать благотворительным дамским кружкам для шитья кальсон и рубашек, а потом Колчак хотел сам отвезти эти изделия на фронт для раздачи помимо интендантов. План был прост и наивен – по крайней мере, в изображении Иностранцева.
Будберг, в то время уже военный министр, был категорически против и даже не хотел скреплять подписанный Адмиралом приказ. Личный его доклад ничего не дал. Колчак, как писал Иностранцев, в своём упорстве доходил подчас до упрямства.
Реквизиция была проведена по всем правилам военного искусства. Неприятель был застигнут врасплох и почти не оказал сопротивления. Изъяли более 60 тысяч аршин разного полотна, на следующий день – ещё 20 тысяч. Адмирал остался доволен, омские дамы получили возможность приложить своё старание. «Шторм» утих, и Адмирал теперь смог более внимательно выслушать доклад военного министра. Оказалось, что на интендантских складах действительно имеются большие запасы и полотна, и готового белья. Но Ставка не заявляла на них требований, и потому они лежали без движения.[1161]
Большевистские методы руководства обладали большой притягательной силой даже для Колчака, ярого противника большевиков. Но обычно оказывалось, что такие методы провоцировала элементарная нераспорядительность кого-то из его ближайшего окружения.
Продвижение колчаковских войск в глубь Европейской России остро ставило вопрос о земле. От этого во многом зависел успех всего дела. В первую очередь следовало решить, кому будет принадлежать урожай с бывших помещичьих земель. 3 апреля Совет министров принял постановление о том, что урожай будет принадлежать тем, кто сеял. Это был первый шаг в правильном направлении.
Далее следовало всенародно объявить о целях и намерениях правительства в аграрном вопросе. Министерство земледелия представило проект декларации, и в Совете министров разгорелись жаркие споры. Гинс и некоторые другие члены кабинета требовали, чтобы в документе чётко было сказано, что «восстановления помещичьих земель производиться не будет». В ответ были высказаны сомнения, что такое заявление подтолкнёт к их захватам там, где они ещё уцелели. Тогда была предложена другая редакция: «Восстановление тех владений помещиков и казны, которые в течение 1917 и 1918 годов перешли в фактическое обладание крестьян, производиться не будет». Не прошла и эта редакция.
Генерал Лебедев специально пришёл на заседание Совета министров, чтобы настоять на отсрочке, а фактически на непринятии декларации. В армии, говорил он, сражается много офицеров-помещиков – подобный документ снизит их боевой дух. В правительстве знали, что многие бывшие помещики, бежавшие в Омск, ищут покровительства в Ставке, а некоторые офицеры в освобождённых от большевиков районах действительно пытались возвращать помещикам их земли. Тем не менее Лебедева поддержали Михайлов и Сукин. И всё же большинством голосов декларация была утверждена. Лебедев демонстративно ушёл с заседания, а потом подал письменный протест. Несмотря на это, Колчак подписал её на следующий же день, 8 апреля.
Декларация, принятая с таким скандалом, сама по себе получилась документом весьма слабым. Наиболее удачным её местом было ещё раз сделанное заявление о том, что «урожай будет принадлежать тем, кто сейчас пользуется землёй, кто её запахал и засеял». Далее следовавший пассаж звучал гораздо менее определённо: «…Правительство примет меры для обеспечения безземельных, малоземельных крестьян и на будущее время, воспользовавшись в первую очередь частновладельческой и казённой землёй, уже перешедшей в фактическое обладание крестьян».
Общее впечатление ослаблялось и ещё одним пунктом, где говорилось, что земли хуторян, отрубников, укрепленцев «подлежат возвращению их законным владельцам». Министр земледелия Н. И. Петров хотел сохранить результаты Столыпинской аграрной реформы, не зная, что по деревням уже прокатилась волна переделов, которая смела хутора, отруба и укреплённые участки. Восстановить всё это было уже невозможно.
В окончательном виде, подчёркивалось в декларации, земельный вопрос будет решён Национальным собранием.
Вообще же декларация, многословная и недостаточно определённая, не могла произвести большого впечатления на тех, кому была адресована.
Ещё менее удачным, с точки зрения политики, был закон о временной передаче помещичьих земель в руки государства. Захваченные крестьянами земли следовало обмерить и описать, а сами крестьяне становились с этого момента арендаторами. Конечно, всё это должно было вызвать у них самые неприятные подозрения: земли отнимут. В то же время были недовольны и изгнанные помещики, считая, что власти хотят узаконить захват их земель. Закон остался на бумаге, но наделал много шуму и подпортил репутацию Омского правительства.
Позднее, в конце июля, Колчак, стараясь исправить ошибки, заявил, что правительство и лично он считают «справедливым и необходимым отдать всю землю трудящемуся народу». Однако такое заявление прозвучало уже несколько поздновато.[1162]
Вообще же белым вождям трудно было состязаться с красными по части обещаний – ведь красные сулили ни более ни менее, как рай на земле. И Колчак, наверно, не раз вспоминал, как Толль в первой северной экспедиции кричал собакам: «Вперед! Вперёд! Там тёплое жильё! Там много вкусного корма!» А когда переставал обманывать, стая останавливалась. Человек, как индивидуум, конечно, далеко ушёл от животных. Обустроенное, сытое общество с помощью таких призывов не поднять. А вот орды голодных, ошалевших от бесконечных бедствий людей поднять и увлечь в нужном направлении, оказывается, можно – важно только всё время поддерживать напряжение, нагнетать обман.
Апрель 1919 года был отмечен ещё одним важным законом – в области денежного обращения.
По мере того как белые войска шли в глубь Советской России, в обратном направлении – из занятых территорий в Сибирь катилась огромная масса напечатанных большевиками денег, в основном «керенок». Это не только поддерживало порочную практику финансирования большевистских расходов, но и подхлёстывало инфляцию и расстраивало экономику. Министр финансов Михайлов пошёл на жёсткие и неординарные меры.
16 апреля было объявлено, что через месяц, с 15 мая, будут изъяты из обращения казначейские знаки 20– и 40-рублёвого достоинства («керенки»). Их надлежало сдавать в банки в обмен на именные квитанции. Половина принятой суммы возвращалась в виде сибирских знаков, вторую же половину можно было получить не ранее чем через 20 лет.
Всё это было как гром среди ясного неба, ибо «керенки» были самой ходкой валютой. Изгнание их на какое-то время внесло расстройство в экономическую жизнь. Особенно были недовольны китайские и японские торговцы, являвшиеся самыми крупными держателями «керенок» и доселе видевшие в русском рубле нечто незыблемое, независимое от политических бурь. Однако Михайлов твёрдо и настойчиво проводил свой курс. И «керенки» были побеждены.
Плоды этой победы оказались довольно горькими. Престиж русского рубля был подорван. С изгнанием «керенок» инфляция всей своей тяжестью навалилась на сибирские знаки. И, наконец, военные в один голос утверждали, что денежная реформа сильно понизила боевой порыв армии – как раз в период решающих боёв.
Приходится признать то, что прежде стыдливо замалчивалось – в годы Гражданской войны военная добыча являлась важным стимулом для той и другой армии. Красноармейцы, набранные из голодных губерний, не щадя жизни, рвались в сытую Сибирь, где, как им говорили, булки растут чуть ли не на деревьях. Солдатам Белой армии в Советской России взять было нечего… – кроме денег. Красноармейцы получали более высокое жалованье, а кроме того за ту или иную победу им раздавали большие премии. У некоторых красноармейцев, попавших в плен, солдаты Белой армии отнимали десятки тысяч рублей. Теперь это всё превращалось в мусор.
«Закон о керенках в общем принёс больше вреда, чем добра», – писал А. А. Никольский, крупный чиновник омского министерства финансов.[1163]
Наслушавшись жалоб со стороны заготовительных органов на то, что предприниматели не справляются с государственными заказами, а со стороны последних – на то, что заказы распределяются бессистемно, Колчак поручил правительству провести в Екатеринбурге съезд представителей фабрично-заводской промышленности Урала и Приуралья. Открытие съезда было назначено на 10 мая.
Первые дни по прибытии в Екатеринбург Колчак был занят в штабе Гайды. Так что подготовкой своего доклада он смог заняться только утром в день открытия съезда. Вместе с Гинсом они наметили общий план. Адмирал, как вспоминал Гинс, без колебаний отверг поступавшие от некоторых военных предложения о милитаризации заводов и о прикреплении к ним рабочих.
Речь Адмирала в переполненном зале (собралось до 600 человек) имела несомненный успех. Колчак говорил по заготовленному плану, а потом сказал несколько слов и сверх того, «и вышло это у него очень хорошо», вспоминал Гинс. «Обеспечение рабочего продовольствием и предметами первой необходимости, установление для него надлежащих норм оплаты труда, извлечение из армии незаменимых квалифицированных рабочих с сохранением их военнослужащими, – тезисно пересказывал Гинс речь Колчака, – сделают больше, чем милитаризация заводов или их военное управление».
Дальнейшая работа съезда пошла по десяти секциям: горно-заводской, кожевенной, овчинно-шубной, мукомольной, лесопромышленной, золото– и платинопромышленной, химической и мыловаренной, кустарной, сельскохозяйственной и текстильной. Ставилась задача не только отказаться, с помощью уральской промышленности, от части поставок из-за рубежа, но и сделать восстановленный и реконструированный Урал опорой в деле будущего восстановления экономики всей страны.
Генерал Будберг, посетивший ряд секций, утверждал, что там было много публики эсеровского типа, говорилось много пустяков, ораторы «упражнялись в любимом российском обывательском занятии – начальству в нос гусара запускать». У генерала возникло желание посадить всех этих ораторов в один вагон и отправить на ту сторону фронта – «пусть попробуют там побрехать». Но даже ворчливый Будберг отмечал в целом деловой характер съезда и его резолюций, направленных «к решительному улучшению положения уральской фабрично-заводской промышленности». В свою очередь представителями правительства тут же было решено отпустить заводам хлеб из казённых запасов, предоставить в их распоряжение некоторые транспортные средства, отпустить из армии квалифицированных рабочих.[1164]
Удачный опыт работы с общественностью в Екатеринбурге подтолкнул Адмирала к мысли о расширении компетенции и состава Экономического совещания. Теперь оно стало называться Государственным экономическим совещанием. Кроме министров, представителей промышленности и кооперации в его состав вошли представители земств и городов (20 человек), которые назначались верховным правителем по представлению соответствующих органов самоуправления, казачьих войск, профсоюзов и научных организаций. Совещанию было предоставлено право делать представления правительству о необходимости тех или иных мероприятий в социально-экономической области, рассматривать роспись доходов и расходов, обсуждать представленные ведомствами законопроекты, касающиеся социальной сферы. Все подобного рода законопроекты должны были поступать на отзыв Государственного экономического совещания. Не считая возможным вводить парламентский строй во время Гражданской войны, правительство стремилось рядом последовательных шагов подготовить переход к нему в будущем.
Первое заседание в обновлённом составе Совещание провело 19 июня. Председателем его стал Г. К. Гинс. Адмирал обычно утверждал всех представленных ему кандидатов в члены Совещания. Так что в его составе оказались члены Учредительного собрания, эсеры А. Н. Алексеевский и Н. П. Огановский.[1165] Первый из них, по-видимому, никогда не прекращал оппозиционной деятельности, а второй, по крайней мере до осени, стремился к конструктивному сотрудничеству с правительством и возглавлял земельную комиссию.
* * *
Весной 1919 года повстанческое движение в белом тылу, конечно, было слабее, чем в красном. Однако оно, начавшись осенью 1918 года с отдельных бунтов, фактически никогда не прекращалось. Много существовало причин, которые толкали население к противодействию властям: налоги, ограничения в пользовании казённым лесом, мобилизации и, наконец, последнее по счёту, но не по важности – изъятие милицией самогонных аппаратов. Вызывало раздражение также то, что правительство, закупая хлеб по казённым ценам, не обеспечило доставку в деревню нужных ей товаров. Из всех перечисленных причин главной, по крайней мере на первых порах, надо считать мобилизацию.
В мировоззрении сибирских крестьян как-то странно сочетались элементы монархизма и анархизма: царь, конечно, нужен, но такой, который не брал бы податей, не призывал в армию и позволял бы рубить лес, где угодно и сколько хочется.[1166]
Сопротивление властям имело следствием прибытие карательных отрядов и массовые порки. «Большевики нас не пороли», – говорили выпоротые крестьяне, подтягивая штаны. Откуда было им знать, что большевики в аналогичных случаях предпочитали расстреливать? Первый их приход в Сибирь был кратковременным, они не успели проникнуть далеко в сибирскую глубинку.
Сибирское повстанческое движение – это сложное явление. Не надо, наверно, сваливать всё в одну кучу (бунты, партизанщину, внутренние фронты). Деревенские бунты – это, конечно, дело самих крестьян. А вот партизанщина сплошь и рядом замешана на обычном бандитизме. Мало их – действительно «идейных» партизанских отрядов. После падения старого режима для разбойников тоже наступила свобода – и чем дальше, тем было свободнее. А ведь Сибирь – место каторги и ссылки. Бывшие каторжники взялись за старое, и возникли многочисленные разбойничьи отряды, для коих особенный простор был в деревенской глубинке, где почти не было милиции, откуда можно было выходить, делать своё дело и обратно туда возвращаться. Отнюдь не всегда, конечно, такие отряды возглавляли уголовники, но уголовный элемент всюду присутствовал. Даже эсер Е. Е. Колосов признавал, что в повстанцы шла прежде всего «бродячая Русь».[1167]
Мощное пополнение партизаны получали от дезертиров, среди которых было много бывших фронтовиков. Именно они придавали «идейную» окраску отдельным отрядам – большевистскую, эсеровскую, анархистскую. Но близкое сотрудничество с уголовным миром и суровая обстановка жизни в отряде быстро стирали разницу между теми и другими.
Крестьяне, конечно, не испытывали чувства радости, когда такой отряд являлся в их деревню: хлеб выгребут, скотину порежут, лошадей заберут, баб изнасилуют, церковь сожгут. Если отряд был небольшой – старались отбиться.[1168] Если же, на беду, отряд был внушительный, приходилось оказывать вынужденное гостеприимство.
И опять же – разница. Некоторые сёла почти не давали пополнения в партизанские отряды и крайне неохотно их принимали, у других же – в отрядах была половина своих. Тут секрет был простой – не давали казаки и старожилы. Переселенческие же деревни сплошь были красными. 18 мая 1919 года Будберг записал в дневнике: «Восстания и местная анархия расползаются по всей Сибири; говорят, что главными районами восстаний являются поселения столыпинских аграрников, не приспособившихся к сибирской жизни и охочих на то, чтобы поживиться за счёт богатых старожилов».[1169] Особое тяготение столыпинских переселенцев к бунтам и партизанщине отмечал позднее и красный комиссар В. М. Косарев, посланный в завоеванную уже Сибирь.[1170]
Странная, конечно, сложилась история. Переселенческое управление при старом режиме было мощной организацией. Оно прокладывало дороги в глухие места (потом эти дороги так и назывались – «переселенческими»). Строило для переселенцев больницы – лучшие в сибирской деревне. Давало ссуды. Но либо помощь оказывалась бюрократически неумело, не шла на пользу, либо люди разбаловались и привыкли к подачкам, либо вообще нехозяйственный элемент в массе своей ехал в Сибирь. Как бы то ни было, многие из переселенцев, если не большинство, к началу описываемых событий не смогли как следует устроиться на новом месте и расстаться с бедностью.
Обосновавшись в переселенческих волостях, партизанские отряды устанавливали там свою власть, распространяли её на соседние волости и проводили мобилизацию. Так создавались партизанские армии. Вооружены они были на первых порах чем попало – берданки, дробовики, пики. Но основной отряд, как правило, вооружён был хорошо, имел один-два пулемёта и сидел на лошадях. Дело начинало принимать нешуточный оборот.
Особенного размаха движение приняло в Енисейской губернии. Вблизи Сибирской магистрали, грозя её перерезать, образовалось три фронта – с севера Тасеевский (с центром в селе Тасееве Канского уезда), с юга Камарчагский (близ станции Камарчага) и восточнее – Тайшетский.
В марте во внутренних губерниях Сибири побывал Пепеляев, вернувшийся в бодром настроении. «Народ бунтовать не хочет, – докладывал он Колчаку. – Он сильно раскачался и не может сразу остановиться. Беспорядки носят бандитско-большевистский характер. Население парализовано и как бы отрезано бандитами от власти. Власть должна туда проникнуть, уничтожив бандитов, и тогда море окончательно утихнет».[1171]
Пепеляев предлагал слишком простое решение, но верховный правитель, видимо, ему поверил. В Енисейскую губернию был послан генерал С. Н. Розанов, бывший начальник штаба при Болдыреве. 23 марта в Иркутский военный округ была отправлена телеграмма военного министра Степанова: «Передаю следующее повеление верховного правителя: „Возможно скорее и решительнее окончить с Енисейским восстанием, не останавливаясь перед самыми строгими, даже жестокими мерами в отношении не только восставших, но и населения, поддерживавшего их…“» 31 марта Розанову были присвоены права генерал-губернатора.[1172]
В распоряжении Розанова были 3-я чехословацкая дивизия, итальянские, румынские и сербские части и казаки из отряда Красильникова.
Наибольшую опасность для железнодорожной магистрали представлял Тайшетский партизанский район, где действовало несколько отрядов, не объединённых единым командованием. Начиная с февраля, здесь участились диверсии против воинских эшелонов и грабежи пассажирских поездов. В связи с этим пришлось перейти на дневной график работы и выделять бронепоезда для сопровождения. Начались нападения на чехословацкие посты, охранявшие дорогу. Всё это вынудило чехов начать операции по очищению от партизан близлежащих деревень. На помощь им были посланы румынские и казачьи части. Попавшихся в плен партизан чехи вешали на деревьях и телеграфных столбах. Жестом отчаяния со стороны повстанцев было нападение огромного их отряда (до тысячи человек) на станцию Тайшет. Застигнутые врасплох, чехи быстро пришли в себя и дали отпор. Летом тайшетская «пробка» была ликвидирована.[1173]
Сложнее обстояло дело с Камарчагским фронтом, проходившим верстах в пяти от железной дороги и прикрывавшим партизанскую «республику» со столицей в селе Степной Баджей Красноярского уезда. Эта «республика» просуществовала около полугода. Жители Степного Баджея с гордостью называли своё село «Петроградом». Здесь собирались крестьянские съезды, издавалась на гектографе газета «Крестьянская правда», работал кустарный заводик, делавший патроны.[1174]
Войсками двух волостей, образовавших единое «государство», командовали А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкин. Оба были офицерами и подлежали мобилизации, но бежали в тайгу с группой своих приверженцев. Кравченко по образованию был агрономом и имел здесь же неподалёку хутор, но, как говорили, водил дружбу с зелёным змием. А потому главной фигурой был его помощник Щетинкин, человек чапаевского склада, выдвинувшийся из солдат, военный самородок, обладавший к тому же даром демагогии. Он был большевиком ещё с фронтовых лет, выступал за советскую власть, но вёл пропаганду с учётом крестьянских взглядов. Во Владивосток, говорил он, приехал великий князь Николай Николаевич и взял власть в свои руки, ему уже подчинились Ленин и Троцкий, которых он назначил своими министрами, и только «вампир Колчак» оказывает сопротивление, а потому надо всем встать на борьбу за царя и советскую власть.[1175]
В мае чехословацкая дивизия перешла в наступление. Противник был отодвинут от железной дороги, и Камарчагский фронт превратился в Манский, по имени реки Маны, на границе безлюдного таёжного района, куда стремились загнать повстанцев правительственные и союзные войска.
Повстанцы оказывали отчаянное сопротивление, цепляясь за каждый пригорок или речку, а рельеф местности по направлению к Мане становился всё сложнее. Но к середине июня повстанческая армия, число бойцов в коей доходило до шести – восьми тысяч, была разбита, а таёжный «Петроград» сгорел во время боёв. «Моральное состояние армии к этому времени сделалось ужасным, – писал Колосов. – Разыгрывались потрясающие картины при отступлении в тайгу». Многие погибли в боях, другие разбежались по домам. Кравченко и Щетинкин со своими отрядами отступили в тайгу, где, как казалось, их ожидала неминуемая гибель. Но они сумели найти лазейку, обойти заставы, расставленные вокруг таёжного района, и выйти в Минусинский уезд.[1176]
И это был типичный случай, когда мобилизованные в партизаны мужики падали, как снопы, а основной отряд во главе со своими предводителями ускользал.
Село Тасеево, в 125 верстах от железной дороги, было ещё более труднодоступным местом, чем Степной Баджей. Повстанцев там возглавлял В. Г. Яковенко, фронтовик и большевик. Тасеевцы почти не угрожали железной дороге, но начали завоевание смежного с их волостями золотопромышленного района. Правительственных войск там не было, сопротивление же исходило от отрядов самообороны, состоявших из старателей, артельщиков, мелких золотопромышленников и служащих фирм. Оказать им помощь можно было только ударом по Тасееву с юга, а туда вела единственная дорога, по которой невозможно было протащить артиллерию.
Борьба с обеих сторон носила крайне ожесточённый характер. Чехословацкие солдаты натыкались на трупы своих товарищей, взятых в плен, со следами страшных пыток. Каратели же расстреливали пленных без суда, брали среди населения заложников, которых тоже нередко расстреливали, устраивали порки, иногда накладывали контрибуцию на целую деревню.[1177]
По-видимому, Колчак, мало интересовавшийся тем, что происходит к востоку от Омска, не всё знал и не во все детали вникал. На последнем допросе его спросили, известны ли ему случаи, когда Розанов в виде наказания сжигал деревни. Колчак отвечал, что отдельные случаи такого рода были, но носили чисто военный характер. Если деревня, как, например, Тасеево, превращалась повстанцами в укреплённую базу, то во время боя она, конечно, начинала гореть в результате артиллерийского обстрела.[1178]
Но это было уже позднее, а тогда, в июле, Тасеево было взято без артиллерии и не сгорело. Но вскоре казаки вынуждены были отступить с большими потерями. Уходя, вспоминала сестра милосердия 3. Каменецкая, они иногда поджигали дома, в которых только что ночевали, чтобы хоть ненадолго задержать преследователей. Над последствиями таких действий, видимо, не задумывались. Партизаны же вскоре захватили значительную часть золотопромышленного района.[1179]
После всех этих побед, подлинных и мнимых, верховный правитель, видимо, с подачи военных и Пепеляева, издал указ от 21 июня 1919 года, которым предписывалось изъять из пользования крестьян селений Тасеево и Степной Баджей их наделы, состоящие из государственных земель, и передать их в земельный фонд для устройства ветеранов Гражданской войны. Это была, конечно, избыточная мера, которая ставила в невозможное положение уцелевших жителей названных сёл и превращала их, всех поголовно, в непримиримых врагов существующей власти.
Для проведения в жизнь этого указа была образована межведомственная комиссия, у которой хватило здравого смысла притормозить это дело. Колчак же не настаивал на скорейшем исполнении своего указа, который, надо полагать, остался на бумаге.[1180]
* * *
Во время половодья Западная армия Колчака получила мало подкреплений. Наоборот, к красным они подходили – из внутренних губерний, с южного и северного флангов того же Восточного фронта.
Генерал П. П. Петров, начальник штаба 6-го Уральского корпуса, стоявшего на реке Дёме, вспоминал, что ещё в половодье к ним в руки попали неприятельские документы, в которых раскрывался весь план контрманевра Южной группы. Документы были направлены в штаб армии, где им, как видно, не придали большого значения. Там были уверены, что противнику нанесён решающий удар, а после половодья начнутся завершающие операции. Командование корпуса получило приказ немедленно разбить сосредоточившуюся против него группу противника.[1181]
26 апреля в оперативной сводке командования отмечались бои «с проявляющими активность красными в районе с. Михайловское (Шарлык)». По-видимому, это одно из тех сражений, в которых 6-й корпус пытался выполнить приказ командования, но натолкнулся на превосходящие силы противника.[1182]
И действительно, на главном направлении удара красным удалось сосредоточить 33-тысячную группировку (11 тысяч для удара с фронта и 22 тысячи – для удара с фланга), имея намерение отрезать от Уфы и разгромить главные силы Западной армии.[1183]
Согласно Какурину, красные начали операцию 28 апреля. По сводкам же белых, бои на реках Дёма и Салмыш начались 27 апреля. Бои на Салмыше продолжались до 4 мая и удачи красным, видимо, не принесли. 5 мая сообщалось лишь о перестрелке. На Дёме же остановить противника не удалось, но отход в первые дни происходил довольно медленно.[1184]
На Самарском направлении в эти дни велись бои на линии деревень Старый Аманак – Аверкина – Большая Era. Это – район станции Похвистнево, примерно в 150 верстах от Самары. Из сводок неясно, перешла ли в руки белых сама станция. 30 апреля белые установили контроль над всеми этими деревнями и, видимо, собирались продолжать наступление.[1185] Но этот район оказался для них на Самарском направлении крайней точкой. Увидели багряно-красные холмы Заволжья, похоронили на них свои мечты – и повернули вспять.
Дело в том, что южнее красные прорвали Бузулукский фронт. Отступление там началось с конца апреля. Но в район западнее Абдулина подошло подкрепление – полк «Курень Шевченко». Формировался он в ближнем тылу. Кому-то пришла в голову мысль составить его из одних украинских переселенцев – лучше будут драться. Ещё не знали, что переселенцы – народ ненадёжный. «Курень Шевченко» выдвинули на самый опасный участок, а он в первую же ночь выставил пулемёты против соседей, чуть не захватил штаб дивизии и перешёл к красным.[1186]
Произошло это, видимо, 30 апреля, а 1 мая части Западной армии, действовавшие на Бузулукском направлении, отошли к Бугуруслану. В тылу у них была занятая противником станция Абдулино. 4 мая Абдулино отвоевали, но Бугуруслан был сдан. А 6 мая белая разведка сообщала, что «Курень Шевченко» принимается красными на учёт и довольствие.[1187]
Армия, не получавшая крупных пополнений едва ли не с начала наступления, была измотана и истощена. Численный состав некоторых полков уменьшился до 200–300 человек.[1188] Ставке пришлось спешно выдвигать на фронт свой единственный крупный резерв – Волжский корпус генерала Каппеля.
Корпус формировался в районе Челябинска, был одет, обут и вооружён генералом Ноксом, но к боевым действиям ещё не был вполне готов. Ожидалось пополнение из дальних районов Сибири, но там началась партизанщина. Пришлось пополняться кем попало – отчасти из тех же переселенцев и фронтовиков. Боевое обучение закончить не успели. На фронте положение становилось всё хуже и хуже, так что выдвигать корпус Каппеля пришлось по частям.
Первой прибыла Симбирская бригада. Она сосредоточилась на отведённом ей участке и должна была принять участие в наступлении, чтобы удержать красных, рвущихся к Уфе. Но накануне наступления один полк перешёл к красным.
В этот день, 13 мая, на станцию Белебей прибыл Колчак. Каппель доложил о случившемся. Окружающие заметили, что для Адмирала это было словно удар обухом по голове. Изменившимся голосом он сказал, что «не ожидал этого, но просит не падать духом». Наступление пришлось отменить.
Местом развёртывания корпуса Каппеля нерасчётливо был избран Белебей. Фронт вскоре подошёл вплотную, и прибывающим частям приходилось прямо с колёс вступать в бой. Они вовлекались в общее отступление и теряли боевой дух.
Некоторые части, особенно потрёпанные, пришлось отправить на отдых и пополнение. Колчак пожелал увидеть одну из таких частей. Перед ним церемониальным маршем бодро и даже лихо прошагал полк – кто в опорках, кто босиком, почти все без шинелей. На Колчака это произвело удручающее впечатление. Впрочем, говорили, что командир отчасти нарочно «принарядил» так своих молодцов, чтобы оправдать отступление.[1189]
Красным не удалось отрезать Западную армию от Уфы, но фронт катился к Уфе. В то же время на других участках, севернее, белые ещё наступали. На Симбирском направлении они дошли до станции Шентала и города Сергиевска[1190] (отсюда по тракту до Самары было даже немного ближе, чем от Похвистнева). Заняв же Чистополь, они 30 апреля продвинулись ещё на 35 вёрст,[1191] оказавшись примерно в 100 верстах от Казани, а от Волги – верстах в 40–50. Ближе этого к Волге нигде подойти не удалось.
3 мая Чистополь был оставлен, но на следующий день части Сибирской армии взяли Елабугу – город на другом, северном берегу Камы. В последующие дни Сибирская армия продвинулась ещё дальше, к нижнему течению реки Вятки, вплоть до её устья, и здесь остановилась. В своих воспоминаниях Гайда писал о тяжёлых боях на рубеже реки Вятки и о подходе к большевикам больших подкреплений.[1192] Последним успехом Сибирской армии явилось взятие в начале июня города Глазова на Северной железной дороге – на полпути между Пермью и Вяткой. Но это был лёгкий успех, потому что большевики ослабили на этом направлении свои силы, перебрасывая их на юг.
В конце мая выяснилось, что красные наносят удары по двум направлениям – на Уфу и Красноуфимск (в данном случае – в стык между Западной и Сибирской армиями). Между двумя белыми армиями давно уже существовало плохо скрытое соперничество, а потому взаимодействия не получилось. Фронт был прорван, причём напрасно были растрачены последние (и ещё довольно сырые) резервы Гайды.[1193]
Утром 26 мая Вологодскому была доставлена телеграмма командующего Сибирской армией, в коей описывалось катастрофическое положение на фронте. Вина за это возлагалась на генерала Лебедева, который, как говорилось, направляет на фронт «безумные директивы» и роняет авторитет верховного правителя. Гайда ставил Вологодского в известность, что отныне, с 26 мая, он не будет выполнять распоряжений нынешнего начальника штаба Ставки, и просил, чтобы Совет министров поддержал его требование удалить Лебедева «от всякого участия в командовании».
Всё это было очень похоже на мятеж, и растерявшийся Вологодский поделился новостью с несколькими министрами. Ему посоветовали срочно доложить о всём верховному правителю. Для Колчака выходка Гайды оказалась неприятным сюрпризом. Понемногу распаляясь, он сказал, что Гайда не имел права посылать такую телеграмму, что это грубое нарушение дисциплины и что Совету министров об этом докладывать не надо. Потом решил, что Лебедев переговорит с Гайдой по прямому проводу и поставит его в «надлежащие рамки».
Последнее, видимо, не удалось. Начались совещания с высшими чинами Ставки, с Ноксом и Жаненом, и на следующий день стало известно, что решено создать комиссию для расследования конфликта между Гайдой и Лебедевым, предоставив ей право изучить все документы Ставки. Лебедев остался недоволен таким решением и ушёл в свой вагон, заявив, что на время работы комиссии устраняется от всех дел.
Возникла необходимость вызвать в Омск Гайду. Но он отказывался ехать, и надо было кого-то послать к нему для переговоров и уговоров. Сначала думали о Дутове и Ноксе, но потом Колчак решил ехать сам.
30 мая верховный правитель выехал в Пермь, захватив с собой весь свой конвой. Кроме того, приказано было изготовиться находящемуся в Екатеринбурге батальону охраны Ставки. В случае неповиновения Гайду решено было арестовать и отправить в Омск.
В Перми, вопреки опасениям, поезд был встречен с обычной торжественностью. Когда церемония закончилась и почётный караул удалился, конвой Адмирала занял вокзал. Колчак же пригласил Гайду в свой вагон, и между ними начался нелёгкий разговор.
Прежде всего Колчак заявил, что за отказ исполнять приказания Верховного главнокомандующего Гайда отстраняется от командования армией и ему предлагается срочно выехать в Омск, где будет решена его дальнейшая судьба.
Не моргнув глазом, Гайда ответил, что, как только он оставит армию, она сорвётся с фронта и побежит. Колчак холодно сказал, что за последствия отвечает он, главнокомандующий.
Затем произошёл обмен колкостями, причём тон разговора быстро повышался.
– Вы не годитесь в командующие армией, – срывался на крик Колчак, – более того, вы не годитесь быть и простым офицером, у вас нет не только необходимых знаний, но у вас нет и необходимого военного воспитания… да и откуда им быть у вас, когда вы по специальности – военный фармацевт австрийской армии?!
– Вероятно, господин адмирал, – не оставался в долгу Гайда, – у меня есть и то и другое, иначе бы я не попал из фармацевтов в русские генерал-лейтенанты, не освободил бы половину Сибирского железнодорожного пути от большевиков, не взял бы Иркутска и, наконец, не привёл бы армию к Каме, имея ордена Святого Георгия 4-й и 3-й степеней, вами мне данные. Да, наконец, если бы у меня и не было того, о чём вы говорите, то это и не нужно. Ведь вот вы – по специальности морской офицер, откуда же у вас быть высоким знаниям, необходимым для верховного правителя да ещё такой страны, как Россия, а, однако, вы им состоите!
Возможно, именно на этом месте у Колчака лопнуло терпение и он поставил вопрос ребром: в течение двух часов Гайда должен выехать из Перми – в звании командующего армией, если согласится добровольно. В противном случае будут приняты иные меры. Гайда долго молчал и, наконец, согласился. Потом Колчак спрашивал у сопровождающих: не слишком ли жестко он обошёлся с Гайдой?
Адмирал вернулся в Омск 4 июня. В это время специальная комиссия в составе генералов Дитерихса, Иностранцева и Матковского ещё продолжала работу. Изучение документов показывало, что в конфликте неправы обе стороны – Гайда и Лебедев.
Гайда считал Сибирскую армию чуть ли не своей собственностью и всегда яростно сопротивлялся попыткам забрать у него какую-либо часть, чтобы перекинуть её на другой участок. В этом смысле красное командование более свободно распоряжалось своими войсками. По сути дела, Гайда был заражён той же самой «атаманщиной», что и Семёнов.
С другой стороны, Лебедев совершенно завалил штабы армий своими директивами, подробно расписывая в них, что и как должны делать отдельные части, вплоть до какого-нибудь батальона, наступавшего по берегу Камы – в сотнях вёрст от Омска. Кроме того, Ставка слишком увлеклась чисто оперативной работой – в ущерб заботам о снабжении и пополнении частей. Армии были плохо одеты и обуты, голодали, начинали мародёрствовать, восстанавливая против себя местное население.
Ознакомившись с документами, комиссия решила побеседовать с самим Гайдой, который уже второй день ожидал в своём салон-вагоне, где красовались красные знамёна разгромленных им большевистских частей. Из всех членов комиссии Гайду хорошо знал только Дитерихс, служивший с ним в Чехословацком корпусе. Он и задавал вопросы, используя принятое среди легионеров обращение «брат»:
– Действительно ли, браче Гайда, ты собирался со своей армией идти на Омск?
– Не скрою от вас греха, – говорил Гайда с дрожью в голосе и со слезами на глазах, – когда от меня несколько дней тому назад взяли лучшую мою часть, я был близок к тому, чтобы двинуть армию к Омску, и я знаю, что она бы за мною пошла. Но я удержался от этой преступной идеи, и она осталась только у меня в сердце.
У комиссии создалось впечатление, что Гайда говорит искренне и что он – «взрослый ребёнок». Был ли действительно таковым 27-летний генерал, прибывший в Омск с повинной, но не забывший прихватить конвой из 356 человек, или он разыгрывал эту роль – вопрос остаётся неясным.
В комиссии возникло разногласие, как поступить с провинившимся военачальником. Матковский считал, что Гайда, грубо нарушивший воинскую дисциплину, должен быть отстранён от командования, несмотря на все свои заслуги. Дитерихс и Иностранцев были настроены примирительно. О слабой работе Ставки было решено доложить верховному правителю.
Встреча с Колчаком состоялась вечером того же дня. Докладывал Дитерихс, как старший по званию: Гайда, по соображениям комиссии, должен остаться на своём месте – он осознал свой проступок и заверил в своей преданности верховного правителя; должен остаться на своём посту и Лебедев, несмотря на многочисленные промахи – нельзя допускать, чтобы одно должностное лицо смещалось вследствие незаконных действий другого; Гайде следует сделать выговор. Правда, предупреждал Дитерихс, не исключено, что он когда-нибудь повторит свой проступок.
Будберг считал, что комиссия приняла «дряблое решение». Но Адмирал, видимо, остался им доволен. Заметно повеселев, он пригласил генералов отужинать, и они прошли в столовую, где уже был накрыт стол и дымился самовар.
«Колчак, в частном обращении имевший свойство прямо очаровывать людей, – писал Иностранцев, – у себя в доме, в качестве хозяина, был особенно приятен; он был в отличном расположении духа, шутил, смеялся, беседа шла совершенно непринуждённо, и каждый забывал, что он говорит с лицом, поставленным судьбою на такой высокий пост, а казалось, что находишься в доме гостеприимного, простого и радушного моряка».
Выпили водки. Потом кто-то вспомнил сильно запоздавшее известие о том, что в конце октября 1918 года на городском кладбище в Пятигорске чекисты казнили, в числе 70 заложников, генералов Рузского и Радко-Дмитриева. Оказалось, что Колчак ещё не слышал об этом.
– Рузского я лично не знал, – сказал он, – но слышал, что это был хотя и неказистый на вид, но сильный военный человек, которому мы обязаны взятием Львова… Ну а Радко-Дмитриева я знал лично, и ему я обязан вот этим Георгиевским крестом, который вы видите на мне… У меня осталось о нём воспоминание, как о человеке рыцарского склада и беззаветно любящем Россию…[1194]
На этой грустной ноте окончился ужин, и все разошлись, размышляя, возможно, над тем, как же странно иногда складываются судьбы: человек полюбил другую страну, поступил к ней на службу, честно служил и был там убит – не вором, не разбойником, а правительственным органом.
С фронта тем временем продолжали идти нерадостные известия. Части Западной армии спешно стягивались к Уфе, отбиваясь от наседавшего противника. Соотношение сил было уже иным, чем в начале марта: 65 тысяч штыков и сабель у красных против 29,6 тысячи в Западной армии. Последняя, правда, имела небольшой перевес в артиллерии.[1195] К тому же красные немного задержались, так что Каппель и Войцеховский успели привести в порядок и развернуть свои силы.
Особые надежды связывались со Сводным казачьим корпусом генерала В. И. Волкова, который должен был нанести фланговый удар по красным, 28 мая возобновившим наступление. Чтобы дать возможность корпусу развернуться, 4-й Уфимской имени генерала Корнилова дивизии следовало задержаться на западном берегу реки Белой до вечера 2 июня.
Но не все генералы отличались такой одержимостью и волей к победе, как Колчак, Каппель, Войцеховский. Молодой генерал В. Д. Косьмин, отступив со своей дивизией к деревне Арасланова, не стал развёртывать полки на новой позиции и искать соприкосновения с соседями – ввиду того, как он потом объяснял, что солдаты сильно устали «и физически, и главным образом морально». В результате красные обошли дивизию с фланга и даже с тыла. Началось беспорядочное отступление, которое закончилось на противоположном берегу Белой. Здесь Косьмин встретил посланца из штаба Войцеховского, который подтвердил необходимость удержания западного берега хотя бы на несколько дней. Генерал махнул рукой: «Я не знаю, как они там сделают, но иначе я поступить не могу». В результате красные получили возможность обстреливать Уфу, а конница Волкова вместо флангового удара ввязалась в фронтальные бои. Она имела даже некоторый успех, дойдя до Чишмы. Иной результат мог быть, если бы удалось осуществить фланговый удар. Но, как всегда в таких случаях, у генерала Косьмина нашлось много заступников.[1196]
Оборона рубежа реки Белой носила упорный характер. Ударные силы красных в ночь с 7 на 8 июня попытались произвести переправу, но плавучий мост был сорван течением, а на рассвете артиллерийский огонь белых вынудил успевшие переправиться части искать спасения на другом берегу. Но в ту же ночь на другом участке, севернее Уфы, красные неожиданно форсировали Белую.[1197] Фронт был прорван. 9 июня красные заняли Уфу.
Весеннее наступление Колчака многие считали авантюрой. Будберг назвал его «шалым военным полётом к Волге».[1198] Думается, однако, что белое командование сделало правильный выбор, развернув стремительное наступление, когда противник ещё не имел в своём распоряжении правильно организованной массовой армии.
Другое дело, что выступить надо было несколько раньше и не терять темпа попытками создать новый «мешок» взамен прохудившегося. Видимо, не следовало распылять силы по разным направлениям. Выставив заслоны против фланговых ударов, можно было сосредоточиться на одном из них – предпочтительнее на самарском, стратегически наиболее важном. Тогда ко времени половодья можно было выйти к Волге, расчленить фронт красных и соединиться с Деникиным.
Передышка, вызванная половодьем, была максимально использована красными – для перегруппировки сил, подтягивания резервов и новых мобилизаций. В середине 1919 года численность Красной армии составляла уже 1,5 миллиона человек.[1199] Никто из белых вождей – ни Колчак, ни Деникин, ни Миллер, ни Юденич – не мог выставить такую армию. Да и вместе у них никогда не было таких сил. Красная армия, ещё довольно рыхлая, недостаточно спаянная и неустойчивая в бою, уже могла давить своей массой. Вступал в действие «неумолимый закон чисел», о коем однажды обмолвился Колчак.
Печально закончился «полёт к Волге». Но одно важное достижение всё же осталось: был сорван план красных нанести удар в направлении Троицк – Челябинск и выйти в тыл Восточному фронту.
Лето разочарований
Весной – летом 1919 года число жителей Омска доходило до 600 тысяч. Омск превращался в настоящую столицу – со всеми её привлекательными и теневыми сторонами. К последним относились скученность населения и дороговизна. К первым – более интенсивный пульс жизни, её пестрота и особенная столичная праздничность, широкий круг общения. Омск становился культурным центром Сибири. Московских и петербургских знаменитостей было немного. Но сюда приехали, спасаясь от большевиков, некоторые известные люди из Поволжья и Урала. Много было иностранцев. «На Любинском проспекте… – вспоминал Арнольдов, – можно было встретить кого угодно: довольные собой отъевшиеся чехи в болотного цвета шинелях, английские солдаты, шагавшие стаями в поисках случая познакомиться с местными жеманницами, французские офицеры, итальянцы из военной миссии в своих на редкость красивых формах, отдельные японские солдаты, понаехавшая публика из Америки, как их в Омске называли – „американские мальчики“, в неизменных черепаховых очках… все промелькнули перед нами, все побывали тут…» Здесь же прогуливалась русская офицерская молодёжь (из Ставки и разных штабов) в модных тогда длинных кавалерийских шинелях. Если же шинель на офицере старая и замызганная и держится он как-то робко и неловко – значит, с фронта.
Люди встречались, расставались, ссорились, мирились, дружили, влюблялись, сидели в кафе, устраивали за городом пикники. Несмотря на войну, писал Арнольдов, жизнь в Омске «текла нормально, и в этой нормальности обывательской жизни державного Омска, „несмотря ни на что“, было главное доказательство того, что Белое Дело было делом правым и белая власть хотела прежде всего вернуть Россию к нормальной жизни».[1200]
Правда, в рабочих посёлках настроения были иные, по преимуществу большевистские. Распространялись слухи о скором приходе «наших», в разговорах открыто ругали Колчака и его правительство. Милиция делала вид, что ничего не слышит, и большевистские агитаторы почти никого не стеснялись. Только беженцы иногда вступали с ними в спор, разоблачая небылицы о справедливых порядках и хорошей жизни по ту сторону фронта. Многие из беженцев, люди простые, работали на омских заводах, ютились на городских окраинах, являясь там самым лояльным к правительству элементом.[1201]
К июлю 1919 года общее количество сибирских денег, напечатанных Михайловым вкупе с фальшивомонетчиками, перевалило через критическую отметку и инфляция обнаружила себя «весомо, грубо, зримо». Ещё в июне японская йена стоила чуть более 16 рублей, в июле же – 29, в августе – 40, в сентябре – 48, в октябре – 74 рубля. В городах исчезал белый хлеб, начались перебои с маслом и мясом. Но за йены и доллары всё можно было достать – и отличного качества.[1202] Инфляция действовала против правительства сильнее, чем большевистская агитация. И по мере того как она, выписывая свои спирали, рвалась в неведомую высь, взоры обывателей всё чаще с растущей злобой обращались в сторону дома на берегу Иртыша.
* * *
Бывая дома, Колчак вставал не ранее десяти часов утра. Садился в седло и катался верхом во дворе – единственное развлечение, которое он себе позволял. Двор небольшой – не разгуляешься, но загородной резиденции у верховного правителя не было.
Затем, выпив чаю и иногда слегка закусив, Адмирал входил в свой кабинет и начинал приём министров, военных и представляющихся лиц. В 12 часов по расписанию был завтрак, но Колчак либо пропускал его, продолжая заниматься делами, либо слегка отдыхал в кабинете. В два часа возобновлялись доклады и приёмы, продолжаясь до обеда – до шести часов. Обед не пропускался – по сути дела Колчак правильно питался только раз в сутки. После обеда продолжались приёмы или же собирался Совет верховного правителя. Потом Колчак уединялся в своём кабинете и занимался допоздна. Засидевшись за работой, перегруженный впечатлениями дня, долго не мог уснуть. Это повторялось каждую ночь, и постепенно спальня превратилась в библиотеку, состоявшую в основном из серьёзной научной литературы. Засыпал Адмирал часа в три ночи, а то и позднее.
Дела шли всё хуже и хуже, а потому один или два раза в день в адмиральском кабинете случался «шторм». Колчак любил, чтобы ему говорили всю правду, – и требовал этого. Но правда бывала такова, что спокойно выслушивать её он не мог, – начинал тыкать ножом в подлокотник кресла, мог швырнуть со стола стакан с чаем или чернильницу. Потом, опомнившись, выскакивал из кабинета. Через некоторое время возвращался, успокоившийся, утомлённый, с потухшим взором. Боясь таких вспышек гнева, многие не решались говорить всю правду.
В конце августа (омский историк П. П. Вибе пишет – 25 августа, но в этот день, согласно дневнику Будберга, Колчак ехал в поезде) за воротами особняка Батюшкина прогремел взрыв. Как оказалось, – не в самом особняке, а в домике, занятом караулом. Взрыв разрушил этот домик и прачечную рядом, а в особняке вылетели стёкла из окон, выходивших во двор. Несколько человек погибли. Тотчас же после взрыва Колчак вышел во двор, распорядился о выносе убитых и раненых, осмотрел развалины. Как говорят, действовал энергично и хладнокровно.
В домике взорвалась печка, но точные причины установить не удалось. По официальной версии, солдаты, не заметив, что она горячая, сложили на неё гранаты. По слухам же – взрывчатка была заложена внутри печки, в ожидании, когда её затопят. Если так, то сила взрыва была плохо рассчитана. Возможно, это было дело рук эсеров.
После этого при проезде Колчака по улицам Омска милиция стала задерживать движение автомобилей и экипажей, а прохожим не разрешала переходить улицу и останавливаться. В «державном» Омске наступали иные, более суровые времена.[1203]
Очень часто Адмирал ездил на фронт, который притягивал его как магнит, как бы плохи там ни были дела. И, видимо, неправ был Будберг, считавший, что он боялся, как бы его не упрекнул кто-нибудь в отсиживании в тылу. Стремление чаще бывать на фронте вытекало, видимо, из его убеждения, что именно там делается настоящее, военное дело. И желание самому взять винтовку и драться наравне с солдатами, наверно, и в самом деле возникало – тут Будбергу можно верить.[1204]
Выезжая на фронт, Колчак цеплял к своему поезду один-два вагона с подарками для солдат: табак, сахар, чай, бельё и пр. Сильно волновался, если чего-то не удавалось достать, и готов был даже выпрашивать. Иностранцев считал, что, нагружаясь подарками, Колчак подражал покойному императору. Скорее всего, однако, подражание было неосознанным: зная солдатскую жизнь, Колчак хотел помочь фронту чем-то материальным, а не только речами и наградами.[1205]
Выступая на фронте, Колчак говорил, что он «такой же солдат, как и все остальные, что для себя он ничего не ищет, а старается выполнить свой долг перед Россией». Однако и Будберг, и Гинс свидетельствовали, что общение с солдатами у верховного правителя получалось несколько натянутым. Он говорил с ними слишком литературно, употребляя интеллигентские фразы и обороты, – и как будто стеснялся. Впечатление большого начальника произвести не умел, а подделываться под «своего брата» было не в его понятиях. Однажды какой-то старый солдат бухнулся перед ним на колени. Колчаку это очень не понравилось. «Встаньте, – сказал он, – я такой же человек, как вы», – и поспешно отошёл. Гинсу, который это наблюдал, показалось тогда, что «роль верховного правителя была навязана ему искусственно, что изображал он эту роль деланно, неестественно».[1206] Но тот же Гинс, как мы помним, рассказывал о том, как выступал Колчак на Экономическом совещании или на совещании в Екатеринбурге – ярко, деловито, по-настоящему хорошо. Трудно сказать, в чём тут дело: в субъективном ли восприятии наблюдателей, в действительном ли неумении говорить с народом или в том, что к осени Колчак начал «снашиваться».
На фронте Колчак, желавший до всего дознаться и всё сам увидеть, иногда слишком рисковал. Однажды, в конце августа, поезд верховного правителя прибыл в штаб армии на станции Лебяжьей, выдвинутый почти к линии фронта. Выслушав доклад командующего, Колчак приказал выгрузить из вагонов автомобили и ехать в штаб ближайшей дивизии, затем – в штаб ближайшего полка. Побывав там, верховный во главе кортежа выехал за сторожевое охранение. Проехали по степи несколько вёрст, стемнело – и потеряли дорогу (карта была очень плохая). Нарваться на разъезд красных ничего не стоило. К счастью, повстречались со своим разъездом.
А на следующий день, как писал Будберг, «опять понеслись четыре автомобиля по пустынным полям и перелескам». Приехав в штаб другой армии, узнали, что вскоре после их отъезда красные внезапным налётом конницы захватили Лебяжью. Видимо, знали о передвижениях Адмирала, но немного промахнулись.[1207]
Армия оставалась главным оплотом Колчака. Всё остальное было зыбко. Но и в армии всё явственнее начинали обозначаться трещинки. Наименее стойкими элементами среди солдат оказались как раз те, которые в обычной обстановке должны были бы её цементировать, – старые солдаты, прошедшие через прошлую войну, и сибиряки. Первые, испорченные фронтовой вольницей времён Керенского, не желали воевать и разлагающе действовали на остальных. Вторым, по существу, не видевшим красных, они представлялись чем-то противоположным нынешнему начальству, от которого, кроме порки и зуботычины, ничего не дождёшься. «У сибиряков, – писал неизвестный солдат с фронта, – одна мысль во время боя – поскорее перейти бы на сторону красных». (Видимо, речь идёт всё же больше о переселенцах.) Более надёжными и устойчивыми в бою показали себя молодые солдаты, выходцы из Поволжья и с Урала и пленные красноармейцы, добровольно перешедшие в Белую армию.[1208]
Офицеров сильно отвлекали от боевых дел заботы о семьях, которые либо оставались где-то в городе, либо тащились за армией в обозах. Жалованье, у солдат, офицеров и чиновников изначально очень небольшое, временами повышалось, но не поспевало за бешено скачущей инфляцией и превращалось в ничтожно малую величину. У солдат это подрывало боевой дух, офицеров толкало к «незаконным реквизициям» (проще говоря, к мародёрству), чиновников – к взяткам и казнокрадству. «Рядом с вакханалией спекулянтов… – вспоминал А. А. Никольский, – офицеры и их семьи, чиновники влачили жалкое существование, нуждаясь в самом необходимом…Допустить до этого было громадной ошибкой правительства. Оно обязано было какою угодно ценою, переводом жалованья в золотые рубли, уплатой иностранной валютою – парализовать это последствие инфляции и не допускать до того, чтобы те, кто отдавал жизнь на фронте, и их семьи жили жизнью нищих».[1209] Но Колчак и Министерство финансов стойко стояли на страже золотого запаса.
У офицеров было ещё одно слабое место – они страшно боялись попасть в плен, что грозило не только расстрелом, но и страшными мучениями перед концом. Существовало недоверие и к собственным солдатам: а вдруг перекинутся к красным? Поэтому случалось и так, что в опасные моменты первыми проявляли нестойкость именно офицеры.[1210]
Не все офицеры, особенно столичные, были довольны Колчаком и его политикой. Ещё в апреле в Омске появился бывший ординарец и помощник Корнилова В. С. Завойко, предприниматель и крупный помещик. Он предлагал уступить Японии, в обмен за помощь, все острова в Тихом океане. Не надеясь на сочувствие Колчака такой идее, он начал интриговать против него, готовить почву для переворота – среди казачьих офицеров и иностранных дипломатов. Тогда, в апреле, составлять такие комплоты было не время. Завойко никто не поддержал, и его выслали за границу. Однако он обосновался у Семёнова и писал там памфлеты против Колчака.[1211]
Потом многое изменилось, и в Ставке, когда-то сыгравшей немалую роль в смещении Директории, стали обозначаться какие-то движения против Колчака. 20 июля 1919 года на рассмотрение начальства была подана информационная записка, неразборчиво подписанная каким-то подполковником. В ней говорилось, что «население высказывает по отношению к правительству желание видеть большую, чем до сих пор, твёрдость», что оно «приветствовало бы введение чрезвычайного полевого суда и осадного положения» (в Омске). В конце этой записки автор касался союзников и тесно связанных с ними руководителей Чехословацкого корпуса. «Трудно будет убедить [их], что они должны идти за адмиралом Колчаком, – писал подполковник, – так, значит, нужно провозгласить другого, тогда чехословаки будут сговорчивее».[1212]
Никаких помет и резолюций на записке нет. Судя по всему, это внутренний документ Ставки. Ясно, что он не был инициирован и не подавался генералу Лебедеву, который назван там «солью в глазах французов». Всё это выглядит довольно странно. Скорее всего в недрах Ставки уже в ту пору зрел какой-то заговор против Колчака, но то ли не созрел, то ли растворился в сумятице последних месяцев его правления.
Война ложилась тяжёлым бременем на народное хозяйство, особенно в стане белых. Почти трёхкратное превосходство красных в численности контролируемого населения оборачивалось тем, что под властью белых оно испытывало в три раза более значительные тяготы. Как ни старалось сибирское крестьянство уклониться от своих обязательств в отношении государства, всё же от реквизиций, мобилизаций и инфляции оно страдало не меньше, если не больше, других слоев населения.
Основной мотив крестьянских настроений был выражен в одном из писем, выбранном военным цензором для своей аналитической записки. «Надоела нам уже эта война, то с немцами, то со своим же братом, – писал сибирский крестьянин. – Уж помирились бы, что ли. Нам при царе лучше жилось, чем в свободу: хлеб был, деньги, хотя и небольшие, тоже водились, а теперь имеешь их много, да что толку в них».[1213]
В деревне подымала голову большевистски настроенная голытьба. В сводках военной цензуры отмечалось также, что и «крестьяне среднего достатка, ещё так недавно сочувствовавшие нашей армии, с приближением фронта резко изменили своё отношение». И это понятно, ибо близость фронта накладывала на крестьян подводную повинность, обязанность выпечки хлеба, а кроме того, многократно умножились потравы. Наиболее устойчивым элементом в сибирской деревне, кроме казаков, оставались крепкие крестьяне-старожилы и молокане (сектанты). Видимо, под воздействием зажиточных крестьян в некоторых деревнях Курганского уезда были установлены дежурства для вылавливания дезертиров и оказания помощи проходящим войскам и обозам.[1214]
Летом 1919 года улучшилось движение на Транссибирской магистрали.[1215] Усилиями правительственных и союзных войск мятежники были отогнаны от железной дороги. Но это не означало, что партизанское движение удалось искоренить. 26 августа Будберг записал в дневнике: «Неприятно смотреть на висящую в моём кабинете огромную карту, на которой заведующий сводками офицер наносит красными точками пункты и районы восстаний в нашем тылу; эта сыпь делается всё гуще и гуще, а вместе с тем всё слабее становится надежда справиться с этой болезнью».[1216]
Крестьянин любил партизан не более, чем казака с нагайкой, а мобилизации, правительственные и партизанские, – просто ненавидел. Но если уж деться было некуда, он предпочитал, чтобы его сын шёл в партизаны, а не в солдаты. В солдаты – это угонят далеко, и счастье, если вернётся в рваной шинели и с пустой котомкой. В партизаны же – это где-то здесь, недалеко, ещё, может, что-нибудь и раздобудет для хозяйства. Ведь бывает же: заберут какую-нибудь станицу или городишко – и приносят домой кто ситцу, а кто и швейную машинку или ещё что-нибудь. Конечно, при такой психологии и экономике партизанщина (сельская разновидность «атаманщины») могла закончиться не раньше, чем Гражданская война.
В Приморской и Амурской областях партизанское движение приобрело едва ли не всеобщий характер. Здесь почти не было богатых крестьян, середняков и крестьян-старожилов. Все были новосёлы и – бедняки. И все чувствовали острую обиду на правительственных чиновников, обещавших молочные реки, заманивая в этот далёкий край, где, как оказалось, ничего не растёт, а что вырастет, то смоют проливные дожди, непрерывной чередой идущие со стороны Великого океана. Природа Дальнего Востока и в самом деле мало подходила для традиционного среднерусского земледелия. Крестьяне почти не занимались хлебопашеством, а промышляли кто чем – в основном в тайге.
Крестьянское недовольство, естественно, приняло большевистскую окраску. Крестьяне прятали у себя скрывающихся большевиков, делились с партизанскими отрядами скудным своим продовольствием, охотно шли в партизаны. Дальневосточная деревня совсем не давала солдат в армию и почти не выполняла государственных повинностей. Относительно Приморья сообщалось, что «вся область кипит мелкими крестьянскими восстаниями, которые в сумме дают грозную картину».
Основную тяжесть борьбы с дальневосточной партизанщиной взяли на себя японские войска. Они несли большие потери, но, в свою очередь, действовали настолько беспощадно, сжигая деревни и расстреливая правых и виноватых, что у местных властей складывалось впечатление, что они задались целью освободить этот край от русского населения. Впрочем, каратели из отряда атамана Калмыкова в этом отношении от японцев мало в чём отставали. Американцы же, в пику японцам, начинали заигрывать с социальными низами, так что даже возникали подозрения в их сочувствии большевизму и контактах с повстанцами.
Всё это более или менее безучастно наблюдал генерал Хорват, вместе со своим бессильным правительством, не выезжая никуда за пределы Владивостока.[1217]
18 июля указом Колчака Хорват был смещён с должности верховного уполномоченного Российского правительства на Дальнем Востоке, и эта должность была упразднена. Розанов, занявший место Хорвата во Владивостоке, получил не столь пышный титул – главного начальника Приморского края.[1218]
В Совете министров продолжались прежние раздоры, усиливались трения между ведомствами. Потеряв терпение, Колчак 26 июня направил в Совет министров приказ, в коем говорилось:
«В дни великого лихолетия, в разгар священной борьбы за спасение Родины, когда на дело этой борьбы должны быть направлены все силы и все помышления верных сынов России, вновь обнаруживается и распространяется зловредная язва, которая подтачивала нашу государственную и военную силу с начала войны 1914 года.
Поступающие ко мне сведения и многоразличные заявления, которые я слышу от многих представителей различных ведомств, убеждают меня в том, что вместо дружной работы на пользу Родины между различными ведомствами вновь начинается преступная рознь, угнетавшая нас в минувшую Великую войну.
Представители некоторых ведомств и учреждений стараются подчёркивать промахи и упущения других, имея своею целью не исправление последствий сделанных упущений, а изобличение их, не считаясь с тем вредом, который приносит подобное отношение к святому делу возрождения Родины.
Опять, как и раньше, в общую дружную работу въедается борьба удельных самолюбий, мелкие честолюбивые желания выставить всячески свою работу и по возможности опорочить работу соседа и набросить на неё тень, что создаёт атмосферу взаимной недоброжелательности и подозрительности.
Всем должно быть ясно, что только при совместной работе, когда каждая единица управления государством работает в полном согласии с другими, стремясь к выполнению своей работы с наименьшими ошибками, и возможна продуктивная деятельность органов государственного управления.
Категорически требую прекращения розни, недоброжелательства и стремления выискать промахи других и повелеваю каждому заниматься порученным ему делом, не критикуя деятельность других, право на что имеют только их начальники.
В случае обнаружения подобного рода явлений буду принимать беспощадные меры к искоренению зла, которое в корне подрывает работу по управлению государством.
Моё повеление сделать известным всем без исключения служащим на государственной службе».[1219]
Межведомственная борьба – неизбежный спутник государственного управления. Никакие грозные приказы не в состоянии её истребить. Если она выходит за допустимые рамки, значит, в правительстве нет объединяющего и направляющего к одной цели лица. Таким руководителем не мог быть Адмирал, постоянно занятый военными делами. После ноябрьского переворота перестал таковым быть и Вологодский. Он как-то сразу сник и потерялся перед Колчаком, более яркой личностью. Он держался на своём месте только потому, что был известен своей безупречной добропорядочностью и его уход был бы воспринят сибирской общественностью и союзниками как нехороший знак. Он и сам признавал, что ему недостаёт инициативы и активности.[1220] Будберг же называл его просто «обмылком». А генерал П. Ф. Рябиков с сожалением отмечал, что «Адмиралу не хватало с начала его деятельности в столь ответственной роли верховного правителя ни сильного волей, знанием, опытом и широким кругозором военного советника и начальника штаба, ни гражданского помощника с кругозором прежде всего государственного человека».[1221]
16 августа 1919 года, по представлению Вологодского, получил отставку Михайлов – едва ли не самый колоритный, если не считать Будберга, деятель Омского правительства. Как вспоминал Вологодский, Адмирал не без колебаний подписал этот указ. Михайлова свалила начавшаяся в июле безудержная инфляция, в коей он, наделавший немало ошибок, был, кажется, менее всего повинен. В обстановке войны, да ещё при очень ограниченном использовании золотого запаса, инфляция была неизбежна.
Новым министром финансов по предложению Вологодского был назначен Л. В. фон Гойер.[1222] Это был опытный финансист. Однако его репутации сильно вредило то, что прежде он был связан с Русско-Азиатским банком, и весь одиум, который окружал этот банк в глазах сибирской общественности, невольно перешёл на нового министра. Исправить положение он не смог, да и что можно было сделать, когда всё уже начинало сползать в бездну. Финансисты в таких случаях говорят: «Дайте нам хорошую политику, и мы вам сделаем хорошие финансы».
Один из мемуаристов, кадет Л. А. Кроль, утверждал, будто власть лишь номинально принадлежала Колчаку, фактически же – Совету министров, который забрал её у Директории и оставил у себя.[1223]
Не будем долго останавливаться на этом заявлении, сделанном явно наперекор истине. Лучше зададимся вопросом: был ли Колчак неограниченным диктатором, сосредоточившим в своих руках всю полноту власти на контролируемой территории? Думается, нет. И, судя по многим признакам, он сам это понимал. Ибо ограничителей было много. Прежде всего – многообразная в своих проявлениях «атаманщина»: не только казачья (Семёнов, Анненков, Калмыков, которых так и не удалось полностью подчинить), но и армейская, олицетворением коей был Гайда, партизанская, вырывавшая из-под его контроля обширные территории, эсеровская, проникавшая буквально во все щели с одной целью: всё портить, ломать, расстраивать, не задумываясь о последствиях. Другим ограничителем были союзники с их настоятельными и противоречивыми советами. Одни из них (японцы) поддерживали дальневосточных атаманов, другие (французы) – чехов и лепили себе сателлитов из польской, латышской, украинской диаспоры в Сибири, третьи (американцы) искали «истинную» демократию в партизанщине. Уже этого, наверно, достаточно, чтобы не считать Колчака диктатором в полном смысле этого слова. Укоренилось, между прочим, мнение, что он был плохим дипломатом. Но никто не задумывался над тем, сколько выдержки, терпения, ловкости и настойчивости было нужно, чтобы лавировать между теми, другими, третьими и четвёртыми – словно в стремительных водах Благовещенского пролива между льдами.
Но действовали и другие ограничители: взяточничество и леность чиновничества, непослушание и разгильдяйство офицеров, сплошное «безголовье», то есть нехватка в Сибири подготовленных и опытных людей, способных занять ответственные должности.
Существовали, наконец, ограничители и в самом Колчаке. «…Судя по тому, что слышал о нём в Харбине, – писал Будберг, – думал, что это самовластный и шалый самодур, и совершенно ошибся. И в этом вся тяжесть положения, ибо лучше, если бы он был самым жестоким диктатором, чем тем мечущимся в поисках за общим благом мечтателем, какой он есть на самом деле». И далее генерал добавлял: «По внутренней сущности, по незнанию действительности и по слабости характера он очень напоминает покойного императора».[1224]
Сравнение смелое, небезупречное, но интересное. Конечно, Колчак во многом отличался от Николая П. Адмирал имел бешеный темперамент, а государь проявлял невозмутимое спокойствие во всех случаях жизни. Николай II, с юности привлекавшийся отцом к государственным делам, хорошо знал систему государственного управления, а Колчак до конца путался в ней, засылая поручения не по адресу.[1225] Покойный император был больше созерцатель и сибарит, что особенно обнаружилось в Ставке. Колчак тоже не был и не считал себя большим специалистом в военно-сухопутном деле, но он был работником, делавшим для фронта всё, что было в его силах.
Колчак очень трудно расставался со своими соратниками – с теми, кто когда-то был нужен и принёс пользу, а потом обанкротился. Он слишком долго держал на посту начальника штаба генерала Лебедева, непопулярного в армии и обществе и много раз доказавшего свою непригодность для столь высокого поста. Он чуть ли не до самого конца не расставался с Сукиным, который играл при нём довольно вредную роль: вместо того чтобы по возможности придерживать великодержавные амбиции Адмирала, он старался их подогреть. Этим Колчак опять-таки отличался от Николая II, который быстро освобождался от обременительного для каждого правителя чувства благодарности и не стеснялся отправлять министров в отставку. Подход свергнутого императора лучше совмещался с государственными интересами, а Колчака – был более человечен.
Николай II довольно спокойно относился к тому, что революционеров принято вешать. О Колчаке же говорили, что для него всегда было сущим мучением подтвердить смертный приговор.[1226] Хотя, конечно, такое иногда приходилось делать. Пленных коммунистов он приказал расстреливать. Тут он понимал, что положение безвыходное: «Или мы их перестреляем, или они нас».[1227]
Но, видимо, была одна общая черта. Это – верность руководящей идее. У каждого она была своя. Николай II, по выражению А. А. Блока, всегда был готов «за древнюю сказку мёртвым лечь». Эта сказка – царь, народ, золотые купола… – относилась скорее к XVII веку и была совсем уж утопична. Колчак же горел иным желанием – увидеть Россию обновлённой, процветающей, великой, – чтобы её флот вновь бороздил океанские просторы, – но не расставшейся со своим старым дорогим наследием – с теми же золотыми куполами, с пыхтящим самоваром на накрытом столе, со стопкой чистой, как слеза, водки в день Воскресения Христова. Его, Колчака, утопизм был в том, что он хотел восстановить всё это сразу и как можно в менее усечённом виде. Разве, например, будет Россия такой же великой, как была, если от неё отсечь какой-то кусок? Ведь ничего «лишнего» у неё не было!
Если отвлечься от всего, что говорили о последнем императоре начиная с 1916 года, то надо сказать, что его всё же почитали в народе. Не то, что любили, а именно чтили как символ государственности. Колчак же, судя по некоторым данным, пользовался уважением на белой территории именно как личность. В одном письме, попавшем в военную цензуру, говорилось: «…Суди сам, при каких тяжёлых условиях приходится создавать новую Россию адмиралу Колчаку. Он, кажется, хороший человек, патриот, любит свою родину. К сожалению, ему приходится бороться с саранчой справа и слева».[1228]
Сочувственные отзывы поступали и из-за рубежа. «Видели ли Вы адмирала Колчака и какого Вы о нём мнения и его правлении? – спрашивал в частном письме один американец. – На расстоянии он нам кажется хорошим и, пожалуй, единственным человеком, вокруг которого могли бы собраться элементы, подающие надежды на спасение бедной, истекающей кровью России».[1229]
Как все мечтатели, Колчак любил уединение и одиночество – ещё со времён японской эмиграции. Гинс замечал, что он бывал недоволен, когда кто-то прерывал выпадавшие ему редкие часы уединённого чтения. Среди книг, читавшихся Адмиралом, он заметил издававшийся до революции «Исторический вестник». Старая Россия не выходила у него из головы.
В Омске Колчак не приобрёл новых друзей. Самыми близкими ему людьми здесь оставались адмирал Смирнов и Анна Васильевна. Но первый как-то не очень врос в омскую обстановку и держался больше близостью к Колчаку. Анну Васильевну же всюду сопровождал шепоток – она ведь не была законной супругой верховного правителя.
* * *
В отечественной исторической литературе распространилось утверждение, будто в июне 1919 года Колчак отклонил предложение регента Финляндии (временного главы государства) генерала К. Г. Маннергейма двинуть на Петроград 100-тысячное войско в обмен на полное признание её независимости.[1230] Именно так представлено это дело в дневнике Будберга,[1231] и оттуда, наверно, и пошла эта легенда. Но генерал и сам знал об этом только понаслышке. Между тем соответствующие документы давно опубликованы, и в их свете вся эта история выглядит иначе.
В мае Колчак получил от генерала Н. Н. Юденича некоторые материалы относительно организации Северо-Западного фронта и, в частности, о предполагавшемся походе финской армии на Петроград. До этого времени финская армия вела себя пассивно, и только в Карелии действовали небольшие финские отряды, называвшиеся добровольческими и явно преследовавшие цель присоединить к Финляндии этот край.
Ознакомившись с материалами, Колчак ответил: «Операция против Петрограда может иметь весьма важное стратегическое значение, отвлекая большевистские силы от сибирского фронта. Занятие столицы нанесло бы большевикам тяжкий моральный удар. Считаю необходимым, чтобы выполнение намеченной задачи происходило в полной уверенности, что она осуществляется по поручению и согласно указаниям Российского правительства. Уполномочиваю Вас принять главнокомандование всеми русскими силами Северо-Западного фронта». Относительно вторжения финских «добровольцев» в Карелию были проведены переговоры с французскими представителями, которые дали успокоительные заверения, и было решено пока не ставить этот вопрос, чтобы не осложнять отношений с Финляндией.[1232]
24 июня Колчак обратился с личным посланием к Маннергейму. Он, в частности, писал:
«Я исхожу из убеждения, что должно быть сделано всё возможное для достижения наиболее скорого сокрушения большевизма. Поэтому я хотел бы надеяться, что Вы побудите финляндское правительство принять участие в общем деле и перейти к решительным мерам для освобождения северной столицы России, начав активные военные операции в направлении Петрограда.
От имени русского правительства я хочу Вам заявить, что сейчас не время сомнениям и колебаниям, связанным с какими-либо политическими вопросами. Не допуская мысли о возможности в будущем каких-либо неразрешимых затруднений между освобождённой Россией и финляндской нацией, я прошу Вас, генерал, принять это моё обращение как знак неизменной памяти Русской армии о Вашем славном прошлом в её рядах и искреннего уважения России к национальной свободе финляндского народа».[1233]
В это же время делались попытки склонить западных союзников к поддержке плана похода финской армии на Петроград при непременном участии войск Юденича. Это удалось сделать лишь отчасти. 9 июля союзники довели до сведения Маннергейма о неимении с их стороны возражений против такой операции.
16 июля Маннергейм дал ответ на послание Колчака. Он писал:
«…Финляндскому народу и его правительству далеко не чужда мысль об участии регулярных финляндских войск в освобождении Петрограда. Не стану от Вас скрывать, г. адмирал, что, по мнению моего правительства, финляндский сейм не одобрит предприятия, приносящего нам хотя и пользу, но требующего тяжёлых жертв, если мы не получим гарантий, что новая Россия, в пользу которой мы стали бы действовать, согласится на некоторые условия, исполнение которых мы не только считаем необходимым для нашего участия, но также необходимой гарантией для нашего национального государственного бытия».[1234]
Эти условия стали известны из сепаратного соглашения Юденича с Маннергеймом. Помимо официального признания независимости Финляндии, оно включало в себя ещё целый ряд пунктов, в том числе безвозмездную передачу ей всех военно-морских баз на её территории, «признание права полного самоопределения за карелами Олонецкой и Архангельской губерний в границах, точно установленных международной комиссией», и, наконец, уступку Финляндии никогда ей не принадлежавшего арктического порта Печенга.
20 июля Сазонов телеграфировал, что условия Маннергейма представляются неприемлемыми. В частности, разъяснял он, требование «самоопределения» карелов скрывает стремление финского правительства аннексировать часть Олонецкой и Архангельской губерний.[1235] Колчак, конечно, понимал это и без разъяснений. Знал он и то, что передача Финляндии, без всяких условий, Свеаборга и других военно-морских баз разрушит всю систему обороны Петрограда с моря. В тот же день телеграммой в Архангельск он предупредил Миллера: «Не вступайте ни в какие договорные обязательства с финляндским правительством. Условия соглашения неприемлемы, и нет уверенности в активной помощи Финляндии».[1236]
Через несколько дней после этого Маннергейм покинул пост главы государства, проиграв президентские выборы. Таким образом, поход финской армии на Петроград отпал не из-за неуступчивости Колчака по вопросу о независимости Финляндии, а вследствие того, что Маннергейм выдвинул явно неприемлемые условия, а затем потерял власть.
29 июля начались ежедневные совместные заседания Совета министров и союзных высоких комиссаров для рассмотрения помощи, необходимой в деле восстановления российского транспорта, снабжения армии и населения. Со стороны союзников в них участвовали Ч. Эллиот (Англия), Р. Моррис (США), граф де Мартель (Франция) и Мацусима (Япония). С ними находились генералы Нокс, Жанен В. Гревс (США) и Таканаяги (Япония). Заседания начинались обычно в два часа пополудни, после завтрака, который союзные комиссары проводили совместно. Докладывал Сукин. Комиссары вежливо выслушивали, кое-что уточняли, спрашивали и ровно в четыре часа удалялись на вечерний чай. Так продолжалось несколько дней, пока Сукин не осветил, полно и всесторонне, нужды армии, транспорта и экономики.
– Если правительство теперь удержится, – доверительно сказал на прощание Моррис, – то вас, наверно, признают. Это экзамен.
«Экзаменаторы» разъехались, не сообщив оценок, но по внешнему их виду, по тому, как они вели себя на заседаниях, наиболее проницательные министры сумели сделать правильные выводы.
Эллиот, океанограф и востоковед, человек замкнутый и холодный, обычно сидел с видом безнадёжного скептицизма. Иногда неплохо шутил, что вносило оживление в ход заседания. Моррис, наоборот, был очень серьёзен, но Гинсу казалось, что он с трудом сдерживает смех. Де Мартель внешне был неуловим. Но говорили, что без его согласия Жанен ничего не делает. И возможно, именно граф первым высказал афоризм, широко распространившийся во французской миссии: «Да, адмирал Колчак человек хороший, но если бы нашёлся кто-то получше, было бы ещё лучше».[1237]
В Омске так и не дождались ни признания, ни помощи в рамках согласованной программы. Главная причина охлаждения союзников заключалась в отступлении на фронте. Но были и другие причины. Говорили, например, о двойственной позиции посла в Вашингтоне Бахметева, который сохранял верность Керенскому и втихомолку работал против Омского правительства.[1238] В конце концов правительство Колчака признало только Королевство сербов, хорватов и словенцев (будущая Югославия).[1239]
В армии и обществе росло разочарование в западных союзниках, и взоры обращались в сторону Японии. «Я не вижу, – писал один офицер, – иного спасения для России, как только помощь Японии живой силой. Без этого мы погибли». Но было опасение, что за свою помощь Япония потребует территориальных уступок. Японцы, жившие и работавшие в России, считали, что их стране не нужна сибирская территория – Япония заинтересована лишь в поставках из России металла, сырья и рыбы. Но оставалось неясным, соответствуют ли такие настроения политике японского правительства. Не прояснила полностью этот вопрос и поездка генерала Романовского в Японию, которого там встретили очень радушно.[1240] А потому верховный правитель продолжал рассчитывать на помощь западных союзников и по-прежнему ориентировался прежде всего на них.
* * *
Продолжая наступление в стык между Сибирской и Западной армиями, красные 7 июня заняли Ижевский завод, а 11-го – Боткинский. Взаимодействия между двумя армиями никак не получалось. Чтобы наконец добиться этого, Колчак 11 июня передал Западную армию в оперативное подчинение генералу Гайде.[1241] Результат оказался неожиданным. Гайда первым делом издал приказ, в котором в буквальном смысле обругал командный состав Западной армии во главе с Ханжиным. Возмущенные офицеры подали рапорт верховному главнокомандующему с просьбой отдать их всех под суд или оградить от подобных поношений.
Тогда Колчак решил вручить командование фронтом в руки опытного военачальника – генерала М. К. Дитерихса. Но возникло опасение, что Гайда не станет ему подчиняться. К 20 июня «Сибирского Бонапарта» вызвали в Омск, и разговор между ним и Адмиралом шёл в присутствии Вологодского. Колчак спросил Гайду, будет ли он подчиняться приказам главнокомандующего фронтом. Гайда знал о предстоящем назначении Дитерихса и ответил: «Я, Ваше высокопревосходительство, всегда готов подчиняться Вашим приказаниям, но когда между Вами и мною ставятся два таких средостения, как, с одной стороны, Ставка с людьми, распоряжения которых я считаю вредными для фронта, и, с другой стороны, генерал Дитерихс, я не могу оставаться на своём посту». – «Не можете, – сказал Адмирал решительным тоном, но с ноткой сожаления, – тогда я буду считать Вас свободным от командования Сибирской армией». Обескураженный и обиженный, Гайда высказал желание как можно скорее вернуться к себе в Чехию.[1242]
В тот же день Гайда был уволен, а командование Сибирской армией временно перешло в руки начальника её штаба генерала Б. П. Богословского. Гайде выдали 70 тысяч франков золотом и отправили во Владивосток особым поездом. Однако перед отъездом он успел побывать у Жанена и заручился его поддержкой. Поэтому Гайда остался во Владивостоке. Здесь вокруг него стали группироваться все «обиженные» – от эсеров до бывшего министра юстиции Старынкевича. Гайда поддерживал контакты с Болдыревым, уехавшим в Японию, с Хорватом на КВЖД, а также с некоторыми иностранными представителями, прежде всего с американцами.[1243]
20 июня были произведены и другие кадровые перемещения. Колчак закрепил за собой должность верховного главнокомандующего вооружёнными силами Российского государства. Дитерихс занял освобождённый Колчаком пост главнокомандующего Восточным фронтом. Ханжин был освобождён от командования Западной армией, на его место Колчак назначил генерал-майора К. В. Сахарова.[1244]
Сахаров привлёк Колчака, по-видимому, такими своими качествами, как решительность и максимализм. Верховный правитель часто ошибался в людях. Будберг же, большой мастер на уничтожающие характеристики, отметил, что Сахаров больше подходит на должность начальника карательной экспедиции или командира дисциплинарного батальона.[1245]
Новый командующий Западной армией отличался исключительной требовательностью к подчинённым. Мало было хорошо выполнить приказ – надо было также как следует, «отчётливо» об этом доложить. В противном случае – если приказ выполнен хорошо, но доложено не «отчётливо», – можно было получить большой нагоняй. Генерал добивался того, чтобы солдаты и офицеры имели хорошую выправку, хорошо отдавали честь, отвечали по уставу. Командующий завёл даже свои «потешные войска» – егерский батальон при штабе, вымуштрованный, подтянутый, лихо певший песни на марше. Во время смотров генерал чуть не бежал вдоль строя, так что за ним никто не мог угнаться – совсем как Пётр Великий.
Всё это шло вразрез с установившейся в Белой армии своеобразной дисциплиной, внешне не очень выраженной. Ханжин, Каппель, Войцеховский требовали прежде всего, чтобы был исполнен приказ, не обращая внимания на то, вытянулся ли в струнку офицер, докладывая об этом. Между новым командующим и «старожилами» Западной армии возникли трения. Набор стандартных выражений в сахаровских приказах («упорно удерживать», «энергично перейти в наступление», «нанести стремительный удар») вызывал иронические усмешки – рады бы сделать, да ведь армия вышла из-под Уфы страшно измотанной и обескровленной.[1246]
Победоносное наступление на Восточном фронте столь неожиданно сменилось поспешным отступлением, что Ставка во главе с Лебедевым долгое время пребывала в растерянности. Стратегия и тактика отступления по-настоящему стали разрабатываться лишь с приходом Дитерихса. Он пришёл к выводу о необходимости глубокого отхода. Оставшиеся на фронте арьергарды, по его замыслу, должны были удерживать отступление в допустимом темпе. Тем временем основные силы надо было отвести за реку Ишим, дать им отдохнуть, пополнить и в конце лета вновь перейти в наступление.[1247] Изъян этого плана, по-видимому, состоял в том, что слишком легко отдавался противнику такой удобный для обороны рубеж, как Уральские горы.
Западная армия, несмотря на понесённые потери, в общем укладывалась в намеченный темп отступления и даже пыталась задержать противника – порой не без успеха. 24 июня красные форсировали реку Уфу и вошли в горные проходы. 2–5 июля в горах развернулось сражение, в результате которого красные взяли станцию Кропачёво. 13 июля белые оставили Златоуст. Ещё медленнее отступала Южная армия.
В целях спрямления линии фронта Сибирская армия 1 июля должна была оставить Пермь. Но затем в этой армии, вскоре после ухода Гайды, стали происходить странные вещи. Она быстро теряла боеспособность и разваливалась.[1248] Видимо, начала сказываться деятельность эсеров, в своё время пригретых Гайдой в своём штабе и на командных должностях. Стремительно отступая, она уже 14 июля сдала Екатеринбург, обнажив правый фланг Западной армии.
Ставке пришлось срочно проводить реорганизацию. Приказом от 22 июля Сибирская армия была разделена на 1-ю и 2-ю. 1-ю возглавил генерал А. Н. Пепеляев. 2-ю – генерал Н. А. Лохвицкий. Западная армия стала называться 3-й.[1249] К сожалению, реорганизация спасла от дальнейшего разложения только часть бывшей Сибирской армии – 2-ю армию. Что касается Анатолия Пепеляева, ставшего командиром 1-й армии, то он был назначен, видимо, прежде всего потому, что для сибиряков был своим генералом, а не «навозным», как называют в Сибири людей приезжих, «навезённых». П. Ф. Рябиков был, наверно, во многом прав, когда писал, что младший Пепеляев, «будучи отличным, храбрым и решительным строевым офицером…не имел ни особых способностей для крупных операций, ни хорошего военного образования и широкого кругозора».[1250]
На подступах к Челябинску Лебедев и Сахаров решили дать большое сражение. Была разработана сложная операция с целью «заманить» в Челябинск 5-ю армию Тухачевского, а затем окружить её и уничтожить. При этом некоторым дивизиям ставилась задача вести бой на два, а то и на три фронта. Ознакомившись с планом, Будберг заметил, что такое под силу только хорошо подготовленным войскам с высоким боевым духом, а не таким, которые «не выдерживают флангового огня и даже признаков нахождения неприятеля в тылу и на флангах». И вообще, сказал он, такие операции годятся только для «больших показных маневров».[1251]
Дитерихс был решительно против. Главной задачей в данный момент он считал упорядочение отступления 1-й и 2-й армий. В их расположение он и уехал. В его отсутствие Лебедеву и Сахарову удалось уговорить Адмирала начать операцию. 3-я и Южная армии были временно выведены из подчинения Дитерихсу и подчинены непосредственно Колчаку. В их состав был передан почти весь имевшийся у Ставки резерв (три дивизии, ещё не совсем подготовленные).
24 июля красным был сдан Челябинск. При отходе в городе произошло большевистское восстание, отчего пострадали арьергардные части и последние из отходящих эшелонов. Войдя в город, красные начали энергичные действия, закрепляясь в его окрестностях. Так что сразу выяснилось, что, вопреки донесениям белой разведки, армия Тухачевского вовсе не выдохлась от безостановочного наступления, что в ней достаточно свежих частей, прибывших из глубокого тыла.
25 июля перешла в наступление Уфимская группа под командованием Войцеховского, перед которой была поставлена задача обойти Челябинск с севера. Первые два или три дня наступление шло успешно, и в обозе у красных началась паника. Но Волжская группа Каппеля, натолкнувшись на сильное сопротивление, не смогла обойти город с юга. Клещи не сомкнулись. К тому же Уральская группа 3-й армии, прикрывавшая Войцеховского с севера, стала отступать под натиском противника. А 1-я и 2-я армии не оказали никакой помощи.
29 июля красные возобновили общее наступление. 3-я армия отходила с большими потерями. Некоторые части остались в окружении и сдались. Особенно много сдавшихся было в дивизиях, взятых из резерва. 4 августа красные взяли Троицк, и Южная армия оказалась отрезанной.[1252]
В. Н. Пепеляев записал в дневнике следующие слова Колчака, сказанные 25 июля: «Генерал Дитерихс был против этих боёв и за отход без боя от Челябинска, но я приказал дать бой. Это риск – в случае неудачи мы потеряем армию и имущество. Но без боёв армия всё равно будет потеряна из-за разложения. Я решил встряхнуть армию. Если бы вы знали, что я пережил за эти дни!»[1253]
После Челябинской операции с Лебедевым, против которого были сильно настроены армия и общество, пришлось наконец расстаться. 12 августа он был смещён с должностей начальника штаба Верховного главнокомандующего и военного министра.[1254] Военным министром стал генерал А. П. Будберг. Должность начальника штаба Верховного главнокомандующего осталась незамещённой в ожидании приезда известного военного авторитета, генерала Н. Н. Головина.
На Лебедева впоследствии валили всю ответственность за неудачу белого дела в Сибири. Многие обвинения имели основания. Лебедев имел солидное военное образование (как-никак – Академия Генштаба), но пришёл на высокий пост без достаточного командного опыта. Как известно, на любом высоком посту, имея хорошую теоретическую подготовку, но без практики и знания жизни, можно добиться ужасных результатов. И всё же не может один человек, даже высокопоставленный, провалить всё дело.
Лебедева многие считали реакционером. Это не совсем так, хотя можно вспомнить, что отчасти вследствие его нажима позиция Омского правительства по вопросу о помещичьем землевладении в нужный момент оказалась не очень внятной. Есть, однако, документы, которые освещают эту личность с другой стороны. Например – его письмо командующему Западной армией Сахарову, отправленное в июле 1919 года:
«Все лица, приезжающие с фронта, единодушно свидетельствуют, что в армии всё чаще и чаще и чаще замечаются случаи применения некоторыми офицерами к солдатам рукоприкладства. Если в старой Русской армии рукоприкладство квалифицировалось как преступное деяние, влекущее за собой тяжёлое наказание, то тем более этому позорному явлению не может быть места в возрождённой Русской армии, борющейся за водворение порядка и законности. Прошу принять все меры к немедленному пресечению вышеуказанного явления, разъясняя офицерам, что такое отношение к делу может способствовать розни между ними и солдатами, что не дремлющий враг не замедлит использовать эту рознь в своих преступных замыслах… что, наконец, сражаясь за осуществление Великого Будущего России, стыдно применять давно уже осуждённые и навеки погребённые всем культурным миром методы воздействия на подчинённых. Тех же офицеров, которые будут глухи к этим разъяснениям, немедленно предавать военному суду, распоряжения о чём уже неоднократно отдавались».[1255]
Так что можно всё же думать, что ближайший сподвижник Колчака был человеком просвещённым и культурным.
Дитерихс вернулся к командованию Восточным фронтом. Армии продолжали отступать, сильно потрёпанные, но, вопреки прогнозам Будберга, катастрофы не произошло.
После ночного боя с 13 на 14 августа был оставлен Курган.[1256] Через несколько дней красные перешли через реку Тобол. Военные действия переместились в Сибирь. Лето продолжалось, принося новые разочарования, но это – уже несколько другая история.
Осенние надежды
От Кургана до Омска расстояние невелико. Уже, казалось, ничто не могло остановить большевиков, и в августе, как вспоминал Гинс, в сибирской столице воцарилась «атмосфера животного страха».[1257]
Но как раз в это время зашевелилось Сибирское казачье войско, ибо красные вступили на его территорию. Иванов-Ринов, совершивший поездку по станицам, привёз целую пачку общественных приговоров о поголовной самомобилизации. Этот призыв был поддержан Большим войсковым кругом, заседавшим с 7 по 13 августа. Круг постановил призвать на фронт всех казаков с 18 до 45 лет. А из малолеток и стариков создать дружины самоохраны.[1258]
Атаман Иванов-Ринов, решивший, что настал его час, выступал в роли спасителя. Он получил право непосредственного доклада верховному правителю. Ему были открыты безграничные кредиты – на наём рабочих для уборки урожая в казачьих хозяйствах, на покупку амуниции и снаряжения и т. д. Он превратился в настоящий кошмар для военного министра, который жаловался, что атаман «обобрал все наши склады», взяв на каждого предполагаемого мобилизованного казака «по пять и по шесть комплектов и летнего, и зимнего обмундирования», не оставив другим почти ничего.[1259] Ведь и Адмирал, без лишнего шума, тоже издал указы фактически о всеобщей мобилизации. И призываемых тоже надо одевать, обувать и вооружать. И никто, между прочим, не думал нанимать рабочих для уборки крестьянских полей, а в 1919 году выдался отличный урожай.
Сибирские казачьи части было решено объединить в Отдельный Сибирский казачий корпус – ударную силу Восточного фронта. Командиром корпуса был назначен Иванов-Ринов. 10 августа, после литургии в казачьем Никольском соборе ему были вручены грамота Круга и войсковое знамя. Адмирал зачитал указ о производстве его в генерал-лейтенанты. Гинс иронически заметил по этому поводу, что награды и звания в Омске раздавались «щедро и авансом».[1260]
Однако честолюбивые замыслы атамана простирались гораздо дальше. 19 августа в Омске собралась конференция девяти казачьих войск Сибири и Дальнего Востока, руководство которой оказалось в руках того же Иванова-Ринова. А 28 августа Колчаку были вручены постановления конференции, в коих содержались требования перейти к полной военной диктатуре, сократить число министерств до пяти, упразднить Сенат, создать две должности помощников верховного правителя (по военной и гражданской части) и учредить особое казачье министерство (министр должен избираться Общеказачьей конференцией), а казаков посылать на фронт только под командованием их атаманов. Адмиралу всё это представилось как нелепые домогательства: «Они хотят сделать меня чем-то вроде императора и в то же время требуют помощников. „Помощник диктатора“ – это какой-то абсурд…»[1261] Некоторые из казачьих требований были отвергнуты сразу, другие задвинуты в долгий ящик – на том дело и кончилось. У верховного правителя были другие заботы, более спешные.
Летом 1919 года некоторые благоразумные люди заговорили о том, что необходим «запасной центр», куда правительство могло бы переехать в случае опасности. В Совете министров вопрос о «разгрузке» Омска (слово «эвакуация» пока избегали) впервые был поднят 14 июля самим Адмиралом. Будберг записал в дневнике, что Колчак приехал на заседание «угрюмый, но настроенный в пользу эвакуации». Однако его поддержали только генералы Будберг и Матковский. Министры же на разные лады повторяли призывы дать отпор врагу и защищать Омск во что бы то ни стало. В этих речах Будберг заподозрил боязнь потерять контроль над правительством, если оно покинет Омск. «Всё это узкий эгоизм омского курятника», – записал он в дневнике. Пылкие речи министров поколебали Колчака, и было принято половинчатое решение создать комиссию по разгрузке Омска.[1262]
8 августа Будберг вновь возбудил в Совете министров вопрос об эвакуации Омска. На этот раз Адмирал отсутствовал, но кто-то сообщил, что он против эвакуации, равно как и союзники. После этого, по словам Будберга, «полились речи в духе Мининых и Пожарских, вплоть до выхода всех министров с винтовками, когда придётся защищать Омск». «…Какой злой рок отнимает у очень неглупых и по-своему дельных людей здравый смысл в таком серьёзном деле?» – недоумевал генерал.[1263]
Между тем из Омска кое-кто начал уже выезжать. Государственные служащие под разными предлогами выпрашивали командировки на восток. Началось брожение в семьях «неглупых и по-своему дельных людей». В середине августа в Читу выехали семьи Вологодского, Гинса и других высших должностных лиц.[1264] 22 августа Совет министров принял постановление о разгрузке Омска.[1265]
В конце августа в Омск приехал, наконец, долгожданный генерал Н. Н. Головин. Долго знакомился с обстановкой, вникал в ход дел – и через месяц-полтора вдруг уехал, сославшись на болезнь.[1266] Видимо, посчитал, что дела плохи, а рисковать собственной персоной ему не хотелось.
1 августа Будберг представил Адмиралу проект: «…собрать немедленно всех шатающихся по Омску генералов, военных инженеров и офицеров и экстренно отправить их на рекогносцировки рек Тобола и Ишима и на составление проекта их укрепления». При этом он объяснил, что в настоящем виде белые силы не готовы к маневренной, наступательной войне, что надо дать им основательно отдохнуть и что укреплённые рубежи на сибирских реках (правый берег всегда выше) в сочетании с превосходством белых в артиллерии могут обеспечить такой отдых. Колчак, выслушав Будберга, видимо, только из вежливости, приказал передать доклад в Ставку.[1267] Там он, очевидно, был отправлен в архив.
О переходе к обороне Адмирал в то время даже не думал. Неудачи казались ему временными. Верный ученик Суворова, Ушакова и Макарова, он и вообще-то признавал только наступление. Оборонительная тактика связывалась у него с именами Куропаткина, Витгефта и Рожественского. Уроки блестящей защиты Нахимова и Кондратенко, которые, имея ограниченные ресурсы, защищались стойко и изобретательно, не запали ему в душу. Эта приверженность к стремительной атаке едва не принесла ему головокружительный успех, а затем ускорила проигрыш всей кампании.
Но надо сказать, что и среди генералов, воевавших вместе с Колчаком, Будберг был едва ли не единственным, кто настаивал на защитном варианте. Даже осторожный Дитерихс не думал надолго закрепляться на намеченных рубежах. Переход в новое наступление, как мы помним, планировался на август, но затем сдвинулся из-за Челябинской операции. Расчёт делался не только на собственные средства, едва ли достаточные, но и на то, что у красных стало ухудшаться положение на Южном фронте и они начали перебрасывать туда силы с Восточного. Впоследствии, уже в эмиграции, генерал Рябиков, один из ближайших помощников Дитерихса, задавался вопросом: «Не было ли наступление сибирских армий преждевременным и недостаточно подготовленным и не лучше ли было отказаться от него и провести зиму в позиционной борьбе за Ишимом?»[1268] Время ведь работало не на советскую власть, на чьей территории свирепствовали голод и эпидемии.
Дитерихс расположился со своим походным штабом на небольшой станции к западу от Омска и приступил к подготовке наступления. По воспоминаниям Рябикова, это был «человек с ясным и быстрым умом, прямыми и твёрдыми взглядами». Он не скрывал своих монархических убеждений и глубокой религиозности. В его кабинете висело много икон. Дитерихс обладал большой трудоспособностью в соединении со стремлением самому всё знать и чуть ли не всё делать – часто сам писал даже телеграммы. В этом отношении он сильно напоминал генерала Алексеева.
Дитерихс был, как говорят, человеком очень нервным – пожалуй, не менее, чем Колчак. Но если Адмирал вспыхивал, начинал шуметь, бросать вещи – и вскоре утихал, а потом и забывал эпизод, то у Дитерихса вспышки гнева внешне мало в чём выражались. Поэтому многим он казался человеком спокойным и уравновешенным.[1269] Однако в самом себе он способен был носить и копить обиду очень долго, разряжая накопившееся чувство тогда, когда надо было бы уже обо всём забыть.
Красные уже подходили к Ишиму, когда Дитерихс 1 сентября дал приказ о наступлении. Первой двинулась вперёд 3-я армия. Волжская группа генерала Каппеля, усиленная ижевцами, южнее железной дороги остановила красных и обратила их вспять. А 3 сентября красные обнаружили у себя в тылу части Уральской группы генерала Косьмина, совершившие глубокий обход с юга. 5-я армия Тухачевского оказалась в критическом положении. Однако сразу же было замечено, что красные уже не те, какими были в пору «полёта к Волге». Они стали значительно устойчивее и не так легко поддавались панике.
Окружённые красные части, хотя и в довольно растрёпанном виде, смогли выйти из кольца. Кроме того, Тухачевский послал в бой свои резервы – две дивизии, одна из которых была уже выведена из его подчинения и готовилась к отправке на Южный фронт. Проявив такое самоуправство, командарм стабилизировал фронт. На всём его протяжении завязались упорные бои.[1270]
В августе, раскручивая идею создания Сибирского казачьего корпуса, Иванов-Ринов хвастливо заявлял, что выставит 18 тысяч шашек и штыков. В действительности удалось собрать 7,5 тысячи.[1271] К началу наступления комплектование корпуса завершено не было. Только 7 сентября основные его силы развернулись в долине Ишима.
Корпус имел приказ обойти с юга линию фронта, пройти по тылам красных и взять Курган. Но в это же время обходный маневр совершала ударная группировка красных. Столкновение лоб в лоб произошло 9 сентября на тракте из Петропавловска в станицу Звериноголовскую, у посёлка Островного (на современных картах – Островка Северо-Казахстанской области). Авангард Казачьего корпуса с ходу, не развернувшись в лаву, но лишь разомкнув ряды, вместе со штабами и командирами во главе с Ивановым-Риновым пошёл в атаку на изготовившегося к обороне противника, сквозь плотный ружейный, пулемётный и артиллерийский огонь. Очевидцы говорили, что зрелище было неописуемое.
Бой длился минут 40. Красные стреляли в упор и до самого конца. Их пушки замолчали лишь тогда, когда казаки изрубили артиллеристов. Обе стороны понесли тяжёлые потери—и трудно сказать, кто больше. По сведениям белых, полегло около 500 красноармейцев. Видимо, примерно столько же и казаков. Белые захватили всю артиллерию красных, участвовавшую в бою, и значительную часть пулемётов.
В тот же день казаки захватили и станицу Пресновскую, где была окружена часть ударной группировки красных. Всего же в двух сражениях 9 сентября казаки разгромили шесть стрелковых полков и четыре артбатареи красных.
Бой у Островного наблюдали Колчак и Нокс, оказавшиеся на передовой линии. Восхищённый Адмирал в тот же день наградил Иванова-Ринова орденом Георгия 4-й степени.[1272]
В сентябрьском наступлении у белых были и другие яркие эпизоды. Например, 10 сентября при занятии станции Голышманово они захватили весь штаб оборонявшей её красной бригады вместе с комбригом и канцелярией, а также 500 пленных.[1273]
3-я армия с боями продвигалась вперёд, а 1-я и 2-я армии долго не могли сдвинуться с места. Возникла угроза удара с севера во фланг 3-й армии. Тогда Дитерихс, решив опередить красных, приказал Уфимской группе Войцеховского нанести удар с юга по красным частям, противостоящим бывшей Сибирской армии. Это облегчило положение 1-й и 2-й армий, они тоже пошли в наступление, но продвигались с большим трудом. Правда, перед 2-й армией был очень крепкий противник.[1274]
После успеха под Островным и Пресновской, купленного очень дорогой ценой, наступательный порыв Казачьего корпуса вдруг выдохся. Неоднократные попытки прорваться сквозь фронт, чтобы совершить рейд по красным тылам, оказались тщетными.[1275] Приказ командующего фронтом оказался невыполненным. Иванов-Ринов ссылался на усталость людей и лошадей, нехватку фуража и на дожди, которые испортили дороги.
Дитерихс воспринял всё это как формальные отговорки и пришёл в крайнее негодование, ибо конный рейд с захватом Кургана был существенной частью его плана. Приказом командующего фронтом Иванов-Ринов был отстранён от командования корпусом. Но у него сразу же объявилась масса заступников из числа верных ему людей в казачьей верхушке. К Дитерихсу явилась делегация Сибирского казачьего войска, и, как вспоминал генерал Рябиков, командующий согласился отменить свой приказ. Правда, согласно другим данным, Иванов-Ринов командовал Казачьим корпусом только до 19 сентября, а потом перешёл на должность помощника Сахарова. Вопрос, стало быть, не выяснен. Но, как с полным основанием отмечал Рябиков, Дитерихс нашёл себе в лице Иванова-Ринова смертельного врага, который с тех пор всеми силами старался испортить и обострить его отношения с Адмиралом.[1276]
Неудача с Казачьим корпусом отчасти была восполнена действиями авиации. В течение сентября было совершено 58 вылетов. 14 сентября шесть самолётов произвели налёт на станцию Курган, сбросив 15 бомб на стоящие на путях составы и подвергнув станцию пулемётному обстрелу, вследствие чего на ней возникла паника.[1277]
С середины сентября сопротивление красных приобрело более организованный и упорный характер. 1-я армия вскоре остановилась, не доходя до Тобола. Из частей 2-й армии лишь одна вышла на его берег, продержалась здесь два дня и отошла вёрст на 15 к востоку.[1278]
3-я армия продолжала упорно продвигаться вперёд. 29 сентября её части оказались примерно в 40 верстах от Тобола. После этого красные, не желая быть прижатыми к реке, на довольно широком участке спешно отошли за Тобол. Но южнее, в районе Звериноголовской, где фронт держала Отдельная Степная группа во главе с генералом Д. А. Лебедевым, противник продолжал занимать прочные позиции на восточном берегу Тобола.[1279] В целом же «полёт к Тоболу» и по своим масштабам, и по результатам далеко не мог сравниться с «полётом к Волге».
И всё же сентябрьские победы, после затянувшейся полосы военных неудач, вызвали ликование в Омске. В сочетании с успехами деникинских войск они рассматривались как поворотный момент в Гражданской войне, как предвестник скорого и победоносного её окончания. В этой обстановке Колчак решился на такой шаг, к которому его давно склонял Совет министров, но на который не хотел пойти в период неудач, чтобы он не рассматривался как проявление слабости, – на преобразование Государственного экономического совещания в орган, избираемый населением.
16 сентября Адмирал вернулся с фронта и созвал Совет верховного правителя. Кроме обычных членов, туда были приглашены Дитерихс и Дутов. Оба поддержали проект. Дитерихс, однако, оговорился, что такое Совещание принесёт пользу лишь в том случае, если будет состоять в основном не из интеллигентов, а из крестьян. Этот момент решено было последовательно провести во всех актах.
На следующий день были опубликованы составленные Гинсом накануне «Грамата верховного правителя» и рескрипт Вологодскому. В «Грамате» (в былые времена такой документ был бы назван Манифестом), в частности, говорилось:
«…Исполненный глубокою верою в неизменный успех развивающейся борьбы, почитаю я ныне своевременным созвать умудрённых жизнью людей земли и образовать Государственное земское совещание для содействия мне и моему правительству прежде всего по завершению в момент высшего напряжения сил начатого дела спасения Российского государства.
Государственное земское совещание должно, далее, помочь правительству в переходе от неизбежно суровых начал военного управления, свойственных напряжённой гражданской войне, к новым началам жизни мирной, основанной на бдительной охране законности и твёрдых гарантиях гражданских свобод и благ личных и имущественных.
Такие последствия продолжительной гражданской войны всего сильнее испытывают на себе широкие массы населения, представляемые крестьянством и казачеством. Вызванная не нами разорительная война поглощала до сих пор все силы и средства государственные. Справедливые нужды населения по неизбежности оставались неудовлетворёнными, и Государственное земское совещание, составленное из людей, близких земле, должно будет также озаботиться вопросами укрепления благосостояния народного».
В рескрипте Вологодскому верховный правитель указывал, что он поручает Совету министров «разработать в ближайшее время проект Положения о Государственном земском совещании, как органе законосовещательном, с правом запросов министров и с правом выражения пожеланий о необходимости законодательных и административных мероприятий».
Несмотря на царившее в то время в Омске приподнятое настроение, правительственные акты встречены были всё же неоднозначно. Иностранцы спрашивали: «Когда же будет издан закон – „грамат“ мы уже читали много?» У правых был свой вопрос: «Зачем эти парламенты?» Недовольны были и левые: «Почему законосовещательное, а не законодательное?»[1280] Совет министров приступил к выработке проекта Положения, но это дело явно не поспевало за событиями и не было завершено.
Сам Колчак, как говорят, довольно скептически к нему относился. Однажды в беседе с Гинсом он сказал:
– Вы правы, что надо поднять настроения в стране, но я не верю ни в съезды, ни в совещания. Я могу верить в танки, которых никак не могу получить от милых союзников, в заём, который исправил бы финансы, в мануфактуру, которая ободрила бы деревню… Но где я это возьму?[1281]
В обстановке преждевременного оптимизма, воцарившейся в Омске после сентябрьских побед, Комиссию по эвакуации переименовали в Межведомственное совещание по вопросам деэвакуации. На его заседании 2 октября уполномоченный Министерства внутренних дел сделал доклад, в коем подчеркнул, что правила деэвакуации должны быть рассмотрены в срочном порядке, дабы избежать того хаоса, «который наблюдался в первые дни эвакуации Уфимского края и Приуралья». В ходе заседания выяснилось, что с августа до октября в Иркутск было вывезено всего три отдела омских министерств: Экономический отдел Министерства снабжения и продовольствия, часть служащих Экспедиции заготовления бумаг Министерства финансов и Главное управление местами заключения Министерства юстиции. Управляющий Иркутской губернией эсер П. Д. Яковлев, ссылаясь на нехватку в городе помещений, просил разрешения продвинуть эти отделы далее на восток или расселить по уездным городам. Совещание отвергло эти домогательства как необоснованные, приняло с поправками правила о деэвакуации, и чиновники разошлись, уверенные, что скопившиеся в Омске беженцы будут водворены на прежние свои места без паники и хаоса.[1282]
В начале октября Колчак получил из Парижа от Софьи Фёдоровны два письма, написанные ещё в июне. По-видимому, они не сохранились. Скорее всего их уничтожил сам Александр Васильевич, опасаясь, что они могут попасть в чужие руки. Но сохранился ответ, который Колчак писал на борту парохода, отправившись вниз по Иртышу до Тобольска, недавно освобождённого от красных. Затем небольшая приписка была сделана уже по возвращении, 20 октября. За это время у Колчака, как видно, сильно изменилось настроение: письмо написано в спокойном тоне, а в приписке прорывается раздражение.
В письме Софьи Фёдоровны, по-видимому, были какие-то упрёки, отчасти, наверно, связанные с пребыванием в Омске Анны Васильевны и со сплетнями на этот счёт, которые доходили и до Парижа.
Александр Васильевич в связи с этим писал: «У меня почти нет личной жизни, пока я не кончу или не получу возможности прервать своё служение Родине». Мой девиз, продолжал он, тот, с которым шёл в последнюю свою битву чешский король Ян в 1346 году: «Ich diene» («Я служу»). «Я служу Родине, – ещё раз подчёркивал он, – своей Великой России так, как я служил ей всё время, командуя кораблём, дивизией или флотом».
«Не мне оценивать и не мне говорить о том, что я сделал и чего не сделал, – продолжал он. – Но я знаю одно, что я нанёс большевизму и всем тем, кто предал и продал нашу Родину, тяжкие и, вероятно, смертельные удары. Благословит ли Бог меня довести до конца это дело, не знаю, но начало конца большевиков положено всё-таки мною. Весеннее наступление, начатое мною в самых тяжёлых условиях и с огромным риском… явилось первым ударом по Советской республике, давшим возможность Деникину оправиться и начать в свою очередь разгром большевиков на Юге… На мой фронт было брошено всё, что только было возможно, и было сделано всё… чтобы создать у меня большевизм и разложить армию. И эту волну большевизма я перенёс, и эта волна была причиной отхода моих армий вглубь Сибири. Большевики уже пели мне отходную, но „известия оказались несколько преувеличенными“, и после ударов со стороны Деникина, облегчивших моё положение, я перешёл опять в наступление».
Софья Фёдоровна задавала вопрос, должна ли она здесь, в Париже, занимать положение жены верховного правителя России. В связи с этим она спрашивала, нет ли возможности увеличить высылаемое ей ежемесячное содержание с пяти до восьми тысяч франков, поскольку представительство потребует немалых трат. Александр Васильевич в категорической форме отвечал, что никаких приёмов делать не только не требуется, но и недопустимо. И вообще надо быть крайне осторожной с разными представителями, русскими и иностранными: «Я не являюсь ни с какой стороны представителем наследственной или выборной власти. Я смотрю на своё звание, как на должность чисто служебного характера. По существу, я верховный главнокомандующий, принявший на себя функции и верховной гражданской власти, так как для успешной борьбы нельзя отделять последние от функций первого… Во всех отношениях, особенно с иностранцами, надо помнить, что я глава непризнанного правительства…» Увеличить выплаты своей семье до восьми тысяч франков он признал невозможным ввиду того, что при падении курса рубля это составит огромную сумму около 100 тысяч рублей: «А таких денег я не могу расходовать, особенно в иностранной валюте».
Вопрос о союзниках и их помощи вызвал со стороны верховного правителя горькую тираду: «Я не буду много говорить об этом прежде всего потому, что я не доверяю никогда бумаге своих взглядов в таких деликатных вещах. Скажу лишь, что все отношения, на иностранной политике основанные, определяются успехом или неуспехом. Когда у меня были победы, всё было хорошо, когда были неудачи, – я чувствовал, что никто меня не поддержит и никто не окажет помощь ни в чём. Всё основано только на самом примитивном положении – победителя и побеждённого. Победителя не судят, а уважают и боятся, побеждённому – горе! Вот сущность всех политических отношений, как внешних, так и внутренних».
О повседневной своей жизни он сообщал: «Я или на фронте, или в своём кабинете в Омске, зачастую не имея в течение дня полчаса свободных от работы. Все развлечения сводятся к довольно редким поездкам верхом за город да к стрельбе из ружей – я последнее время почему-то полюбил это занятие. У меня есть несколько верховых лошадей; как главнокомандующий, я должен перед войсками появиться верхом, недавно генерал Нокс подарил мне канадскую лошадь. Часто мне приходится работать одному по ночам в своём кабинете, и я завёл себе котёнка, который привык спать на моём письменном столе и разделяет со мной ночное одиночество».
Письмо, довольно длинное и неровное по настроению, свидетельствовало о том, что отношения между супругами к этому времени стали далеко не безоблачными. Однако для Александра Васильевича Софья Фёдоровна по-прежнему оставалась «дорогой Соничкой».
В пакет было вложено короткое письмо к сыну:
«Дорогой милый мой Славушок.
Давно я не имею от тебя писем, пиши мне, хотя бы открытки по нескольку слов.
Я очень скучаю по тебе, мой дорогой Славушок. Когда-то мы с тобой увидимся.
Тяжело мне и трудно нести такую огромную работу перед Родиной, но я буду выносить её до конца, до победы над большевиками.
Я хотел, чтоб и ты пошёл бы, когда вырастешь, по тому пути служения Родине, которым я шёл всю свою жизнь. Читай военную историю и дела великих людей и учись по ним, как надо поступать – это единственный путь, чтобы стать полезным слугой Родине. Нет ничего выше Родины и служения Ей.
Господь Бог благословит тебя и сохранит, мой бесконечно дорогой и милый Славушок. Целую крепко тебя. Твой папа».[1283]
Вряд ли этот пакет дошёл по адресу ещё при жизни Адмирала.
* * *
После сентябрьских боёв на Восточном фронте установилось относительное затишье. Обе стороны решили перевести дух и подождать подкреплений. Красные провели мобилизацию в недавно отвоёванных районах Урала и Зауралья, и перед Колчаком на левом берегу Тобола предстали недавние его солдаты – теперь уже в красноармейских шлемах со звездой. (Отступая через родные места, солдаты обыкновенно там и оставались.)
А Белая армия не получила почти ничего – ни пополнений, ни обмундирования, хотя уже наступали холода. В чём-то, конечно, сказывались неразворотливость и несогласованность действий Ставки и интендантства. Но главная причина, видимо, состояла в том, что людские и материальные ресурсы Сибири находились уже на пределе. Военные в это никак не желали верить. Им казалось, что «богатый сибирский тыл» – это бездонная бочка. Вновь начались трения между командующим фронтом и военным министром. Будберг вскоре серьёзно заболел, ушёл в бессрочный отпуск и уехал. 6 октября на должность военного министра был назначен генерал М. В. Ханжин,[1284] бывший командующий Западной армией.
Бои местного значения не прекращались ни на день. Белые стремились окончательно вытеснить противника за Тобол, красные цеплялись за плацдармы на правом берегу. Больших успехов белым достичь не удалось. На юге генерал Лебедев так и не дошёл до Звериноголовской. На севере деревня Дианово несколько раз переходила из рук в руки.
Генерал П. П. Петров, всю войну провоевавший в передовых рядах и чуть ли не в окопах, вспоминал, что бои за Дианово начинались обычно с того, что наступавшая пехота, часто без резервов, растягиваясь в цепь, выходила на исходное положение. Фланги занимала конница. Начинала свою работу артиллерия, цепи поднимались и начинали бежать вперёд. Конница старалась зайти противнику в тыл. Красные открывали огонь, не дожидаясь, когда белые войдут в зону досягаемости. Белые кричали «ура!». Стрельба со стороны красных становилась беспорядочной. Примерно за версту до противника они не выдерживали и уходили. Если же нервы прежде сдавали у атакующих и они ложились, то поднять их было трудно.
Красные командиры задерживали беглецов и поворачивали назад. Вскоре следовала контратака – и всё повторялось, только в обратном направлении. Такие эпизоды в общем-то были характерны для Гражданской войны. До кровавых штыковых схваток дело доходило нечасто. Когда же Дианово решили взять окончательно и подбросили туда подкрепления, оказалось, что и к большевикам подошли свежие силы. Так что Дианово за ними и осталось.[1285]
Белое командование, в свою очередь, решило создать плацдарм на левом берегу. 13 октября оренбургские казаки переправились через Тобол и захватили деревню Предино южнее Кургана.[1286] Дитерихс знал, что красные готовят наступление, но надеялся их опередить.
Глава седьмая Сибирская драма
В ночь на 14 октября красные переправились через Тобол сразу в четырёх местах, а наутро началось наступление со стороны плацдармов – на севере (деревни Песчаная и Дианово) и на юге (от Звериноголовской). Одна из переправ с самого начала оказалась неудачной: подошли подкрепления, и красные были отброшены за Тобол. Ижевцы вскоре тоже заставили противника переправиться обратно. В другом месте красным удалось закрепиться и немного продвинуться. Наконец, в четвёртом месте переправившийся отряд вёл себя пассивно. В свою очередь белые произвели демонстрацию: переправившись на левый берег, выбили красных из деревни Вороново, захватили пленных и трофеи и вернулись назад.[1287] Почти на всём протяжении фронта закипело Тобольское сражение.
Правый берег Тобола удобен для обороны, но укрепить его не успели. Удерживать позиции можно было только путём активной обороны. Однако белые войска были слишком растянуты, и это не позволяло создавать ударные группы в том или ином месте. Дня три, как вспоминал генерал Петров, борьба шла с переменным успехом. Затем белые стали сдавать свои опорные пункты.[1288] Согласно оперативной сводке красных за 19 октября, к этому времени они продвинулись на восток по некоторым направлениям на 40 и более вёрст. В других местах успех был менее значительным и белые переходили в контрнаступление.[1289] Тем не менее отход белых уже явственно обозначился.
«Во время этих боёв, – вспоминал Петров, – я воочию убедился, как слабы наши части в обороне даже выгодных пунктов; противник ещё далеко и чуть наметился какой-либо обход, начинается нервничанье, а затем и отход. Требовались громадные усилия командного состава, чтобы удерживать людей от преждевременного отхода (вне сферы досягаемости ружейного огня) и для организации противодействия обходам. Это не всегда удавалось». И далее он добавлял: «А эти же люди при наступлении бежали вперёд безостановочно под таким же огнём противника».[1290] И наступление, и отступление имеют свою инерцию, переломить которую трудно. Остановка на Тоболе погасила у красных возникшую инерцию отступления, а у белых – наступления. Особо неустойчивы в обороне оказались конные части. Слишком велик соблазн, имея коня, удрать от наступающего противника.
Советский военный историк Н. Е. Какурин с окончанием Тобольского сражения связывал начало катастрофы Белого движения в Сибири. К такому же выводу склоняется и современный исследователь И. Ф. Плотников.[1291] Может быть, это и не совсем так. Впереди ещё была отчаянная схватка за Петропавловск. И ещё стоял «державный» Омск. Однако бои на Тоболе всё же оказались последним большим сражением на Восточном фронте и прологом надвигающейся драмы.
Омская эвакуация
Петропавловск (около 300 вёрст от Омска по железной дороге) – городок маленький, похожий на деревню: кое-где плетни вместо заборов, свиньи чешут бока об изгородь, по утрам заливаются петухи. Дитерихс приказал защищать этот город во что бы то ни стало. Но 29 октября лихим внезапным налётом красные почти его захватили.
На следующий день в городе разыгралось кровопролитное сражение. Волжская группа под командованием Каппеля старалась отрезать прорвавшиеся в город части от переправ через Ишим, окружить их и уничтожить. Красные, в свою очередь, удерживая переправы и центр города, пытались захватить южную окраину и вокзал. В бою участвовали конные части и артиллерия. Некоторые городские районы несколько раз переходили из рук в руки. Во многих местах начались пожары.
В первой половине дня инициатива и успех были у белых. Но к противнику подходили резервы. Каппель же подкреплений почти не получил. Не смогла пробиться на выручку Ижевская дивизия. Другие части слишком поздно получили приказ и не успели подойти из-за дальности расстояния. Так сорвался намеченный Дитерихсом удар по Петропавловску всеми силами.
К вечеру 30 октября Каппель должен был уже думать не о том, как окружить противника, а о том, как самому не попасть в окружение. Пришлось отойти к железнодорожной станции. 31 октября была сделана ещё одна попытка овладеть городом. Удача белым не сопутствовала, и 1 ноября они оставили станцию.[1292]
В эти же дни 2-я армия вела упорные бои западнее города Ишима, на Екатеринбургской линии железной дороги. У белых активно действовали бронепоезда, и потому красные взяли Ишим лишь 3 ноября, после трёхдневного боя.[1293] Обе железнодорожные линии, из Петропавловска и Ишима, сходились в Омске. Белая столица оказалась под ударом с двух сторон.
В конце октября Дитерихс побывал у командующих всех трёх армий. Было очевидно, что боевой дух всюду упал. Посовещавшись с командующими, Дитерихс решил начать глубокое отступление со сдачей Омска. 1-ю армию, наиболее неблагополучную, командующий фронтом направил в тыл. План Дитерихса, скрепя сердце, одобрил и верховный правитель. Ещё ранее, 28 октября, за его подписью был издан приказ о разгрузке Омска. 30 октября он вновь подтвердил этот приказ, постановив считать все распоряжения начальника по разгрузке генерала П. А. Белова отданными от его, верховного правителя, имени.[1294] Началась эвакуация. Главная проблема состояла в переброске в Иркутск непомерно раздутого правительственного аппарата и в вывозе складов оружия и боеприпасов. «Работать в Омске было невозможно, – вспоминал Гинс. – Он был военным лагерем. Правительство только мешало своим присутствием, а между тем тыл всё более отрывался от власти. В Иркутске была избрана социалистическая городская дума, в Благовещенске тоже… Можно было предвидеть, что правительство опоздает и с переездом, что раньше, чем оно приедет, на востоке образуется другое».[1295]
Колчак торопил правительство с отъездом, не обращая внимания на горячие речи некоторых его членов (С. Н. Третьякова, недавно приехавшего с юга и ставшего министром торговли и промышленности) о решимости защищать город до конца и повторить Ледяной поход Л. Г. Корнилова. Но в отношении сдачи Омска в настроениях Адмирала вскоре стал происходить перелом.
26 октября Вологодский беседовал с чешским представителем майором Тайным. Речь шла о возвращении на фронт чехословацких дивизий. Учитывая ранее высказанные пожелания легионеров, председатель Совета министров обещал, что жалованье им будет выплачиваться серебром, их деньги, вложенные в сберегательные кассы, будут защищены от инфляции, а пожелавшие остаться в Сибири получат льготы в наделении землёй и занятиях торговлей и промышленностью. Майор обещал передать содержание разговора в Иркутск, Б. Павлу, политическому представителю Чехословакии, и Я. Сыровому, командиру Чехословацкого корпуса.[1296]
Вскоре после этого Вологодский беседовал с Павлу по прямому проводу. Чехословацкий представитель попросил разрешения ознакомить солдат с предложением русских властей, но вместе с тем отметил, что речь идёт об очень ответственном шаге, который нельзя предпринимать без разрешения из Праги. Павлу добавил, что он «старался представить в Праге положение таким образом, чтобы получить положительный ответ».[1297]
Было ясно, что чехи ожидают не только санкции из Праги. Три чехословацкие дивизии сами по себе не могли сокрушить наступающие красные армии. Поэтому чехословацкие политики в Сибири не спешили вступать в борьбу, ожидая момента неустойчивого равновесия, чтобы бросить свои дивизии на колеблющиеся чаши весов и сорвать выигрыш.
28 октября Вологодский, будучи у верховного правителя, узнал, что французскому премьеру Ж. Клемансо удалось провести через парламент решение об обращении к Японии с просьбой оказать правительству Колчака поддержку живыми силами. К этой просьбе присоединилась Англия. Американцы обещали не препятствовать продвижению японских войск на фронт. Японцы согласились перебросить на запад имеющиеся у них силы, но предварительно захотели договориться о «некоторых условиях». Выяснить их было поручено Сукину. «Таким образом, – записал в дневнике Вологодский, – опасение, что наш фронт не выдержит натиска Красной армии и что нам придётся отдать Омск… значительно понизилось…»[1298]
Речь шла, однако, всего лишь о двух японских дивизиях, расположенных в Забайкалье. Даже в соединении с тремя чехословацкими, они не в состоянии были преградить путь красным. Не ввязываясь в бой с японцами, красные могли их обойти и продолжить наступление, как это впоследствии они и делали. Все обстоятельства говорили о том, что помощь союзников будет оказана и принесёт пользу только в том случае, если белые армии смогут без посторонней помощи остановить красных. Некоторые признаки указывали также на то, что падение Омска приведёт в движение все враждебные режиму внутренние силы в самой Сибири.
Колчак постепенно приходил к решению, что Омск надо защитить последним напряжением сил, хотя с фронта продолжали идти нерадостные вести. Когда был издан указ о перерыве работ Экономического совещания и о переводе его в Иркутск, последнее выразило желание послать своих представителей к Адмиралу.
31 октября делегация Совещания во главе с его председателем Гинсом явилась в адмиральский особняк. Адмирал находился в «штормовом» состоянии. Возможно, он ожидал, что делегаты заговорят об окончании Гражданской войны, примирении с большевиками и т. д. С лёгкой руки эсеров этот лозунг в те времена становился всё более популярным.
Колчак пригласил сначала одного Гинса. «Вы с делегацией?» – спросил он, стукнув кулаком по столу. «Да». – «Просите!» «Это было сказано таким тоном, – вспоминал Гинс, – что я ожидал возможности самой невероятной выходки». Однако А. А. Червен-Водали (член кадетской партии, недавно приехавший с юга), выступив от имени делегации, очень тактично, но твёрдо заявил, что Омск так важен политически, что его надо защищать. Адмирал сразу успокоился и оживился.[1299]
Это решение Адмирала предопределило его конфликт с Дитерихсом. Когда был оставлен город Ишим, Колчак вызвал главнокомандующего к себе. На беду тут же подвернулся Сахаров. В своих воспоминаниях он писал, что был вызван в Омск телеграммой верховного правителя. Гинс же уточнил, что вызов был дан в ответ на его просьбу.[1300]
Результатом состоявшихся затем бесед между Адмиралом и двумя генералами стала смена командующего фронтом. В нашем распоряжении имеются две версии этих бесед. Одна из них представлена в воспоминаниях Сахарова. Другая составлена английским майором Моринсом для нужд своей миссии и каким-то образом попала в колчаковский штаб. Моринс ссылается на неких своих «агентов», но, как видно, либо он сам, либо эти агенты записывали со слов Дитерихса: Колчак изображён карикатурно (ломал карандаши, залил чернилами стол, топал ногами), Сахаров иронически, а Дитерихс весьма достойно. Попытаемся совместить обе версии, учитывая, что у Сахарова лучше представлена последовательность бесед, а у Моринса их содержание.
5 ноября, вспоминал Сахаров, он подъезжал к особняку верховного правителя. По дороге его обогнал автомобиль Дитерихса. В приёмной Колчака Сахарова попросили подождать. Из кабинета доносились возбуждённые голоса, причём голос хозяина доходил до крика. Так продолжалось минут 40. Судя по записи Моринса, Колчак припоминал Дитерихсу его прежние обещания и грехи и отметал ссылки на численный перевес красных: «Это обычный приём самооправдания». Численный перевес, с его точки зрения, – это данность, которую надо как-то нейтрализовать, а не ссылаться на неё. Дитерихс, очевидно, говорил, что решительное сражение он даст между Омском и Новониколаевском. На это Колчак отвечал, что такие сражения уже были обещаны перед Екатеринбургом, Петропавловском и Ишимом. «Омск немыслимо сдать, – говорил Колчак. – С потерею Омска всё потеряно». Дитерихс же доказывал, что Омск не может быть спасён. Поскольку Адмирал продолжал твердить своё, то в конце концов генерал попросил об отставке. Эти слова несколько охладили Колчака. О замене Дитерихса он, как видно, не думал. Именно в этот момент он попросил в кабинет Сахарова.
«Верховный правитель и генерал Дитерихс, – вспоминал Сахаров, – сидели за столом, один против другого, с лицами, выражавшими большие переживания, причём впервые за всё время я видел в глазах адмирала такую сильную усталость, доходившую до отчаяния».
Когда верховный правитель рассказал Сахарову суть разговора и попросил высказаться, генерал произнёс цветистую речь, в коей, между прочим, заявил, что каждый должен охранять вверенный ему пост. Колчак тут же вставил с обидой: «А его превосходительство генерал Дитерихс отказывается быть главнокомандующим и просит меня уволить его в отпуск».
Они вновь заспорили: о выводе 1-й армии в тыл (Дитерихс дал этот приказ помимо Колчака) и о защите Омска. Колчак спросил мнение Сахарова. Как сообщается в рапорте Моринса, Сахаров стал развивать план обороны с рытьём окопов и устройством проволочных заграждений. Колчак сверкнул глазами в сторону Дитерихса: «Пора кончить, Михаил Константинович, с вашей теорией, пора перейти к делу, и я приказываю защищать Омск до последней возможности». Дитерихс вспылил: «Ваше превосходительство, защищать Омск равносильно полному поражению и потере всей нашей армии. Я этой задачи взять на себя не могу и не имею на то нравственного права, зная состояние армии, а кроме того, после вашего высказанного мнения я прошу вас меня уволить и передать армию более достойному, чем я». Верховный правитель объявил, что он принимает отставку. «Слушаюсь, я так устал». – Дитерихс пулей вылетел из кабинета.
В приёмной он столкнулся с английским майором Стивенсом, который передал ему приглашение на обед от Нокса. Дитерихс отвечал почти на ходу, схватившись за голову: «Ох, батюшки, дорогой мой, какие теперь обеды, я очень благодарен генералу за приглашение, но извиняюсь, я слишком устал, пусть теперь другие пообедают за меня».[1301]
Вслед за Дитерихсом кабинет покинул и Сахаров. Но через час его позвали. Адмирал спросил, кого он советует назначить на место Дитерихса. Сахаров предложил Лебедева. Колчак сказал, что его имя очень непопулярно в обществе. Потом спросил Сахарова, не мог ли он сам занять этот пост. Сахаров, по его словам, решительно отказался. На этом разговор пока закончился.[1302]
Есть сведения, что Колчак подумывал назначить на этот пост Войцеховского. Но генерал был ещё довольно молод (36 лет), и Колчак опасался вызвать «обиду и соперничество». Вспоминал также и о Гайде, который всё ещё находился во Владивостоке и всего лишь месяц тому назад был лишён генеральского звания за свои происки.[1303] Возможно, думал и о Каппеле, но тот был ненамного старше Войцеховского (38 лет). Выбор был невелик, но страшно было ошибиться. Именно в тот день, 5 ноября, Колчак сказал: «Я дал бы много за то, если бы в настоящее время был бы простым генералом, но не верховным правителем».[1304]
Вечером он вызвал Сахарова в третий раз и назначил его главнокомандующим фронтом.[1305] Командующим 3-й армией стал Каппель. Одновременно был снят командующий 2-й армией Лохвицкий (видимо, за неудачу под Ишимом) и на его место Колчак назначил Войцеховского.[1306]
После этого было громко заявлено, что Омск сдан не будет. По городу расклеили соответствующие объявления. 1-й армии приказано было вернуться в Омск. Были возвращены и некоторые другие части, а также структурные подразделения Военного министерства. «Всё перевернулось вверх дном», – вспоминал Гинс.[1307] Новый главнокомандующий проявлял (или изображал) кипучую деятельность по организации обороны. Этим же занимался его ближайший помощник – Иванов-Ринов. «Адмирал весь ушёл в свои глаза, – писал Гинс. – Они смотрели мимо собеседников, большие, горящие, бездонные, и были устремлены в сторону фронта».[1308]
На фронте продолжалось отступление, в среднем 15–20 вёрст в день. Больших сражений не было. Окопы под Омском, близ Куломзина, прикрывавшие железнодорожный мост, были вырыты ещё летом, но не в полный профиль, а «с колена». Колючую проволоку не натянули, землянок не сделали. Войскам ещё не раздали тёплую одежду, потому что они всё время меняли свои позиции, и интенданты не могли их «поймать». Не было в войсках и шанцевого инструмента для углубления окопов и рытья землянок. Так что эти окопы никто и не думал занимать.[1309]
Военное начальство в те дни более всего беспокоило запаздывание морозов. Стояла слякотная погода, по Иртышу шла шуга (мелкий лёд). Попадались льдины и порядочных размеров. Они-то и снесли несколько понтонных мостов. Остался только железнодорожный мост, у которого скопилось огромное количество обозов и артиллерийских частей. Ожидание переправы затянулось настолько, что от бескормицы начали падать лошади. Тем временем стали подходить и воинские части. Противник мог прижать к реке и уничтожить отступающую армию.[1310]
На другой день по вступлении в новую должность Сахаров встретил в кабинете верховного правителя генерала А. Н. Пепеляева. Высокий и широкоплечий, одетый подчёркнуто небрежно, он был явно взволнован. «Вот, генерал Пепеляев, – объяснил Колчак, – убеждает не останавливать его армию, дать ей возможность сосредоточиться на железной дороге в тылу». Оказалось, что Пепеляев приехал в Омск без армии. Сахаров отвечал, что 1-я армия ему необходима для операций на фронте. Пепеляев вдруг порывисто вскочил, перекрестился на икону и сказал сдавленным голосом, обращаясь к Адмиралу: «Вот вам крестное знамение, что это невозможно: если мои войска остановить теперь, то они взбунтуются».
Спор продолжался около двух часов. Под нажимом Пепеляева Адмирал согласился не возвращать его армию. Тогда обиделся Сахаров, утверждавший, что такое решение выводит с поля боя «не менее четверти бойцов». Не желая быть проигравшим в этом споре, он стал просить Адмирала вернуть его в 3-ю армию. Адмирал, усталый и подавленный, еле уговорил его остаться главнокомандующим.[1311]
1-я армия (бывшая прославленная Сибирская, бравшая Екатеринбург и Пермь) к концу осени пришла в состояние такого разложения, что на фронте не могла принести никакой пользы, а в тылу была просто опасна. Этого не учёл в своё время Дитерихс, отдавая приказ рассредоточить её по гарнизонам. Видимо, контрразведка работала не очень хорошо. 1-ю армию лучше всего было бы разоружить и распустить. Но теперь, когда неудачное распоряжение Сахарова было отменено и вернулись к неудачному распоряжению Дитерихса, Сахаров получил предлог для невыполнения приказа верховного правителя об удержании Омска. Так что проигравшей стороной в споре оказался Колчак.
В своих воспоминаниях Сахаров подробно изложил тот план действий, который, по его словам, он предложил Адмиралу при вступлении на пост главнокомандующего: «Спасти общее наше положение было тогда ещё возможно; понятно, не удержанием Омска, что являлось задачей невыполнимой, да и не самой важной; все силы надо было направить к двум главнейшим целям: спасти кадры армии и удержать ими фронт примерно на линии Мариинска (за Обью. – П. 3.); в то же время сильными, действительными мерами, не считаясь ни с чем, надо было очистить тыл и привести его в порядок». Это предполагало установление фактического военного правления на всей контролируемой территории, объявление эсеров «врагами народа», принятие «правого курса политики внутри страны», а во внешней политике переориентацию в сторону стран, «действительно дружески действующих по отношению к нашему Отечеству» (видимо, имелась в виду Япония). Адмирал «просил сделать всё возможное, чтобы попытаться спасти Омск», и Сахаров давал понять, что именно это он и обещал: «сделать всё возможное», не более того.[1312]
Вряд ли все пункты политической части изложенного плана могли быть приемлемы для Колчака. Ибо речь шла фактически об узурпации всей власти Сахаровым. Не был ещё готов Адмирал и к переориентации на Японию.
Военный же план (отступление к границам Восточной Сибири), по словам генерала М. А. Иностранцева, принадлежал Дитерихсу, который и был отставлен потому, что отстаивал этот план.[1313] Конечно же Колчак не стал бы назначать Сахарова на место Дитерихса, если бы тот и другой предлагали одно и то же. По-видимому, обещание отстоять Омск Сахаров всё же давал, чтобы пробиться к власти. Другой вопрос: знал ли он, насколько трудно или даже невозможно это сделать? Может, и не вполне представлял. А потом, разобравшись, ухватился за неожиданно попавшийся веский предлог и стал выполнять план Дитерихса. Результатом этих игр стала приостановка эвакуации, стоившая жизни многим людям.
В архивах колчаковской Ставки имеются сравнительные данные о численности красных и белых войск на Восточном фронте к 8 ноября 1919 года. Силы красных насчитывали 68,5 тысячи штыков и 15 тысяч сабель (всего 83,5 тысячи). У белых было 47,9 тысячи штыков и 28,6 тысячи сабель (всего 76,5 тысячи). У красных, таким образом, был перевес всего в семь тысяч штыков и сабель. Но при этом надо учитывать, что белые уступали красным на 20,6 тысячи штыков и превосходили на 13,6 тысячи сабель. Конница же, даже спешенная, для оборонительных боёв мало подходит.
Все эти соотношения ещё резче обозначились на главном, Омском направлении, где 2-й и 3-й армиям (44,7 тысячи штыков и сабель) противостояли силы красных численностью в 56 тысяч штыков и сабель. Причём преимущество в числе штыков было у красных (на 21,3 тысячи), в числе же сабель – у белых (на 10 тысяч).[1314] 21,3 тысячи штыков – это по тем временам целая армия, а 10 тысяч сабель – конная группа. Если перевести всё это на шахматный язык, то красные имели преимущество в ладью, а у белых был лишний конь. И партия уже переходила в эндшпиль, когда решающую роль приобретают тяжёлые фигуры, а лёгкие теряют значение. Надо также учитывать то, чего не бывает в шахматах, – резервы. Красное командование, в связи с сокращением протяжённости фронта, отвело в тыл довольно крупные силы, а у белых, кроме разложившейся 1-й армии, за душой ничего не было.
Белые генералы, планируя глубокий отход, надеялись выиграть время. Оно и в самом деле начинало работать не на большевиков, ибо военный коммунизм быстро себя изживал. Однако Колчак, ставший уже опытным политиком, инстинктивно чувствовал, что сдача Омска едва ли не приведёт к общему обвалу в тылу. Но армия, от генералов до рядовых, настроена была отступать. Что он мог сделать – один против всех?!
10 ноября ударил мороз. Иртыш стал. Армия могла продолжать отход на восток. К этому времени надежды на удержание Омска, наверно, угасли даже у Колчака.
В Омске спешно шла эвакуация. Золотой запас был извлечён из подвалов Государственного банка и погружен в специальный эшелон. К Колчаку явился в полном составе дипломатический корпус с предложением взять золото под международную охрану и вывезти во Владивосток. Колчак воспринял этот демарш как заламывание непомерной цены за обещанную помощь. Мгновенно вспылил: «Я вам не верю. Золото скорее оставлю большевикам, чем передам союзникам».[1315] Можно, наверно, сказать, что эта фраза стоила ему жизни, ибо иностранные представители сразу потеряли к нему интерес.
Перед отъездом из Омска у Колчака ещё раз побывал Жанен. Они холодно распрощались. «Колчак похудел, подурнел, взгляд угрюм, и весь он, как кажется, находится в состоянии крайнего нервного напряжения, – записано в дневнике французского генерала. – Он спазматически прерывает речь. Слегка вытянув шею, откидывает голову назад и в таком положении застывает, закрыв глаза. Не справедливы ли подозрения о морфинизме?»[1316]
Разного рода «дневники», изданные после окончания Гражданской войны в России, – это, конечно, род мемуаров. По-видимому, авторы действительно вели в своё время какие-то записи, но потом, готовя их к печати, не стеснялись делать дополнения и исправления. Приведённые строки скорее всего написаны уже после предательства, совершённого Жаненом в Иркутске. Поэтому краски на портрете Колчака несколько сгущены, а линии окарикатурены.
Что касается наркомании, то такие слухи действительно носились, – но не среди врагов Колчака, а среди его «друзей». Об этом писал, например, журналист С. А. Елачич, называвший себя другом его юности, но не пожелавший увидеться с ним в Омске. Болезнь Колчака в декабре 1918 года, доверительно сообщал он в своих мемуарах, объяснялась, по слухам, не простудой, а начавшейся «ломкой»: у Адмирала иссяк запас наркотиков, в Омске их не было, и был послан «специальный агент» на Восток.[1317]
Если Колчак пристрастился к морфию (согласно Жанену), то этот препарат в Омске, наверно, всё же был – не надо было бы никуда посылать гонцов. А вот в иркутской тюрьме, где Колчак просидел почти месяц, никаких таких снадобий он получить не мог. Но не было и «ломки»: не пишут об этом красные тюремщики, да и из стенограммы допросов можно понять, что перед следователями сидел человек, находящийся в нормальном состоянии.
В Совете министров ещё раздавались голоса за то, чтобы оставаться в Омске. Но верховный правитель приказал ехать. Незадолго до отъезда к Колчаку явился М. И. Смирнов с просьбой ехать с ним, а не с министрами – как близкий к нему человек, он не хотел бы оставлять его в этот ответственный момент. Колчак поблагодарил Смирнова, но отклонил его предложение, сказав, что он долго не задержится и выедет вслед за ними. А кроме того, он хочет, чтобы Смирнов всё время присутствовал в правительстве. Намечалась его реорганизация, и верховный правитель, видимо, чего-то опасался. Они ещё поговорили. Колчак сказал, что считает положение очень тяжёлым – дело может кончиться полной катастрофой.[1318] Смирнов ушёл, и больше они не виделись.
Утром 10 ноября правительство выехало в Иркутск. В Новониколаевске было получено известие, что у Деникина сорвался поход на Москву. (Ранее предполагалось, что упорное наступление большевиков на Восточном фронте объясняется их решением перебраться в Екатеринбург.)
«Мы тронулись дальше, – вспоминал Гинс. – Ехали спокойно, но чувствовали себя путешественниками, а не правительством. Всё разбилось, разорвалось на части и жило своей жизнью по инерции, не зная и не ища власти. Только начиная от Красноярска… стали выходить местные администраторы, чтобы встретить и получить инструкции. Но что мог дать им Вологодский, который в это время больше походил на путешественника, чем кто-либо!»[1319] (В Омске, накануне отъезда, в узком кругу министров было решено заменить Вологодского на В. Н. Пепеляева.)
Правительству повезло: оно добралось до Иркутска за восемь дней. Но наблюдательный Гинс отбил в Омск телеграмму: «План движения нарушается самовольным переходом поездов, имеющих вооружённую силу, на нечётный путь. Необходимо усилить охрану на станциях».[1320] По нечётному пути поезда шли без задержек. На чётном простаивали сутками.
Поздно вечером 12 ноября от омского вокзала отошло несколько поездов. Сопровождаемый усиленным конвоем, верховный правитель покинул Омск. Вместе с ним ехала и Анна Васильевна. Следом за адмиральским поездом шёл «золотой эшелон».
Тем временем красные оттеснили белых к Иртышу. 13 ноября красноармейская разведка попыталась переправиться на правый берег, но была отбита. И всё же в город, под видом беженцев, проникло немало красных лазутчиков, которые затаились на окраинах. На следующий день части Красной армии перешли через Иртыш по льду и подошли к северным окраинам Омска. При их приближении там вспыхнуло восстание рабочих. Начавшуюся ружейную перестрелку на какое-то время заглушил тяжёлый взрыв – белые успели взорвать железнодорожный мост. Восточная окраина удерживалась белыми до утра 15 ноября. Упорных боёв не было, но воздух время от времени сотрясался взрывами: отступающие уничтожали невывезенные запасы снарядов, патронов и пороха. Тем не менее в руках красных оказались богатые военные трофеи. Тотчас по занятии города они приступили к формированию рабоче-крестьянского полка, в который влились восставшие рабочие. (Крестьян, надо думать, представляли оставшиеся в городе 10 тысяч солдат колчаковской армии.[1321]) Потом большевики расстреляли председателя земской управы Карпушина и городского голову Н. И. Лепко. Подверглись репрессиям и оставшиеся в городе социалисты-соглашатели.[1322]
Не желая сдавать Омск, Колчак не зря говорил, что в данном случае политика должна стоять выше стратегии.[1323] Если бы эвакуация прошла летом, под видом «разгрузки», без излишнего шума, оставление осенью уже покинутой всеми временной столицы не произвело бы такого впечатления. А так, после громких заявлений и объявлений на заборах, сдача города почти без боя стала свидетельством бессилия режима. В колчаковском государстве всё стало рушиться и разваливаться. И прежде всего сдача Омска ударила по авторитету верховного правителя.
Великий отход
Вскоре после оставления Омска к востоку от него воцарились сумбур и хаос. Начало этому положило политическое руководство Чехословацкого корпуса. Ещё в конце октября, как мы помним, чехословацкие представители всерьёз и со вкусом торговались с Омским правительством насчёт возвращения на фронт своих частей. Но едва обозначилась близость падения Омска, как чехословацкие политики вдруг «прозрели».
13 ноября представителям союзных стран был разослан меморандум, подписанный бывшим уполномоченным Чехословацкой республики в России Б. Павлу и вновь назначенным – В. Гирсой. 16 ноября он был опубликован в газетах и широко разошёлся по городам Сибири.
Обращенный к союзным державам меморандум был наполнен жалобами и обличениями. Чехословацкие войска, говорилось в нём, находятся в «невыносимом состоянии», потому что под прикрытием их штыков русские власти «позволяют себе действия, перед которыми ужаснётся весь цивилизованный мир»: «Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадёжности составляют обычное явление…» Обрисовав своё «морально-трагическое положение», чехословацкие представители ходатайствовали о скорейшем возвращении их на родину, а до этого – о том, чтобы им была «предоставлена свобода к воспрепятствованию бесправию и преступлениям, с какой бы стороны они ни исходили».[1324] Ни Колчак, ни его правительство в меморандуме вроде бы даже не затрагивались, и весь пафос обличения был обращен в сторону местных военных властей. Но поскольку всех их назначил Колчак, то получалось, что стрелы летели в него.
Конечно, это была чисто политическая декларация. Политикам же свойственно облачаться в белые ризы, а противников мазать чёрной краской. Те же чехи, как мы помним, во время карательных экспедиций без всякого суда развешивали по телеграфным столбам и берёзам «представителей демократии». Что же касается намеренного сжигания деревень как меры наказания, то ещё 12 октября Дитерихс категорически это запретил, сославшись на приказ верховного правителя от 6 мая 1919 года, в котором личные и имущественные права мирного населения были объявлены неприкосновенными, а охрана их была возложена на армию.[1325]
Тем не менее меморандум был подхвачен оппозицией – в первую очередь, конечно, эсерами, обильно ими цитировался и усиленно распространялся. Даже Вологодский, накануне своей отставки тоже вдруг «прозревший», заявил в разговоре с верховным правителем по прямому проводу 21 ноября: «Недопустимый по форме, чехословацкий меморандум справедлив по существу, ибо рисует действительное положение страны».[1326]
Колчак же, крайне оскорблённый выступлением чехословацких политиков, 25 ноября послал телеграмму в Иркутск с требованием, чтобы Совет министров прекратил всякие сношения с Павлу и Гирсой и предложил чехословацкому правительству отозвать их из России. Пепеляев и Сукин сильно перепугались, получив эту телеграмму. Пепеляев даже намеревался считать её неполученной и вычеркнуть из списков, но Колчак настаивал на исполнении своего распоряжения.[1327]
В конце концов какое-то представление чехословацким уполномоченным было сделано. В ответной ноте Гирса утверждал, что меморандум был неправильно понят: в нём ни словом не упомянуты ни верховный правитель, ни его правительство, а лишь говорится о том, что «обстановка на местах и местные причины служат поводом невыносимого положения нашей армии». Гирса заявлял, что чехословацкое руководство по-прежнему поддерживает Колчака.[1328] После этого 30 ноября Колчак телеграфировал, что он приостанавливает свой протест и считает желательным, чтобы и чехословацкие представители в свою очередь приостановили распространение меморандума.[1329] Дипломатический скандал, казалось, был улажен. Но злополучный меморандум сделал своё дело. Ибо он преследовал двоякую цель: во-первых, вновь сблизиться с оппозицией и прежде всего с эсерами, во-вторых же – и это было важнее – оправдать тот беспредел, который вскоре начали творить чехословацкие войска на Сибирской магистрали.
17 ноября командующий Чехословацким корпусом Ян Сыровой разослал по воинским частям инструкцию, коей предписывалось в случае большевистского восстания применять оружие, но «не препятствовать политическому перевороту, если он не имеет ничего общего с большевизмом». В этой же инструкции был сформулирован главный принцип, которым теперь следовало руководствоваться командирам чехословацких частей: «Наши интересы – выше всех остальных». На следующий день был дан приказ приостановить движение русских воинских эшелонов и ни в коем случае не пропускать их восточнее станции Тайга, пока не проедут чехословацкие войска.[1330] На деле, как увидим, задержка распространилась на все эшелоны, исключая чехословацкие.
1-я чехословацкая дивизия была расквартирована на участке Красноярск – Иркутск, 2-я – в Томске, 3-я – от Новониколаевска до Красноярска.
Падение Омска и быстрое наступление красных вызвали панические настроения среди легионеров. Что будет с ними по приходе красных, никто не знал. Но было ясно, что оружие отнимут. Отнимут также и то, что было нажито во время пребывания в России («военные трофеи», отбитые у партизан, но не возвращённые законным владельцам, другое имущество, приобретённое путём торговых операций и спекуляции). На Урале и в Сибири долго помнили частушку времён Гражданской войны:
Русские с русскими воюют, Чехи сахаром торгуют.Чехи и словаки поднялись вдруг и сразу, захватив для себя и своего скарба громадное количество эшелонов. Что только не втискивалось в товарные и пассажирские вагоны: мебель, экипажи, станки, зеркала, моторные лодки, пианино, огромные запасы продовольствия, обмундирования, мануфактуры.[1331] Никто не мог препятствовать движению чехословацкого воинства, которое вело себя как оккупационное. Даже поезда верховного правителя простаивали часами и сутками. Если у чехов выходил из строя паровоз, они не стеснялись забрать другой у первого попавшегося эшелона. Кто находился в этом эшелоне – беженцы, раненые, больные – это чехословацких солдат не интересовало.
В непроходимую пробку превратилась станция Тайга, где Томская ветка выходила на главную магистраль. На восток от этой станции бесконечной лентой тянулись чехословацкие эшелоны. Западнее в безнадёжном ожидании скапливались беженские поезда, госпитали, эвакуируемые министерства, вывозимые на восток грузы. Столь же тщетным было ожидание других союзных эшелонов – польских и сербских. Согласно приказу Жанена, они должны были прикрывать отход чехословацкого воинства.
24 ноября Колчак, находившийся в Новониколаевске, послал телеграмму Жанену и Сыровому (копии – Ноксу, американским и японским представителям и в Совет министров). Сибирская магистраль, говорилось в телеграмме, обладает небольшой пропускной способностью: 15 поездов на участке Новониколаевск – Красноярск и восемь – на отрезке Красноярск – станция Маньчжурия. Всё это в настоящее время задействовано для пропуска чехословацких эшелонов. В результате хвостовые поезда, отошедшие из Омска, оказались уже на линии боевого фронта, а продление такого положения, писал Колчак, «приведёт к полному прекращению движения русских эшелонов и к гибели многих из них». «В таком случае, – заявлял он, – я буду считать себя вправе принять крайние меры и не остановлюсь перед ними». Чтобы избежать этого, верховный правитель предлагал восстановить власть русской администрации на дороге, предоставить в распоряжение чехов до половины подвижного состава и, поскольку Владивосток всё равно не сможет принять все их эшелоны, направлять их по КВЖД в китайские порты для отправки на родину.[1332]
«Крайних мер» в распоряжении Колчака фактически уже не было. Сыровой на телеграмму не ответил, а Жанен предпочитал переписываться с русскими властями через министра С. Н. Третьякова. «Я получил сегодня утром циркулярную телеграмму Колчака, – писал генерал. – Он обращается к помощи дипломатических представителей по поводу некоторых мелких фактов для того, чтобы представить ряд неопределённых ходатайств, которые трудно удовлетворить даже в нормальное время. Априори я не могу не констатировать, что эта телеграмма ещё больше затрудняет возможно скорое и удовлетворительное разрешение положения, к чему мы оба стремимся».[1333]
Из брошенных на разъездах, полустанках и в степи эшелонов поступали отчаянные телеграммы. Например, начальник одного из эшелонов, войсковой старшина Улазинский телеграфировал 23 ноября: «Эшелон ПО стоит на Болотной. Состав – семьи сибирских казаков и Минпром и торговли. В тот момент, когда казаки на фронте, семьи, эвакуируемые в Читу, не имеют возможности двигаться дальше, ибо на дороге господствует право сильного. В эшелоне много больных, женщин и детей… Эшелон стоит на Болотной четвёртые сутки…»[1334]
Все такие телеграммы оставались без ответа: никто не мог или не хотел помочь. Напрасны были и вопли: «Хлеба, хлеба!» – когда мимо, не снижая скорости, проносились составы, вывозившие из Сибири вчерашних союзников с их добром. Сменялись сутки, подходили к концу продовольствие и топливо. Тогда все, кто мог двигаться, выходили из поезда и в 30-градусный мороз отправлялись в самостоятельное путешествие – кто на санях, если это как-то удалось, а другие пешком. Из первых кое-кто спасся, а из вторых, наверно, мало кто выжил.
Оставшиеся в поезде постепенно умирали от голода и холода. Иногда они были ещё живы, когда врывались какие-то грабители, отнимали всё, что у них было. По всей Великой сибирской магистрали протянулись полузанесённые снегом мёртвые эшелоны – около двухсот «поездов смерти». Многие из них простояли до весны. Потом, когда разбирали эти поезда, заметили преобладание среди мёртвых молодых мужчин.[1335] Значит – больные, в основном тифозные, и раненые из госпиталей.
Иногда в этих эшелонах находили себе временное убежище солдаты разбитых частей армии Колчака. Красные, отняв оружие и лошадей, отпускали их на все четыре стороны. Они брели по железнодорожному пути в лохмотьях, оставшихся от шинелей, в остатках сапог, ногами измеряя немыслимые сибирские расстояния. Местные крестьяне боялись их и не пускали к себе. Они набивались на ночь в нетопленые станционные здания, садились тайком на тормоза проходящих составов. Редкие, наверно, добрались до родной деревни.[1336]
* * *
Начались военные мятежи. Первый случился во Владивостоке, где Гайда, засевший в той части станции, которая была объявлена международной, давно собирал вокруг себя сторонников из числа русских и чехословацких солдат и офицеров. Если, например, русский солдат или офицер не хотел, вопреки предписанию, отправляться на фронт, он бежал к Гайде. Оружие получали из чехословацкого штаба. Гайду поддерживали местные эсеры во главе с бывшим председателем Сибоблдумы И. А. Якушевым.
В ночь на 17 ноября взбунтовался батальон морских стрелков. Он присоединился к Гайде, чьи силы составили теперь около двух тысяч человек. Был выдвинут лозунг: «Довольно гражданской войны! Хотим мира!» Портовых рабочих, поддержавших мятеж, такие призывы не удовлетворили. У них были свои лозунги: «Вся власть Советам! Да здравствует РСФСР!»
Мятежникам удалось захватить здание вокзала. Но в город их не пустили японцы, перекрывшие все улицы. В распоряжении генерала Розанова, начальника края, не было других надёжных сил, кроме воспитанников местных военных училищ. Их он и двинул против Гайды, применив также и артиллерию. Вокзал на следующий день, 18 ноября, был отбит, мятеж провалился. Гайда был задержан при попытке укрыться в американскую казарму. Юнкера, безусые мальчишки, едва не расстреляли на месте «сибирского Бонапарта». Он был арестован, но чехи и союзники добились его освобождения. Вскоре он наконец выехал из России.[1337]
Однако обстановка во Владивостоке не стала лучше. Как вспоминал очевидец, продолжалось засилье союзников и спекулянтов, власть не пользовалась авторитетом и не ставилась населением ни в грош. Из ресторанов по-прежнему доносились пьяные голоса:
Погон российский, Мундир английский, Сапог японский — Правитель омский…[1338]Авторитет и популярность Колчака к концу осени пали так низко, как никогда за всё время его правления. И. И. Серебренников, бывший член правительства, вспоминал свой разговор в Иркутске с одной старушкой, богомольной и благочестивой.
– Что же такое? Когда же большевики Колчака-то свалят? – спрашивала она.
– Чем же вам Колчак не угодил?
– Где уж угодить? Поди-ка на базар да спроси, что теперь четверть молока стоит.[1339]
При большевиках старушке наверняка пришлось пожалеть о Колчаке (про себя, но не вслух). Но как бы то ни было, дороговизна и пустые полки в магазинах – это очень веский аргумент против любого правителя.
Оживились давние враги Колчака. В дни омской эвакуации в Иркутске состоялось совещание представителей Всесибирского комитета партии эсеров, Бюро Сибирской организации РСДРП (меньшевиков), Центрального комитета объединений трудового крестьянства Сибири и Земского политического бюро. Участие земских представителей в таком совещании не должно удивлять. Сибирские земства – это не российские, которые занимались местным хозяйством (просвещение, здравоохранение, дороги, мелиорация), а в политику ввязывались неохотно и как бы поневоле. В своё время Столыпин задумал было ввести земства в Сибири, но, съездив туда, быстро раздумал – из опасения, что будут они слишком левыми и станут заниматься не столько хозяйством, сколько политикой. В 1917 году Временное правительство ввело земства в Сибири – и эти опасения сразу сбылись. Сибирские земства превратились в эсеровские гнёзда, местным хозяйством интересовались мало, в основном исполняли партийные директивы.
Центральный комитет объединений трудового крестьянства Сибири – тоже эсеровская организация. Таким образом, на совещании в Иркутске доминировали эсеры. Роль меньшевиков была весьма скромной.
Совещание приняло решение о начале активной борьбы против Колчака, за создание «демократической» сибирской власти, примирение с большевиками и окончание Гражданской войны. Для руководства борьбой был образован Политический центр. Мятеж Гайды во Владивостоке – это в основном дело рук самого Гайды. Все остальные восстания в городах были организованы Политцентром.[1340]
Первое из них вспыхнуло в Новониколаевске, где стояла одна из дивизий 1-й армии. За несколько дней до этого Колчак, поезд которого стоял на станции, узнал, что в гарнизоне происходит что-то неладное. Сахаров вызвал к себе командира дивизии А. В. Ивакина. 26-летний полковник, подтянутый и молодцеватый, подкупил начальство своей искренностью.
– Правда, что в вашей армии есть сочувствующие эсерам? – спросил командующий.
– Так точно, иначе быть не может, – бойко отрапортовал Ивакин, – наша армия Сибирская, а вся Сибирь – эсеры.
Сначала Сахаров с Ивановым-Риновым, а потом и сам Колчак провели с юным полковником воспитательные беседы, поверили его обещаниям не пускать больше в гарнизон штатских лиц и не лезть в политику – и отпустили. А потом уехали в своих поездах дальше на восток. Избавившись от воспитателей, молодой человек 6 декабря учинил мятеж, попытался арестовать командующего 2-й армией Войцеховского, захватил город, создал там «Комитет спасения родины» и объявил о прекращении войны с Советами. Мятеж вскоре был подавлен частями польской дивизии.
Ивакин попал под арест и, как говорят, был застрелен при попытке к бегству.[1341]
В отличие от первых мятежей Гайды и Ивакина, справиться со всеми последующими было уже гораздо труднее.
* * *
В октябре, когда в тайге уже лежал снег, был выслан новый отряд из русских и итальянцев, чтобы взять наконец Тасеево, которое стало прибежищем для всех недобитых партизан. После невероятных трудностей и лишений отряд добрался до повстанческой твердыни. Но взять её опять-таки не смог. Артиллерии у отряда не было. Мятежники же, ожидая гостей, усердно поливали водой склоны холмов, на которых расположено село. Вскоре все подступы к нему так обледенели, что по ним невозможно было подняться ни конному, ни пешему – да ещё под огнём.
Тогда послали третий отряд – более значительный, с пушками, которые пришлось везти на санях в разобранном виде. Тасеево окружили со всех сторон и стреляли по нему до тех пор, пока оно не сдалось.[1342]
Но эта победа принесла властям, наверно, только моральное удовлетворение. Потому что как раз в октябре-ноябре произошёл новый подъём партизанского движения. Едва из какого-либо села, откуда только что были выбиты мятежники, уходил воинский отряд, как они возвращались и чинили расправу над всеми, кто вольно или невольно содействовал этому отряду, а также над теми, кто им просто не нравился. Тогда стали оставлять в некоторых сёлах небольшие гарнизоны. Но в обстановке начавшегося хаоса это тоже не помогло. Отряд либо истреблялся превосходящими силами партизан, либо разбегался. А иногда выходил из повиновения и сам начинал партизанить. Возникали также банды из сельских милиционеров, железнодорожников. Между ними случались боевые столкновения из-за дележа спорной территории.[1343]
После оставления Омска правительство фактически прекратило мобилизации. Теперь этим занимались только партизаны – и очень усердно. Если деревня отказывалась дать рекрутов, партизанские вожаки грозили её сжечь. Или же прибегали к массовым поркам – не хуже «официальных» карателей. Кроме того, производились реквизиции лошадей, саней, лыж и тёплой одежды. Нестор Каландаришвили (анархист, потом большевик), командовавший крупным отрядом в Иркутской губернии, имел обыкновение отбирать по дороге у всех встречных лошадей и тёплую одежду.[1344]
По сравнению с весной или даже летом, партизанские отряды теперь были вооружены гораздо лучше. У них появились не только пулемёты, но и артиллерия. Некоторые большие отряды стали превращаться в своеобразные армии. Одна из них, Кравченко и Щетинкина, с лета прочно осевших в Минусинском уезде Енисейской губернии, имела два орудия, 25 пулемётов, 1,5 тысячи конницы и восемь тысяч пехоты. В Алтайской губернии армия Е. М. Мамонтова, после перехода на её сторону двух полков правительственных войск, достигла (к началу декабря) 20 тысяч человек.[1345] Сохранялся, однако, прежний принцип организации партизанских частей: хорошо вооружённый основной отряд (конный) и масса мобилизованных с дробовиками и пиками. Именно эти последние шли на неприятельские пулемёты и давили их своей массой. Первые же – преследовали уходящего противника или сами убегали от него, бросив своё воинство с дробовиками и пиками.
Алтай в это время стал одним из главных очагов партизанского движения. Здесь случались настоящие крестьянские восстания, хотя, казалось бы, правительство уже ничем не досаждало – ни мобилизациями, ни изъятием самогонных аппаратов. Но много жалоб было на сельскую милицию, сильно распущенную, которую В. Н. Пепеляев, занимая пост министра внутренних дел, так и не сумел дисциплинировать. А кроме того, злонамеренно был пущен слух, будто правительство постановило, ввиду приближения красных, перепахать озими. И даже показывали текст сфабрикованного приказа. Всё это мгновенно распространилось и привело население в крайнее возбуждение. Правительственная пропаганда была удручающе слаба, и военные обозреватели отмечали, что «об аграрной политике власти деревне ничего не известно, и если что крестьяне о ней знают, то только в злостном изложении большевиков».[1346]
Кроме армии Мамонтова, в Алтайской губернии действовало много других партизанских отрядов и мелких банд. Особой жестокостью отличался отряд Г. Ф. Рогова. В одном из большевистских документов говорится, что ядро этого отряда – анархисты, «бежавшие из тюрем уголовные и разная авантюрная публика». «За этим отрядом, – писал автор документа, член Сибревкома В. М. Косарев, – числится немало грехов. Они изрядно грабили, пьянствовали, разрушали церкви, одевали парчой своих лошадей, шили из поповских риз штаны, кисеты и прочее, причём уверяли, что крестьяне не только не протестовали, но „сами“ помогали разрушать церкви». Взяв город Кузнецк, роговцы сожгли все церкви, ограбили население и убили до 400 человек (главным образом, видимо, из числа духовенства и интеллигенции).[1347] В другом сибирском городе, Щегловске (ныне Кемерово), они вывели причт из церкви, обложили церковными книгами и заживо сожгли.[1348] Первое время большевики снисходительно относились к Рогову, говорили о его заслугах. Но Рогов не ужился и с ними, поскольку был убежденным сторонником полного безвластия. Новая власть приложила немало усилий, чтобы обуздать разгулявшуюся в Сибири «атаманщину».
А тогда, при Колчаке, большевистское подполье деятельно её поддерживало. И не надо думать, что участвовавшие в партизанском движении большевики были «добрее» и «милосерднее». У них, возможно, было меньше «излишеств» (штаны из риз не шили), но суть партизанщины оставалась такой же (грабёж, мобилизации, расстрелы).
Вскоре после окончания Гражданской войны в Сибири к суду был привлечён красный партизан М. X. Перевалов, совершивший уже в советское время ряд убийств в порядке самосуда. На суде он оправдывался: «Я – зверь, я привык к трупам, я тащил их за собой все эти годы. Я убивал за Советы, мысль о смерти стала привычной – всё равно умирать».[1349]
* * *
21 ноября в разговоре по прямому проводу с верховным правителем Вологодский заявил о своей «готовности уступить свой пост более волевому и активному лицу». Колчак ответил, что он считает необходимым «призвать на пост председателя Совета министров В. Н. Пепеляева» и поручить ему составить «солидарный кабинет».[1350]
На следующий день состоялся разговор с Пепеляевым. Кандидат на пост премьера начал говорить о тяжести положения, в котором находится государство. Колчак ответил, что это ему известно лучше, чем кому-либо. «Основной причиной неудовлетворительного внутреннего управления, – сказал он, – является беззаконная деятельность низших агентов власти, как военных, так и гражданских. Деятельность начальников уездных милиций, отрядов особого назначения, всякого рода комендантов, начальников отдельных отрядов представляет собою сплошное преступление. Всё это усугубляется деятельностью военных частей польских и чешских, ничего не признающих и стоящих вне всякого закона. Приходится иметь дело с глубоко развращённым контингентом служащих, преследующих только личные интересы, игнорирующих всякие понятия о служебном долге и дисциплине. Такова среда, в которой приходится работать, но эту работу продолжать необходимо, как ни тяжело положение».
Пепеляев коротко изложил свою программу: «…проникновение в народ, сближение с оппозицией, объединение здоровых сил страны; решительное выступление на путь законности и борьбы с произволом, сокращение ведомств; расширение прав Государственного земского совещания; попытка сближения с чехами».
Адмирал поинтересовался, о каком расширении прав Земского совещания идёт речь. Относительно же чехов сказал, что они сами не желают сближения, и веско поставил вопрос о сближении с Японией, «которая одна в состоянии помочь нам реальной силой по охране железной дороги, которую чехи оставляют».[1351] Это было первое подобное заявление Колчака относительно Японии. Хотя разочарование в западных союзниках у него возникло ещё до омской эвакуации. Потом оно окрепло после бесчинств, устроенных чехами на железной дороге, и известий о выступлении английского премьера Д. Ллойд-Джорджа в палате общин, где он заявил, что поддержка антибольшевистских армий стоит больших денег и затруднительна для казны, а потому пора выходить из «этого хаоса».[1352] Вскоре после этого Нокс был отозван из России. Японцы же оказали помощь в подавлении мятежа Гайды, и Колчак оценил этот жест.
Пепеляев поспешил оговориться, что в вопросе о расширении прав Государственного земского совещания он не проявляет «торопливости и нервности». И добавил: «Сближение с Японией я вообще считаю давнишним лозунгом и одобряю его; не упомянул лишь потому, что он мною подразумевался. Я не буду увлекаться призраком сближения с чехами, но сейчас здесь это не считают призраком, и, может быть, на наше счастье, удастся сломать лёд». Министр также выразил пожелание о скорой встрече – в поезде верховного правителя или в Иркутске.
«Я совершено связан сейчас театром военных действий, – ответил Колчак, – и пока армия не примет вполне устойчивого положения, я не могу её оставить. Поэтому ваш приезд я считаю желательным, но предоставляю вам решить о времени его». В заключение же сказал: «Я прошу вас считать себя председателем Совета министров, указ о чём сегодня будет передан телеграфно».[1353]
Пепеляев, надо думать, расцвёл, прочитав эти слова на ленте. По тому, как он вёл разговор – очень предупредительно, порой даже заискивающе, – чувствовалось, что он очень хочет занять этот пост.
23 ноября назначение состоялось, и после этого его тон в общении с верховным правителем круто изменился, стал резким, даже императивным. Это отчётливо проявилось уже 26 ноября, когда речь шла о телеграммах в связи с чешским меморандумом. Ещё не сформировав кабинета, он стал шантажировать Адмирала своей отставкой. В том же разговоре он сказал, что его приезд в Иркутск «пока крайне нежелателен».[1354]
Произошли перемены и с другой стороны. Один из современников вспоминал, что «Пепеляев сильно вдруг изменился, став председателем, вместо твёрдого, определённого человека – виляния, заигрывания с левыми, полная растерянность».[1355] Из заигрываний с левыми ничего не вышло. Политцентр резко отверг его ухаживания. Вакансии в правительстве пришлось заполнять кадетами и беспартийными. Управляющим МВД был назначен член кадетской партии А. А. Червен-Водали, во время войны бывший председателем Тверского комитета Союза городов, а затем – тверским губернским комиссаром Временного правительства.[1356]
Ушёл в отставку министр финансов фон Гойер, не сотворивший чуда. В ноябре за одну японскую йену давали 150 сибирских рублей. Правда, в декабре, когда Гойер уже ушёл, падение курса рубля вдруг приостановилось. Но разгадать природу этого «чуда» оказалось делом нехитрым: пока переезжали из Омска в Иркутск, пока налаживали там производство – в Иркутске произошли чрезвычайные события и едва запущенный станок снова остановился. Так что денег напечатать успели очень мало.[1357]
Новым министром финансов стал выходец из московского купечества П. А. Бурышкин, впоследствии написавший известные свои мемуары «Москва купеческая». Представитель другого московского купеческого рода, очень знаменитого, С. Н. Третьяков получил портфель министра торговли и промышленности и стал заместителем председателя Совета министров.
Пришёл конец карьере И. И. Сукина, затерявшегося потом где-то в эмиграции. Пепеляев предполагал также вывести из правительства М. И. Смирнова, ликвидировав Морское министерство, но Колчак резко этому воспротивился.
В начале декабря В. Н. Пепеляев выехал из Иркутска на переговоры с Адмиралом. Он вёз с собой на подпись несколько одобренных Советом министров законопроектов, в том числе – о придании законодательных полномочий Государственному земскому совещанию. По дороге он переговорил по прямому проводу со своим братом Анатолием, и в назначенный день, 7 декабря, братья оказались на станции Тайга, где стоял поезд верховного правителя. Младший из них прихватил с собой егерскую бригаду, бронепоезд и артиллерийскую батарею.
Судя по всему, именно Анатолий уговорил Виктора пойти на «крупный политический шаг» – вместо Земского совещания созвать Сибирский Земский собор. Этим лозунгом в то время жонглировали эсеры – и в штабе 1-й армии, и по всей Сибири. Какой такой Собор можно было созвать в той обстановке, каких бородатых бояр на него пригласить – над этим, вероятно, никто не задумывался. Просто эсерам нужен был какой-то яркий лозунг («манок», как говорят охотники, «фишка», как говорят современные торговцы), чтобы увлечь за собой ошалевшее от смуты население. Теперь эту игрушку захотели перехватить у них Пепеляевы. Кроме того, они решили добиться обратной замены Сахарова на Дитерихса на посту командующего фронтом.
Адмирал поддавался на уговоры туго, хотя братья действовали очень напористо. Старший опять начал грозить своей отставкой. Младший тоже шантажировал: его армия в «сильнейшей ажитации», и он за неё не ручается. Тогда и Колчак впервые заявил о своём отречении в пользу Деникина. Братья немного растерялись, но потом отвергли это предложение и с новой силой принялись «дожимать» верховного правителя.
Это, видимо, ещё продолжалось, когда подошёл поезд Сахарова и он явился с докладом к Адмиралу. Увидев своих недоброжелателей, он попросил разрешения сделать доклад «без посторонних». Колчак с удовольствием выпроводил назойливых братьев.
Среди бумаг к подписи оказался приказ о реорганизации 1-й армии в корпус с подчинением командованию 2-й армии. И это – под дулами пепеляевской артиллерии и по соседству с его егерями. Как вспоминал Сахаров, «Адмирал поморщился и начал уговаривать меня отложить эту меру». Командующий фронтом начал горячиться и тоже грозить своей отставкой. Колчак сообщил ему, что братья действительно требовали его отставки. Сахаров с негодованием заявил, что «компромисса быть не может».
– Хорошо, – согласился Адмирал, – только я перед утверждением этого приказа хочу обсудить его с Пепеляевыми. Это моё условие.
Братья немедленно явились. Выслушав подготовленный к подписи приказ, они некоторое время не могли произнести ни слова. Наконец Анатолий опомнился и заговорил, почти закричал срывающимся голосом:
– Это невозможно, моя армия это не допустит!..
Виктор тоже загудел: командующий забрал слишком много власти, общественность недовольна… Сахаров ответил, что ни общественность, ни председатель Совета министров не имеют права вмешиваться в военные дела. Пошла резкая перепалка с повторением угроз уйти в отставку.
«Верховный правитель вспыхнул, – вспоминал Сахаров. – Готова была произойти одна из тех гневных сцен, когда голос его гремел, усиливаясь до крика, и раздражение переходило границы; в такие минуты министры не знали, куда деваться, и делались маленькими-маленькими, как провинившиеся школьники». Однако на этот раз Колчак переборол себя и устало откинулся на спинку дивана. На минуту или две установилось тягостное молчание. Перед глазами Адмирала, видимо, всё ещё стояла эта очень скверная сцена, когда его ближайшие сподвижники рвали власть из его ослабевших рук и вгрызались друг другу в глотку.
– Идите, господа, – сказал он утомленным голосом. – Я подумаю и приму решение.
В тот же вечер Колчак связался с Дитерихсом и попросил его вернуться на оставленный пост. Генерал ответил, что он согласен, но при условии, что Колчак уйдёт в отставку и немедленно выедет за границу.[1358]
Тогда Колчак вызвал к прямому проводу Каппеля. Адмирал сообщил, что Сахаров, «ввиду больших осложнений с правительством», оставляет свой пост. «Мой выбор остановился на вас, – сказал Колчак. – Я уверен, что ваша огромная боевая опытность, широкие знания военного дела и популярное в армии имя помогут вам справиться с этой трудной задачей».
Каппель, похоже, предвидел такой разговор, поскольку успел переговорить с Войцеховским. Он отвечал, что не чувствует себя достаточно подготовленным, чтобы занять столь ответственный пост. Затем добавил, что в сложившейся обстановке перемены на высших должностях, по его мнению, нежелательны. Если же отставка Сахарова – дело решённое, то есть другие кандидатуры. Каппель назвал Дитерихса, Семёнова, Д. В. Филатьева и Войцеховского. Последний, оговорился он, тоже не считает себя подготовленным к такой должности.
Выслушав это, Колчак сказал: «Я вас знаю единственным лицом, которому могу вверить фронт. Ваш отказ поставит армию в безвыходное положение». Каппель продолжал настаивать на отводе своей кандидатуры, но дальнейшая запись разговора не сохранилась. 9 декабря он вступил в командование Восточным фронтом.[1359]
Переговорив с Каппелем, Колчак вместе со своими эшелонами переехал на следующую к востоку станцию – Судженка (ныне город Анжеро-Судженск). А наутро Пепеляевы самочинно арестовали генерала Сахарова. Он просидел под арестом более суток, пока его не выручил приехавший на станцию Тайга уже в должности командующего фронтом генерал Каппель.[1360]
В. Н. Пепеляев, оставшийся на станции Тайга, слал верховному правителю телеграммы, то требуя, то умоляя подписать указ о созыве Земского собора. Колчак запросил Совет министров, был ли им принят такой проект или это самодеятельность Пепеляева. В ответной телеграмме Совет министров дезавуировал своего председателя. «Мы не были уверены, – вспоминал Гинс, – что Пепеляев не совершит какого-нибудь насилия над верховным правителем. Поступки и телеграммы премьера казались дикими».[1361]
Через несколько дней В. Н. Пепеляев подъехал на станцию Судженка – но это был уже совсем другой человек, вялый, обмякший, словно воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он, казалось, как-то разом, в безумном порыве, растратил всю свою энергию. С этих пор он больше не пытался диктовать свою волю верховному правителю, не спорил с ним, но послушно за ним следовал, чтобы разделить его судьбу.[1362]
Назначение Пепеляева оказалось не очень удачным. Каппеля же – может быть, наиболее удачным за всё время правления Колчака, хотя, наверно, запоздалым. Выдвиженец Болдырева, Каппель долгое время оставался на вторых ролях и, можно сказать, даже затирался. Теперь пришёл его час. Но и этот талантливый и мужественный человек, конечно, не мог сотворить чуда. Армия начинала распадаться. У Пепеляева солдаты давно уже не отдавали честь, в некоторых частях было популярно требование мира с большевиками. Эта армия числилась в «стратегическом резерве». У Войцеховского один из генералов отказался исполнять приказы и собрался со своей дивизией в родные края, так что Войцеховскому пришлось его застрелить. Вообще же 2-я армия не обнаруживала явных признаков разложения, но имела слабую сопротивляемость. Лучше всех выглядела 3-я армия, но общая усталость сказывалась и на ней. «Войска сильно утомлены продолжительными боями. Снабжение их тёплой одеждой по-прежнему неудовлетворительное», – сообщалось в военной сводке 22 ноября.[1363]
Настроение сибирского крестьянства в эти последние месяцы Гражданской войны в общем-то было не в пользу Колчака и его правительства. Информаторы сообщали, что это настроение «какое-то запуганное»: «Боятся высказывать своё мнение даже наедине. Отношение к правительству равнодушное. Они и за правительство и не против большевиков. Чувствуется, что война всех утомила и мешает их работе. У всех единодушное желание, чтобы она скорее кончилась». Всё равно, в чью пользу.[1364] Но в местностях с преобладанием переселенцев армия оказывалась во враждебном окружении.
Вскоре после инцидента с братьями Пепеляевыми была получена телеграмма за подписью Гинса. Управляющий делами Совета министров сообщал, что Иркутск находится в крайне трудном положении. Прекращение подвоза хлеба и масла из Западной Сибири создало в городе острые продовольственные проблемы. Возник и топливный кризис – вследствие того, что рабочие Черемховских угольных копей, главным образом китайцы и пленные венгры, начали разбегаться. На работу в копи были посланы арестанты, но при недостатке охраны существует опасность, что и они разбегутся. На севере губернии партизанский отряд Н. Каландаришвили, известного своей жестокостью, взял город Верхоленск и начал движение к Иркутску.[1365] Между тем иркутский гарнизон был слаб и не очень надёжен.
Видимо, именно это известие заставило Колчака принять решение ехать в Иркутск как можно скорее.[1366] Тем более что армия теперь находилась в надёжных руках Каппеля.
Но магистраль была забита чехословацкими эшелонами. Поезда верховного правителя и председателя Совета министров двигались рывками, с большими задержками. Ни Сыровой, ни Жанен на просьбы ускорить их движение никак не откликались.
Под Красноярском простояли шесть суток. В городе в это время творилось что-то непонятное. Командующий войсками Енисейской губернии генерал В. И. Марковский бездействовал. Зато командир 1-го Сибирского корпуса, входившего в состав 1-й армии, генерал Б. М. Зиневич был активен и бестолков. В его штабе всем заправляли эсеры, в первую очередь Е. Е. Колосов. Газета «На страже свободы», выпускавшаяся штабом корпуса, призывала к миру с большевиками и неподчинению верховному правителю. В Красноярске образовался эсеровский Комитет общественной безопасности.
Около 22 декабря (расчёт сделан из сопоставления разных источников) чехи наконец согласились пропустить три поезда: Колчака, Пепеляева и с золотым запасом. Пять поездов с усиленным конвоем верховного правителя остались под Красноярском.
Едва эти три поезда ушли на восток, как Марковский уступил своё место Зиневичу, а тот вручил управление гражданской частью Комитету общественной безопасности. 28 декабря Зиневич направил Колчаку открытое письмо (копии были разосланы высоким комиссарам) с призывом «дать возможность народу вылить свою волю» и передать власть в руки «немедленно созванного Земского собора». В противном случае генерал грозил не исполнять более повелений верховного правителя.
Поскольку сразу же «вылить волю» и «немедленно созвать» Земский собор не было никакой возможности, то мятеж был налицо. Тем более что, по распоряжению Зиневича, была прервана связь Колчака с отступающей армией.[1367]
То, что произошло в Красноярске, могло повториться в Иркутске – там тоже стояли части 1-й армии. Раздумывая над тем, как обезопасить Иркутск, Колчак пришёл к выводу, что это можно сделать только с помощью японцев и тесно связанного с ними атамана Семёнова, в чьём распоряжении находились, казалось, достаточно крупные и незатронутые всеобщим разложением воинские силы. 19 декабря, находясь под Красноярском, Адмирал послал телеграмму командующему японскими экспедиционными войсками генералу Оой. Он сообщал о своих планах объединить Забайкальскую область, Приамурский и Иркутский военные округа под властью одного лица с правами главнокомандующего. «Мой выбор останавливается на атамане Семёнове, – писал Колчак. – Мне было бы желательно знать ваш взгляд на это назначение. Не откажите также телеграфировать мне, могу ли я рассчитывать на вашу поддержку, если бы назначение атамана Семёнова встретило противодействие со стороны каких-либо держав».[1368] Несомненно, для Колчака это было нелёгкое решение.
Ответил ли японский генерал на эту телеграмму, остаётся неясным. Зато её содержание каким-то образом стало известно атаману Семёнову. Через два дня к Колчаку явился его представитель полковник Сыробоярский и стал настойчиво добиваться, чтобы атаман теперь же был назначен главнокомандующим всеми вооружёнными силами Дальнего Востока. Колчак попробовал отговориться: «Не могу же я здесь, в пути, в поезде отдавать такой серьёзный и важный приказ». Но полковник не унимался. Тогда Колчак сказал, что ответ от генерала Оой всё ещё не получен, а его мнение надо бы знать. Сыробоярский продолжал наседать. После этого верховный правитель выгнал его со словами: «Это просто какое-то вымогательство данного назначения».[1369]
В тот же день, 21 декабря, произошёл подготовленный Политцентром мятеж батальона охраны в Черемхове (200 вёрст западнее Иркутска). 23 декабря Колчак получил телеграмму от военного министра Ханжина: «Иркутский гарнизон… не в состоянии выделить достаточного отряда в Черемхово для восстановления порядка. Необходима присылка войск Забайкалья… Временное подчинение Иркутского округа атаману Семёнову необходимо». На следующий день Колчак, фактически не имевший выбора, издал приказ о назначении Семёнова главнокомандующим всеми вооружёнными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа.[1370]
23 декабря Колчак и Пепеляев были в Канске, и премьер рассчитывал 25-го быть уже в Иркутске, «если не будет затруднений в пути».[1371] На следующий день вечером Колчак получил сведения о восстании в Иркутске и послал приказ Семёнову, только что получившему высокий пост, занять Иркутск и подавить восстание.
Рано утром 25 декабря эшелоны верховного правителя подходили к станции Нижнеудинск. До Иркутска оставалось около 500 вёрст.
Недалеко от станции поезда были остановлены семафором. Вскоре подошёл чешский офицер, сообщивший, что, согласно распоряжению штаба союзных войск, поезда Адмирала задерживаются «до дальнейших распоряжений». Майор заявил также о своём намерении разоружить конвой верховного правителя. В этом ему было отказано, и он пошёл за новыми инструкциями. Одновременно выяснилось, что в Нижнеудинске уже установлена новая власть.
Через несколько часов майор вернулся и ознакомил генерала М. И. Занкевича, начальника походного штаба Колчака, с полученными от союзников инструкциями:
1. Поезда адмирала и с золотым запасом состоят под охраной союзных держав.
2. Когда обстановка позволит, поезда эти будут вывезены под флагами Англии, США, Франции, Японии и Чехословакии.
3. Станция Нижнеудинск объявляется нейтральной. Чехам надлежит охранять поезда с адмиралом и с золотым запасом и не допускать на станцию войска вновь образовавшегося в Нижнеудинске правительства.
4. Конвой адмирала не разоружать.
5. В случае вооружённого столкновения между войсками адмирала и нижнеудинскими разоружить обе стороны; в остальном предоставить адмиралу свободу действий.
Эшелоны были препровождены на станцию и оцеплены чехословацкими войсками. Связь с внешним миром можно было осуществлять только при их посредничестве.[1372]
Началось нижнеудинское «сидение», продолжавшееся около двух недель. Невероятно долгий переезд из Омска, павшей столицы, в Иркутск, столицей так и не ставший, напоминал замедленное свободное падение, как его иногда показывают в кино или оно снится в кошмарном сне. Перед самым концом, в Нижнеудинске, кадр вдруг остановился, движение застыло, чтобы потом на короткое время обрести естественную свою быстроту.
* * *
Правительство, переехавшее в Иркутск, с самого начала чувствовало себя там неуютно. С одной стороны – социалистическая городская дума и управляющий губернией эсер Яковлев, действовавший всё более открыто. С другой – военные власти (командующий округом генерал В. В. Артемьев и начальник гарнизона генерал Е. Г. Сычёв), с которыми не наладилось добрых отношений и делового сотрудничества.
В начале декабря, как уже говорилось, председатель правительства В. Н. Пепеляев уехал на встречу с верховным правителем. 19 декабря его заместитель С. Н. Третьяков отправился в Читу на переговоры с Семёновым. И хотя, как говорили, в гостях у атамана жилось ему несладко, возвращаться он не спешил. Временным председателем правительства стал Червен-Водали, которого адмирал Смирнов считал «человеком слов, а не решений».[1373] Иркутские события показали, что Червен-Водали действительно не хватало решительности.
В середине декабря случилась сильная оттепель, так что на Ангаре даже начался ледоход, который снёс понтонный мост. Сообщение с заречной частью города – вокзалом и предместьем Глазково – стало возможно только по железнодорожному мосту.
О готовящемся восстании не слышал разве что глухой. 22 декабря контрразведка арестовала 17 человек. Однако ликвидация штаба заговорщиков получилась неполной, а в число арестованных попали и люди, к заговору непричастные.[1374]
Аресты подтолкнули заговорщиков к действию, хотя они считали свои силы недостаточными. Вечером 24 декабря в казармы 53-го полка, расквартированного в Глазкове и наиболее распропагандированного, явились представители Политцентра во главе со штабс-капитаном Н. С. Калашниковым и провозгласили свою власть.[1375] Один батальон восставшего полка Калашников двинул на вокзал и послал Червен-Водали ультиматум.
В распоряжении генералов Артемьева и Сычёва было около пяти тысяч штыков и сабель (юнкера, унтер-офицерская школа, казаки и др.). Этого было достаточно, чтобы подавить мятеж. Артемьев сразу же дал соответствующее поручение Сычёву, но тот натолкнулся на неожиданные трудности. Союзное командование объявило железную дорогу и вокзал нейтральной зоной, хотя калашниковцев оттуда никто не выставил. Все пароходы чехи взяли под свой контроль, заявив, что не дадут их ни одной стороне. У Калашникова не было артиллерии, у Сычёва – была, но Жанен пригрозил, что прикажет обстрелять город, если Сычёв пустит в ход артиллерию. В разговоре с адмиралом Смирновым французский генерал сказал также, что он послал телеграмму верховному правителю с просьбой задержаться в Нижнеудинске.[1376] (В действительности никаких телеграмм на имя Колчака Жанен не посылал, а просто, как мы видели, распорядился блокировать его эшелоны.) Между тем приезд верховного правителя в Иркутск в такой критический момент, во-первых, увеличил бы силы правительственных войск за счёт его конвоя, а во-вторых – придал бы им решительности.
Правительство послало на вокзал делегацию, чтобы более определённо выяснить позицию союзников. В состав делегации вошли начальник штаба Артемьева генерал А. Н. Вагин и чиновник особых поручений при Совете министров В. И. Язвицкий (в будущем – автор известного романа об Иване III). Делегация привезла письменное обещание высоких комиссаров установить нейтральную полосу вдоль железной дороги, обеспечить передвижение по ней войск и пассажиров, но не допускать военных действий. Комиссары, таким образом, подтвердили позицию Жанена.
Язвицкий спросил генерала насчёт судьбы верховного правителя. Жанен ответил: «Мы психологически не можем принять на себя ответственность за безопасность следования Адмирала. После того как я предлагал ему передать золото на мою личную ответственность и он отказал мне в доверии, я ничего уже не могу сделать».[1377]
Повстанцы на левом берегу Ангары оставались неуязвимы для правительственных войск, распространяя власть Политцентра на запад по железной дороге вплоть до Нижнеудинска.
Под вечер 27 декабря начался мятеж и в самом Иркутске. Батальон и две роты повстанцев заняли телеграф и начали наступление на гостиницу «Модерн», где жили члены правительства. Всю ночь шёл бой, и к утру юнкера и казаки оттеснили мятежников за реку Ушаковку, в Знаменское предместье. Город оказался в осаде с двух сторон. Силы повстанцев постепенно увеличивались, поскольку подходили рабочие дружины из Черемхова и других станций, в основном большевистски настроенные.
Каждую ночь повстанцы, получив подкрепления из-за Ангары, переходили через Ушаковку и пытались наступать, но всякий раз отбрасывались обратно. Особенно напористой была атака ранним утром 30 декабря, но к полудню защитники Иркутска восстановили положение. «А если бы вы видели этих защитников, – вспоминал очевидец, – всё те же юнкера и кадеты, юнцы с пушком на губе, розовые, славные, цветущие – сердце старого офицера разрывалось, глядя на них… когда этих мучеников привозили в госпиталь с раздробленными руками и ногами… И ни одного слова, сжатые губы, спокойный взгляд».[1378]
Моральный дух правительственных войск поддержало известие о вступлении японских войск в пределы Иркутской губернии и о посылке атаманом Семёновым в Иркутск воинского отряда под начальством генерала Л. Н. Скипетрова (того самого, который когда-то разъезжал на автомобиле с женщинами по ночному Харбину). Наоборот, среди калашниковцев эти известия вызвали панические настроения. Но оказалось, что одни рано радовались, а другие напрасно волновались.
Подошедший по железной дороге японский контингент (одна тысяча человек и шесть орудий) занял выжидательную позицию, ни во что не вмешиваясь. Скипетров же, как говорили очевидцы, и теперь сохранил верность своим подругам, оставшись с ними в эшелоне на станции Михалёва, в 25 верстах от Иркутска. Посланные в город войска, не имея боевого опыта, стали штурмовать позиции в Глазкове прямо в лоб, натолкнулись на сосредоточенный пулемётный огонь и отступили под прикрытием своих бронепоездов. Один их батальон переправился в город и включился в позиционную борьбу, лишь ненамного усилив верные правительству войска. Оказалось, что Колчак да и многие в его окружении сильно преувеличивали боеспособность семёновских войск.
2 января 1920 года Червен-Водали, после длительного совещания с генералом Сычёвым, решил начать переговоры с повстанцами при посредстве высоких союзных комиссаров. На левый берег уехали Червен-Водали, Ханжин и товарищ министра путей сообщения А. М. Ларионов.
На следующий день в городе был расклеен приказ Сычёва, в котором объявлялось о перемирии сроком на 24 часа. Причём, как говорили люди, этот приказ читавшие, он был составлен в таких выражениях, которые не оставляли сомнений в том, что борьба окончена и обсуждаются условия капитуляции.
Совет министров собрался на заседание, и Червен-Водали проинформировал коллег о переговорах и об обстоятельствах, им предшествовавших. Оказалось, что к переговорам его подтолкнул Сычёв, обрисовавший обстановку в самых мрачных красках: войска устали, ещё две роты перешли на сторону противника, казаки собираются уходить, Скипетров не даёт подкреплений. Что касается переговоров, сказал Червен-Водали, то они ещё не закончены. В завязавшихся прениях Смирнов и Гинс высказались в том духе, что Сычёв и Червен-Водали испортили всё дело. Но большинство министров поддержали действия своего временного председателя.[1379]
В тот же день, 3 января, Колчак получил телеграмму от Совета министров за подписью Червен-Водали, Ханжина и Ларионова. «Положение в Иркутске после упорных боёв гарнизона и забайкальских частей против повстанцев, – говорилось в телеграмме, – заставляет нас в согласии с командованием решиться на отход на восток, выговаривая через посредство союзного командования охрану порядка и безопасность города и перевод на восток антибольшевистского центра, государственных ценностей и тех войсковых частей, которые этого пожелают. Непременным условием успеха вынужденных переговоров об отступлении является Ваше отречение… О необходимости обеспечить передачу верховной власти Деникину телеграфировал уже раньше Сазонов».
В последней фразе содержался маленький подлог. В телеграмме С. Д. Сазонова из Парижа от 18 декабря говорилось не о немедленной передаче власти Деникину, а лишь о назначении его преемником верховного правителя, чтобы в случае ухода Колчака с политической арены или из жизни не было бы утеряно «достигнутое объединение всех борющихся с большевиками сил под одной властью».[1380]
Зачем надо было это делать? Наверно, затем, чтобы Колчак не «упёрся». Вообще же в телеграмме, к сожалению, сквозило очевидное желание «откупиться» Колчаком от наседающих повстанцев, бросить его, лишённого власти, на произвол судьбы и милость союзников. Вряд ли так поступил бы старик Вологодский.
Колчак не стал цепляться за власть. Но он хотел проехать через охваченный мятежом Иркутск в прежнем своём статусе. Иное было бы похоже на трусость, да и ни от чего не спасало.
Он дал в Иркутск ответную телеграмму, сообщив, что согласен передать власть Деникину, но только по приезде в Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ, за Байкалом).[1381] Одновременно он издал последний свой указ:
«Ввиду предрешения мною вопроса о передаче Верховной Всероссийской Власти Главнокомандующему вооружёнными силами Юга России Генерал-Лейтенанту Деникину, впредь до получения его указаний, в целях сохранения на нашей Российской Восточной Окраине оплота Государственности на началах неразрывного единства со всей Россией:
1. Предоставляю Главнокомандующему вооружёнными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа, Генерал-Лейтенанту Атаману Семёнову всю полноту военной и гражданской власти на всей территории Российской Восточной Окраины, объединённой Российской Верховной властью.
2. Поручаю Генерал-Лейтенанту Атаману Семёнову образовать органы Государственного управления в пределах распространения его полноты власти[1382]».
Строго говоря, это не было актом отречения от власти, как его иногда называют. Оно ещё только предрешалось. А пока Колчак оставался верховным правителем. Но власти фактически уже не было. Она полностью передавалась Семёнову – больше было некому. Не отдавать же ее эсерам!
И по мере того как сваливалась с плеч тяжесть власти, уходили в прошлое недавние кошмары и всё более чётко вырисовывался конец его последней битвы с судьбой, Колчак успокаивался, распрямлялся, приходил в себя, чтобы мужественно и достойно пройти остаток своих дней.
* * *
Утром 4 января в Иркутске стало известно, что перемирие продлевается на 12 часов, то есть до полуночи. В полдень собрался Совет министров, которому были доложены главнейшие требования повстанцев, в том числе: 1) отречение от власти верховного правителя; 2) передача Советом министров власти Политцентру на всей территории Сибири; 3) отрешение от должности Семёнова постановлением Совета министров. Повстанцы, как сообщили делегаты, ни на какие уступки не идут, чувствуя свою силу.
Большинством голосов Совет министров одобрил все пункты. Против голосовали только Гинс и Смирнов, в каких-то случаях к ним присоединялся Ханжин. После этого члены делегации отправились на вокзал подписывать условия капитуляции.
Кое-кто начал уезжать из города. Министры пошли искать убежища в иностранных миссиях. Генералы Артемьев и Сычёв дали общий приказ оставить позиции, сели в автомобили и первыми уехали из города по направлению к озеру Байкал. В городе началась паника. Быстрее всех собрался и вышел семёновский батальон. Юнкера же сильно задержались из-за того, что их воспитатели долго собирали свои семьи и скарб. Ночью, в дороге, их настигли и окружили повстанцы, так что только человек 70 сумели прорваться – остальные были разоружены и возвращены в Иркутск.[1383]
Сычёв, однако, позаботился о том, чтобы из города были своевременно выведены политические арестанты. Их доставили к озеру, погрузили на пароход и передали семёновскому конвою. Во время плавания семёновцы убили и выбросили за борт 31 человека.[1384] Впоследствии этот факт использовался лично против Колчака.
Вечером 4 января в поезде генерала Жанена ещё продолжались переговоры. Все главные вопросы были уже решены, спор шёл о юридических формулировках. Политцентр хотел, чтобы власть перешла к нему не «захватным» путём, а была передана с соблюдением всех норм. Червен-Водали недоумевал: как может Всероссийское правительство передать свои полномочия Политцентру, власти местной?
В половине двенадцатого затянувшаяся полемика была прервана сообщениями о том, что правительственные войска оставили город и Калашников ввёл туда свои войска. Сразу отпали все вопросы, и стороны разошлись, не подписав протокола. Выходя из вагона, те и другие, как говорят, дружески беседовали, шутили и смеялись.[1385]
Червен-Водали был арестован, едва он успел покинуть поезд Жанена. На следующий день в гостинице «Модерн» было задержано ещё более 120 человек.[1386] В этот день, 5 января, на улицах Иркутска был расклеен «Манифест» Политцентра. «Волею восставшего народа и Армии, – говорилось в нём, – власть диктатора Колчака и его правительства, ведших войну с народом, низвергнута».[1387]
* * *
Ещё не совсем решилось дело в Иркутске, когда в Нижнеудинске были получены новые инструкции штаба союзных войск. В них говорилось, что Адмирал, если желает, может быть вывезен под охраной чехословацких войск в одном вагоне, пропуск же всего поезда невозможен; относительно «золотого эшелона» будут даны дополнительные указания.
Конвой Адмирала насчитывал более 500 человек (около 500 солдат, остальные – офицеры и чиновники). Поместить всех в один вагон не было возможности. По распоряжению Колчака генерал Занкевич дал телеграмму высокому комиссару Японии Като: «Адмирал настаивает на вывозе всего поезда…, так как он не может бросить на растерзание толпы своих подчинённых. В случае невозможности выполнить просьбу Адмирал отказывается от вывоза его вагона и разделит участь со своими подчинёнными, как бы ужасна она ни была».
Като ответил не сразу.
Тем временем в окружении Колчака обсуждались разные варианты. Был выдвинут план – идти в Монголию.
К границе Монголии от Нижнеудинска шёл старый, почти заброшенный тракт длиной в 250 вёрст. Перевалы в Восточных Саянах, высотой до 2,5 тысячи метров, зимой были почти непроходимы. Перейдя границу, следовало идти в Ургу (ныне Улан-Батор) – тоже по гористой местности. Ближе Урги никаких городов и селений не было. Могли встретиться только монгольские кочевья.
Конечно, отступающего в Монголию Адмирала должны были преследовать – по крайней мере до перевалов. Но отряду численностью около 600 человек можно было не бояться. Чехи не только не собирались чинить препятствия, но и поделились своими сведениями о силах партизан в районе тракта.
Колчак страшно загорелся этим планом, который напоминал ему предприятия его далёкой молодости. Он надеялся на верность сопровождавших его солдат и офицеров. Эта вера была столь велика, что он собрал конвой и в короткой, но выразительной речи сказал, что не едет в Иркутск, а остаётся пока здесь – пусть же останутся с ним все, кто хочет разделить с ним судьбу и верит в него. Остальным он предоставляет полную свободу.
Из 500 человек осталось не более десятка. Занкевич вспоминал, что Колчак сразу побелел за одну ночь. Генерал Филатьев писал потом, что не надо было вводить солдат во искушение: конвой был на службе, получили бы приказ – пошли бы без разговоров.[1388] Трудно сказать: не такое было время. Случались ведь и дезертирства, и отказы выполнять приказания, и выдачи командиров противнику.
Решено было идти с одними офицерами, хотя теперь преследование стало гораздо опаснее. Накануне выхода, поздно вечером, в вагоне Колчака собрались старшие офицеры, чтобы получить последние распоряжения. Когда это было сделано и все должны были расходиться, какой-то морской офицер вдруг обратился к Адмиралу:
– Ваше высокопревосходительство, разрешите доложить.
– Пожалуйста.
– Ваше высокопревосходительство, ведь союзники соглашаются вас вывезти?
– Да.
– Так почему бы Вам, Ваше высокопревосходительство, не уехать в вагоне; а нам без Вас гораздо легче будет уйти, за нами одними никто гнаться не станет, да и для Вас так будет легче и удобнее.
Для Колчака этот совет был как кинжал в сердце.
– Значит, вы меня бросаете? – вспыхнул он.
– Никак нет, – поспешил поправиться офицер. – Если прикажете, мы пойдём с Вами.
Самое обидное для Колчака было то, что он услышал это именно от морского офицера. Их-то он привык считать почти своей плотью и кровью. Когда офицеры разошлись, он с горечью проговорил:
– Все меня бросили.
Потом, как вспоминал Занкевич, помолчал и прибавил:
– Делать нечего, надо ехать. Ещё помолчал и ещё добавил:
– Продадут меня эти союзнички.
Занкевич посоветовал ему переодеться в солдатскую одежду и вместе со своим адъютантом скрыться в одном из проходящих чешских эшелонов. Адмирал тяжело задумался—и тоже отказался.[1389] Наверно, не без оснований. У Адмирала была очень характерная, узнаваемая внешность. А кроме того, чехам гораздо проще было выдать его переодетым в солдатскую шинель – достаточно было кивнуть в его сторону какому-нибудь патрулю, зашедшему в вагон для проверки на одной из станций.
Генерал Филатьев недоумевал, почему никому не пришло в голову сесть в сани и двинуться навстречу армии Каппеля.[1390] Такое решение могло быть принято, когда конвой ещё не разбежался. Но с армией не было связи, никто не знал, где она находится. Когда же осталось 60 человек, об этом нельзя было и думать – отряд перехватили бы партизаны. Может быть, лучше было бы оставаться на месте и ожидать подхода Каппеля. Но тоже никто не знал, как долго чехи будут охранять маленький отряд на станции в Нижнеудинске.
После долгих колебаний Адмирал согласился на предложение ехать в одном вагоне. Тут же пришла ответная телеграмма от Като, который сообщал, что высокие комиссары сделали всё, что могли, и большего сделать не могут – пропуск целого эшелона невозможен по причинам «всё более осложняющейся обстановки, громадности расстояний и общего возбуждения в Иркутске, вызываемого действиями войск Семёнова» (имелось в виду утопление арестованных в водах Байкала). В заключение Като сообщал, что высокие комиссары отбывают из Иркутска.[1391]
Незадолго до отъезда высокие комиссары дали письменную инструкцию Жанену обеспечить, если окажется возможным, безопасное следование Колчака в то место, которое он изберёт. Адмирал Смирнов видел и читал эту инструкцию. Англичане ему говорили, что слова «если окажется возможным» были включены по настоянию Жанена.[1392]
Верховному правителю был предоставлен пассажирский вагон второго класса, в коем он занял одно купе. В остальные с трудом поместились все, кто ещё с ним оставался, – 60 человек. Вагон украсили флагами Великобритании, США, Франции, Японии и Чехословакии и прицепили в хвост чехословацкого эшелона. Если исходить из слов Занкевича о том, что путь до Иркутска занял шесть или семь дней, то из Нижнеудинска выехали не позднее 9 января. Следом за адмиральским вагоном шёл «золотой эшелон», формально находившийся под охраной чехословацких и русских солдат. Но по дороге чехи разоружили и заперли под арест русскую охрану.[1393]
На всех больших станциях собирались протестующие и вооружённые толпы народа, требовавшие выдачи адмирала. В Черемхове начальнику эшелона пришлось взять в поезд восемь вооруженных рабочих, которые должны были проконтролировать обещанную чехами выдачу адмирала революционным властям в Иркутске.[1394]
Начальник эшелона, давая такое обещание, видимо, ещё не знал, исполнит ли он его. Но вопрос был уже решён – 14 января в разговоре по прямому проводу между Жаненом и Сыровым. Как вспоминал Й. Скацел, адъютант Сырового, собеседники согласились, что придётся отказаться от мысли вывезти Колчака на восток. Сыровой говорил, что чехословацкая армия заинтересована в том, чтобы как можно скорее избавиться от него и связанных с ним неприятностей (угрозы партизан разобрать пути, железнодорожников – забастовать, шахтёров – прекратить подачу угля). Жанен тоже сказал, что «дальнейшая его охрана чехословацкими частями невозможна». Кто-то из собеседников предлагал передать Адмирала черемховским рабочим. Но потом согласились, что это «негуманно». Договорились, что лучше всего выдать «новому правительству в Иркутске». О возможности передачи под охрану японцев почему-то даже не упомянули.[1395]
Существует мнение, что Жанен согласился на выдачу Колчака, потому что чехи плохо ему подчинялись и сделали бы это и без его согласия. Так считал генерал М. А. Иностранцев.[1396] Это же имел в виду и А. Нокс, писавший впоследствии, что «французский генерал оказался неспособен надлежащим образом дисциплинировать контингента союзных войск, находящихся под его командованием».[1397] Не надо, однако, забывать, что у союзников было одно очень действенное средство, чтобы привести легионеров к послушанию. Именно от союзников зависела подача морских транспортов для возвращения их на родину. Но оно, это средство, ни разу не применялось. Своеволие и рвачество легионеров как бы даже поощрялись.
О причинах выдачи Колчака по-своему правильно и хорошо высказался руководитель иркутских коммунистов А. А. Ширямов: «Без власти Колчак никакой ценности ни для союзников, ни для чехов не представлял; по своим же личным качествам, прямой и резкий, пытавшийся отстаивать „суверенитет Российского правительства“ от притязаний союзников, он давно уже находился в остром конфликте с союзниками, а тем более с чехами».[1398] Нетрудно уловить промелькнувшее в этих словах невольное уважение к Адмиралу.
Утром 15 января поезд прибыл на станцию Иннокентьевская, близ Иркутска. Далее его не пускали, ссылаясь на занятость главной станции. Стало известно, что Жанен уже выехал из Иркутска на восток. Занкевич пытался узнать у чехов, куда пойдёт дальше вагон с Адмиралом – во Владивосток или Харбин. Чехи ответили, что не знают, пойдёт ли он вообще дальше Иркутска. Тогда Занкевич спросил, имеются ли у них данные о возможности выдачи Адмирала. Чехи, как показалось генералу, «с большой искренностью» ответили, что таких данных у них нет.
Занкевич вернулся в вагон и изложил всё это Адмиралу, который спокойно его выслушал. Анна Васильевна, находившаяся с ним, по словам Занкевича, заметно нервничала.
Занкевич опять направился в головной вагон к командиру эшелона, чтобы узнать, нет ли новостей. Новостей не было, но поезд тронулся. Около половины пятого он прибыл в Иркутск. Начальник эшелона побежал к Сыровому. Вскоре он вернулся и «с видимым волнением» сообщил Занкевичу, что Адмирал будет передан революционному правительству. Выдача состоится в семь часов вечера. Занкевич попросил его тотчас же сообщить об этом Адмиралу. Начальник сказал, что он уже послал туда адъютанта. Между пятью и семью часами вечера, сообщал Занкевич, многие офицеры, пользуясь темнотой, покинули вагон Адмирала и скрылись. Сам Занкевич, судя по его записке, туда больше не возвращался.[1399]
Приём и арест верховного правителя должны были произвести член Политцентра М. С. Фельдман, помощник командующего «Народно-революционной армией» штабс-капитан А. Г. Нестеров и уполномоченный Политцентра В. Н. Мерхалёв. В конвой были выделены солдаты из унтер-офицерской школы, во время иркутских боёв изменившие правительству.
Около восьми часов вечера Фельдман, Нестеров и Мерхалёв, в сопровождении чешского офицера, вошли в вагон. Колчак сидел в купе в окружении нескольких офицеров и штатских лиц. Чешский офицер объявил:
– Господин адмирал, приготовьте ваши вещи. Сейчас мы вас передаём местным властям!
Колчак, видимо, ещё ничего не знал. Он мгновенно вскочил и, как рассказывал Нестеров, буквально закричал на чеха:
– Как! Неужели союзники выдают меня?! Это предатель ство! Где же гарантии Жанена?!
Чех ничего не ответил. Анна Васильевна взяла Александра Васильевича за руку, усадила рядом с собой и некоторое время держала его руку в своей. Все молчали. Колчак быстро успокоился и стал одеваться, бледный и молчаливый.
Колчак и Пепеляев вышли из вагона. Их проводили в здание вокзала, где был составлен акт передачи, помеченный 9 часами 55 минутами вечера.[1400]
Полковник Фукуда, командующий японским контингентом в Иркутске, на следующий день телеграфировал, что, узнав о прибытии верховного правителя на станцию, он обратился к Сыровому с просьбой передать его под охрану японского батальона. От Сырового пришёл ответ, что Адмирал уже выдан повстанцам. Эту телеграмму японцы показывали в Чите генералу К. К. Акинтиевскому.[1401] Интересно было бы знать, в котором часу Сыровой получил обращение Фукуды.
В окружении конвоя Колчак и Пепеляев вышли из здания вокзала и направились к берегу Ангары. Колчак, всё время молчавший, спросил:
– Давно ли встала Ангара?
– Недавно. Ангара только что встала, – отвечал Нестеров.
Колчак, видимо, думал о том, какую роль в судьбе правительства и его личной судьбе сыграл этот неожиданный ледоход на Ангаре.
На реке громоздились торосы, кое-где чернели полыньи, извивалась узкая тропинка на другой берег. Ночь была тёмная – ни луны, ни звёзд. Идти можно было только друг за другом. Впереди Колчак, за ним штабс-капитан с наганом, за ним пыхтел Пепеляев, дальше Анна Васильевна – её никто не арестовывал, но она уцепилась за Адмирала и настояла, чтобы забрали и её. За ней шла цепочка солдат. 23-летнего штабс-капитана занимала одна мысль: «Вдруг бросится – в темноту, в туман? Вправо или влево? Скорее вправо, к станции, к японскому эшелону…» Но Колчак торопливо шёл вперёд. Почему он торопился, Нестеров так и не понял.
Колчак же, надо думать, был занят другими мыслями. О повадках конвоиров он наслышался достаточно – в Омске не одного ухлопали «при попытке к бегству». Если же и эти получили такое задание, то пристрелят не только его и Пепеляева, но и Анну Васильевну – как нежелательного свидетеля. Скажут, что случайно. Потому и торопился пройти безлюдное место, хотя, конечно, знал, что от судьбы не убежишь.
Но вот и берег. Здесь уже поджидала машина, которая и доставила их в тюрьму. Там уже были готовы к приёму. Арестованных препроводили в одиночный корпус. Колчака – на первый этаж, Пепеляева – на второй. Анну Васильевну не ждали. Поэтому её подселили к М. А. Гришиной-Алмазовой, вдове бывшего военного министра – тоже на первом этаже.[1402]
* * *
14—15 ноября, когда белые оставляли Омск, дороги, ведущие от него на восток, представляли поистине эпическое зрелище. Это был великий исход – в никуда. Ибо мало кто дошёл до конца пути, а кто дошёл – те рассеялись, распылились по белому свету.
Вслед за отступающей армией шли её штабы, управления, обозы с военным имуществом, с офицерскими жёнами и детьми. Далее двигались подводы с беженцами, уходившими с армией от большевиков. От горизонта до горизонта по дорогам колыхалось море обозов. Они тянулись в три-четыре ряда бесконечной сплошной лентой – все в одну сторону. По приблизительным оценкам, из Омска вышло, не считая уехавших по железной дороге, около 350 тысяч человек.[1403] Из них на армию приходилось, наверно, не более 40 тысяч. Так начинался Великий сибирский ледяной поход.
Крестьяне придорожных селений с ужасом встречали эту орду, которая опустошала их продовольственные запасы, не оставляя после себя почти ничего, вплоть до соломенных крыш, которые шли на корм для лошадей. Арьергардные части армии, прикрывавшие отход, с трудом находили для себя продовольствие и фураж.
На ночлег в избы набивались сотнями, спали друг на друге, стоя и сидя. Из-за страшной скученности тотчас же начал распространяться тиф – среди солдат, беженцев и местного населения.
Кому не хватало места в избах, ночевали у костров. Обмороженных и больных, пока ещё была возможность, сдавали в санитарные поезда (именно их потом находили в мёртвых эшелонах). Вдоль дороги стали попадаться замёрзшие – поодиночке или группами. Намаявшись за день, уснут сладко, пригревшись у костра, ночью он догорит, и при 30—40-градусном морозе замёрзнут все до одного.
Ещё в большей мере, чем люди, страдали и гибли лошади – от бескормицы, холода и непосильной работы. Обессилевших лошадей бросали. Такие лошади – их почему-то прозвали «журавлями» – стояли по обочинам дорог по брюхо в пушистом снегу и печально, с немым укором смотрели вслед проезжающим.
В Барабинской степи, восточнее озера Чаны, отступающим впервые пришлось столкнуться с партизанами.[1404]
2-я армия шла севернее железной дороги, 3-я – южнее. Первоначально предполагалось, что, выйдя на Обь, они развернутся вдоль реки и задержат здесь противника. Но красные вырвались вперёд. При их приближении гарнизон города Колывани (вёрст 35 к северу от Новониколаевска) самовольно покинул город, и красные перешли через замёрзшую Обь. Затем они захватили станцию Ояш на Транссибирской магистрали и вышли в тыл отступающим белым армиям. 14 декабря красные заняли Новониколаевск.
Ускоренным маршем, по 120 вёрст в сутки, белым удалось выйти из окружения. Все, кто не смог выдержать таких переходов, попали к красным – в основном, конечно, гражданские беженцы.
Близ станции Болотной Московский тракт (знаменитая Владимирка) сворачивал на Томск, и дальше 2-я армия должна была идти по узким просёлочным и переселенческим дорогам. Вскоре закончилась степь, началась Мариинская тайга. По узкой дороге можно было ехать только в один ряд. В таёжных посёлках, по пять – десять дворов, нельзя было запастись ни продовольствием, ни фуражом. Люди неделями не ели ничего, кроме кислой капусты и гнилой картошки. Лошади после выхода из Омска почти не видели овса и питались в основном соломой с крыш. И те и другие обессилели. Начали бросать пушки и побросали почти все. Только «двужильные» ижевцы и воткинцы дотащили несколько пушек до самого конца.[1405]
3-я армия в половине декабря подошла к Щегловску и выбила оттуда банды Рогова. Но затем армию ожидало суровое испытание – Щегловская тайга, дикая, гористая и почти безлюдная. Надо было пройти 120 вёрст по узкой, занесённой снегом просеке, поперёк которой там и здесь лежали громадные деревья. Кто, когда и зачем проделал эту «египетскую» работу, заваливая просеку, осталось загадкой.
В первый день прошли всего шесть вёрст, вымотав все силы. Между тем было известно, что подтягивается целая партизанская армия, грозя отрезать арьергардную Ижевскую дивизию, всё ещё не вошедшую в просеку. Тогда было приказано сбросить в сторону все орудия и повозки, пересесть на лошадей, а у кого их нет – идти пешком. Волжской кавалерийской дивизии было дано задание прочистить дорогу, сбрасывая в сторону повозки, исключая те, которые с больными и детьми, сжигая военное имущество. За день было уничтожено более шести тысяч повозок, а продвинулись всего на 18 вёрст. Третий день был самым драматическим. Многие возницы, забывая законы божеские и человеческие, самовольно рубили постромки и садились верхом, оставляя на произвол судьбы больных, женщин, детей. На четвёртые сутки армия наконец стала выходить из этого ада.[1406]
Каппель предполагал развернуть армии по реке Золотой Катат и здесь остановить наступление Красной армии. Но этим планам не суждено было сбыться по тем причинам, что взбунтовался, как мы знаем, красноярский гарнизон, а 2-я и 3-я армии были подорваны переходом через тайгу и потеряли почти всю артиллерию.[1407]
Пришлось продолжить отступление, теперь уже ясно понимая, что раньше, чем за Байкалом, остановиться не придётся.
29 декабря на станции Ачинск взорвался вагон с динамитом и вспыхнула цистерна с бензином. Диверсию устроил какой-то партизанский отряд. Сгорело три пассажирских вагона, где ехал конвой Каппеля. Главнокомандующий со своим штабом каким-то чудом уцелел. После этого Каппель и его штаб сошли с поезда и присоединились к армии.[1408]
У Красноярска Белая армия оказалась в ловушке. Впереди – мятежный генерал Зиневич с многочисленным гарнизоном и сильной артиллерией. С юга, из Минусинского уезда, подошла партизанская армия Кравченко и Щетинкина. С запада наступали регулярные части Красной армии, с севера подходили партизаны с Тасеевского фронта.
Каппель приказал: «Перейти за Енисей, открыв себе дорогу, если потребуется, силой». Удар, таким образом, направлялся на Красноярск.
5 января 1920 года цепи белых, потеснив мятежников, уже входили в город. Но тут на фланге показался бронепоезд под бело-красным польским флагом, прикрывавший отход чехословацких эшелонов. Белая полоса на флаге слилась с заснеженным фоном, солдаты подумали, что подходит красный бронепоезд, и заспешили назад. Вернуть их не удалось. Боеспособность армии была невысока.
Вечером следующего дня части 2-й и 3-й армий, обошедшие Красноярск с севера или же прошедшие ночью через город, собрались в деревне Минине Здесь, как вспоминал очевидец, всё перемешалось и была полная неразбериха. Большевистские агенты, почти не таясь, вели переговоры о сдаче. И несколько частей ушли в Красноярск сдаваться. Другие не пошли сдаваться, но и не выступили на следующий день в путь. Третьи, согласно приказу, пошли к Енисею.
Остатки 2-й армии были прижаты к Красноярску подошедшими регулярными частями красных. Многие пошли сдаваться в город, другие нашли брешь в окружении и вскоре тоже подошли к берегу Енисея. Как писал один из участников похода, о «красноярскую стенку» разбилась Омская армия, и к Енисею вышла уже новая армия – «каппелевская», от которой отделились все слабые и неустойчивые элементы.[1409]
После таких потерь Каппель решил, что его армии лучше некоторое время не встречаться с противником. Было решено вёрст на 70 спуститься вниз по Енисею до устья реки Кан и по его руслу выйти в район города Канска. Путь по руслу реки, от деревни Подпорожной до деревни Усть-Борга, 95 вёрст, проходил по совершенно дикой местности, где не было ни одного посёлка, ни одного домика.
8 января на рассвете авангардные части вышли из Подпорожной. День выдался таким, каким известна сибирская зима, – солнце, мороз до 40 градусов и полное безветрие. Ехали на лошадях – верхом или в санях. По пути умерло несколько тифозных. Их складывали на лёд и ехали дальше. «Сколько их было, никто не знает, да этим и не интересовались, к смертям привыкли», – вспоминал генерал Филатьев, участник похода.
Хуже было, когда падали лошади. Достать замену было неоткуда. Все, кто остался без лошади, выбились из сил, замёрзли и не вышли с Кана.
Главное испытание ждало в конце пути. Там, где Кан стесняют отвесные берега, так что пройти по ним никак нельзя, – поверх льда разлилось целое море талой воды. Все подумали, что где-то бьют горячие ключи. Но в Сибири часто бывает так, что в сильный мороз река промерзает в каком-то месте до дна и течение останавливается. Тогда оно взламывает лёд и вода растекается по его поверхности, пока вновь не замёрзнет.
Лошади не вытягивали сани по воде и размокшему льду. Приходилось вылезать из саней и идти рядом. Валенки покрывались толстой ледяной коркой и становились неимоверно тяжёлыми.
Каппель, ехавший во главе колонны, соскочил с лошади, чтобы помочь поставить перевернувшиеся сани, и промочил валенки. Началось рожистое воспаление ноги, имевшее роковые последствия.
Арьергардные части вышли к Усть-Борге ночью с 10 на 11 января. Переход по Кану был сделан без ночёвки и занял около суток чистого времени. Запомнился же он его участникам на всю жизнь.[1410]
Канск, как и Красноярск, был занят взбунтовавшимся гарнизоном. Не заходя в город, остановились в деревне с характерным названием Голопупова. Кругом все деревни были заняты партизанами, подошедшими с Тасеевского фронта. Сдаваться им никто не хотел. Желающие сдаться ушли в Канск. Армия, пройдя ещё через одно «чистилище», выбила партизан из ближайшего села, а из следующего они ушли сами. Дальше она пошла гораздо увереннее.[1411]
В двадцатых числах января армия подходила к Нижнеудинску, надеясь встретиться там с верховным правителем. Верстах в 20 от города, в большом селе Ук, повстанцы попытались задержать «каппелевцев», но были жестоко побиты. Так что Нижнеудинск они отдали без боя. Но верховного правителя там уже не было. «Вся станция была забита чешскими и румынскими солдатами, оживлённо торгующими нашим же интендантским бельём и табаком», – вспоминал очевидец. Даже казённый овёс приходилось покупать у чехов по спекулятивным ценам.
В Нижнеудинске задержались на несколько дней. 25 января Каппель подписал приказ о назначении на своё место генерала Сергея Николаевича Войцеховского. На следующий день Каппель умер от гангрены и воспаления лёгких. Тело его положили в сани и повезли с собой, так что поход он окончил уже мёртвым.[1412]
В Иркутске армию Колчака – Каппеля считали уже несуществующей, забыли о ней, и поэтому появление её оказалось полной неожиданностью и для новых иркутских властей, и для союзного командования. В Новоудинске Войцеховский получил от генерала Жанена телеграмму с предложением «разоружиться и рассеяться». А из Иркутска был послан навстречу «каппелевцам» отряд в тысячу человек под командованием штабс-капитана Нестерова – того самого, который производил арест Колчака.
Встреча состоялась на станции Зима. Незадачливый штабс-капитан впоследствии объяснял свой провал тем, что «подвели» якобы чехи, вдруг ударившие во фланг и тыл. Чехи в это время действительно озлились на партизан, которые напали на их эшелон около станции Тулун и сильно его потрепали. Но участники Ледяного похода утверждали, что во фланг и тыл ударили не чехи, а 3-я армия. Повстанцы же, пытавшиеся спастись у чехов, были ими разоружены и доставлены в Иркутск. В числе немногих спасшихся был и Нестеров.[1413] По-видимому, «белая» версия выглядит всё же предпочтительнее, потому что силы были очень неравны: одна тысяча у Нестерова и около двадцати тысяч у «каппелевцев».
В Черемхове не было оказано никакого сопротивления. Армия быстрым маршем шла к Иркутску. От Жанена была получена новая телеграмма. «На каких условиях, – спрашивалось в ней, – генерал Войцеховский согласен не брать Иркутск и обойти город». В дальнейшем переговоры шли при посредничестве чехов. Новый главнокомандующий первым условием поставил освобождение верховного правителя, а кроме того – вывод из города мятежных войск, выдачу провизии и выделение армии части золотого запаса. На этих условиях он соглашался занять город на два-три дня и затем проследовать за Байкал.[1414]
7 февраля передовые части армии Войцеховского с налё та взяли посад Иннокентьевское в семи верстах от Иркут ска. Повстанцы, занимавшие посад, без боя бежали в город.
«Волжане» и «ижевцы» долго оставались в сёдлах, ожидая приказа идти дальше – на Иркутск.[1415]
Последние дни верховного правителя
Камера невелика: восемь шагов в длину, четыре – в ширину. У стены – железная кровать, напротив – ввинченные в пол столик и табурет. На стене – полка для посуды. В углу – таз и кувшин для умывания, выносное ведро. В двери – окошко для передачи пищи, над ним – кругленький волчок.
В первые дни Колчак, как вспоминала Гришина-Алмазова, сильно волновался, почти не ел, плохо спал, ходил из угла в угол. Его сотрясал простудный кашель.[1416] Но постепенно он успокаивался. В конце концов, катастрофа, его постигшая, – не только его личная. Это катастрофа многих людей. Это что-то почти геологическое. Ещё Толль своим острым глазом геолога мог заметить на обнаженном утёсе пласты, идущие вертикально, – следы былых катастроф, когда накопившая ся где-то в недрах энергия вздымала вверх одни из них и об рушивала другие. Не в силах одного человека сдержать такой взрыв, когда энергии своевременно не был дан выход.
Теперь настало короткое время подводить итоги и думать о недолгой своей жизни, о детстве, юности, о былом. Вспомнил ли он о своём товарище по выпуску Александре Рыкове, который в это время тоже доживал последние свои дни? Потеряв ногу в сражении в Жёлтом море, он перешёл на сухопутную службу, дослужился до генерал-майора, а в начале 1920 года был расстрелян в Архангельске. Другой однокашник, капитан 1-го ранга Александр Зарудный ещё раньше пустил себе пулю в висок. А вот красавчик Александр Пышнов, неважно учившийся, устроился на службу к большевикам.[1417] Так что разделение на красных и белых прошло и по их выпуску.
Первое время в тюрьме сохранялись установившиеся ранее либеральные порядки. Уголовные, приносившие пищу и убиравшие камеры, охотно передавали письма. В свою очередь и политические оказывали им разные услуги. Однажды надзиратели застали в камере у Колчака уголовного, который брился его бритвой. Он оправдывался:
– Так ведь она безопасная. Это – наша с Александром Васильевичем.
Раз в неделю заключённые получали передачи с воли.[1418] Неизвестно только, приносил ли их кто-нибудь Колчаку. Разрешались ежедневные прогулки. Думал ли он, что когда-нибудь будет гулять с Анной Васильевной в тюремном дворике? О настоящем и будущем говорить не хотелось. Вспоминали прошлое или молчали.
– А что? – как-то сказал он, вдруг повеселев. – Непло хо мы с вами жили в Японии. – И, помолчав, добавил: – Есть о чём вспомнить.
В другой раз он произнёс с нотками отчаяния и прозрения:
– Я думаю – за что я плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за вас – я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Ничто не да ется даром.[1419]
Ещё до ареста Колчака, 7 января 1920 года, Политцентр, в подражание Временному правительству, создал Чрезвычайную следственную комиссию.[1420] 21 января, в здании тюрьмы, она начала допрашивать Колчака.
Председателем комиссии был назначен бывший руководитель Омского совета К. А. Попов, которого поручик Барташевский в своё время побоялся вытащить из тифозного барака. Попов долгое время колебался между большевиками и меньшевиками, и только приход большевиков к власти положил конец этим колебаниям. Заместитель Попова, меньшевик В. П. Денике, выделялся своим холёным, барственно-профессорским видом. Но, в отличие от двух своих братьев, известных учёных, профессором он не был. В Иркутском университете, основанном Сибирским правительством, он дошёл только до должности приват-доцента. Работа в следственной комиссии ему, видимо, понравилась, и в дальнейшем он продолжал работу в советской карательной системе, пока власти закрывали глаза на его меньшевистское прошлое. В 1939 году его репрессировали.[1421]
В комиссию вошли также меньшевик А. Н. Алексеевский и эсер Г. И. Лукьянчиков. Первый из них был знаком Колчаку по Экономическому совещанию. На допросах он был активнее всех, задавал вопросы, стараясь поставить верховного правителя в неудобное положение. Но потом, когда Политцентр сошёл со сцены, он благоразумно убыл в эмиграцию. По части вопросов проявлял старания и Денике. Лукьянчиков за всё время не задал ни одного вопроса, и было видно, что он сочувствует Колчаку.
Адмирал держался на допросах спокойно, не торопясь, обстоятельно рассказывал о своей жизни, охотно отвечал на вопросы, не теряя нить повествования. Потом прочитывал и правил протоколы. Старался не упоминать лишний раз имён, чтобы не давать пищу для следователей, не пытался сваливать ответственность на других. Поскольку же начал он свой рассказ с ранних лет, а факты его биографии переплетались с главными моментами недавней истории, то перед следователями раскрывалась широкая панорама русской жизни за последние 30–40 лет. Этот допрос, а также письма к Тимирёвой – в настоящее время самые читаемые произведения Колчака.
На второе своё заседание комиссия собралась 23 января, а в промежутке между заседаниями в Иркутске произошли важные события.
Политцентр надеялся сделать Иркутск центром «буферного государства» между Забайкальем, занятым японцами и их ставленником Семёновым, и Советской Россией. В Москву на переговоры была отправлена делегация во главе с эсером Е. Е. Колосовым. По дороге он был арестован, а после освобождения его трудоустроили конторщиком в Сибздрав.[1422]
А в Иркутске в то время большевики прибирали власть к своим рукам. Ещё в ходе восстания они создали Центральный штаб рабоче-крестьянских дружин. Контролируемые большевиками вооружённые формирования пополнялись за счёт подходивших к Иркутску партизанских отрядов. Подошла и остановилась у самого города «армия» Каландаришвили. Большевики постепенно перетягивали на свою сторону и те воинские части, которые Политцентр использовал для свержения правительства. Вскоре большевик И. Н. Бурсак (Блатлиндер) явочным порядком занял пост коменданта города, отстранив от этой должности эсера. Другой большевик оказался на месте начальника штаба войск.[1423]
20 января комитет партии большевиков назначил Военно-революционный комитет из пяти лиц (четверо большевиков и один левый эсер) во главе А. А. Ширямовым. 21 января Политцентру было предложено передать власть ВРК, что он и сделал. После этого большевики быстро провели выборы в Совет рабочих и солдатских депутатов, который подтвердил полномочия ревкома во главе с Ширямовым, сократив его состав до трёх человек (два большевика и один левый эсер).[1424]
Оказавшись у власти, большевики отстранили от командования штабс-капитана Калашникова, поднявшего восстание и отбившего атаку семёновцев.[1425] Теперь он, наверно, понял, для кого таскал из огня каштаны.
Председателем следственной комиссии стал С. Г. Чудновский. Маленький и какой-то особенно злобный, он на допросах даже по мелочам старался чем-нибудь ущемить и принизить Колчака. Заметил, например, что Колчак с большим удовольствием пьёт чай, который приносили во время допросов, и распорядился давать его только членам комиссии. Тогда Лукьянчиков передал Адмиралу свой стакан.[1426]
Комендант города Бурсак («ужасный Бурсак», как называла его Гришина-Алмазова) тоже наведывался в тюрьму. Однажды зашёл в камеру Колчака, спросил есть ли жалобы, доволен ли он питанием. Колчак отвечал, что жалоб нет, а пища несъедобна.
– Мы на воле сейчас не лучше питаемся, – ответил Бурсак.[1427]
Тюремный режим заметно ужесточился, у камер Колчака и Пепеляева поставили часовых.
Как уже говорилось, неожиданное появление «каппелевцев» не на шутку встревожило иркутских большевиков. Они знали, что против них идут, по словам Ширямова, «наиболее стойкие и упорные в борьбе с Советской властью части, выдержавшие двухлетнюю кампанию».[1428]
Большевистские мемуаристы единодушно отмечали, что обстановка в городе была тревожной. Распространялись листовки, прославлявшие Колчака и призывавшие к его освобождению. Бурсак даже писал, будто «осевшие в Иркутске белогвардейцы предприняли попытку, правда, неудачную, освободить Колчака».[1429] Поскольку в других источниках это не подтверждается, то, наверно, можно считать, что ничего такого не было. И вообще красные мемуаристы явно сгущали краски, чтобы оправдать последующие свои действия.
Но некоторые изменения в настроениях населения, видимо, всё же произошли. Месяц прожив сначала под безалаберной властью эсеров, а потом под жёстким гнётом большевиков, люди обнаружили, что с продовольствием и топливом стало ещё хуже, причём новые власти, занятые своими делами, об этом нисколько не думали. К тому же жителям Иркутска довелось познакомиться с воинами Каландаришвили и с другими партизанами, которые часто наведывались в город. Знакомство оказалось не из приятных. И люди теперь с сожалением вздыхали о том, кого они недавно ругали на всех перекрёстках и кто сидел в тюрьме у них в городе. С ним и с подходящей к городу армией теперь связывал надежды простой обыватель.
Уловив эти настроения, власти приняли жёсткие меры. Были произведены аресты. «Интернировали», то есть посадили в тюрьму юнкеров. В город ввели партизан Каландаришвили. Чудновскому поручили иметь наготове отряд, который, в случае опасности, вывез бы Колчака из города в более надёжное место.
Чудновский выступил с встречным предложением: немедленно расстрелять «руководящую головку» контрреволюции, человек 18–20, по составленному им списку.[1430] Каким-то образом это стало известно заключённым, и, по словам Гришиной-Алмазовой, «вся тюрьма трепетала от сознания надвигающейся развязки».[1431]
С 4 февраля все прогулки были запрещены. Александр Васильевич и Анна Васильевна пытались передавать друг другу записки. Последняя его записка была перехвачена, и потом её текст был прочитан ей много лет спустя журналистом Л. Шинкарёвым:
«Дорогая голубка моя, я получил твою записку, спасибо за твою ласку и заботы обо мне. Как отнестись к ультиматуму Войцеховского, не знаю, скорее думаю, что из этого ничего не выйдет или же будет ускорение неизбежного конца. Не понимаю, что значит „в субботу наши прогулки окончательно невозможны“? Не беспокойся обо мне. Я чувствую себя лучше, мои простуды проходят. Думаю, что перевод в другую камеру невозможен. Я только думаю о тебе и твоей участи, единственно, что меня тревожит. О себе не беспокоюсь – ибо всё известно заранее. За каждым моим шагом следят, и мне трудно писать. Пиши мне. Твои записки единственная радость, какую я могу иметь. Я молюсь за тебя и преклоняюсь перед твоим самопожертвованием. Милая, обожаемая моя, не беспокойся за меня и сохрани себя. Гайду я простил. До свидания, целую твои руки».[1432]
Ревком оказался не столь кровожаден, как председатель следственной комиссии. Из представленного списка были выделены две первые фамилии – Колчак и Пепеляев. Сделали запрос в наступавшую 5-ю армию, как отнесётся Сибревком к расстрелу Колчака.[1433]
В зарубежной и отечественной литературе лет уже 20 с лишним циркулирует записка В. И. Ленина заместителю Троцкого по Реввоенсовету Республики Э. М. Склянскому:
«Склянскому: Пошлите Смирнову (Р. в. с. 5) шифровку:
Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступили так и так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске.
Ленин. (Подпись тоже шифром.)
1) берётесь ли делать архинадёжно?
2) где Тухачевский?
3) как дела на Кавказском фронте?
4) в Крыму?»[1434]
Все авторы, приводившие эту записку, считали её неопровержимым доказательством того, что расстрел Колчака был произведён по приказу Ленина. Но в 1999 году Российский государственный архив социально-политической истории (бывший Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма) опубликовал этот документ с датой – 24 февраля 1920 года, то есть через 17 дней после расстрела.
Таким образом, вопрос упирается в дату. По существу же, перед нами отрывочный документ, изъятый из какого-то дела и переданный в Центральный партийный архив. В советское время так поступали со всеми ленинскими автографами. В деле же оставляли фотокопию. Откуда это взято, мы не знаем и не можем по другим документам в том же деле судить о том, когда примерно это написано и в связи с чем.
Остаётся исходить из содержания записки. 5 марта Красная армия вступила в Иркутск. Это согласуется с той датой, которая стоит в публикации. Обращает на себя внимание также то, что Ленин озабочен прежде всего тем, как замять и перевалить на местные власти то, что скорее всего уже сделано. Если бы ещё не было сделано, то впереди, наверно, стоял бы иносказательный приказ поступить «так и так», а затем уже следовало бы распоряжение не распространять вестей.
Вопрос, конечно, надо ещё изучать, но следует добавить, что текст записки хорошо согласуется с опубликованной в «Правде» 6 марта и приведённой в публикации телеграмме Смирнова. В ней говорилось, что Иркутский ревком имел сведения о готовящемся контрреволюционном выступлении «с целью свержения власти и освобождения арестованного чехами и переданного затем революционной власти адмирала Колчака. Не имея возможности снестись с Сибирским революционным комитетом благодаря повреждению телеграфных проводов Иркутска, революционный комитет в своём заседании от 7 февраля, с целью предотвратить столкновение, постановил адмирала Колчака расстрелять. Об этом решении Сибревком, благодаря указанной выше причине, поставлен в известность не был. Приговор был приведён в исполнение в тот же день».[1435]
Но остаётся другой вопрос: почему Ленин был так озабочен тем, чтобы отвести подозрения от Сибревкома? Скорее всего потому, что председатель Сибревкома И. Н. Смирнов не занимался самодеятельностью, а действительно в надлежащее время согласовал вопрос с Москвой. Но таких прямых свидетельств и документов у нас пока нет, а имеется позднейшая записка, которую можно трактовать «так и так».
Смирнов оставался в этом деле чист до 1924 года, когда в журнале «Сибирские огни» были опубликованы воспоминания Ширямова, из коих следовало, что провода порваны не были и что вечером 6 февраля, с некоторой задержкой, от Смирнова был получен ответ в том смысле, что «если парторганизация считает этот расстрел необходимым при создавшейся обстановке, то Ревсовет не будет возражать против него».
Тотчас было составлено постановление Иркутского ВРК, датированное почему-то следующим днём, о расстреле Колчака и Пепеляева. В конце документа говорилось: «Лучше казнь двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв». Постановление подписали А. Ширямов, А. Сноскарёв и М. Левенсон. Оно было передано Чудновскому.[1436]
* * *
О последних часах жизни Александра Васильевича мы, к сожалению, знаем в основном со слов его врагов. Их трое, тех, кто оставил воспоминания: Чудновский, Бурсак и комендант тюрьмы В. И. Ишаев. Все трое присутствовали при расстреле. Все трое в разной степени тенденциозны в своих воспоминаниях. И порой противоречат друг другу. Ишаев, например, утверждал, что за Колчаком и Пепеляевым пришли в час ночи, а в два они были расстреляны. Чудновский же писал, что расстреляли в четыре часа утра, а Бурсак – в пять. Бурсак писал, что ночь была морозная, Чудновский уточнял – 32–35 градусов, а Ишаев коротко сообщал: «Лёгкий февральский мороз». Более существенно, наверно, то, Бурсак и Чудновский писали, что застали Колчака и Пепеляева в камерах одетыми в шубы и шапки. Значит, были готовы к побегу, с минуты на минуту ждали освобождения, делал вывод Чудновский. Ишаев же не упоминал, что Колчак был одет в шубу и папаху, а Пепеляев, по его словам, спал, когда за ним пришли.[1437] Кстати говоря, все трое, как кажется, с той или иной степенью карикатурности изображают поведение Пепеляева в эти часы.
И, наконец, ещё одно расхождение. Бурсак утверждал, что для расстрела он приготовил «специальную команду из коммунистов». Ширямов же писал, что казнь исполнил наряд левоэсеровской дружины в присутствии члена ВРК Левенсона, который, видимо, и командовал этим нарядом. «Начальник дружины» в одном месте всплывает и у Чудновского.[1438] Наверно, расстреливали и в самом деле левые эсеры.
Если верить воспоминаниям Чудновского, расстрельная команда, включая и его самого, отличалась какой-то совершенно неуместной смешливостью. Когда Колчак спросил, почему его хотят расстрелять без суда, Чудновский еле удержался от смеха. Когда же Адмирал попросил о свидании с «княжной Темирёвой», «все расхохотались».[1439] Хочется, однако, думать, что это позднейшая бравада мемуариста (самому-то в 1937 году, наверно, смешно не было), что в действительности обошлось без неприличия.
Наименьшей тенденциозностью отличаются, пожалуй, воспоминания Ишаева. Чувствуется, что это был простой человек, ни на что не претендовавший и по-человечески, возможно, даже сочувствовавший казнимым. Правда, воспоминания писались явно не им самим, а с его слов записывались каким-то журналистом, изложившим их в модернистской форме с рублеными фразами. Но на содержании, надо думать, это не отразилось. Воспоминания Ишаева и взяты за основу для дальнейшего рассказа. При этом по возможности опускается то, о чём уже говорилось.
…Колчак сидел на койке и тяжело встал, когда вошли в его камеру, осветив её светом свечи.
– По поручению Иркутского революционного комитета мы пришли объявить вам постановление, касающееся вас, – начал Чудновский.
– Слушаю, – сказал Колчак с лёгкой хрипотой в голосе.
Чудновский зачитал постановление о расстреле. Была пауза, и Колчак задал риторический вопрос: «Разве суда не будет?»
– Какие есть просьбы и заявления? – спросил Чудновский.
Колчак попросил о свидании с Анной Васильевной. Чудновский отказал и спросил, есть ли ещё просьбы. «Броском головы в сторону Колчак показывает, что больше просьб нет», – написано в воспоминаниях Ишаева.
Медленно и тяжело шагая, Колчак вышел из камеры. В коридоре его окружил конвой. Гришина-Алмазова, подглядывавшая в волчок, увидела Колчака, «страшно бледного, но совершенно спокойного». Она же обратила внимание на бледное, трясущееся лицо коменданта. Анна Васильевна, прорвавшаяся к волчку с опозданием, успела увидеть только серую папаху Адмирала.[1440]
Потом Колчак пытался принять яд, зашитый в уголке носового платка. И опять разночтения в воспоминаниях – во дворике, когда вышли из одиночного корпуса, или в дежурной комнате. Платок отняли, Адмирал не проронил ни слова.
Когда вели Пепеляева, Гришина-Алмазова вновь подсматривала в волчок. Она утверждала, что он прошёл мимо её камеры спокойными и уверенными шагами. В дежурной комнате они повстречались – Колчак и Пепеляев – и тоже молча.
Вышли из тюрьмы и двинулись по набережной Ушаковки. Конвой разбился на два круга. В круге первом – Колчак. В круге втором – Пепеляев, который безостановочно бормотал молитвы. Колчак шёл молча.
О чём он думал? Может, о прожитой жизни? Но в эти дни об этом он, наверно, уже всё передумал и обо всём вспомнил. Вновь услышал шорох движущихся льдин, со своей высоты в Порт-Артуре ощутил ледяное дыхание маньчжурской зимы, побывал на «Императрице Марии», когда свистело над головой пламя и рвались взрывы, и в Поволжье, где в талый снег и грязь были втоптаны его надежды…
Может, думал о семье? Как она там, в Париже, где он никогда не был? Может, об Анне Васильевне? Может. Но скорее всего он думал о «счастье покоя небытия». Он действительно очень устал за свою недолгую жизнь. Устал биться с Судьбой – не за себя, за Россию.
Конвой свернул в переулок и стал подниматься в гору. В морозном воздухе далеко разносились треск выстрелов, уханье пушек и стрекотанье пулемётов. Это наступала армия Войцеховского. Порой казалось, что бой идёт совсем близко.
Наконец поднялись на гору и вышли на поляну, откуда был виден слабо освещенный город. Заснеженная поляна искрилась лунным светом. Чудновский распорядился, чтобы Колчак и Пепеляев стали на небольшой холмик. «Колчак – высокий, худощавый, тип англичанина, его голова немного опущена. Пепеляев же небольшого роста, толстый, голова втянута как-то в плечи…» – вспоминал Чудновский. Странно то, что Колчак показался ему высоким, хотя был среднего роста. Видимо, его моральное превосходство, ощущаемое в глубине сознания, в памяти запечатлелось как превосходство в росте.
– Прощайте, Адмирал, – сказал Пепеляев.
– Прощайте, – коротко ответил Колчак.
Раздалась команда:
– Полурота, пли!
В этот момент где-то, вроде бы недалеко, грохнула пушка. Это было последнее, что мог слышать Колчак. Ибо сразу же, как бы в ответ, раздался залп расстрельной команды. Потом они подошли и для верности дали залп по лежащим.
– Куда девать трупы? – спросили начальник тюрьмы и командир конвоя.
Приговаривали и расстреливали в спешке, могилу вырыть забыли. Чудновский писал, что не успел он ответить, как за него ответил конвой, проявив большую политическую сознательность:
– Палачей сибирского крестьянства надо отправить туда, где тысячами лежат ни в чём не повинные рабочие и кресть яне, замученные карательными отрядами… В Ангару их.
Но вряд ли конвой стал бы выражаться столь длинно и литературно. Расстрельной команде попросту не хотелось рыть яму в мёрзлой земле. Тёплые ещё тела стащили к Ушаковке, нашли прорубь и спустили туда.
На городской каланче пробило два часа. Близилось утро, которое Россия встречала уже без Колчака. И в то же время – вместе с ним, ибо он навсегда остался в её истории.
Эпилог
Февраль 1920 года. Харбин. Маленький православный собор наполнен народом. Свечи, ладан. Торжественные и печальные напевы панихиды.
– Об упокоении души раба Божия, новопреставленного воина Александра…
Среди молящихся много тех, кто еще недавно видел его в Омске, говорил с ним, работал с ним.
«Эпилог. Грустное завершение целого периода истории русской революции, какая-то новая грань, какой-то новый предел…» – писал профессор Н. В. Устрялов.[1441]
Панихидные напевы в те дни раздавались и в Чите. Там молились за упокоение душ воинов Александра и Владимира. Узнав о гибели верховного правителя, «каппелевцы» не стали штурмовать Иркутск. Они прошли мимо него, дошли до Байкала, перешли его по непрочному льду и в конце февраля вошли в Читу. Дошло около 12–15 тысяч солдат и офицеров. Как ни удивительно, но нашли в себе силы одолеть великий поход и некоторые женщины и дети.[1442] Сколько их, неизвестно. Большинство же беженцев либо отстали в пути, либо погибли.
После расстрела Адмирала Анна Васильевна впала в депрессию, почти ничего не ела, отказывалась от прогулок, пыталась отравиться. Между тем Чудновский, продолжавший свои «следственные действия», навещал ее в камере чуть ли не каждый день, задавал вопросы, не получал на них ответов и вновь задавал. Эти допросы едва не закончились для него очень плохо. Однажды, как рассказывали в тюрьме, после какой-то его реплики Анна Васильевна вдруг бросилась на него, схватила за горло и с неожиданной силой стала душить. Начальнику тюрьмы и его помощнику с трудом удалось его вызволить, уже хрипевшего.[1443]
Существует еще один устный рассказ, ставший достоянием историков.
Однажды темной, безлунной ночью Анна Васильевна была выведена из тюрьмы в составе группы заключенных, направленных на расстрел. Она шла в последних рядах с краю. Из-за темноты в группе случилось замешательство, все встали. И в этот момент стоявший рядом с Анной Васильевной человек сильно ее толкнул. Она упала в канаву, в глубокий снег. Пока выбиралась, группа уже ушла. Так она избежала смерти и оказалась на свободе.[1444]
В 1922 году она вышла замуж за В. К. Клипера, инженера-строителя. Вскоре последовали новые аресты, ссылки, заключения. Она прошла через тюрьмы Иркутска, Новониколаевска, Москвы, Ярославля, лагеря Забайкалья и Караганды, ссылалась в Тарусу, Завидово (105 километров от Москвы), Рыбинск, Енисейск и другие места. Самая длительная «посадка» продолжалась с 1939 по 1946 год. Но в 1949 была вновь арестована и сослана. Окончательно обрела свободу только в 1954 году. В промежутках между арестами работала библиотекарем, дошкольным воспитателем, архивариусом, чертежником, ретушером, картографом, вышивальщицей, маляром, бутафором и художником театра (Рыбинск), перебивалась случайными заработками. В 1960 году переехала в Москву, жила на Плющихе, добрые люди выхлопотали ей пенсию.[1445] Снималась в массовых сценах на «Мосфильме», когда там требовались «благородные старухи» (например, княгиня с лорнетом на балу в «Войне и мире»). Анна Васильевна скончалась 31 января 1975 года на 82-м году жизни, пережив двух мужей, единственного сына и того, кто стал ее судьбой, – А. В. Колчака.
С. Н. Тимирев весной 1920 года уехал из России. Одиноко жил в Шанхае, плавал на коммерческих судах и умер в 1932 году в возрасте 57 лет.
В 1942 году умер второй муж А. В. Тимиревой.
Судьба ее сына, Владимира Сергеевича, особенно трагична. В 1922 году он был перевезен матерью в Москву, здесь же закончил школу, учился в Московском архитектурно-конструкторском институте, стал художником-анималистом, оформлял книги для детей. В 1934 году состоялась единственная прижизненная выставка его работ. В 1938 был арестован, при обыске у него изъяли антикварное оружие: шпагу, кинжал и кремневый пистолет. В следственном деле фигурировал как «пасынок Колчака», хотя вряд ли когда его видел. В мае 1938 года его расстреляли.[1446] Ему было всего 23.
С. Ф. Колчак, жившая с сыном в Париже, первое время после гибели мужа испытывала сильную нужду. Но на помощь пришли старые друзья покойного Адмирала: его товарищ по выпуску С. С. Погуляев, М. И. Смирнов, генерал А. Нокс и полковник Дж. Уорд, ставшие членами английского парламента (от разных партий). Проявили морскую солидарность английский адмирал Холл и французский Лаказ (бывший морской министр). С их помощью Софье Федоровне удалось дать своему сыну хорошее образование. В 1931 году он окончил Высшую школу дипломатических и коммерческих наук. В 1939 году Ростислав Александрович был призван во французскую армию, сражался в ее рядах, был в немецком плену. Всю жизнь он очень интересовался всем, что касалось его отца, дорожил его памятью.
Софья Федоровна скончалась в 1956 году и похоронена на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Ростислав Александрович, не обладавший крепким здоровьем, умер в 1965 года в возрасте 55 лет. У него остался сын Александр Ростиславович, ныне здравствующий.[1447]
Теперь надобно сказать несколько слов о дальнейшей судьбе некоторых героев, антигероев и персонажей настоящего повествования.
Н. Н. Коломейцев служил в Добровольческой армии и в Вооруженных силах Юга России, командовал отрядом ледоколов Черноморского флота (дело знакомое для бывшего командира «Ермака»). Эмигрировал во Францию, состоял вице-председателем Союза георгиевских кавалеров. В годы оккупации жил в Париже. Но человек он был невезучий. 6 октября 1944 году, когда Париж был уже освобожден союзниками, он попал под колеса американского грузовика.[1448]
А. А. Бялыницкий-Бируля стал известным зоологом, профессором Ленинградского университета, был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Содействовал организации Зоологического музея и был его директором. В 30-х годах побывал в ссылке, вернулся и умер в своем родном Ленинграде в 1937 году.
Н. А. Бегичев участвовал в нескольких полярных экспедициях и умер в одной из них. Его неопубликованные записки, к сожалению, были скомпрометированы недобросовестным исследователем Н. Я. Болотниковым, который в своей книге буквально вывернул их наизнанку.[1449] После этого исследователи не обращались к его запискам, считая, что наперед известно, что там написано. В. В. Синюков, например, полагает, что Бегичев «искажал многие факты, события и роль участников экспедиции, зачастую выдвигая себя на первый план и почти не упоминая А. В. Колчака».[1450] Ясно, что автор приведенных слов читал Болотникова, но не читал записок Бегичева.
И. И. Ренгартен, автор хроники войны на Балтике, из которой мы узнаем очень много о Колчаке, в годы Гражданской войны преподавал в Морской академии, сотрудничал в Морской исторической комиссии и умер от тифа, заразившись им в вагоне, возвращаясь из Москвы в Петроград.[1451]
А. Д. Бубнов, представитель известной военно-морской фамилии, служил начальником штаба Черноморского флота у белых, затем эмигрировал. Оказывал помощь югославским властям в создании Высшей военно-морской школы. Написал ряд фундаментальных трудов в области морского дела и умер в 1963 году в Югославии.[1452]
С 20 по 30 мая 1920 года в здании железнодорожных мастерских в Омске проходил суд над членами Российского правительства. Из 22 обвиняемых перед судом предстали только четыре министра: А. А. Червен-Водали – внутренних дел, П. И. Преображенский – просвещения, Л. И. Шумиловский – труда и государственный контролер Г. А. Краснов. Остальные были товарищами министров или чиновниками рангом ниже.
Накануне суда состоялось совместное заседание Сибирского бюро ЦК РКП(б) и Сибревкома. И. Н. Смирнов, сказав, что «этот процесс явится большим политическим митингом», поставил вопрос, надо ли применять ко всем подсудимым высшую меру наказания. И. П. Павлуновский, назначенный председателем суда, считал целесообразным поступить именно так с тем, чтобы Сибревком потом кому-то смягчил наказание. Е. М. Ярославский (Губельман) предложил применить смертную казнь к трем четвертям подсудимых. Смирнов не согласился ни с тем, ни с другим. «Ведь это будет суд, а не сплошной террор, – разъяснил он. – Необходимо, чтобы суд оставался судом». В итоге решили, что высшая мера наказания возможна, но коллективное ее применение нецелесообразно. К смертной казни были приговорены Червен-Водали, Шумиловский, Ларионов и А. К. Клафтон (последний в правительстве занимал скромный пост, но был видным членом кадетской партии и богатым человеком). Остальные были осуждены на различные сроки тюремного заключения вплоть до пожизненного. 27 июня все четверо были расстреляны.[1453]
Атаман Сибирского казачьего войска П. П. Иванов-Ринов отступал с армией до Красноярска. Там, увидев, что дело совсем плохо, он дезертировал, скрывался два месяца в Красноярске, а затем по подложному паспорту уехал в Харбин. Жизнь в эмиграции ему не понравилась, и он начал налаживать связи с советской разведкой. Потом, ввиду угрозы разоблачения, бежал и после ряда приключений в 1926 году вернулся в Советскую Россию. Дальнейшая его судьба неизвестна.[1454] Скорее всего, он был расстрелян.
Когда Советская армия в 1945 году заняла территорию Маньчжурии, были захвачены и депортированы в Москву атаман Г. М. Семенов и бывший министр финансов И. А. Михайлов. По приговору Военной коллегии Верховного суда они были казнены в один день – 30 августа 1946 года.[1455]
С. Н. Войцеховский был арестован в Праге 11 мая 1945 года. Умер в лагере под Тайшетом 7 апреля 1951 года в возрасте 67 лет.[1456]
М. К. Дитерихсу приписываются следующие слова: «Расстрел Колчака справедлив, это надо было бы сделать, если бы он мог прибыть в Верхнеудинск».[1457] Возможно, Дитерихс не говорил такое, но он вроде бы и не опроверг это высказывание, хотя оно широко разошлось еще при его жизни (он умер в октябре 1937 года в Шанхае). Только французы, имевшие отношение к выдаче Колчака, подхватили эту фразу. Дитерихс не был чужд русской эмиграции, но эта его позиция, обусловленная чисто личными причинами, оказалась ей чужда.
Несколько слов надо сказать о первом биографе А. В. Колчака – Сергее Абрамовиче Ауслендере (1886–1943). Он был сыном народовольца А. Я. Ауслендера, умершего в ссылке в Сибири вскоре после его рождения. По матери, ярославской дворянке, доводился племянником поэту М. А. Кузмину, своему литературному учителю. Другим его учителем был Н. С. Гумилев. Но в отличие от них Ауслендер писал исключительно прозу – рассказы, пьесы, критические статьи. Печататься начал в 1905 году, когда ему было 19 лет. В 1908 году вышел первый сборник его рассказов – «Золотые яблоки». Критика отмечала «кабинетную романтику» и «книжное вдохновение» автора. Любимыми его героями были «мечтатели и поэты», которых он противопоставлял «дельцам».[1458]
Оказавшись в Омске и по роду журналистских своих занятий соприкоснувшись с Колчаком, он и в нем разглядел черты «неустанного мечтателя и закаленного бойца». А потому брошюра о Колчаке была написана вовсе не в силу заказа (хотя таковой, несомненно, был), а как воплощение творческого замысла. Потому и дух романтики, патетические обороты, свойственные вообще его писательской манере, выглядят в ней естественно и уместно:
«Адмирал! О нем ходят уже легенды. Его имя уже давно повторяют кто с пламенной надеждой, кто со смертельным страхом.
Жизнь его, наполненная сражениями и упорными трудами, жизнь моряка и реформатора Русского флота, становится достоянием истории, и я, с детства влюбленный в старые книги с выцветающими гравюрами, на которых я тоже видел такие опаленные внутренним пламенем, изысканно тонкие лица далеких победителей, я не могу не развернуть книги наших фантастических дней и не сделать краткой записи жизни одного из замечательных наших современников».[1459]
Как ни странно, по совокупности фактов и по логике их изложения брошюра Ауслендера сильно напоминает иркутский «Допрос» Колчака. Видимо, автор лично беседовал с верховным правителем и записывал буквально с его слов. А Колчак на допросе уже во многом воспроизводил прежний свой рассказ – в расширенном варианте. Но Ауслендер, как видно, беседовал не только с ним, но и с некоторыми людьми, более или менее близко знавшими его и в прежние годы, в основном с моряками. Из их рассказов, например, перекочевала в брошюру известная уже нам легенда, связанная с прибытием Колчака в Севастополь.
По окончании Гражданской войны Ауслендер поселился в Москве и вновь занялся литературным трудом. Теперь он писал для детей – о бунтарях и революционерах, наших и зарубежных. В 1928 году успел издать пятитомное собрание своих сочинений. Но печататься становилось все труднее. Последняя его книга вышла в Саратове в 1936 году. Это была пьеса для детей «Мальчик-невидимка». В 1937 он был арестован, а 3 января 1943-го – расстрелян. Ныне, к сожалению, его творчество почти забыто.
Что же касается иркутского допроса, то в 1923 году его стенограмма была опубликована в издававшемся в Берлине под редакцией И. В. Гессена «Архиве русской революции» (том X). Как попал к Гессену этот документ, остается загадкой. Эта публикация подтолкнула советские власти к ответной публикации, и в 1925 году в Ленинграде, под редакцией и с предисловием известного нам К. А. Попова, была издана книга «Допрос Колчака». Издатели настаивали на том, что именно они представили читателю «единственно точное и достоверное воспроизведение подлинных протоколов». Однако сличение текстов обеих публикаций обнаруживает лишь небольшие расхождения. Практически исследователи вправе пользоваться и тем и другим изданием. Надо лишь помнить, что «Архив русской революции» опубликовал неправленые стенограммы, многие фамилии даются с искажениями, да и сам верховный правитель не всегда был точен в изложении фактов своей жизни.
В белой эмиграции, особенно в Китае и особенно среди офицерства, имя «белого Адмирала» было овеяно легендами:
И умолкает командир полка, И слышен ветра делается шорох. И облик Адмирала Колчака (Иль тень его!) всплывает в наших взорах.[1460]7 февраля 1921 года, в годовщину расстрела верховного правителя, парижская эмигрантская газета «Общее дело» дала о нем подборку статей, в том числе двух замечательных наших писателей – И. А. Бунина и А. И. Куприна.
В статье Бунина говорилось: «Настанет время, когда золотыми письменами, на вечную славу и память, будет начертано Его имя в летописи Русской Земли».
В этом же духе высказался Куприн:
«Я благоговейно верю рассказу о том, что Колчак отклонил предложенные ему попытки к бегству. Моряк душою и телом, он – по неписаному величественному морскому закону, – остался в качестве капитана, последним на палубе тонущего корабля.
Но если когда-нибудь, очнувшись, Россия воздвигнет ему памятник, достойный его святой любви к родине, то пусть начертают на подножии горькие евангельские слова: «И враги человеку домашние его „“.
Действительно, ведь Колчака, патриота и неутомимого работника на благо России, погубили не внешние недруги, а свои, «домашние» люди: большевики, эсеры, партизаны, атаманы… Чехи и Жанен лишь воспользовались моментом, чтобы свести с ним счеты. И войну с большевиками он проиграл вовсе не оттого, что будто бы был неспособен или были совсем бездарны его генералы. Но потому, что либо им, либо его предшественниками был упущен момент, какой-нибудь месяц или менее, а потом большевики уже сумели использовать более значительные людские ресурсы и экономический потенциал контролируемой ими территории.
В СССР, едва ли не до самого его распада, имя Колчака замалчивалось или же упоминалось в «разоблачительном» контексте. В 1924 году остров Колчака (название, данное Толлем) был переименован в остров Расторгуева (каюра, который не выполнил данное Толлю обещание вернуться в экспедицию, прельстившись на более выгодное предложение). И лишь в наши дни справедливость восторжествовала, и острову было возвращено прежнее его имя.
Ныне Колчак возвращается в Россию, и ему уже ставят памятники. Но возвращение одного не означает изгнание другого. Белые и красные в России должны уживаться. Тем более что и тогда они не были абсолютными антиподами. Колчак всегда был государственником. Большевики стали жесткими государственниками, оказавшись у власти. Разница в основном состояла в том, что Колчак хотел восстановить Российское государство на основаниях, по возможности близких к его вековым традициям, чтобы не было разрыва в историческом развитии. Большевики же на первое место ставили свои социалистические эксперименты. И слишком большое развитие получили у них карательные органы.
Борьба с «атаманщиной» во всех ее видах, за восстановление государственности – такова была главная задача народов России в те годы. К сожалению, решение ее затянулось из-за отсутствия внутреннего согласия о вариантах государственности.
Колчак прожил необыкновенную жизнь, полную борьбы, увлечений, стремлений и разочарований. Отчасти – вследствие бурного характера той эпохи, а с другой стороны – благодаря личному своему темпераменту.
Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые! Его призвали всеблагие Как собеседника на пир.[1461]Трагически закончился для Колчака этот разговор с «всеблагими», этот бесстрашный вызов Судьбе. Но античная трагедийность его жизни и античные черты его образа всегда будут привлекать внимание будущих поколений. Настоящая книга – лишь бледное отражение жизни этого замечательного человека.
Работа выполнена в Институте российской истории РАН (Москва) и Центре славянских исследований университета Хоккайдо (Саппоро, Япония). В сборе материалов для книги принимал участие кандидат исторических наук О. В. Ратушняк (Краснодар). В оформлении книги использованы открытки из собрания П. Д. Цуканова (Москва).
Приложение
Письма А. В. Колчака А. В. Тимирёвой
№ 1
11 марта 1917 г.
Линейный кораблъ
«Императрица Екатерина»,
на ходу в море
Глубокоуважаемая Анна Васильевна,
Несколько дней тому назад я получил письмо Ваше из Петрограда, написанное 27 февраля. Я пришёл 1-го марта вечером из Батума и получил телеграмму от Родзянко, в которой сообщалось о падении старого правительства, а через день пала сама династия. При возникновении событий, известных Вам в деталях, несомненно, лучше, чем мне, я поставил первой задачей сохранить в целости вооружённую силу, крепость и порт, тем более, что я получил основание ожидать появления неприятеля в море после 8 месяцев пребывания его в Босфоре. Для этого надо было удержать командование, возможность управлять людьми и дисциплину. Как хорошо я это выполнил – судить не мне, но до сего дня Черноморский флот был управляем мною решительно, как всегда; занятия, подготовка и оперативные работы ничем не были нарушены, и обычный режим не прерывался ни на один час. Мне говорили, что офицеры, команды, рабочие и население города доверяют мне безусловно, и это доверие определило полное сохранение власти моей как командующего, спокойствие и отсутствие каких-либо эксцессов. Не берусь судить, насколько это справедливо, хотя отдельные факты говорят, что флот и рабочие мне верят. Мне очень помог в ориентировке генерал Алексеев, который держал меня в курсе событий и тем дал возможность правильно оценить их, овладеть начавшимся движением, готовым перейти в бессмысленную дикую вспышку, и подчинить его своей воле. Мне удалось прежде всего объединить около себя всех сильных и решительных людей, а дальше уже было легче. Правда, были часы и дни, когда я чувствовал себя на готовом открыться вулкане или на заложенном к взрыву пороховом погребе, и я не поручусь, что таковые положения не возникнут в будущем, но самые опасные моменты, по-видимому, прошли. Ужасное состояние – приказывать, не располагая реальной силой обеспечить выполнение приказания, кроме собственного авторитета, но до сих пор мои приказания выполнялись, как всегда. Десять дней я почти не спал, и теперь в открытом море в тёмную мглистую ночь я чувствую себя смертельно уставшим, по крайней мере физически, но мне хочется говорить с Вами, хотя лучше бы лечь спать. Ваше письмо, в котором Вы описываете начало петроградских событий, я получил в один из очень тяжёлых дней, и оно, как всегда, явилось для меня радостью и облегчением, как указание, что Вы помните и думаете обо мне. За эти дни я написал Вам короткое письмо, которое послал в Ревель с капитаном 1-го ранга Домбровским, но Вы, видимо, очутились в Петрограде и письма мои Вы получите только в Ревеле. Но я думал о Вас, как это было всегда, в те часы, когда наступали перерывы между событиями, телеграммами, радио– и телеграфными вызовами, требующими тех или иных поступков или распоряжений. Могу сказать, что если я тревожился, то только о Вас, да это и понятно, т. к. я не знал ничего о Вас, где Вы находитесь и что там делается, но к обстановке, в которой я находился, я относился действительно «холодно и спокойно», оценивая её без всякой художественной тенденции. За эти 10 дней я много передумал и перестрадал, и никогда я не чувствовал себя таким одиноким, предоставленным самому себе, как в те часы, когда я сознавал, что за мной нет нужной реальной силы, кроме совершенно условного личного влияния на отдельных людей и массы; а последние, охваченные революционным экстазом, находились в состоянии какой-то истерии с инстинктивным стремлением к разрушению, заложенным в основание духовной сущности каждого человека. Лишний раз я убедился, как легко овладеть истеричной толпой, как дёшевы её восторги, как жалки лавры её руководителей, и я не изменил себе и не пошёл за ними. Я не создан быть демагогом – хотя легко бы мог им сделаться, – я солдат, привыкший получать и отдавать приказания без тени политики, а это возможно лишь в отношении массы организованной и приведённой в механическое состояние. Десять дней я занимался политикой и чувствую глубокое к ней отвращение, ибо моя политика – повеление власти, которая может повелевать мною. Но её не было в эти дни, и мне пришлось заниматься политикой и руководить дезорганизованной истеричной толпой, чтобы привести её в нормальное состояние и подавить инстинкты и стремление к первобытной анархии.
Теперь я в море. Каким-то кошмаром кажутся эти 10 дней, стоивших мне временами невероятных усилий, особенно тяжёлых, т. к. приходилось бороться с самим собой, а это хуже всего. Но теперь, хоть на несколько дней, это кончилось, и я в походной каюте с отрядом гидрокрейсеров, крейсеров и миноносцев иду на юг. Где теперь Вы, Анна Васильевна, и что делаете? Уже 2-й час, а в 5-ть уже светло, и я должен немного спать.
12 марта.
Всю ночь шли в густом тумане и отдыха не было, под утро прояснило, но на подходе к Босфору опять вошёл в непроглядную полосу тумана. Не знаю, удастся ли гидрокрейсерам выполнить операцию.
Я опять думаю о том, где Вы теперь, что делаете, всё ли у Вас благополучно, что Вы думаете. Я, вероятно, надоедаю Вам этими вопросами. Простите великодушно, если это Вам неприятно. Последнее время я фактически ничего о Вас не знаю. Последнее письмо Ваше было написано 27-го февраля, а далее произошёл естественный перерыв, но в этой естественности найти утешение, конечно, нельзя. За это время я, занятый ночи и дни непрерывными событиями и изменениями обстановки, всё-таки ни на минуту не забывал о Вас, но понятно, что мысли мои не носили розового оттенка (простите это демократское определение). Вы знаете, что мои думы о Вас зависят непосредственно от стратегического положения на вверенном мне театре. Судите, какая стратегия была в эти дни. Правда, я сохранил командование, но всё-таки каждую минуту могло произойти то, о чём и вспоминать не хочется.
Противник кричал на всё море, посылая открыто радио гнуснейшего содержания, явно составленные каким-то братушкой, и я ждал появления неприятеля, как ожидал равно-возможного взрыва у себя. Прескверные ожидания – надо отдать справедливость. Сообразно этому я думал о Вас, рисуя себе картины совершенно отрицательного свойства. Кроме неопределённой боязни и тревоги за Вас лично, мысль, что Вы забудете меня и уйдёте от меня совсем, несмотря на отсутствие каких-либо оснований, меня не оставляла, и под конец я от всего этого пришёл в состояние какого-то спокойного ожесточения, решив, что, чем будет хуже, тем лучше. Только теперь, в море, я, как говорится, отошёл и смотрю на Вашу фотографию, как всегда. Сейчас доносят, что в тумане виден какой-то силуэт. Лёг на него.
Конечно, не то. Оказался довольно большой парусник. Приказал «Гневному» утопить его. Экипаж уже заблаговременно сел в шлюпку и отошёл в сторону. После 5–6 снарядов барк исчез под водой. Гидрокрейсера не выполнили задание – приказал продолжить завтра, пока не выполнят. Ужасно хочется спать. Надо кончать своё писание. Нет никаких мыслей, только спать.
13 марта.
Я спал, как, кажется, никогда, – 9 часов подряд, и меня за ночь два раза только разбудили. День ясный, солнечный, штиль, мгла по горизонту. Гидрокрейсера продолжают операции у Босфора – я прикрываю их на случай выхода турецкого флота. Конечно, вылетели неприятельские гидро и появились подлодки. Пришлось носиться полными ходами и переменными курсами. Подлодки с точки зрения с линейного корабля – большая гадость – на миноносце дело другое – ничего не имею против, иногда даже люблю (хотя не очень). Неприятельские аэропланы атаковали несколько раз гидрокрейсера, но близко к ним не подлетали. К вечеру только закончили операцию; результата пока не знаю, но погиб у нас один аппарат с двумя лётчиками. Возвращаюсь в Севастополь. Ночь очень тёмная, без звёзд, но тихая, без волны. За два дня работы все устали, и чувствуется какое-то разочарование. Нет, Сушон меня решительно не любит, и если он два дня не выходил, когда мы держались в виду Босфора, то уж не знаю, что ему надобно. Я, положим, не очень показывался, желая сделать ему сюрприз – неожиданная радость всегда приятней – не правда ли, но аэропланы испортили всё дело, донеся по радио обо мне в сильно преувеличенном виде. Подлодки и аэропланы портят всю поэзию войны; я читал сегодня историю англо-голландских войн – какое очарование была тогда война на море. Неприятельские флоты держались сутками в виду один другого, прежде чем вступали в бои, продолжавшиеся 2–3 суток с перерывами для отдыха и исправления повреждений. Хорошо было тогда. А теперь: стрелять приходится во что-то невидимое, такая же невидимая подлодка при первой оплошности взорвёт корабль, сама зачастую не видя и не зная результатов, летает какая-то гадость, в которую почти невозможно попасть. Ничего для души нет. Покойный Адриан Иванович говорил про авиацию: «одно беспокойство, а толку никакого». И это верно: современная морская война сводится к какому-то сплошному беспокойству и [безымянной] предусмотрительности, т. к. противники ловят друг друга на внезапности, неожиданности и т. п. Я лично стараюсь принять все меры предупреждения случайностей и дальше отношусь уже по возможности с равнодушием. Чего не можешь сделать, всё равно не сделаешь. Вы не сердитесь на меня, Анна Васильевна, за эту болтовню? Мне хочется говорить с Вами – так давно не было от Вас писем, – кажется, точно несколько месяцев. Я как-то плохо начал представлять Вас – мне кажется, что Вы стали другой, чем были год тому назад. Но я начинаю говорить вздор и кончу письмо.
14 марта.
Сегодня надо проделать практическую стрельбу. Утром отпустил крейсера, переменил миноносцы у «Екатерины» и отделился. Погода совсем осенняя, довольно свежо, холодно, пасмурно, серое небо, серое море. Я отдохнул эти дни и без всякого удовольствия думаю о Севастополе и политике. За три дня, наверное, были «происшествия», хотя меня не вызывали в Севастополь, что непременно сделал бы Погуляев.
№ 2
16. III. 1918 г.
Singapore.
Милая, бесконечно дорогая, обожаемая моя Анна Васильевна,
Пишу Вам из Singapore, где я оказался неисповедимой судьбой в совершенно новом и неожиданном положении. Прибыв на «Dunera», которую я ждал в Shanghai около месяца, я был встречен весьма торжественно командующим местными войсками генералом Ridaud, передавшим мне служебный пакет «On His Majesty’s Servis» с распоряжением английского правительства вернуться немедленно в Китай для работы в Маньчжурии и Сибири. Английское правительство после последних событий, выразившихся в полном разгроме России Германией, нашло, что меня необходимо использовать в Сибири в видах Союзников и России предпочтительно перед Месопотамией, где обстановка изменилась, в довольно безнадёжном направлении. И вот я со своими офицерами оставил «Dunera», перебрался в «Hotel de I'Europe» и жду первого парохода, чтобы ехать обратно в Shanghai и оттуда в Пекин, где я имею получить инструкции и информации от союзных посольств. Моя миссия является секретной, и хотя я догадываюсь о её задачах и целях, но пока не буду говорить о ней до прибытия в Пекин.
Милая моя Анна Васильевна, Вы знаете и понимаете, как это всё тяжело, какие нервы надо иметь, чтобы переживать это время, это восьмимесячное передвижение по всему земному шару…
Не знаю, я сам удивляюсь своему спокойствию, с каким встречаю сюрпризы судьбы, меняющие внезапно все намерения, решения и цели… Я почти успокоился, отправляясь на Месопотамский фронт, на который смотрел почти как на место отдыха… кажется, странное представление об отдыхе, но и этого мне не суждено, но только бы кончилось это ужасное скитание, ожидание, ожидание, которое способно привести в состояние невменяемости любого Бога… Это время было для меня временем величайшего страдания, которое я когда-либо испытывал, кончится ли оно когда-нибудь…
Вы, милая, обожаемая Анна Васильевна, так далеки от меня, что иногда представляетесь мне каким-то странным сном. Разве не сон воспоминания о Вас в той обстановке, где я теперь нахожусь; на веранде экзотического английского отеля в жаркую тропическую ночь в атмосфере какого-то парника, в совершенно чуждом и совершенно ненужном для меня городе – я сижу перед Вашим портретом и пишу Вам эти листки, не зная, попадут ли они когда-нибудь в Ваши ручки.
Даже звёзды, на которые я всегда смотрел, думая о Вас, здесь чужие; Южный Крест, нелепый Скорпион, Центавр, Арго с Канопусом – всё это чужое, невидимое для Вас, и только низко стоящая на севере Большая Медведица и Орион напоминают мне Вас; может быть, Вы иногда смотрите на них и вспоминаете Вашу химеру, действительно заслуживающую одним последним периодом своей жизни это [наименование] нелепой фантазии.
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» Составители Т. Ф. Павлова, Ф. Ф. Перчёнок, И. К. Сафонов. М., 1996. С. 155–160, 284–285.
Основные даты жизни и деятельности Александра Васильевича Колчака[1462]
1874, 4 ноября – Александр Васильевич Колчак родился в селе Александровском Санкт-Петербургского уезда.
1885–1888 – учёба в 6-й Петербургской классической гимназии.
1888–1894 – учёба в Морском училище (Морском кадетском корпусе).
1894 – смерть матери О. И. Колчак (урождённой Посоховой).
15 сентября – производство в мичманы, зачисление в 7-й флотский экипаж.
1895–1899 – первое заграничное плавание, сначала на крейсере «Рюрик», затем на клипере «Крейсер».
1898, 6 декабря – производство в лейтенанты.
1899, 2 июня – 11 августа – служба на учебном крейсере «Князь Пожарский».
17 сентября – 1900, 2 января – плавание на броненосце «Петро павловск».
1900, 8 июня – 1902, 10 декабря – участие в Русской полярной экспедиции под руководством Э. В. Толля.
1903, 9 января – назначение руководителем экспедиции по поиску Э. В. Толля и его спутников.
9 февраля – 1904, 26 февраля – экспедиция по поиску Э. В. Толля и его спутников.
1904, 5 марта – свадьба А. В. Колчака и С. Ф. Омировой в Иркутске.
18 марта – 20 декабря – служба в Порт-Артуре.
20 марта – 17 апреля – служба на крейсере «Аскольд».
17–21 апреля – служба в должности старшего офицера на минном транспорте «Амур».
21 апреля – 2 ноября – служба в должности командира на миноносце «Сердитый».
2 ноября – 20 декабря – командование артиллерийской батареей вооружённого сектора Скалистых гор.
21 декабря – 1905, конец апреля – пребывание в японском плену.
1905, 4 июня – возвращение из плена.
27 июня – 28 декабря – шестимесячный отпуск для лечения.
29 декабря – 1906, апрель – А. В. Колчак прикомандирован к Академии наук для обработки картографических и гидрологических материалов Русской полярной экспедиции.
1906, 1 мая – А. В. Колчак прикомандирован к Морскому генеральному штабу.
26 мая – А. В. Колчак назначен заведующим отделением русской статистики Морского генерального штаба.
1907, 11 июня – присвоено восстановленное во флоте звание капитан-лейтенанта.
1908, 13 апреля – производство в капитаны 2-го ранга.
29 мая – назначен командиром строящегося ледокольного транспорта «Вайгач».
1909, 28 октября – 1910, 20 октября – плавание на «Вайгаче» из Пе тербурга через южные моря в Арктику и обратно во Владивосток. Выход в свет книги А. В. Колчака «Лёд Карского и Сибирского морей».
1910, 24 февраля – рождение сына Ростислава.
9 ноября – А. В. Колчак откомандирован в Петербург.
1911, 8 февраля – возвращение на службу в Морской генеральный штаб.
1912, 15 апреля – переход на службу в Балтийский флот, вступление в должность командира эскадренного миноносца «Уссуриец».
1913, апрель – смерть В. И. Колчака, отца А. В. Колчака.
17 мая – 1914, 3 марта – командование эскадренным минонос цем «Пограничник».
6 декабря – производство в капитаны 1-го ранга.
1914, 14 июля – назначен флаг-капитаном по оперативной части Штаба командующего Морскими силами Балтийского моря.
1915, начало года – знакомство с А. В. Тимирёвой.
19 декабря – назначен командующим Минной дивизией Балтийского флота.
1916, 10 апреля – производство в контр-адмиралы.
28 июня – производство в вице-адмиралы, назначение командующим флотом Чёрного моря.
8 июля – прибытие в Севастополь, вступление в командование флотом.
7 октября – гибель линкора «Императрица Мария» в результате взрыва.
1917, апрель – поездка в Петроград.
25 апреля – доклад на делегатском собрании в Севастополе «Положение нашей вооружённой силы и взаимоотношения с союзниками».
7 июня – выезд из Севастополя в Петроград по вызову Г. Е. Львова и А. Ф. Керенского.
13 июня – доклад Временному правительству о событиях в Севастополе и положении на Черноморском флоте.
Конец июня – 27 июля – сотрудничество с организацией «Республиканский центр».
27 июля – выезд из Петрограда в США во главе Русской военно-морской миссии.
2—16 августа – пребывание в Англии.
28 августа – 12 октября – пребывание в США.
Конец октября – 1918, начало января – первая японская эмиграция.
1918, 10 или 11 мая – 30 июня – пребывание в Харбине в должности главного инспектора охранной стражи КВЖД.
Начало июля – 16 сентября – вторая японская эмиграция.
19 или 20 сентября – прибытие во Владивосток.
13 октября – приезд в Омск.
5—18 ноября – пребывание на посту военного и морского министра Российского правительства (в Омске).
18 ноября – государственный переворот в Омске, отстранение от власти Директории. Совет министров избирает А. В. Колчака верховным правителем и присваивает ему звание Адмирала фло та (полного адмирала).
22 ноября – указ о создании Чрезвычайного экономического совещания.
11 декабря – 1919, начало февраля – болезнь Колчака.
27 ноября – конец декабря – Пермская операция на Восточном фронте, взятие Перми.
22–23 декабря – мятеж в Омске, его подавление, незаконные расстрелы заключённых в Омске.
31 декабря – потеря Уфы.
1919, 14 января – новогодняя декларация Российского правительства, подписанная А. В. Колчаком и председателем Совета министров П. В. Вологодским.
29 января – верховный правитель приносит присягу Правитель ствующему сенату.
8—26 февраля – поездка А. В. Колчака по городам Сибири и Урала и на фронт.
Февраль-март – начало широкого партизанского движения в Сибири.
4 марта – начало весеннего наступления белых на Восточном фронте.
13 марта – взятие Уфы.
8 апреля – декларация Российского правительства по земельно му вопросу, подписанная А. В. Колчаком.
26 апреля – взятие города Чистополя.
27–28 апреля – начало боёв на реках Дёма и Салмыш, связанных с выполнением контрманевра южной группировки красных.
30 апреля – бои в районе станции Похвистнево (150 вёрст до Са мары) – максимальное продвижение белых на Самарском на правлении.
29 или 30 апреля – фланговый удар красных по частям Белой армии, действующей на Бузулукском направлении, начало отступления Белой армии.
30 апреля – окончание наступательных операций белых на Казанском направлении. Белые останавливаются в 100 верстах от Казани и 40–50 верстах от Волги.
10 мая – выступление А. В. Колчака на съезде представителей фабрично-заводской промышленности в Екатеринбурге.
26 мая – нота пяти держав (Англии, Франции, Италии, США и Японии) об условиях оказания помощи Российскому правительству.
30 мая – приказ главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России генерала А. И. Деникина о признании верховного правителя А. В. Колчака и подчинении ему.
4 июня – ответ правительства Колчака на ноту пяти держав.
9 июня – оставление Уфы.
20 июня – генерал М. К. Дитерихс занимает пост главнокомандующего Восточным фронтом.
1 июля – оставление Перми.
14 июля – сдача Екатеринбурга.
24–29 июля – Челябинское сражение.
Середина августа – Красная армия форсирует Тобол. Перенесение военных действий в Сибирь.
Конец августа – неудавшееся покушение на Колчака – взрыв в особняке на Иртыше.
1—30 сентября – контрнаступление белых. Выход на рубеж реки Тобол.
17 сентября – публикация «Граматы» верховного правителя и его рескрипта Вологодскому о преобразовании Экономического совещания в выборное законосовещательное Государственное земское совещание.
14–19 октября – поражение в Тобольском сражении, отступление белых.
29 октября – 1 ноября – бои за Петропавловск.
5 ноября – отставка М. К. Дитерихса, назначение генерала К. В. Сахарова командующим Восточным фронтом.
12 ноября – выезд А. В. Колчака из Омска.
13 ноября – меморандум чехословацкого командования с обоснованием своих дальнейших действий по захвату Транссибирской магистрали (опубликован 16 ноября).
14–15 ноября – оставление белыми Омска.
Ноябрь-декабрь – усиление партизанского движения, распространение хаоса в белой Сибири после оставления Омска.
23 ноября – отставка П. В. Вологодского, назначение В. Н. Пепеляева председателем Совета министров.
9 декабря – отставка командующего Восточным фронтом К. В. Сахарова, назначение на этот пост генерала В. О. Каппеля.
14 декабря – оставление Новониколаевска.
21–24 декабря – мятеж генерала Б. М. Зиневича в Красноярске.
21 декабря – мятеж батальона охраны в Черемхове.
24 декабря – мятеж в Иркутске.
25 декабря – прибытие эшелонов верховного правителя на станцию Нижнеудинск. Длительная задержка.
1920, 5 января – переход власти в Иркутске к эсеро-меньшевистскому Политцентру. Аресты членов Совета министров.
Начало января – выезд Колчака и сопровождающих его лиц из Нижнеудинска в вагоне под флагами Великобритании, Франции, США, Японии и Чехословакии.
15 января – прибытие чехословацкого эшелона с вагоном верхов ного правителя в Иркутск. Выдача Колчака чехословацким ко мандованием, с санкции французского генерала Жанена, пред ставителям Политцентра.
21 января – 6 февраля – допросы Колчака Чрезвычайной следственной комиссией.
21 января – отстранение от власти в Иркутске Политцентра, переход её к большевистскому ревкому.
26 января – смерть В. О. Каппеля. Вступление в командование армией генерала С. Н. Войцеховского.
Начало февраля – выход армии под командованием Войцеховского на подступы к Иркутску. Ультиматум об освобождении верховного правителя.
6 февраля – Иркутский ревком получает телеграмму о том, что РВС 5-й армии не возражает против расстрела Колчака.
Ночь с 6 на 7 февраля – расстрел А. В. Колчака и В. Н. Пепеляева.
Библиография
СОЧИНЕНИЯ А. В. КОЛЧАКА
Колчак А. В. Последняя экспедиция на о. Беннетта, снаряжённая Академией наук для поисков барона Толля // Известия Императорского Русского географического общества. СПб.,1906. Т. 42. Вып. 2–3.
Колчак А. В. Лёд Карского и Сибирского морей. СПб., 1909.
ИСТОЧНИКИ
Арнольдов Л. В. Жизнь и революция. Гроза пятого года. Белый Омск. Шанхай, 1935.
Болдырев В. Г. Директория, Колчак, интервенты. Новониколаевск, 1925.
Босфорская операция осталась на бумаге // Военно-исторический журнал. 1995. № 1.
Будберг А. Дневник // Архив русской революции. Т. XIII–XV. Берлин, 1924. Советское издание: Будберг А. Дневник белогвардейца (Колчаковская эпопея). М., 1929.
Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Пекин, 1921. Т. 1–2.
Дневник П. В. Вологодского. (Из хроники антибольшевистского движения в Сибири.) 1923 г. / Россия антибольшевистская. Из белогвардейских и эмигрантских архивов. М., 1995.
Занкевич М. И. Обстоятельства, сопровождавшие выдачу адмирала Колчака революционному правительству в Иркутске / Белое дело. Берлин, 1927. Т. 2.
К образованию Всероссийской власти в Сибири (из дневника П. В. Вологодского: 8 сентября – 4 ноября 1918 г.). Публикация Д. Вульфа, С. Ляндерса // Отечественная история. 2001. № 1.
Колчак А. В. Дневник лейтенанта А. В. Колчака // Советские архивы. 1990. № 5.
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» Сост. Т. Ф. Павлова, Ф. Ф. Перчёнок, И. К. Сафонов. М., 1996.
Милая химера в адмиральской форме. Письма А. В. Тимирёвой А. В. Колчаку 18 июля 1916 – 17–18 мая 1917 г. Издание подготовили А. В. Смолин, Л. И. Спиридонова. СПб., 2002.
Последние дни колчаковщины. Материал подготовлен к печати М. М. Константиновым. М.; Л., 1926.
Пройти Берингов пролив и закончить во Владивостоке. Документы Русской полярной экспедиции 1900–1902 гг. Публикация Л. Спиридоновой, А. Иоффе // Источник. 1997. № 3.
Протоколы допроса адмирала А. В. Колчака Чрезвычайной следственной комиссией в Иркутске 21 января – 7 февраля 1920 г. // Архив русской революции. Т.Х.Берлин, 1923. Советское издание: Допрос Колчака. Л., 1925.
Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. СПб., 1998.
Толлъ Э. В. Плавание на яхте «Заря». М., 1959.
ЛИТЕРАТУРА
Богданов К. А. Адмирал Колчак. Биографическая повесть-хроника. СПб., 1993.
Дроков С. В. Александр Васильевич Колчак // Вопросы истории. 1991. № 1.
Иоффе Г. 3. Колчаковская авантюра и её крах. М., 1983.
Мельгунов С. П. Трагедия адмирала Колчака. Белград, 1930–1931. Ч. 1–3. Современное издание: Мельгунов С. П. Трагедия адмирала Колчака. Кн. 1–2. М., 2004.
Перейра Н. Г. О. Сибирь: политика и общество в Гражданской войне. М., 1996.
Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак. Исследователь, адмирал, верховный правитель России. М., 2002.
Смирнов М. И. Адмирал Александр Васильевич Колчак (краткий биографический очерк). Париж, 1930.
Fleming P. The Fate of Admiral Kolchak. N. Y., 1963.
Smele J. Civil War in Siberia: The Anti-Bolshevic Government of Admiral Kolchak, 1918–1920. Cambrige, 1996.
Примечания
1
Колчак Р. А. Адмирал Колчак. Его род и семья // Военно-исторический вестник. Париж, 1959. № 16. С. 17.
(обратно)2
См.: Тарасова А. И. О предке А. В. Колчака // Вопросы истории. 1998. № 3. С. 174–175.
(обратно)3
Ломоносов М. В. Избранные произведения. Т. 2. М., 1986. С. 209–210.
(обратно)4
Военно-исторический вестник. 1959. № 13. С. 18.
(обратно)5
Дроков С. В., Коновалова О. В. К истории рода адмирала Колчака // Отечественные архивы. 1992. № 5. С. 96–99. В статье делается попытка восстановить его «родословное древо». Однако там оказалось больше вопросов, чем ответов.
(обратно)6
Военно-исторический вестник. 1959. № 16. С. 15–16.
(обратно)7
Колчак В. Война и плен 1853–1855 гг. Из воспоминаний о давно пережитом. СПб., 1904. С. 24, 57, 78–79; РГАВМФ. Ф. 432 (Морское училище). Оп. 5. Д. 7174. Л. 3–5; Военно-исторический вестник. 1960. № 16. С. 15.
(обратно)8
Колчак В. История Обуховского завода в связи с прогрессом артиллерийской техники. СПб., 1903. С. 279–280.
(обратно)9
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 7174. Л. 3–4.
(обратно)10
См.: Богданов К. А. Адмирал Колчак. СПб., 1993. С. 16; Военно-исторический вестник. 1960. № 16. С. 15–16; Сборник приказов и циркуляров о личном составе чинов Морского ведомства. СПб., 1904. № 51. Приказ № 533 от 6 декабря 1904 г.
(обратно)11
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 7174. Л. 2.
(обратно)12
См.: Вронский С. А. Астрология в выборе профессии. М.: Тула, 1993. С. 5, 12; Он же. Астрология о браке и совместимости. Кишинёв, 1993. С. 274, 278–280; Муравьёва Г. П. Звёзды и судьбы. М., 1997. С. 59–61.
(обратно)13
Гулыга А. В. Шеллинг (Серия «ЖЗЛ»). М., 1982. С. 7.
(обратно)14
Протоколы допроса адмирала А. В. Колчака Чрезвычайной след ственной комиссией в Иркутске 21 января – 7 февраля 1920 г. // Архив русской революции (далее АРР). Т. X. Берлин, 1923. С. 186.
(обратно)15
ЦГИА г. С.-Петербурга. Ф. 458. Оп. 1. Д. 563. Л. 118. Документы о Колчаке в фонде 6-й Петербургской гимназии разысканы и любезно предоставлены автору научным сотрудником архива Н. А. Чекмаревой.
(обратно)16
ЦГИА г. С.-Петербурга. Ф. 458. Оп. 1. Д. 563. Л. 223.
(обратно)17
ЦГИА г. С.-Петербурга. Ф. 458. Оп. 1. Д. 603д. Л. 9, 11 об. и др.
(обратно)18
АРР. Т. X. С. 186.
(обратно)19
См.: Веселого Ф. Очерк истории Морского кадетского корпуса. СПб., 1852. С. 115, 119 и др.
(обратно)20
См.: [Коргуев H.] Обзор преобразований Морского кадетского корпуса с 1852 г. СПб., 1897. С. 7, 32, 41, 47, 48.
(обратно)21
Cм.: Крылов А. Н. Мои воспоминания. Л., 1979. С. 63.
(обратно)22
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 6219. Л. 1, 6.
(обратно)23
Крылов А. Н. Мои воспоминания. С. 64–65.
(обратно)24
АРР. Т. X. С. 186.
(обратно)25
РГАВМФ. Ф. 432. On. 5. Д. 9104. Л. 1–4.
(обратно)26
Никитин Д. В. Выпуск Колчака // Морские записки. Нью-Йорк, 1944. № 3. С. 234–235.
(обратно)27
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 6315. Л. 35 (Колчак), 66 (Филиппов).
(обратно)28
Фабрицкий С. С. Из прошлого. Воспоминания флигель-адъютанта государя императора Николая П. Берлин, 1926. С. 18.
(обратно)29
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 6277. Л. 1–3, 6, 12, 16.
(обратно)30
Фабрицкий С. С. Из прошлого. С. 23.
(обратно)31
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 6311. Л. 33–34, 42, 63.
(обратно)32
Морские записки. 1944. № 3. С. 236–237.
(обратно)33
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 6343. Л. 63.
(обратно)34
АРР. Т. X. С. 205.
(обратно)35
Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. Париж, 1930. С. 8.
(обратно)36
Трухачёв С. Л. Последний поход учебного судна «Скобелев» // Морские записки. 1955. № 4. С. 61–63.
(обратно)37
РГАВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 6514. Л. 212, 252–253, 255, 270.
(обратно)38
Дроков С. В. Александр Васильевич Колчак // Вопросы истории. 1991. № 1. С. 51.
(обратно)39
АРР. Т. X. С. 186.
(обратно)40
См.: Сборник приказов и циркуляров о личном составе Морского ведомства. СПб., 1894. № 40. Приказ № 242; [Коргуев H.] Обзор преобразований… С. 319; Морские записки. 1944. № 3. С. 236.
(обратно)41
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 4413. Л. 1–3.
(обратно)42
Там же. Д. 1900. Л. 1 об.
(обратно)43
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» [Сб. документов о А. В. Тимирёвой. ] Сост. Т. Ф. Павлова, Ф. Ф. Перчёнок, И. К. Сафонов. М., 1996. С. 235, 238–239.
(обратно)44
ГАРФ. Ф. 5881 (Коллекция отдельных документов эмигрантов). Оп. 2. Д. 533. Л. 26.
(обратно)45
Дэвид Фаррагут (1801–1870) – национальный герой США, адмирал, во время гражданской войны 1861–1865 гг. разгромил флотилию южан на реке Миссисипи.
(обратно)46
Пройти Берингов пролив и закончить во Владивостоке. Документы Русской полярной экспедиции 1900–1902 гг. Публикация Л. Спиридоновой, А. Иоффе // Источник. 1997. № 3. С. 75.
(обратно)47
Источник. 1997. № 3. С. 75; АРР. Т. X. С. 186.
(обратно)48
См.: Фабрицкий С. С. Из прошлого. С. 38.
(обратно)49
Цывинский Г. Ф. 50 лет в Императорском флоте. Рига, [1925]. С. 160.
(обратно)50
См.: Симанский П. Н. Японско-китайская война 1894–1895. СПб., 1896. С. 118–130, 249–270.
(обратно)51
См.: Мустпафин В. А. Порт-Артур, 1898–1902. Воспоминания / ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 521. Л. 74; Фабрицкий С. С. Из прошлого. С. 39.
(обратно)52
Цывинский Г. Ф. 50 лет в Императорском флоте. С. 166.
(обратно)53
Bumme С. Ю. Воспоминания. Т. 2. М., 1960. С. 132–138.
(обратно)54
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. Т. 8. Ч. 1. СПб., 1910. С. 34.
(обратно)55
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 521. Л. 36, 37, 55–57, 79.
(обратно)56
Цывинский Г. Ф. 50 лет в Императорском флоте. С. 167, 187.
(обратно)57
Источник. 1997. № 3. С. 75.
(обратно)58
См.: Вице-адмирал Г. П. Чухнин по воспоминаниям сослуживцев / Под ред. А. Беломора. СПб., 1909. С. 114.
(обратно)59
Источник. 1997. № 3. С. 75.
(обратно)60
Цывинский Г. Ф. 50 лет в Императорском флоте. С. 197.
(обратно)61
Источник. 1997. № 3. С. 75.
(обратно)62
Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 1. С. 184–185.
(обратно)63
Цывинский Т. Ф. 50 лет в Императорском флоте. С. 198–199.
(обратно)64
Источник. 1997. № 3. С. 75.
(обратно)65
«Ничто не могло удержать флот от полного развала». Автобиография адмирала А. В. Колчака // Источник. 1996. № 4. С. 61.
(обратно)66
Источник. 1997. № 3. С. 76.
(обратно)67
Визе В. Ю. Моря советской Арктики. М.; Л., 1948. С. 265.
(обратно)68
Колчак А. Последняя экспедиция на остров Беннетта, снаряжённая Академией наук для поисков барона Толля // Известия император ского Русского географического общества (далее: Изв. РГО). Т. 42. Вып. 2–3. СПб., 1906. С. 488.
(обратно)69
Там же. С. 487–488.
(обратно)70
В. К. Барон Э. В. Толль // Мир Божий. 1904. № 2. Паг. 2. С. 10.
(обратно)71
Там же. С. 11.
(обратно)72
Визе В. Ю. Моря советской Арктики. С. 268–269.
(обратно)73
Виттенбург П. В. Жизнь и научная деятельность Э. В. Толля. М.; Л., 1960. С. 32.
(обратно)74
С.-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (да лее – ПФАРАН). Ф. 14 (Комиссия для снаряжения Русской полярной экспедиции). Оп. 1. Д. 30. Л. 15.
(обратно)75
Там же. Л. 19.
(обратно)76
Виттенбург П. В. Жизнь и научная деятельность Э. В. Толля. С. 78–79. См. также: Пройти Берингов пролив и закончить во Влади востоке. Документы Русской полярной экспедиции 1900–1902 гг. Пуб ликация Л. Спиридоновой, А. Иоффе // Источник. 1997. № 3. С. 76.
(обратно)77
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». М., 1959. С. 12, 263, 313.
(обратно)78
Катин-Ярцев В. Н. На Крайний Север. (В Русской полярной экс педиции барона Э. В. Толля.) // Мир Божий. 1904. № 2. С. 93.
(обратно)79
Источник. С. 77–78.
(обратно)80
Там же. С. 78–79.
(обратно)81
Там же. С. 79.
(обратно)82
ГАРФ. Ф. 601 (личный фонд Николая II). Оп. 1. Д. 241. Л. 145–146.
(обратно)83
Коломейцев Н. Н. Русская полярная экспедиция под начальством барона Толля // Изв. РГО. Т. 38. Вып. 3. СПб., 1902. С. 343.
(обратно)84
Источник. С. 82.
(обратно)85
Там же. С. 77, 80.
(обратно)86
Там же. С. 82.
(обратно)87
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 10; Источник. С. 82.
(обратно)88
Толль Э. В. Там же. С. 23; Катин-Ярцев В. Н. На Крайний Север. С. 92–94.
(обратно)89
Толль Э. В. Там же. С. 11.
(обратно)90
Источник. С. 83.
(обратно)91
Болотников Н. Я. Никифор Бегичев. М., 1954. С. 48; Источник. С. 85.
(обратно)92
Изв. РГО. Т. 38. Вып. 3. С. 345–346.
(обратно)93
Источник. С. 85–86.
(обратно)94
Там же. С. 86.
(обратно)95
Катин-Ярцев В. Н. На Крайний Север. С. 94.
(обратно)96
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 19. 35, 107.
(обратно)97
Катин-Ярцев В. Н. На Крайний Север. С. 95.
(обратно)98
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 16.
(обратно)99
Катин-Ярцев В. Н. На Крайний Север. С. 94.
(обратно)100
Источник. С. 85, 86.
(обратно)101
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 15–16; Источник. С. 87.
(обратно)102
См.: Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 15–18; Источник. С. 86–87.
(обратно)103
Изв. РГО. Т. 38. Вып. 3. С. 347.
(обратно)104
Источник. С. 88–89.
(обратно)105
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 24–27.
(обратно)106
Там же. С. 33–34.
(обратно)107
Там же. С. 53.
(обратно)108
Там же. С. 64.
(обратно)109
Там же. С. 66.
(обратно)110
Там же. С. 47.
(обратно)111
Там же. С. 75–96.
(обратно)112
ПФАРАН. Ф. 47 (Комиссия по изучению Якутской АССР). Оп. 5. Д. 1 (Автобиографические записки Н. А. Бегичева). Л. 9 об. – 10.
(обратно)113
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 101. 125, 132.
(обратно)114
Там же. С. 119.
(обратно)115
Там же. С. 323.
(обратно)116
Болотников Н. Я. Никифор Бегичев. С. 49.
(обратно)117
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 104, 109.
(обратно)118
Там же. С. 120.
(обратно)119
ПФАРАН. Ф. 47. Оп. 5. Д. 1. Л. 10.
(обратно)120
Изв. РГО. Т. 38. Вып. 3. С. 355.
(обратно)121
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 102, 128.
(обратно)122
Там же. С. 136–137, 141.
(обратно)123
Там же. С. 135–136.
(обратно)124
Там же. С. 148–174.
(обратно)125
Там же. С. 177, 184.
(обратно)126
Там же. С. 196.
(обратно)127
Там же. С. 211.
(обратно)128
Там же. С. 215–217; Источник. С. 91.
(обратно)129
Источник. С. 88.
(обратно)130
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 218.
(обратно)131
Там же. С. 227.
(обратно)132
Там же. С. 231.
(обратно)133
Там же. С. 264.
(обратно)134
Катин-Ярцев В. Н. На Крайний Север. С. 91.
(обратно)135
Источник. С. 92.
(обратно)136
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 255.
(обратно)137
Там же. С. 253, 255, 259.
(обратно)138
Там же. С. 263.
(обратно)139
Там же. С. 251.
(обратно)140
Там же. С. 260–262.
(обратно)141
Там же. С. 262.
(обратно)142
Там же. С. 285.
(обратно)143
Там же. С. 295.
(обратно)144
Изв. РГО. Т. 38. Вып. 3. С. 368.
(обратно)145
Виттенбург П. В. Указ. соч. С. 150.
(обратно)146
ПФАРАН. Ф. 47. Оп. 5. Д. 1. Л. 14–14 об.
(обратно)147
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 313.
(обратно)148
Там же. С. 316, 318.
(обратно)149
Катин-Ярцев В. Н. На Крайний Север. С. 109.
(обратно)150
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 321.
(обратно)151
Там же. С. 316, 319.
(обратно)152
Катин-Ярцев В. Н. На Крайний Север. С. 110.
(обратно)153
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 329.
(обратно)154
АРР. Т. X. С. 188.
(обратно)155
ПФАРАН. Ф. 14. Оп. 1. Д. 90. Л. 5 об.—6.
(обратно)156
Катин-Ярцев В. Н. На Крайний Север // Мир Божий. 1904. № 3. С. 135–146; № 4. С. 91.
(обратно)157
ПФАРАН. Ф. 47. Оп. 5. Д. 1. Л. 15 об.
(обратно)158
Катин-Ярцев В. Н. На Крайний Север // Мир Божий. 1904. № 4. С. 91—100.
(обратно)159
Визе В. Ю. Моря советской Арктики. С. 272.
(обратно)160
Зубов Н. Н. Отечественные мореплаватели – исследователи морей и океанов. М., 1954. С. 333.
(обратно)161
Катин-Ярцев В. Н. На Крайний Север // Мир Божий. 1904. № 4. С. 101–102.
(обратно)162
Болотников Н. Я. Никифор Бегичев. С. 76; Мир Божий. 1904. № 4. С. 103.
(обратно)163
Мир Божий. 1904. № 4. С. 104–111.
(обратно)164
Более подробно фактическую сторону дела и полный текст некоторых документов см.: Синюков В. В. Александр Васильевич Колчак как исследователь Арктики. М., 2000. С. 151–158.
(обратно)165
Визе В. Ю. Указ. соч. С. 132–136.
(обратно)166
Синюков В. В. Указ. соч. С. 158.
(обратно)167
Изв. РГО. С. 499.
(обратно)168
ПФАРАН. Ф. 291 (А. А. Бялыницкого-Бирули). Оп. 2. Д. 81. Л. 3.
(обратно)169
Там же. Ф. 47. Оп. 5. Д. 1. Л. 18.
(обратно)170
Синюков В. В. Указ. соч. С. 186–187.
(обратно)171
Изв. РГО. С. 499–500.
(обратно)172
Визе В. Ю. Указ. соч. С. 272.
(обратно)173
Изв. РГО. С. 501–502.
(обратно)174
Мир Божий. 1904. № 1. С. 103.
(обратно)175
Изв. РГО. С. 502–503.
(обратно)176
РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 71. Л. 1.
(обратно)177
Изв. РГО. С. 504–505.
(обратно)178
Там же. С. 507.
(обратно)179
Там же. С. 508–509.
(обратно)180
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 326.
(обратно)181
Бруснев М. Отчёт начальника экспедиции на Новосибирские ос трова для оказания помощи барону Толлю // Известия императорской Академии наук (далее – Изв. АН). Т. 20. № 5. СПб., 1904. С. 188–189.
(обратно)182
Изв. РГО. С. 509–510.
(обратно)183
ПФАРАН. Ф. 47. Оп. 5. Д. 1. Л. 26 об. – 27.
(обратно)184
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 329.
(обратно)185
Изв. РГО. С. 517.
(обратно)186
Изв. АН. С. 193.
(обратно)187
Изв. РГО. С. 519.
(обратно)188
Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря». С. 20.
(обратно)189
Изв. РГО. С. 510–512.
(обратно)190
Там же. С. 518.
(обратно)191
ПФАРАН. Ф. 47. Оп. 5. Д. 1. Л. 33–33 об.
(обратно)192
Источник. С. 91.
(обратно)193
Новости и Биржевая газета. 1904. 3 марта.
(обратно)194
Колчак А. Предварительный отчёт начальника экспедиции на землю Беннетта для оказания помощи барону Толлю // Изв. АН. 1904. Т. 20. № 5. С. 156–157.
(обратно)195
Иркутские губернские ведомости. 1904. 8 марта.
(обратно)196
Дроков С. В., Коновалова О. В. К истории рода адмирала Колчака // Отечественные архивы. 1992. № 5. С. 98.
(обратно)197
РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 58. Л. 41, 45.
(обратно)198
АРР. Т. X. С. 185.
(обратно)199
Военно-исторический вестник. 1960. № 16. С. 17.
(обратно)200
Изв. АН. 1904. Т. 20. № 5. С. 157.
(обратно)201
Мир Божий. 1904. № 2. Паг. 2. С. 14.
(обратно)202
Изв. РГО. Т. 42. Вып. 2–3. С. 515.
(обратно)203
Зубов Н. Н. Отечественные мореплаватели. С. 337.
(обратно)204
Болотников Н. Я. Никифор Бегичев. С. 34–35.
(обратно)205
Обручев В. А. Земля Санникова существовала // Природа. 1946. № 10. С. 64–65.
(обратно)206
Природа. 1946. № 10. С. 64–65.
(обратно)207
Дылевский П. Ф. Дневник. Порт-Артур, 1904 год // Нева. 1990. № 3. С. 195.
(обратно)208
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии по описанию действий флота в войну 1904–1905 гг. при Мор ском генеральном штабе. Кн. I. СПб., 1912. С. 34–35, 37, 52.
(обратно)209
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. Т. 8. Ч. 1. СПб., 1910. С. 32–34; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 521. Л. 87–88, 97–98, 130.
(обратно)210
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии по описанию действий флота… Кн. I. С. 2–5, 13, 44, 54, 62–63.
(обратно)211
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Военно-исторической комиссии… Т. 8. Ч. 1. С. 50–51.
(обратно)212
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии… Кн. I. С. 42, 53.
(обратно)213
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 521. Л. 105–107, 112–115.
(обратно)214
Бубнов М. Порт-Артур. Воспоминания о деятельности Первой Тихоокеанской эскадры и морских команд на берегу во время осады Порт-Артура в 1904 г. СПб., 1907. С. 278.
(обратно)215
Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. 1895–1907. М.; Л., 1955, С. 240, 243, 267; История русско-японской войны 1904–1905 гг. / Под ред. И. И. Ростунова. М., 1977. С. 43–44, 55–57.
(обратно)216
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии по описанию действий флота… Кн. I. С. 141, 175–176, 189, 192–195.
(обратно)217
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 521. Л. 80–81.
(обратно)218
Морской сборник. 1908. № 7. С. 17.
(обратно)219
«Акацуки» перед Порт-Артуром (Дневник японского морского офицера). СПб., 1995. С. 18.
(обратно)220
История русско-японской войны 1904–1905 гг. С. 120.
(обратно)221
Бубнов М. Указ. соч. С. 102.
(обратно)222
ПФАРАН. Ф. 47. Оп. 5. Д. 1. Л. 34 об.
(обратно)223
Бубнов М. Указ. соч. С. 59.
(обратно)224
Щенснович Э. Н. Плавание эскадренного броненосца «Ретвизан» с 1902 по 1904 г. (воспоминания командира). СПб., 1999. С. 33.
(обратно)225
АРР. Т. X. С. 190–191; ПФАРАН. Ф. 47. Оп. 5. Д. 1. Л. 34 об.
(обратно)226
Бубнов М. Указ. соч. С. 57.
(обратно)227
АРР. Т. X. С. 191.
(обратно)228
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 2 об.
(обратно)229
ПФАРАН. Ф. 47. Оп. 5. Д. 1. Л. 35 об.
(обратно)230
«Воспоминания лейтенанта Тимирёва об осаде Порт-Артура и пребывании в плену». – РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 15 об.
(обратно)231
Там же. Л. 5 об. О повседневной жизни Порт-Артура в первые ме сяцы войны // Новый край. Порт-Артур, 1904. 8 июня.
(обратно)232
Русско-японская война 1904–1905 гг. Материалы для описания действий флота. Хронологический перечень военных действий флота 1904–1905 гг. Вып. I. Составил лейт. Лебедев. СПб., 1910. С. 79 (далее – Хронологический перечень).
(обратно)233
Там же. С. 76.
(обратно)234
Там же. С. 80.
(обратно)235
Бубнов М. Указ. соч. С. 87; Щенснович Э. Н. Плавание эскадренно го броненосца «Ретвизан»… С. 30; Шмитт В. П. Гибель эскадренного броненосца «Петропавловск» // Морской сборник. СПб., 1911. № 9. С. 20–21; РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 7 об.
(обратно)236
«Это не война, а какая-то адская затея…» (Письма Н. О. Эссена из Порт-Артура). Публикация В. А. Петрова // Отечественные архивы. 1996. № 3. С. 60. См. также: Баумгартен О. А. В осаждённом Порт-Артуре. Дневник сестры милосердия. СПб., 1906. С. 25. РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 7–7 об.
(обратно)237
«Ничто не могло удержать флот от полного развала». Автобиография адмирала А. В. Колчака. Публикация И. Ф. Плотникова // Источ ник. 1996. № 4. С. 63.
(обратно)238
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 7 об.
(обратно)239
Там же. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 3.
(обратно)240
Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. Ростов н/Д, 1998. С. 30.
(обратно)241
История русско-японской войны 1904–1905 гг. С. 124–125, 138.
(обратно)242
Бубнов М. Указ. соч. С. 95–99; РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 8.
(обратно)243
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 3.
(обратно)244
Бубнов М. Указ. соч. С. 9, 55.
(обратно)245
Там же. С. 6, 96.
(обратно)246
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 13 об. – 14.
(обратно)247
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 26–27.
(обратно)248
Хронологический перечень. С. 106, 109.
(обратно)249
Бубнов М. Указ. соч. С. 103, 106–107.
(обратно)250
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии по описанию действий флота в войну 1904–1905 гг. при Мор ском генеральном штабе. Кн. 2. СПб., 1913. С. 29–33; Бубнов М. Указ. соч. С. 108.
(обратно)251
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии по описанию действий флота… Кн. 2. С. 43–45.
(обратно)252
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 9; Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии по описанию действий флота… Кн. 2. С. 33–36; Бубнов М. Указ. соч. С. ПО; Новый край. 1904. 4 мая.
(обратно)253
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии… Кн. 2. С. 37; Бубнов М. Указ. соч. С. 112; ПФАРАН. Ф. 47. Оп. 5. Д. 1. Л. 37 об.
(обратно)254
Бубнов М. Указ. соч. С. 115.
(обратно)255
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии… Кн. 2. С. 129–132.
(обратно)256
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 10 об. – 11.
(обратно)257
Работа Исторической комиссии по описанию действий флота… Кн. 2. С. 226.
(обратно)258
Бубнов М. Указ. соч. С. 151; Хронологический перечень. С. 152, 156, 159, 173.
(обратно)259
АРР. Т. X. С. 191.
(обратно)260
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии по описанию действий флота в войну 1904–1905 гг. при Мор ском генеральном штабе. Кн. 3. Пг., 1915. С. 23.
(обратно)261
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 12 об.
(обратно)262
Бубнов М. Указ. соч. С. 123–125; История русско-японской войны. С. 165–170.
(обратно)263
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 9–9 об.
(обратно)264
Нева. 1990. № 3. С. 197.
(обратно)265
Новый край. 1904. 19 мая.
(обратно)266
Ашмед-Бартлет Э. Порт-Артур. Осада и капитуляция. СПб., 1908. С. 11.
(обратно)267
История русско-японской войны 1904–1905 гг. С. 156–161; РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 21. Л. 8 об.
(обратно)268
Бубнов М. Указ. соч. С. 138.
(обратно)269
Там же. С. 140; РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 11.
(обратно)270
Новый край. 1904. 11 июня.
(обратно)271
Бубнов М. Указ. соч. С. 142–143; Хронологический перечень. С. 170.
(обратно)272
Бубнов М. Указ. соч. С. 145.
(обратно)273
Там же. С. 147–148.
(обратно)274
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Военно-исторической комиссии… Т. 8. Ч. 1. С. 353–355.
(обратно)275
История русско-японской войны… С. 188.
(обратно)276
Новый край. 1904. 5 авг.
(обратно)277
Бубнов М. Указ. соч. С. 160; Новый край. 1904. 27 июля.
(обратно)278
Нева. 1990. № 3. С. 200.
(обратно)279
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 521. Л. 88; Новый край. 1904. 14 июля.
(обратно)280
Щенснович Э. Н. Указ. соч. С. 42–43.
(обратно)281
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии… Кн. 3. С. 24.
(обратно)282
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 15.
(обратно)283
Там же. Л. 16 об.
(обратно)284
Там же. Ф. 763. Оп. 1. Д. 192. Л. 9.
(обратно)285
ПФАРАН. Ф. 47. Оп. 5. Д. 1. Л. 39.
(обратно)286
Бубнов М. Указ. соч. С. 165.
(обратно)287
Там же. С. 176; Баумгартен О. А. Указ. соч. С. 124; Нева. 1990. № 3. С. 200; РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 22 об. – 23.
(обратно)288
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 191. Последняя часть дневника была издана С. В. Дроковым под названием «Порт-артурский дневник Колчака» // Советские архивы. 1990. № 5.
(обратно)289
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 192. Л. 3.
(обратно)290
Там же. Л. 5 об. – 6.
(обратно)291
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 17 об. – 18 об.
(обратно)292
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии… Кн. 3. С. 49.
(обратно)293
РГАВМФ. Ф. 763. On. 1. Д. 192. Л. 6.
(обратно)294
Там же. Д. 219. Л. 19.
(обратно)295
Бубнов М. Указ. соч. С. 167–168; История русско-японской войны. С. 196.
(обратно)296
Бубнов М. Указ. соч. С. 168; История русско-японской войны. С. 195.
(обратно)297
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 192. Л. 6 об. – 7.
(обратно)298
Воспоминания об осаде Порт-Артура командира броненосца «Севастополь» и крейсера «Новик» капитана 1-го ранга Эссена. – РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 218. Л. 40 об.
(обратно)299
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 218. Л. 14 об.; Д. 219. Л. 15 об.
(обратно)300
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии… Кн. 3. С. 46.
(обратно)301
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 192. Л. 7.
(обратно)302
Баумгартен О. А. Артур пал!.. Дневник сестры милосердия. СПб., 1907. С. 136.
(обратно)303
История русско-японской войны. С. 196–197.
(обратно)304
Бубнов М. Указ. соч. С. 171; РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 22 об.
(обратно)305
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии по описанию действий флота… Кн. 3. С. 57; РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 22 об.
(обратно)306
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 22–22 об.
(обратно)307
Бубнов М. Указ соч. С. 172.
(обратно)308
История русско-японской войны. С. 215.
(обратно)309
Бубнов М. Указ. соч. С. 98, 184–185, 187–188; Ашмед-Бартлет Э. Указ. соч. С. 299–300.
(обратно)310
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 15; Отечественные архивы. 1996. № 3. С. 65.
(обратно)311
Бубнов М. Указ. соч. С. 187.
(обратно)312
Бубнов М. Указ. соч. С. 182; История русско-японской войны. С. 217; Отечественные архивы. 1996. № 3. С. 65; РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 218. Л. 45.
(обратно)313
Бубнов М. Указ. соч. С. 199.
(обратно)314
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 15 об.; Отечественные архивы. 1996. № 3. С. 65.
(обратно)315
Хронологический перечень. С. 285, 287; АРР. Т. X. С. 191.
(обратно)316
Бубнов М. Указ. соч. С. 201–202.
(обратно)317
Ашмед-Бартлет Э. Указ. соч. С. 62; История русско-японской войны. С. 199.
(обратно)318
Бубнов М. Указ. соч. С. 208.
(обратно)319
Хронологический перечень. С. 305–321.
(обратно)320
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 192. Л. 11.
(обратно)321
Там же. Л. 11 об. – 12.
(обратно)322
Там же. Л. 13.
(обратно)323
Там же. Л. 15 об.
(обратно)324
Там же. Л. 16.
(обратно)325
Бубнов М. Указ. соч. С. 242–243; История русско-японской войны. С. 236–238.
(обратно)326
Ашмед-Бартлет Э. Указ. соч. С. 254, 258; История русско-японской войны. С. 238.
(обратно)327
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 192. Л. 17.
(обратно)328
Там же. Л. 17 об. – 18.
(обратно)329
Ашмед-Бартлет Э. Указ. соч. С. 260.
(обратно)330
Мелик-Парсаданов. Последние дни Порт-Артура // Мир Божий. 1905. № 10. С. 2.
(обратно)331
РГАВМФ. Ф. 763. On. 1. Д. 192. Л. 19 об. – 20, 21.
(обратно)332
Джемс Д. Осада Порт-Артура. СПб., 1907. С. 107.
(обратно)333
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 192. Л. 17; Советские архивы. 1990. № 5. С. 69.
(обратно)334
Ашмед-Бартлет Э. Указ. соч. С. 278, 284–285.
(обратно)335
Бубнов М. Указ. соч. С. 248.
(обратно)336
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 192. Л. 21 об. – 22.
(обратно)337
Там же. Л. 22; Бубнов М. Указ. соч. С. 250.
(обратно)338
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 192. Л. 22 об.
(обратно)339
Там же. Л. 23–24 об.
(обратно)340
Бубнов М. Указ. соч. С. 251; РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 218. Л. 71.
(обратно)341
Бубнов М. Указ. соч. С. 252.
(обратно)342
Там же. С. 254, 261–262.
(обратно)343
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии по описанию действий флота в войну 1904–1905 гг. при Морском генеральном штабе. Кн. 4. Пг., 1916. С. 277; Хронологический перечень. С. 362.
(обратно)344
Источник. 1996. № 4. С. 63; АРР. Т. X. С. 191.
(обратно)345
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 192. Л. 26.
(обратно)346
Там же. Д. 219. Л. 30 об.; Мир Божий. 1905. № 10. С. 24.
(обратно)347
Бубнов М. Указ. соч. С. 262–263.
(обратно)348
Нева. 1990. № 3. С. 203.
(обратно)349
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 192. Л. 27.
(обратно)350
Нева. 1990. № 3. С. 204.
(обратно)351
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 192. Л. 24 об.
(обратно)352
Там же. Л. 24.
(обратно)353
Там же. Л. 26.
(обратно)354
Бубнов М. Указ. соч. С. 259; Мир Божий. 1905. № 10. С. 26.
(обратно)355
Бубнов М. Указ. соч. С. 261.
(обратно)356
Cоветские архивы. 1990. № 5. С. 64.
(обратно)357
Там же. С. 66–69.
(обратно)358
Там же. С. 69.
(обратно)359
Бубнов М. Указ. соч. С. 271–272; РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 31. Л. 55–65; Д. 219. Л. 31.
(обратно)360
Советские архивы. 1990. № 5. С. 70.
(обратно)361
Русско-японская война 1904–1905 гг. Работа Исторической комиссии по описанию действий флота… Кн. 4. С. 325–327.
(обратно)362
Ашмед-Бартлет Э. Указ. соч. С. 386.
(обратно)363
Бубнов М. Указ. соч. С. 277.
(обратно)364
Мир Божий. 1905. № 10. С. 67–68.
(обратно)365
Советские архивы. 1990. № 5. С. 72.
(обратно)366
Бубнов М. Указ. соч. С. 277.
(обратно)367
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 31. Л. 80–95.
(обратно)368
Бубнов М. Указ. соч. С. 278, 282.
(обратно)369
Советские архивы. 1990. № 5. С. 72.
(обратно)370
Нева. 1990. № 3. С. 204–205.
(обратно)371
Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. СПб., 1998. С. 63.
(обратно)372
Советские архивы. 1990. № 5. С. 72.
(обратно)373
АРР. Т. Х. С. 191.
(обратно)374
Ашмед-Бартлет Э. Указ. соч. С. 292–293; РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 37 об.
(обратно)375
Джемс Д. Указ. соч. С. 103.
(обратно)376
Отечественные архивы. 1996. № 3. С. 67.
(обратно)377
РГАВМФ. Ф. 763. On. 1. Д. 219. Л. 40.
(обратно)378
Дело о сдаче Порт-Артура японским войскам в 1904 г. Отчёт. Составлен под ред. В. А. Апушкина. СПб., 1908. С. 460.
(обратно)379
Баумгартен О. А. Артур пал!.. С. 26.
(обратно)380
Дело о сдаче крепости Порт-Артур… С. 349.
(обратно)381
Баумгартен О. А. Артур пал!.. С. 32.
(обратно)382
Там же. С. 71–75.
(обратно)383
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» Сб. документов. Со ставители Т. Ф. Павлова. Ф. Ф. Перченок, И. К. Сафонов. М., 1996. С. 264; Советские архивы. 1990. № 5. С. 66.
(обратно)384
Баумгартен О. А. Артур пал!.. С. 52.
(обратно)385
АРР. Т. X. С. 191–192.
(обратно)386
РГАВМФ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 219. Л. 68–70.
(обратно)387
Грибовский В. Ю., Познахирев В. П. Вице-адмирал 3. П. Рожественский. СПб., 1999. С. 236–238, 242–243.
(обратно)388
Там же. С. 248.
(обратно)389
Сборник приказов и циркуляров о личном составе чинов Мор ского ведомства. 1905. Приказы № 25, 26, 34.
(обратно)390
АРР. Т. X. С. 192, 205, 207–208.
(обратно)391
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 3.
(обратно)392
Там же. Л. 3–3 об.
(обратно)393
Богданов К. А. Адмирал Колчак. Биографическая повесть-хроника. СПб., 1993. С. 10; АРР. Т. X. С. 187.
(обратно)394
Сб. приказов и циркуляров… 1905. Приказы № 26, 27.
(обратно)395
Там же. 1904. Приказ № 25.
(обратно)396
Cм.: Поездка в Сибирь и Поволжье. Записка П. А. Столыпина и А. В. Кривошеина. СПб., 1911. С. 122.
(обратно)397
См.: Богданов К. А. Адмирал Колчак. СПб., 1993. С. 28.
(обратно)398
См.: Богданов К. А. Адмирал Колчак. СПб., 1993. С. 28.
(обратно)399
Источник. 1997. № 3. С. 90.
(обратно)400
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 3 об.
(обратно)401
Колчак А. В. Лёд Карского и Сибирского морей. СПб., 1909. С. I, V.
(обратно)402
См.: Дроков С. В. Александр Васильевич Колчак // Вопросы истории. 1991. № 1. С. 55.
(обратно)403
Бялыницкий-Бируля А. А. Очерки из жизни птиц полярного побережья Сибири. СПб., 1907.
(обратно)404
Петров М. А. Подготовка России к мировой войне на море. М.; Л., 1926. С. 127.
(обратно)405
РГАВМФ. Ф. 703 (Военно-морской кружок). Оп. 1. Д. 2. Л. 3–4.
(обратно)406
Там же. Л. 5.
(обратно)407
Там же. Л. 6–7.
(обратно)408
АРР. Т. X. С. 206, 248; РГАВМФ. Ф. 703. Оп. 1. Д. 2. Л. 6 об.
(обратно)409
РГАВМФ. Ф. 703. Оп. 1. Д. 2. Л. 7 об.
(обратно)410
Там же. Л. 16–17.
(обратно)411
Там же. Л. 14; АРР. Т. X. С. 192.
(обратно)412
РГАВМФ. Ф. 703. Оп. 1. Д. 1. Л. 42–47; Д. 2. Л. 19 об., 64 об.
(обратно)413
См.: Петров М. А. Указ. соч. С. 98–99.
(обратно)414
См.: Щеглов А. Н. К истории возникновения Морского генераль ного штаба // Морской журнал. 1928. № 6/7. С. 17–20.
(обратно)415
РГАВМФ. Ф. 418 (Морской генеральный штаб). Оп. 1. Д. 1156. Л. 224; Д. 1301. Л. 47.
(обратно)416
АРР. Т. X. С. 192.
(обратно)417
См.: Петров М.А. Указ. соч. С. 98–99.
(обратно)418
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1155. Л. 1.
(обратно)419
Там же. Л. 2–3.
(обратно)420
Там же. Д. 1157. Л. 1 об.
(обратно)421
Там же. Д. 1155. Л. 17.
(обратно)422
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. 3. Т. 26. № 27973.
(обратно)423
Петров М. А. Указ. соч. С. 100.
(обратно)424
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 3 об.
(обратно)425
Там же. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1156. Л. 6, 9.
(обратно)426
Петров М. А. Указ. соч. С. 103.
(обратно)427
Шацилло К. Ф. О диспропорции в развитии вооружённых сил Рос сии накануне Первой мировой войны (1906–1914) // Исторические записки. Т. 83. М., 1969. С. 124.
(обратно)428
См.: Граф Г. К. Императорский Балтийский флот между двумя революциями. Машинопись. С. 1. (Хранится в Архиве-библиотеке Российского фонда культуры. Коллекция «Родина».)
(обратно)429
См.: Поликарпов В. В. Власть и флот в России в 1905–1909 годах // Вопросы истории. 2000. № 3. С. 37.
(обратно)430
Петров М.А. Указ. соч. С. 111–112.
(обратно)431
Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 1. М., 1997. С. 198.
(обратно)432
Петров М. А. Указ. соч. С. 119–120; Исторические записки. Т. 83. С. 127.
(обратно)433
Исторические записки. Т. 83. С. 127.
(обратно)434
Савич Н. Три встречи (А. В. Колчак и Государственная дума). – АРР. Т. X. С. 170–171.
(обратно)435
Петров М. А. Указ. соч. С. 124–125.
(обратно)436
РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 3327. Л. 361–366.
(обратно)437
Там же. Л. 366–374.
(обратно)438
Петров М. А. Указ. соч. С. 125.
(обратно)439
АРР. Т. X. С. 194–195.
(обратно)440
Колчак А. В. Какой нужен России флот // Морской сборник. 1908. № 6. С. 32.
(обратно)441
Там же. С. 33, 37–38.
(обратно)442
Там же. С. 39–40.
(обратно)443
Там же. С. 41.
(обратно)444
Там же. С. 43–44, 47.
(обратно)445
Морской сборник. 1908. № 7. С. 17.
(обратно)446
Там же. С. 21–22.
(обратно)447
Там же. С. 24.
(обратно)448
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 28.
(обратно)449
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1223. Л. 1–7.
(обратно)450
Григорович И. К. Воспоминания бывшего морского министра. СПб., 1993. С. 36–37.
(обратно)451
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 27–28.
(обратно)452
РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 58. Л. 45 об.
(обратно)453
Там же. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 5 об.
(обратно)454
Там же. Ф. 11. Оп. 1. Д. 58. Л. 41.
(обратно)455
Там же. Л. 44.
(обратно)456
Там же. Л. 40 об.
(обратно)457
Петров М.А. Указ. соч. С. 125–126, 139.
(обратно)458
Там же. С. 126.
(обратно)459
АРР. Т. X. С. 194.
(обратно)460
См.: РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1156. Л. 224.
(обратно)461
АРР. Т. X. С. 194–195.
(обратно)462
Источник. 1997. № 3. С. 91–94.
(обратно)463
Визе В. Ю. Моря Советской Арктики. М.; Л., 1948. С. 197.
(обратно)464
Старокадомский Л. М. Пять плаваний в Северный Ледовитый оке ан. 1910–1915. М., 1959. С. 9—10.
(обратно)465
Евгенов Н. И. Географическая экспедиция в Северный Ледовитый океан на судах «Таймыр» и «Вайгач» (1910–1915) // Известия Всесоюзного географического общества. Т. 89. № 1. М.; Л., 1957. С. 14.
(обратно)466
АРР. Т. X. С. 195.
(обратно)467
Арнгольд Э. Е. По заветному пути. Воспоминания о полярных пла ваниях и открытиях на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» в экспедициях 1910–1915 гг. М.; Л., 1929. С. 26; Евгенов Н. И. Указ. соч. С. 14; Ста рокадомский Л. М. Указ. соч. С. 11–12.
(обратно)468
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 4—12.
(обратно)469
Там же. Л. 16 об.
(обратно)470
Богданов К. А. Указ. соч. С. 38.
(обратно)471
Старокадомский Л. М. Указ. соч. С. 21–22.
(обратно)472
Там же. С. 22.
(обратно)473
Там же. С. 23–24.
(обратно)474
Там же. С. 25.
(обратно)475
Там же. С. 26.
(обратно)476
Там же. С. 28.
(обратно)477
Отчёт Главного гидрографического управления Морского минис терства за 1910 год. СПб., 1911. С. 105.
(обратно)478
Старокадомский Л. М. Указ. соч. С. 31.
(обратно)479
Там же. С. 35–36.
(обратно)480
Шильдкнехт Е. Н. Встречи с Колчаком // Морские записки. 1958. Т. 16. № 1. С. 87.
(обратно)481
Старокадомский Л. М. Указ. соч. С. 41.
(обратно)482
Арнгольд Э. Е. Указ. соч. С. 31–32.
(обратно)483
Там же. С. 32.
(обратно)484
Отчёт Главного гидрографического управления Морского минис терства за 1910 г. С. 106.
(обратно)485
Подробнее см.: Чванов М.А. Загадка штурмана Альбанова. М., 1981.
(обратно)486
Арнгольд Э. Е. Указ. соч. С. 33; Старокадомский Л. М. Указ. соч. С. 43.
(обратно)487
Отчёт Главного гидрографического управления… С. 106.
(обратно)488
Старокадомский Л. М. Указ. соч. С. 32.
(обратно)489
АРР. Т. X. С. 196.
(обратно)490
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 12 об., 16 об.
(обратно)491
РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 63. Л. 1.
(обратно)492
АРР. Т. X. С. 209.
(обратно)493
Там же. С. 196.
(обратно)494
РГАВМФ. Ф. 873. Оп. 10. Д. 409. Л. 4.
(обратно)495
Шацилло К. Ф. Указ. соч. С. 134–135.
(обратно)496
Cм.: Петров М.А. Указ. соч. С. 233.
(обратно)497
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1351; Д. 1581. Л. 261–314.
(обратно)498
Там же. Д. 1301. Л. 31 об.
(обратно)499
Там же. Д. 1156. Л. 202–224.
(обратно)500
Там же. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 13.
(обратно)501
Граф Г. К. Указ. соч. С. 7.
(обратно)502
РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 58. Л. 43 об.
(обратно)503
Там же. Л. 45 об., 53 об., 59 об.
(обратно)504
См.: Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. Париж, 1930. С. 18; Богданов К. А. Указ. соч. С. 55.
(обратно)505
См.: Граф Г. К. Указ. соч. С. 28, 40–41, 54.
(обратно)506
Cм.: Зонин С. А. Наморси Республики. Выбор адмирала Вирена. СПб., 1998. С. 104.
(обратно)507
См.: Дневники императора Николая П. М., 1991. С. 408; АРР. Т. X. С. 210.
(обратно)508
См.: Жильяр П. Николай II и его семья. Репринт. М., 1991. С. 11–13.
(обратно)509
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 13 об.
(обратно)510
Там же. Ф. 873. Оп. 10. Д. 409. Л. 1–2.
(обратно)511
Там же. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 14.
(обратно)512
Граф Г. К. Указ. соч. С. 72–82.
(обратно)513
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1718. Л. 9—22, 30.
(обратно)514
Чёрный Саша. Стихотворения. М., 1962. С. 380.
(обратно)515
См.: Ренгартен И. И. Дневник мировой войны на Балтийском театре. – РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 199. Л. 1.
(обратно)516
Там же. Л. 2–6.
(обратно)517
РГАВМФ. Ф. 757 (Н. О. Эссен). Оп. 1. Д. 2. Л. 12.
(обратно)518
Там же. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 199. Л. 10.
(обратно)519
АРР. Т. X. С.198.
(обратно)520
Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920 / Отв. ред. В. И. Шишкин. М., 2003. С. 30.
(обратно)521
Тимирёв СИ. Воспоминания морского офицера. СПб., 1998. С. 7.
(обратно)522
РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 199. Л. 10.
(обратно)523
См.: Золотарёв В. А., Козлов И. А., Шломин В. С. История флота го сударства Российского. Т. 1. М., 1996. С. 266.
(обратно)524
Тимирёв С. Н. Указ. соч. С. 14.
(обратно)525
Там же. С. 20.
(обратно)526
РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 199. Л. 21–22.
(обратно)527
Там же. Л. 47.
(обратно)528
Там же. Л. 66, 82.
(обратно)529
Из переписки В. М. Альтфатера и А. В. Колчака. Публикация В. Петрова // Источник. 1997. № 5. С. 10.
(обратно)530
Золотарёв В. А. и др. История флота государства Российского. С. 267; РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 199. Л. 32.
(обратно)531
Источник. 1997. № 5. С. 10.
(обратно)532
РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 199. Л. 37–38.
(обратно)533
См.: Ненюков Д. В. Воспоминания. – ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 69–70.
(обратно)534
РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 199. Л. 38–39.
(обратно)535
Там же. Л. 44–46.
(обратно)536
Источник. 1997. № 5. С. 12–13.
(обратно)537
РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 199. Л. 48–49.
(обратно)538
Там же. Л. 65.
(обратно)539
Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. С. 42–43.
(обратно)540
РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 199. Л. 74–75.
(обратно)541
Морские записки. 1958. Т. 16. № 1. С. 88.
(обратно)542
Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. С. 19–20.
(обратно)543
Источник. 1997. № 5. С. 12.
(обратно)544
Cм.: Золотарёв В. А. и др. История флота государства Российско го. С. 275–276.
(обратно)545
Источник. 1997. № 5. С. 18.
(обратно)546
Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. Париж, 1930. С. 20; Граф Г. К. На «Новике». Балтийский флот в войну и революцию. СПб., 1997. С. 74–75, 233; Пилкин В. К. Два адмирала // Морские записки. 1951. Т. 9. № 53. С. 65; Золотарёв В. А. и др. История флота государства Российского. С. 276–277.
(обратно)547
Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. С. 20; Золотарёв В. А. и др. История флота государства Российского. С. 277; Морские записки. 1951. Т. 9. № 53. С. 65; РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 199. Л. 119.
(обратно)548
РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 63. Л. 2.
(обратно)549
Там же. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 199. Л. 129.
(обратно)550
Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. С. 39.
(обратно)551
Там же. С. 33.
(обратно)552
РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 199. Л. 120–121.
(обратно)553
Там же. Л. 122–123.
(обратно)554
Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. С. 22.
(обратно)555
Там же.
(обратно)556
РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 199. Л. 127, 129, 130.
(обратно)557
Там же. Л. 135, 152.
(обратно)558
Там же. Л. 155.
(обратно)559
Там же. Л. 156.
(обратно)560
Тимирёв С. Н. Указ. соч. С. 26.
(обратно)561
Там же. С. 26–27.
(обратно)562
РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 199. Л. 167.
(обратно)563
Золотарёв В. А. и др. Указ. соч. С. 282; Тимирёв С. Н. Воспомина ния морского офицера. С. 28.
(обратно)564
Золотарёв В. А. и др. Указ. соч. С. 282–283; Тимирёв С. Н. Воспо минания морского офицера. С. 29–30.
(обратно)565
Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. С. 32.
(обратно)566
Фомин Н. Г. Георгиевский крест адмирала А. В. Колчака // Мор ские записки. 1949. Т. 7. № 1. С. 32.
(обратно)567
Золотарёв В. А. и др. Указ. соч. С. 283–284; Тимирёв С. Н. Воспо минания морского офицера. С. 33–34, 164.
(обратно)568
Морские записки. 1949. Т. 7. № 1. С. 32–35.
(обратно)569
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 15.
(обратно)570
АРР. Т. X. С. 200–201.
(обратно)571
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 15.
(обратно)572
Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. С. 34.
(обратно)573
АРР. Т. X. С. 201.
(обратно)574
Cм.: Книпер (Тимирёва) А. В. Фрагменты воспоминаний / В кн.: «Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» [Сб. документов]. Соста вители: Т. Ф. Павлова, Ф. Ф. Перчёнок, И. К. Сафонов. М., 1996. С. 73; Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. С. 11.
(обратно)575
Милая химера в адмиральской форме. Письма А. В. Тимирёвой А. В. Колчаку. 18 июля 1916 – 17–18 мая 1917 г. Изд. подготовили А. В. Смолин, Л. И. Спиридонова. СПб., 2002. С. 28.
(обратно)576
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 74.
(обратно)577
Там же. С. 75.
(обратно)578
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 76.
(обратно)579
Колчак Р. А. Адмирал Колчак. Его род и семья // Военно-исторический вестник. Париж, 1959. № 16. С. 17.
(обратно)580
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 76–77.
(обратно)581
Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. С. 47.
(обратно)582
РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 15.
(обратно)583
Богданов К. А. Указ. соч. С. 73–74; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 22.
(обратно)584
Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. С. 48.
(обратно)585
Там же. С. 50.
(обратно)586
См.: Лемке М. К. 250 дней в царской Ставке. Пг., 1920. С. 192.
(обратно)587
Тимирёв С. Н. Указ. соч. С. 49–50.
(обратно)588
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 77–78.
(обратно)589
Богданов К. А. Указ. соч. С. 75–76.
(обратно)590
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 225.
(обратно)591
Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. С. 23.
(обратно)592
Бубнов А. Д. В царской Ставке. СПб., 1995. С. 101.
(обратно)593
Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. С. 57.
(обратно)594
Cм.: Жильяр П. Император Николай II и его семья. Вена, 1921. С. 114; Мосолов А. А. При дворе последнего российского императора. М., 1993. С. 182; Фабрицкий С. С. Из прошлого. Воспоминания флигель-адъютанта государя императора Николая П. Берлин, 1926. С. 149; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 83.
(обратно)595
См.: Дневники императора Николая П. М., 1991. С. 544–603; Бубнов А. Д. Указ. соч. С. 78; Жильяр П. Указ. соч. С. 108–109; Мосолов А. А. Указ. соч. С. 30, 246.
(обратно)596
См.: Дневники императора Николая П. С. 594; АРР. Т. X. С. 201–202; РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 9. Д. 1900. Л. 15 об.
(обратно)597
Петров М. А. Подготовка России к мировой войне на море. М.; Л., 1926. С. 247.
(обратно)598
Золотарёв В. А. и др. История флота государства Российского. С. 297.
(обратно)599
См.: Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. С. 24; Золотарёв В. А. и др. История флота государства Российского. С. 300–301; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 29, ПО; РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 203. Л. 4–6.
(обратно)600
Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. С. 24–25.
(обратно)601
Филатьев Д. В. Катастрофа белого движения в Сибири. 1918–1922. Paris, 1985. С.14; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 74–75; РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 203. Л. 3–4.
(обратно)602
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 901. Л. 1.
(обратно)603
РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 203. Л. 2–3.
(обратно)604
Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. С. 26–27.
(обратно)605
Чернушевич А. М. Первый поход с адмиралом Колчаком в Чёрное море // Морские записки. 1943. Т. I. № 2. С. 41–43; Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. С. 27–28.
(обратно)606
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 901. Л. 1–2.
(обратно)607
Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. С. 28.
(обратно)608
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 901. Л. 3.
(обратно)609
Там же. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 203. Л. 7.
(обратно)610
Милая химера в адмиральской форме… С. 101.
(обратно)611
РГАВМФ. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 199. Л. 32.
(обратно)612
Новое время. 1916. 17 сент.
(обратно)613
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 72–73.
(обратно)614
Торяник А. И. Воспоминания. Харьков, 1958. С. 32–33.
(обратно)615
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 72.
(обратно)616
РГАВМФ. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 203. Л. 8.
(обратно)617
Там же. Л. 12–13.
(обратно)618
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 145.
(обратно)619
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 75; Милая химера… С. 120.
(обратно)620
Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. С. 28.
(обратно)621
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 901. Л. 4–5.
(обратно)622
Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. С. 29; Золотарёв В. А. и др. Указ. соч. С. 313.
(обратно)623
Там же. С. 311.
(обратно)624
Там же. См. также: ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 73–74.
(обратно)625
Золотарёв В. А. и др. Указ. соч. С. 314–315; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 76–77.
(обратно)626
Золотарёв В. А. и др. История флота государства Российского. С. 29, 312; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 76.
(обратно)627
Милая химера… С. 24–26.
(обратно)628
Там же. С. 37.
(обратно)629
Там же. С. 50.
(обратно)630
Там же. С. 57.
(обратно)631
Ахматова А. Соч. Т. 1. М., 1987. С. 372.
(обратно)632
РГАВМФ. Ф. 11. Оп. 1. Д. 58. Л. 42 об.
(обратно)633
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 79; Милая химера… С. 51.
(обратно)634
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 78.
(обратно)635
Милая химера… С. 36.
(обратно)636
Там же. С. 47, 109.
(обратно)637
Там же. С. 40.
(обратно)638
Там же. С. 46.
(обратно)639
Там же. С. 22, 57, 108.
(обратно)640
РГАВМФ. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 203. Л. 10.
(обратно)641
См.: Есютин Т. Гибель корабля «Императрица Мария». Воспоминания моряка Черноморского флота. М.; Л., 1931. С. 16–20.
(обратно)642
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 78.
(обратно)643
Крылов А. Н. Мои воспоминания. Л., 1979. С. 234–235; РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 910. Л. 1; Д. 911. Л. 123; Ф. Р —29. Оп. 1. Д. 203. Л. 11.
(обратно)644
РГАВМФ. Ф. 609 (Штаб командующего флотом Чёрного моря). Оп. 1. Д. 959. Л. 240 об.
(обратно)645
Крылов А. Н. Указ. соч. С. 235; РГАВМФ. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 203. Л. 11.
(обратно)646
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 910. Л. 1.
(обратно)647
Адмирал А. В. Колчак и гибель линейного корабля «Императрица Мария». Публикация А. Е. Иоффе, Л. И.Спиридоновой // Русское прошлое. СПб., 1994. Кн. 5. С. 64.
(обратно)648
Милая химера… С. 68.
(обратно)649
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 910. Л. 47, 48, 50–52.
(обратно)650
Крылов А. Н. Указ. соч. С. 236–241.
(обратно)651
Григорович И. К. Воспоминания бывшего морского министра. СПб., 1993. С. 186.
(обратно)652
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 910. Л. 108–114.
(обратно)653
АРР. Т. X. С. 213.
(обратно)654
Городыский А. В. Гибель линейного корабля «Императрица Мария» // Морской журнал. 1928. № 12. С. 15–16.
(обратно)655
Ёлкин А. С. Тайна гибели «Императрицы Марии». История одного поиска. М., 1993. С. 44.
(обратно)656
Там же. С. 63–68.
(обратно)657
Есютин Т. Указ. соч. С. 22.
(обратно)658
Есютин Т., Юферс Ш. Гибель «Марии». М.; Л., 1939. С. 30–32.
(обратно)659
Торяник А. И. Указ. соч. С. 32.
(обратно)660
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 533. Л. 79.
(обратно)661
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 80.
(обратно)662
РГАВМФ. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 203. Л. 8.
(обратно)663
Бубнов А. Д. Указ. соч. С. 104; Милая химера… С. 79–81, 84.
(обратно)664
Россия и черноморские проливы (XVIII–XX столетия). М., 1999. С. 206–207, 331–332.
(обратно)665
Бубнов А. Д. Указ. соч. С. 64.
(обратно)666
Там же. С. 123–124.
(обратно)667
Там же. С. 105, 124–126; См. также: Босфорская операция осталась на бумаге. Публикация В. В. Шигина // Военно-исторический журнал. 1995. № 1. С. 63–66.
(обратно)668
Там же. С. 61.
(обратно)669
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 930. Л. 67.
(обратно)670
Бубнов А. Д. Указ. соч. С. 128.
(обратно)671
Там же. С. 105; Военно-исторический журнал. 1995. № 1. С. 64.
(обратно)672
Кришевский Н. В Крыму (1916–1918 гг.) // АРР. Т. XIII. С. 72–76.
(обратно)673
Кризис самодержавия в России, 1895–1917. Л., 1984. С. 637–638. Автор раздела – В. С. Дякин.
(обратно)674
Милая химера… С. 82.
(обратно)675
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 149; АРР. Т. XIII. С. 75.
(обратно)676
АРР. Т. X. С. 211.
(обратно)677
Бубнов А. Д. Указ. соч. С. 87–88.
(обратно)678
Там же. С. 82.
(обратно)679
Воронович Н. В. Потонувший мир. М., 2001. С. 120.
(обратно)680
Переписка Николая и Александры Романовых. Т. 5. М.; Л., 1927. С. 189.
(обратно)681
Милая химера… С. 112.
(обратно)682
РГАВМФ. Ф. 609. Оп. 1. Д. 963. Л. 1.
(обратно)683
Там же. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 203. Л. 14–16.
(обратно)684
Там же. Ф. 609. Оп. 1. Д. 1235. Л. 1—29.
(обратно)685
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 150–153; АРР. Т. X. С. 214; Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. С. 30.
(обратно)686
АРР. Т. X. С. 214; Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. С. 30.
(обратно)687
См.: Из воспоминаний ген. Лукомского. – АРР. Т. П. С. 14.
(обратно)688
Переписка Николая и Александры Романовых. Т. 5. С. 218.
(обратно)689
АРР. Т. II. С. 16.
(обратно)690
См.: Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг. Ч. 1. Кн. 1. Palo Alto, California, 1937. С. 18–19.
(обратно)691
Бубнов А. Д. Указ. соч. С. 79.
(обратно)692
АРР. Т. II. С. 17–20.
(обратно)693
Дневники императора Николая П. С. 625.
(обратно)694
АРР. Т. II. С. 20–21.
(обратно)695
Там же. С. 20.
(обратно)696
Сорокин П. А. Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992. С. 78, 80.
(обратно)697
Дневники императора Николая П. С. 625.
(обратно)698
Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. С. 43.
(обратно)699
Дневники императора Николая II. С. 625.
(обратно)700
Головин Н. Н. Указ. соч. С. 48–54.
(обратно)701
Дневники императора Николая II. С. 625.
(обратно)702
АРР. Т. II. С. 22.
(обратно)703
Головин Н. Н. Указ. соч. С. 54–58.
(обратно)704
Богданов К. А. Адмирал Колчак. СПб., 1993. С. 89.
(обратно)705
Милая химера… С. 175.
(обратно)706
АРР. Т. X. С. 215.
(обратно)707
Дневники императора Николая II. С. 625.
(обратно)708
Нива. 1917. № 15. С. 215.
(обратно)709
Милая химера… С. 171.
(обратно)710
Зонин С. А. Наморси Республики. Выбор адмирала Вирена. СПб., 1998. С. 107–108.
(обратно)711
Тимирёв С. Н. Воспоминания морского офицера. С. 72–73.
(обратно)712
Грудачёв П. А. Багряным путём Гражданской. Симферополь, 1971. С. 8—10.
(обратно)713
Милая химера… С. 194.
(обратно)714
АРР. Т. Х. С. 210.
(обратно)715
Платонов А. П. Черноморский флот в революции 1917 г. и адмирал Колчак. Л., 1925. С. 31, 32; Головин Н. Н. Указ. соч. С. 48.
(обратно)716
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 113. Л. 63; Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. С. 31.
(обратно)717
Платонов А. П. Указ. соч. С. 33–34; АРР. Т. X. С. 217.
(обратно)718
АРР. Т. X. С. 215.
(обратно)719
Платонов А. П. Указ. соч. С. 35–37.
(обратно)720
АРР. Т. X. С. 216; См. также: Деникин А. И. История русской сму ты. С. 132.
(обратно)721
См.: Платонов А. П. Указ. соч. С. 38–40; РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 203. Л. 33–36, 40.
(обратно)722
Платонов А. П. Указ. соч. С. 49–50.
(обратно)723
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 155–157.
(обратно)724
Там же. С. 159–160.
(обратно)725
Платонов А. П. Указ. соч. С. 50.
(обратно)726
Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. М., 2001. С. 91.
(обратно)727
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…». С. 165.
(обратно)728
См.: Политические деятели России. 1917. Биографический сло варь. М., 1993. С. 63–64.
(обратно)729
Платонов А. П. Указ. соч. С. 51.
(обратно)730
АРР. Т. X. С. 216; См. также: Смирнов М. И. Адмирал А. В. Кол чак. С. 33.
(обратно)731
Русские ведомости. 1917. 16 апр.
(обратно)732
Милая химера… С. 182.
(обратно)733
Монастырёв Н. А. Гибель царского флота. СПб., 1995. С. 83.
(обратно)734
РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 203. Л. 32; АРР. Т. XIII. С. 88–89.
(обратно)735
Платонов А. П. Указ. соч. С. 51; АРР. Т. XIII. С. 90–92.
(обратно)736
Милая химера… С. 209.
(обратно)737
Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 263; АРР. Т. X. С. 217. Т. XIII. С. 87.
(обратно)738
АРР. Т. X. С. 218.
(обратно)739
Там же. См. также: РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 930. Л. 6–7; Ми лая химера… С. 203–206.
(обратно)740
Иванов Г. В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1994. С. 435.
(обратно)741
АРР. Т. X. С. 219–220.
(обратно)742
Там же. С. 220–221.
(обратно)743
Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста. М., 1997. С. 330.
(обратно)744
Отечественные архивы. 1994. № 6. С. 25.
(обратно)745
АРР. Т. X. С. 221.
(обратно)746
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 195–196.
(обратно)747
Сорокин П. А. Указ. соч. С. 87.
(обратно)748
В официальном журнале заседаний не отмечено присутствие ни Алексеева, ни Колчака и не упоминаются обсуждавшиеся с их участи ем вопросы. Видимо, эта секретная часть заседания не протоколировалась или протоколировалась отдельно. См.: Журналы заседаний Временного правительства. Т. 1. С. 324–334.
(обратно)749
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 190.
(обратно)750
Там же. С. 177.
(обратно)751
Там же. С. 195; АРР. Т. X. С. 222.
(обратно)752
Милая химера… С. 207.
(обратно)753
АРР. Т. X. С. 222–224; Александр Иванович Гучков рассказыва ет… М., 1993. С. 103–106.
(обратно)754
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 172.
(обратно)755
Там же. С 173.
(обратно)756
Милая химера… С. 207–208.
(обратно)757
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 176, 180, 188.
(обратно)758
Милая химера… С. 218.
(обратно)759
Там же. С. 219.
(обратно)760
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 189, 197.
(обратно)761
Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак. Исследователь, адмирал, верховный правитель России. М., 2002. С. 246–247; АРР. Т. XIII. С. 92–93.
(обратно)762
РГАВМФ. Ф. 609. Оп. 1. Д. 1235. Л. 32–37. Сокращённый вари ант: Звезда. 1994. № 4. С. 132–136.
(обратно)763
АРР. Т. XIII. С. 93.
(обратно)764
Платонов А. П. Указ. соч. С. 64–65; Милая химера… С. 215.
(обратно)765
Платонов А. П. Указ. соч. С. 73–76; РГАВМФ. Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 203. Л. 45–46 а; АРР. Т. X. С. 228.
(обратно)766
Платонов А. П. Указ. соч. С. 76.
(обратно)767
Нилус А.А. Революция в Одессе. – ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 538. Л. 4 об. – 5.
(обратно)768
РГАВМФ. Ф. Р – 29. Оп. 1. Д. 203. Л. 46 а.
(обратно)769
АРР. Т. X. С. 230.
(обратно)770
Платонов А. П. Указ. соч. С. 81–83; АРР. Т. X. С. 230.
(обратно)771
Монастырёв НА. Гибель… С. 85.
(обратно)772
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 176.
(обратно)773
См.: Там же. С. 175–176; РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 930. Л. 32–35.
(обратно)774
Платонов А. П. Указ. соч. С. 76–77; РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 930. Л. 42–43.
(обратно)775
Там же. Л. 7, 10, 44, 47.
(обратно)776
Там же. Л. 40.
(обратно)777
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 190.
(обратно)778
Платонов А. П. Указ. соч. С. 77.
(обратно)779
Там же. С. 87; АРР. Т. X. С. 227; Веселого Г. М. Несколько эпизодов из моей службы в Чёрном море // Морские записки. 1952. Т. X. № 1–2. С. 25.
(обратно)780
Платонов А. П. Указ. соч. С. 85–87.
(обратно)781
Там же. С. 86.
(обратно)782
Ленин В. И. Полн. собр. соч.: В 55 т. Т. 33. С. 28.
(обратно)783
АРР. Т. X. С. 231–232.
(обратно)784
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 113. Л. 306–307.
(обратно)785
Платонов А. П. Указ. соч. С. 89; Маленькая газета. 1917. 13 июня.
(обратно)786
См.: Военно-морская миссия вице-адмирала А. В. Колчака в Америку. Публикация С. В. Дрокова // Отечественные архивы. 1996. № 1. С. 81.
(обратно)787
См.: Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. С. 36–37; Бубнов А. Д. Указ. соч. С. 150–151; Платонов А. П. Указ. соч. С. 90; АРР. Т. X. С. 233–234; РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 920. Л. 1; Д. 930. Л. 75; Ф. Р—29. Оп. 1. Д. 203. Л. 49–53.
(обратно)788
См.: Отечественные архивы. 1996. № 1. С. 77.
(обратно)789
Журналы заседаний Временного правительства. Т. 2. М., 2002. С. 250–251; АРР. Т. X. С. 234–235.
(обратно)790
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 г. Т. 3. М., 2002. С. 316.
(обратно)791
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 202–203; АРР. Т. X. С. 235–236.
(обратно)792
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 205–206.
(обратно)793
Журналы заседаний Временного правительства. Т. 2. С. 458.
(обратно)794
АРР. Т. Х. С. 237–238.
(обратно)795
См.: Иоффе Г. 3. «Белое дело». Генерал Корнилов. М., 1989. С. 53; Головин Н. Н. Указ. соч. С. 136.
(обратно)796
Поликарпов В. Д. Военная контрреволюция в России, 1905–1917. М., 1990. С. 204–205.
(обратно)797
РГАВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 115. Л. 15.
(обратно)798
АРР. Т. Х. С. 237.
(обратно)799
Иоффе Г. 3. Указ. соч. С. 53–54.
(обратно)800
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 207.
(обратно)801
Деникин А. И. Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнило ва. Август 1917 г. – апрель 1918 г. М., 1991. С. 29.
(обратно)802
Источник. 1996. № 4. С. 66.
(обратно)803
См.: Деникин А. И. Очерки русской смуты. Борьба генерала Кор нилова. С. 42.
(обратно)804
Милая химера… С. 223.
(обратно)805
Иванов Г. В. Собр. соч. Т. 3. С. 53.
(обратно)806
Савинков Б. Воспоминания. М., 1990. С. 4.
(обратно)807
Деникин А. И. Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнилова. С. 29.
(обратно)808
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 221.
(обратно)809
Политическая история России – СССР – Российской Федерации. М., 1996. Т. 2. С. 28–29; АРР. Т. II. С. 41; Т. X. С. 239–240.
(обратно)810
Авалов П. М. В борьбе с большевизмом. Гамбург, 1925. С. 26.
(обратно)811
Смирнов М. И. Указ. соч. С. 40.
(обратно)812
АРР. Т. X. С. 242.
(обратно)813
Отечественные архивы. 1996. № 1. С. 79.
(обратно)814
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 229.
(обратно)815
Записки старшего лейтенанта В. С. Макарова // Морские записки. 1943. Т. 1. № 4. С. 104.
(обратно)816
Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. С. 40; Отечественные архивы. 1996. № 1. С. 80–81.
(обратно)817
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 208, 210–211, 214; АРР. Т. X. С. 242–244.
(обратно)818
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 211–213; см. так же: Соболев Д. А. История самолётов. Начальный период. М., 1995. С. 295–297.
(обратно)819
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 214.
(обратно)820
АРР. Т. Х. С. 243.
(обратно)821
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 218–219.
(обратно)822
Там же. С. 209, 221.
(обратно)823
Там же. С. 221–225.
(обратно)824
АРР. Т. Х. С. 244.
(обратно)825
Отечественные архивы. 1996. № 1. С. 80.
(обратно)826
См.: Морские записки. 1943. Т. 1. № 4. С. 103–104.
(обратно)827
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 227–228.
(обратно)828
См.: Дроков С. В. Александр Васильевич Колчак // Вопросы ис тории. 1991. № 1. С. 58.
(обратно)829
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 230.
(обратно)830
АРР. Т. X. С. 245–246; Отечественные архивы. 1996. № 1. С. 80–82; Источник. 1996. № 4. С. 66; Вопросы истории. 1991. № 1. С. 59. См. также: Фрейд 3., Буллит У. Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США. Психологическое исследование. М., 1999. С. 46–48, 152–154; Сибирские огни. 1927. № 4. С. 135.
(обратно)831
АРР. Т. X. С. 247.
(обратно)832
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 233–234.
(обратно)833
Там же. С. 235; АРР. Т. X. С. 247.
(обратно)834
Там же. С. 248; «Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 235, 246–247.
(обратно)835
Там же. С. 236.
(обратно)836
Там же. С. 237–238.
(обратно)837
Там же. С. 235–237.
(обратно)838
Там же. С. 230–232, 240–241.
(обратно)839
Там же. С. 261–262, 275.
(обратно)840
Там же. С. 247.
(обратно)841
Там же. С. 256; АРР. Т. XIII. С. 102–107.
(обратно)842
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 730 б. Л. 37.
(обратно)843
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 253.
(обратно)844
Колчак Р. А. Адмирал Колчак. Его род и семья // Военно-исторический вестник. 1959. № 14. С. 26.
(обратно)845
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 284–285.
(обратно)846
Мелихов Г. В. Российская эмиграция в Китае (1917–1924). М., 1997. С. 41.
(обратно)847
См.: Лемке М. К. Указ. соч. С. 275, 469.
(обратно)848
АРР. Т. X. С. 251–253.
(обратно)849
Мелихов Г. В. Указ. соч. С. 41.
(обратно)850
Подробнее см.: Мелихов Г. В. Маньчжурия далёкая и близкая. М., 1991.
(обратно)851
См.: Будберг А. П. Дневник. – АРР. Т. XIII. С. 197–198.
(обратно)852
Там же. С. 210.
(обратно)853
Тинский Г. Атаман Семёнов, его жизнь и деятельность. Б/м, 1920. С. 10.
(обратно)854
Орлов Н. В. Смутные дни в Харбине и адмирал Колчак. – ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 549. Л. 34 об.
(обратно)855
См.: Мельгунов С. П. Трагедия адмирала Колчака. Ч. III. Т. 1. Белград, 1930. С. 236–237.
(обратно)856
АРР. Т. XIII. С. 210, 214.
(обратно)857
ГАРФ. Ф. 5881. On. 2. Д. 549. Л. 24–25.
(обратно)858
АРР. Т. XIII. С. 211–213; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 549. Л. 25–26.
(обратно)859
Семёнов Г. М. О себе: воспоминания, мысли и выводы. М., 1999. С. 132–133; Тинский Г. Указ. соч. С. 3–7; Мельгунов СП. Указ. соч. С. 238; АРР. Т. XIII. С. 282; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 181. Л. 1—22.
(обратно)860
АРР. Т. Х. С. 258–259.
(обратно)861
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 549. Л. 26–27; АРР. Т. X. С. 259. См. также: «Злостные для русского дела события». Записка адмирала А. В. Колчака // Исторический архив. 1998. № 3. С. 76.
(обратно)862
Семёнов Г. М. Указ. соч. С. 159–160.
(обратно)863
АРР. Т. X. С. 259–260.
(обратно)864
АРР. Т. X. С. 260–261; Исторический архив. 1998. № 3. С. 77.
(обратно)865
АРР. Т. X. С. 262–263; Т. XIII. С. 216, 220; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 549. Л. 27 об.
(обратно)866
АРР. Т. XIII. С. 218.
(обратно)867
АРР. Т. X. С. 263; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 549. Л. 28.
(обратно)868
АРР. Т. XIII. С. 217; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 549. Л. 28 об.
(обратно)869
Исторический архив. 1998. № 3. С. 80; АРР. Т. XIII. С. 216–220; ГАРФ. 5881. Оп. 2. Д. 549. Л. 29.
(обратно)870
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 286.
(обратно)871
Там же. С. 83–85.
(обратно)872
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 549. Л. 34.
(обратно)873
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 85–87; Отечественные архивы. 1994. № 6. С. 54.
(обратно)874
АРР. Т. X. С. 264; Деникин А. И. Очерки русской смуты. Кн. 2. М., 2003. С. 490.
(обратно)875
АРР. Т. X. С. 273–274.
(обратно)876
Иностранцев М. А. Адмирал Колчак и его катастрофа. – ГАРФ. Ф. 5960. Оп. 1. Д. 8 а. Л. 39.
(обратно)877
Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. 1918–1920 гг. Т. 2. Пе кин, 1921. С. 45; АРР. Т. X. С. 275.
(обратно)878
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 88, 126, 304.
(обратно)879
Там же. С. 320; АРР. Т. X. С. 272, 274.
(обратно)880
Сибирь (Иркутск). 1991. № 1. С. 221–222.
(обратно)881
АРР. Т. X. С. 250.
(обратно)882
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 303.
(обратно)883
См.: Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг. Ч. 3. Кн. 7. Palo Alto, 1937. С. 70–71; Клеванский А. X. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. М., 1965. С. 201–202.
(обратно)884
Головин Н. Н. Указ. соч. С. 66–67, 69.
(обратно)885
Там же. С. 72–73.
(обратно)886
Декреты Советской власти (ДСВ). Т. 2. М., 1959. С. 261–264, 301, 416.
(обратно)887
См.: Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. 1918–1920. Т. 2. Пе кин, 1921. С. 233–234.
(обратно)888
См.: Головин Н. Н. Указ. соч. Ч. 3. Кн. 7. С. 74.
(обратно)889
Там же. С. 101–102.
(обратно)890
Воробьёв А. Восстание на Ижевском и Боткинском заводах в авгу сте 1918 г. // Часовой. Брюссель, 1987. № 663. С. 8–9.
(обратно)891
Гармиза В. В. Крушение эсеровских правительств. М., 1970. С. 19–28.
(обратно)892
Головин Н. Н. Указ. соч. Ч. 3. Кн. 7. С. 88.
(обратно)893
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачёва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 48–49.
(обратно)894
О Михайлове см.: Гинс Г. К. Указ. соч. С. 111–112; Вибе П. П. и др. Указ. соч. С. 145–146.
(обратно)895
Арнольдов Л. В. Жизнь и революция. Гроза пятого года. Белый Омск. Шанхай, 1935. С. 124.
(обратно)896
Сибирский вестник. Омск, 1918. 23 авг. См. также: Носилов К. Д. По Юго-западной Сибири // Естествознание и география. 1896. № 4. С. 459–461.
(обратно)897
Филатьев Д. В. Катастрофа Белого движения в Сибири. Paris, 1985. С. 47–48.
(обратно)898
Вибе П. П. и др. Указ. соч. С. 67.
(обратно)899
ДСВ. Т. 2. С. 334–335.
(обратно)900
См.: Молодцыгин М. А. Красная армия: рождение и становление. М., 1997. С. 121, 165.
(обратно)901
Головин Н. Н. Указ. соч. Ч. 3. Кн. 7. С. 119–120.
(обратно)902
Клеванский А. X. Указ. соч. С. 266.
(обратно)903
Болдырев В. Г. Директория. Колчак. Интервенты. Воспоминания. Новониколаевск, 1925. С. 47.
(обратно)904
Гармиза В. В. Указ. соч. С. 201.
(обратно)905
Арнольдов Л. В. Указ. соч. С. 124–129; Вибе П. П. и др. Указ. соч. С. 159.
(обратно)906
Гармиза В. В. Указ. соч. С. 202.
(обратно)907
Болдырев В. Г. Указ. соч. С. 66.
(обратно)908
Иностранцев М. А. Адмирал Колчак и его катастрофа. – ГАРФ. Ф. 5960. Оп. 1. Д. 8 а. Л. 25–27; Болдырев В. Г. Указ. соч. С. 74.
(обратно)909
Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. 1918–1920. Пекин, 1921. Т. 1. С. 271.
(обратно)910
См.: Арнольдов Л. В. Указ. соч. С. 180; Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 1. С. 256–257, 266–267; Т. 2. С. 113–114; Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX в. Энциклопедия. М., 1996. С. 15–17; Оте чественные архивы. 1994. № 6. С. 56; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 179. Л. 181.
(обратно)911
Болдырев В. Г. Указ. соч. С. 69; Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 1. С. 261.
(обратно)912
Гинс Г. К. Указ. соч. С. 259–260; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 179. Л. 183–185.
(обратно)913
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 1. С. 261.
(обратно)914
Там же. С. 291–295.
(обратно)915
Там же. С. 272; Гайда Р. Мои воспоминания. Перевод с чешского. – Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Л. 175–176.
(обратно)916
Болдырев В. Г. Указ. соч. С. 61.
(обратно)917
Там же. С. 73–74.
(обратно)918
См.: Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 220.
(обратно)919
Сибирский вестник. 1918. 9 и 29 окт., 3 нояб.; ГАРФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 1. Л. 366; Д. 15. Л. 216.
(обратно)920
См.: Мельгунов С. П. Трагедия адмирала Колчака. Ч. 2. Белград, 1930. С. 99—102; Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 1. С. 275.
(обратно)921
Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 2. С. 83–88.
(обратно)922
Cм.: АРР. Т. X. С. 276; Окулич И. К. Мои воспоминания. – ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 410. Л. 32.
(обратно)923
АРР. Т. X. С. 276–277.
(обратно)924
Там же. С. 277; Сибирский вестник. 1918. 24 сент.
(обратно)925
Арнольдов Л. В. Указ. соч. С. 257.
(обратно)926
АРР. Т. XIV. С. 234.
(обратно)927
РГВА. Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Л. 168.
(обратно)928
АРР. Т. X. С. 277–278.
(обратно)929
РГВА. Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Л. 169.
(обратно)930
Дневник Пепеляева // Красные зори. Иркутск, 1923. № 4. С. 78.
(обратно)931
АРР. Т. X. С. 280–283; Болдырев В. Г. Указ. соч. С. 72.
(обратно)932
Cм.: Арнольдов Л. В. Указ. соч. С. 141; Гоппер К. И. Четыре катастрофы. Воспоминания. Рига, 1920. С. 96.
(обратно)933
Деникин А. И. Очерки русской смуты. Кн. 2. М., 2003. С. 465, 496.
(обратно)934
АРР. Т. X. С. 282–283.
(обратно)935
Там же. С. 283–284; Болдырев В. Г. Указ. соч. С. 73.
(обратно)936
См.: Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 1. С. 274; Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 2. С. 60, 121.
(обратно)937
Болдырев В. Г. Указ. соч. С. 84–86.
(обратно)938
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 1. С. 276.
(обратно)939
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 57. Л. 140.
(обратно)940
Там же. Ф. 5960. Оп. 1. Д. 8 а. Л. 31.
(обратно)941
Серебренников И. И. Мои воспоминания. Т. 1. Тяньцзинь, 1937. С. 207–208; К образованию всероссийской власти в Сибири (из дневника П. В. Вологодского: 8 сентября – 4 ноября 1918). Публикация Д. Вульфа, С. Ляндерса // Отечественная история. 2001. № 1. С. 146.
(обратно)942
Cм.: Уорд Дж. Союзная интервенция в Сибири. М.; Пг., 1923. С. 68–69; Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 1. С. 282–283.
(обратно)943
РГВА. Ф. 39597. Оп. 1. Д. 5. Л. 8–9; Д. 6. Л. 1.
(обратно)944
Уорд Дж. Указ. соч. С. 70–71.
(обратно)945
РГВА. Ф. 39597. Оп. 1. Д. 6. Л. 4.
(обратно)946
См.: Шишкин В. И. К истории колчаковского переворота // Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия истории, филологии и философии. Новосибирск, 1989. Вып. 1. С. 60.
(обратно)947
См.: Гоппер К. И. Указ. соч. С. 82–84.
(обратно)948
Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак. Париж, 1930. С. 46.
(обратно)949
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 1. С. 307.
(обратно)950
Богданов К. А. Адмирал Колчак. СПб., 1993. С. 167–168; АРР. Т. X. С. 291.
(обратно)951
Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак. Исследователь, адмирал, верховный правитель России. М., 2002. С. 115.
(обратно)952
Серебренников И. И. Указ. соч. Т. 1. С. 220.
(обратно)953
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 180. Л. 85, 90–92.
(обратно)954
Красные зори. 1923. № 4. С. 84–85.
(обратно)955
АРР. Т. X. С. 289; РГВА. Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Л. 171.
(обратно)956
Красные зори. 1923. № 4. С. 87.
(обратно)957
АРР. Т. X. С. 286.
(обратно)958
РГВА. Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Л. 172.
(обратно)959
Там же. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 45. Л. 1.
(обратно)960
АРР. Т. X. С. 290; Болдырев В. Т. Указ. соч. С. 105.
(обратно)961
Уорд Дж. Указ. соч. С. 15–11.
(обратно)962
РГВА. Ф. 39597. Оп. 1. Д. 6. Л. 8.
(обратно)963
Красные зори. 1923. № 4. С. 87.
(обратно)964
Шишкин В. И. Указ. соч. С. 61.
(обратно)965
Аргунов А. Между двумя большевизмами. Paris, 1919. С. 36.
(обратно)966
См.: Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 2. С. 145–146; Государственный переворот адмирала Колчака в Омске 18 ноября 1918 г. Сб. документов. Собрал и издал В. Зензинов. Париж, 1919. С. 161.
(обратно)967
Шишкин В. И. Указ. соч. С. 61.
(обратно)968
АРР. Т. X. С. 293; Красные зори. 1923. № 4. С. 88; Россия анти большевистская. С. 122.
(обратно)969
Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920. М., 2003. С. 526.
(обратно)970
Серебренников И. И. Указ. соч. С. 218.
(обратно)971
Процесс над колчаковскими министрами. С. 526–527.
(обратно)972
Гинс Г. К. Указ. соч. С. 310.
(обратно)973
АРР. Т. X. С. 294–295; Гинс Г. К. Указ. соч. С. 308.
(обратно)974
Процесс над колчаковскими министрами. С. 533; Россия анти большевистская. С. 124.
(обратно)975
Процесс над колчаковскими министрами. С. 112–113.
(обратно)976
Там же. С. 527–528.
(обратно)977
Там же. С. 529.
(обратно)978
АРР. Т. X. С. 298.
(обратно)979
Красные зори. 1923. № 4. С. 88.
(обратно)980
Россия антибольшевистская. С. 117.
(обратно)981
Правительственный вестник. Омск, 1919. 14 янв.
(обратно)982
Головин Н. Н. Указ. соч. Ч. 4. Кн. 9. С. 109.
(обратно)983
Аргунов А. Указ. соч. С. 38.
(обратно)984
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 180. Л. 102.
(обратно)985
Государственный переворот адмирала Колчака. С. 161–167.
(обратно)986
Политические партии России. С. 16.
(обратно)987
См.: Головин Н. Н. Указ. соч. Ч. 4. Кн. 9. С. 108–111.
(обратно)988
Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. СПб.; М., 2002. С. 237.
(обратно)989
Гоппер К. И. Указ. соч. С. 102–103.
(обратно)990
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 180. Л. 97.
(обратно)991
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 10. Л. 30.
(обратно)992
Процесс над колчаковскими министрами. С. 125, 535.
(обратно)993
АРР. Т. X. С. 296.
(обратно)994
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 15–16; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 180. Л. 109.
(обратно)995
ГАРФ. Ф. 5960. Оп. 1. Д. 8 а. Л. 36–37.
(обратно)996
Там же. Ф. 176. Оп. 1. Д. 21. Л. 1 об.
(обратно)997
Красные зори. 1923. № 4. С. 88.
(обратно)998
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 34–35.
(обратно)999
АРР. Т. X. С. 300; Государственный переворот адмирала Колчака. С. 79.
(обратно)1000
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 6.
(обратно)1001
Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 2. С. 173.
(обратно)1002
Там же. С. 174–176; РГВА. Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Л. 178.
(обратно)1003
РГВА. Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Л. 181 об. – 182.
(обратно)1004
См.: РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 45.
(обратно)1005
Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 2. С. 179.
(обратно)1006
Государственный переворот адмирала Колчака. С. 49.
(обратно)1007
См.: РГВА. Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Л. 182 об.
(обратно)1008
АРР. Т. Х. С. 306.
(обратно)1009
Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 2. С. 177–189; Петров П. П. От Волги до Тихого океана в рядах белых (1918–1922). Рига, 1930. С. 63; АРР. Т. X. С. 306.
(обратно)1010
Политические партии России… С. 680–681.
(обратно)1011
Акулинин И. Г. Оренбургское казачье войско в борьбе с большевиками. 1917–1920. Шанхай, 1937. С. 102–103, 110.
(обратно)1012
Гоппер К. Указ. соч. С. 151; Волков С. В. Указ. соч. С. 37.
(обратно)1013
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 6. Л. 94–95. В «Дневнике» Вологодского эти телеграммы датируются 19 ноября (Россия антибольшевистская. С. 124). Это не единственная путаница с датами, которая там есть.
(обратно)1014
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 37–38.
(обратно)1015
РГВА. Ф. 39597. Оп. 1. Д. 27. Л. 3–4.
(обратно)1016
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 180. Л. 26; Мельгунов СП Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 241.
(обратно)1017
Арнольдов Л. В. Указ. соч. С. 139.
(обратно)1018
Россия антибольшевистская. С. 126; АРР. Т. X. С. 310.
(обратно)1019
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 1. С. 302.
(обратно)1020
Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 103.
(обратно)1021
Жанен М. Отрывки из моего Сибирского дневника // Сибирские огни. Новосибирск, 1927. № 4. С. 137–138.
(обратно)1022
Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 107.
(обратно)1023
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 7. Л. 15.
(обратно)1024
Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 116.
(обратно)1025
Елачич С. А. Обрывки воспоминаний. – ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 306. Л. 44.
(обратно)1026
Сибирские огни. 1927. № 4. С. 136–137.
(обратно)1027
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 147. Л. 43; Мельгунов СП. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 108.
(обратно)1028
См.: Арнольдов Л. В. Указ. соч. С. 206.
(обратно)1029
АРР. Т. X. С. 310; Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 98; Арнольдов Л. В. Указ. соч. С. 139.
(обратно)1030
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 180. Л. 149; Вибе П. П. и др. Указ. соч. С. 49–50.
(обратно)1031
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 180. Л. 153; Сибирская речь. 1918. 24 дек.; Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 96.
(обратно)1032
Омские события при Колчаке (21–23 декабря 1918 г.) // Красный архив. 1924. Т. 7. С. 209.
(обратно)1033
Там же. С. 213.
(обратно)1034
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 180. Л. 154.
(обратно)1035
Процесс над колчаковскими министрами. С. 574.
(обратно)1036
Красный архив. 1924. Т. 7. С. 204, 235.
(обратно)1037
Там же. С. 211.
(обратно)1038
См.: Всероссийское Учредительное собрание. М.; Л., 1930. С. 116–138.
(обратно)1039
Красный архив. 1924. Т. 7. С. 211.
(обратно)1040
Там же. С. 211, 222.
(обратно)1041
Красный архив. 1924. № 7. С. 211, 239–240; 1925. № 1 (8). С. 190.
(обратно)1042
Там же. 1924. № 7. С. 222.
(обратно)1043
Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 55; Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 97.
(обратно)1044
Красный архив. 1924. Т. 7. С. 201, 227.
(обратно)1045
Там же. С. 224, 236–237.
(обратно)1046
Там же. С. 204, 245.
(обратно)1047
Там же. С. 236, 246.
(обратно)1048
Там же. С. 231, 246.
(обратно)1049
Там же. С. 213.
(обратно)1050
Красный архив. 1925. № 1 (8). С. 184.
(обратно)1051
АРР. Т. X. С. 316–317.
(обратно)1052
Cм.: Колосов Е. Е. Сибирь при Колчаке. Воспоминания, материалы, документы. Пг., 1923. С. 101; Серебренников И. И. Указ. соч. Т. 1. С. 234–235.
(обратно)1053
АРР. Т. X. С. 314; Арнольдов Л. В. Указ. соч. С. 177.
(обратно)1054
Рябиков П.Ф. У адмирала Колчака. – ГАРФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1 г. Л. 8.
(обратно)1055
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 65. Л. 8 об.
(обратно)1056
АРР. Т. X. С. 308.
(обратно)1057
Какурин Н. Е. Как сражалась революция. Т. 2. М.; Л., 1926. С. 120–121.
(обратно)1058
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 46. Л. 8.
(обратно)1059
Там же. Л. 4.
(обратно)1060
РГВА. Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Л. 157–159.
(обратно)1061
Там же. Л. 159 об. – 160 об.
(обратно)1062
Там же. Л. 162.
(обратно)1063
Там же. Л. 204.
(обратно)1064
Там же. Л. 165.
(обратно)1065
См.: Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. Ч. 123.
(обратно)1066
Там же. С. 124.
(обратно)1067
РГВА. Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Л. 166 об.
(обратно)1068
Там же. Л. 223; см. также: Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 125.
(обратно)1069
Петров П. П. Указ. соч. С. 63–64; Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 122.
(обратно)1070
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 48. Л. 1.
(обратно)1071
Богданов К. А. Указ. соч. С. 197.
(обратно)1072
Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 139.
(обратно)1073
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» М., 1996. С. 8.
(обратно)1074
Россия антибольшевистская. С. 135.
(обратно)1075
Подсчёты производились на основании данных за 1913 год. Исключены территории, население коих фактически не привлекалось ни в белые армии, ни в Красную армию – Западная Белоруссия, Украина и Новороссия (за исключением Харьковской губернии), Закавказье и Южный Туркестан. Воронежская и Саратовская губернии, входившие в зону военных действий, условно разделены поровну между красными и белыми. Пермская губерния полностью засчитана за белыми, Уфимская – за красными. См.: Россия, 1913 год. Статистико-документальный справочник / Под ред. А. П. Корелина. СПб., 1995. С. 18–22; История гражданской войны в СССР. Т. 3. М., 1957. С. 342–343 (карта-вклейка), 392–398.
(обратно)1076
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 104–106.
(обратно)1077
Серебренников И. И. Указ. соч. С. 233.
(обратно)1078
См.: Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 24–25; Дневник Пепеляева // Красные зори. 1923. № 5. С. 39; Мельгунов СП. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 271–272.
(обратно)1079
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 113.
(обратно)1080
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 91. Л. 37.
(обратно)1081
См.: Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 283; Никольский А. А. Очерк финансовой политики Омского правительства. – ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 141. Л. 14–18.
(обратно)1082
Cибирская Вандея. Документы. Т. 1. 1919–1920 / Составитель В. И. Шишкин. М., 2000. С. 613.
(обратно)1083
Мельгунов С П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 305.
(обратно)1084
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 312. Л. 44 об. Процесс над колчаковскими министрами. С. 551–552.
(обратно)1085
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 22–23.
(обратно)1086
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 180. Л. 192–193; Оп. 2. Д. 141. Л. 11.
(обратно)1087
Там же. Оп. 1. Д. 180. Л. 201–202.
(обратно)1088
Там же. On. 2. Д. 141. Л. 9—10.
(обратно)1089
Там же. Л. 81–82.
(обратно)1090
ГАРФ. ф. 5881. Оп. 1. Д. 180. Л. 190.
(обратно)1091
Петров П. П. Указ. соч. С. 73.
(обратно)1092
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 141. Л. 86–87.
(обратно)1093
Там же. Л. 84–85.
(обратно)1094
Там же. Л. 75, 91–94.
(обратно)1095
Россия антибольшевистская. С. 135.
(обратно)1096
См.: ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 141. Л. 46–50.
(обратно)1097
Там же. Л. 38.
(обратно)1098
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 143. Л. 2 об.
(обратно)1099
Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 168.
(обратно)1100
Дитерихс М. К. Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале. Ч. 1. Владивосток, 1922. С. 12–14; Соколов Н. А. Убийство царской семьи. Из записок судебного следователя. СПб., 1998. С. 6–9.
(обратно)1101
Эйхе Г. X. Уфимская авантюра Колчака (март – апрель 1919 г.). М., 1960. С. 45–46.
(обратно)1102
Cм.: Там же. С. 45–57; РГВА. Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Л. 231–232.
(обратно)1103
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 307–308.
(обратно)1104
Арнольдов Л. В. Указ. соч. С. 161.
(обратно)1105
Ауслендер С. В поезде верховного правителя // Сибирская речь. 1919. 1 марта.
(обратно)1106
Там же. 18 марта.
(обратно)1107
Там же. 15 марта.
(обратно)1108
Там же. 27 марта.
(обратно)1109
См.: Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 183–184.
(обратно)1110
Там же. С. 125.
(обратно)1111
Там же. С. 126; РГВА. Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Л. 192.
(обратно)1112
Cибирская речь. 1919. 5 марта.
(обратно)1113
Там же. 12 марта.
(обратно)1114
Там же. 15 марта.
(обратно)1115
Красные зори. 1923. № 5. С. 34–35.
(обратно)1116
См.: Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 132.
(обратно)1117
Там же. С. 166.
(обратно)1118
Эйхе Г. X. Указ. соч. С. 80.
(обратно)1119
Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 167.
(обратно)1120
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 360. Л. 385.
(обратно)1121
Там же. Л. 376, 380–381.
(обратно)1122
Петров П. П. Указ. соч. С. 76.
(обратно)1123
Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 168; Эйхе Г. X. Указ. соч. С. 99—102.
(обратно)1124
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 360. Л. 375 об.
(обратно)1125
Эйхе Г. X. Указ. соч. С. 109.
(обратно)1126
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 360. Л. 373, 374, 379 об.
(обратно)1127
Петров П. П. Указ. соч. С. 77; Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 168.
(обратно)1128
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 360. Л. 366.
(обратно)1129
Петров П. П. Указ. соч. С. 78; РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 360. Л. 352, 355.
(обратно)1130
Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 169.
(обратно)1131
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 360. Л. 364.
(обратно)1132
Там же. Л. 363.
(обратно)1133
Там же. Л. 335, 337.
(обратно)1134
Там же. Л. 339; Петров П. П. Указ. соч. С. 79.
(обратно)1135
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 360. Л. 341, 350.
(обратно)1136
РГВА. Ф. 39499. On. 1. Д. 360. Л. 345–346.
(обратно)1137
Там же. Л. 338, 352.
(обратно)1138
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 292.
(обратно)1139
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 360. Л. 334.
(обратно)1140
См.: Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 176.
(обратно)1141
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 360. Л. 345, 347, 349.
(обратно)1142
Там же. Л. 321, 348.
(обратно)1143
См.: Советская деревня глазами ВЧК – ОПТУ – НКВД. Документы и материалы: В 4 т. Т. 1. М., 1998. С. 118–120, 747; РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 48. Л. 8; Д. 360. Л. 357.
(обратно)1144
Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 178.
(обратно)1145
См.: Петров П. П. Указ. соч. С. 79.
(обратно)1146
РГВА. Ф. 39597. Оп. 1. Д. 27. Л. 23–24.
(обратно)1147
Последние дни колчаковщины. Материал подготовлен к печати М. М. Константиновым. М.; Л., 1926. С. 109; Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 239.
(обратно)1148
См.: Плотников И. Ф. Указ. соч. С. 317.
(обратно)1149
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 103.
(обратно)1150
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 115. Л. 44, 62.
(обратно)1151
Белый архив. Т. 1. Париж. 1926. С. 137.
(обратно)1152
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 271.
(обратно)1153
См.: Фрейд 3., Буллит У. Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США. Психологическое исследование. М., 1999. С. 241–242.
(обратно)1154
Кузмин М. А. Стихотворения. СПб., 2000. С. 642–643.
(обратно)1155
Арнольдов Л. В. Указ. соч. С. 206–207.
(обратно)1156
См.: Ключников Ю. В., Сабанин А. В. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 2. М., 1926. С. 248–250; Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 157, 234–239; ГАРФ. Ф. 5960. Оп. 1. Д. 8 а. Л. 117–119.
(обратно)1157
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 168–173.
(обратно)1158
Дневник барона Алексея Будберга. – АРР. Т. XIV. С. 226.
(обратно)1159
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 312. Л. 13 об. – 14.
(обратно)1160
Там же. Д. 83. Л. 117.
(обратно)1161
ГАРФ. Ф. 5960. Оп. 1. Д. 8 а. Л. 69, 120–127.
(обратно)1162
Cм.: Гинс Т.К. Указ. соч. Т. 2. С. 151–158; Мельгунов СП. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 261–263.
(обратно)1163
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 141. Л. 98—105; Петров П. П. Указ. соч. С. 93.
(обратно)1164
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 187–190; АРР. Т. XIV. С. 234, 238–240, 243–245.
(обратно)1165
См.: Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 216–218; Процесс над колчаковскими министрами. С. 532–533, 537; ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 83. Л. 125–126.
(обратно)1166
См.: Мельгунов СП Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 168; Колосов Е.Е. Указ. соч. С. 50.
(обратно)1167
Там же. С. 48.
(обратно)1168
См.: Посадский А. В. Крестьянская самооборона в годы Гражданской войны в России (восточный регион) // Отечественная история. 2005. № 1. С. 128.
(обратно)1169
АРР. Т. XIV. С. 255.
(обратно)1170
См.: Сибирская Вандея. Т. 1. С. 64.
(обратно)1171
Красные зори. 1923. № 5. С. 34.
(обратно)1172
Cм.: Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 220–221; Процесс над колчаковскими министрами. С. 481; ГАРФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 1. Л. 103.
(обратно)1173
Колосов Е. Е. Указ. соч. С. 25–26.
(обратно)1174
Там же. С. 17.
(обратно)1175
Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 167–168, 181.
(обратно)1176
Колосов Е. Е. Указ. соч. С. 17–18.
(обратно)1177
Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 230–231; ГАРФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 55. Л. 29–34.
(обратно)1178
АРР. Т. X. С. 320–321.
(обратно)1179
Колосов Е. Е. Указ. соч. С. 20–22; Каменецкая 3. С казаками адмирала Колчака в северной тайге // Возрождение. Париж, 1955. Т. 48. С. 121; ГАРФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 55. Л. 29; Ф. 5960. Оп. 1. Д. 8а. Л. 163.
(обратно)1180
Плотников И. Ф. Указ. соч. С. 369–370, 651–652; ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 318. Л. 124.
(обратно)1181
Петров П. П. Указ. соч. С. 80–81.
(обратно)1182
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 360. Л. 334; Петров П. П. Указ. соч. С. 81.
(обратно)1183
Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 192.
(обратно)1184
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 360. Л. 330, 333; Д. 46. Л. 12, 14, 19; Пе тров П. П. Указ. соч. С. 81.
(обратно)1185
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 360. Л. 330–334.
(обратно)1186
Петров П. П. Указ. соч. С. 82.
(обратно)1187
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 46. Л. 12, 14, 18.
(обратно)1188
Петров П. П. Указ. соч. С. 82.
(обратно)1189
Там же. С. 86–88.
(обратно)1190
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 46. Л. 16.
(обратно)1191
Там же. Д. 360. Л. 330.
(обратно)1192
Там же. Д. 46. Л. 14, 16; Ф. 40169. Оп. 1. Д. 1. Л. 244, 248.
(обратно)1193
АРР. Т. XIV. С. 261, 271–272.
(обратно)1194
Россия антибольшевистская… С. 180–186; АРР. Т. XIV. С. 262–264, 267, 269, 276–279, 281; ГАРФ. Ф. 5960. Оп. 1. Д. 8 а. Л. 100–116.
(обратно)1195
Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 259.
(обратно)1196
См.: РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 271. Л. 1–3, 15–18, 36–37.
(обратно)1197
Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 261.
(обратно)1198
АРР. Т. XIV. С. 269.
(обратно)1199
Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 18–19.
(обратно)1200
Арнольдов Л. В. Указ. соч. С. 204–205.
(обратно)1201
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 147. Л. 19–21.
(обратно)1202
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 141. Л. 71, 109, 113.
(обратно)1203
Вибе П. П. и др. Указ. соч. С. 192; ГАРФ. Ф. 5960. Оп. 1. Д. 8а. Л. 153–156.
(обратно)1204
АРР. Т. XV. С. 278.
(обратно)1205
Там же. С. 275; ГАРФ. Ф. 5960. Оп. 1. Д. 8а. Л. 54.
(обратно)1206
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 364; АРР. Т. XV. С. 280.
(обратно)1207
АРР. Т. XV. С. 278–281; ГАРФ. Ф. 5960. Оп. 1. Д. 8 а. Л. 158.
(обратно)1208
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 143. Л. 1 об.; ГАРФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1 г, 296 об. См. также: Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 261.
(обратно)1209
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 141. Л. 113.
(обратно)1210
АРР. Т. XIV. С. 339.
(обратно)1211
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 410. Л. 40–41.
(обратно)1212
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 147. Л. 19–44.
(обратно)1213
ГАРФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1 г. Л. 296.
(обратно)1214
Там же. Л. 295 об. – 296; РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 143. Л. 3.
(обратно)1215
ГАРФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1 г. Л. 288 об.
(обратно)1216
АРР. Т. XV. С. 287.
(обратно)1217
ГАРФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1 г. Л. 298–302.
(обратно)1218
См.: Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 247–249; Процесс над колчаковскими министрами. С. 583.
(обратно)1219
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 83. Л. 167.
(обратно)1220
Россия антибольшевистская. С. 164.
(обратно)1221
АРР. Т. XIV. С. 300; ГАРФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1 г. Л. 7 об.
(обратно)1222
Россия антибольшевистская. С. 206–207.
(обратно)1223
См.: Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 247.
(обратно)1224
АРР. Т. XIV. С. 281–282.
(обратно)1225
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 368.
(обратно)1226
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 141. Л. 173.
(обратно)1227
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 346.
(обратно)1228
ГАРФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1 г. Л. 274.
(обратно)1229
Там же. Л. 294 об.
(обратно)1230
См.: Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993. С. 161 (статья В. В. Юрченко).
(обратно)1231
АРР. Т. XV. С. 273.
(обратно)1232
Колчак и Финляндия // Красный архив. 1929. Т. 2 (33). С. 118–119.
(обратно)1233
Там же. С. 128.
(обратно)1234
Там же. С. 136–137.
(обратно)1235
Там же. С. 138–140.
(обратно)1236
Там же. С. 138.
(обратно)1237
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 254–257; АРР. Т. XIV. С. 334; РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 147. Л. 43.
(обратно)1238
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 410. Л. 44.
(обратно)1239
Арнольдов Л. В. Указ. соч. С. 157.
(обратно)1240
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 254; ГАРФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1 г. Л. 287 об., 289, 296 об.; РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 143. Л. 2 об.—3.
(обратно)1241
АРР. Т. XIV. С. 286.
(обратно)1242
Россия антибольшевистская. С. 187–188.
(обратно)1243
Вибе П. П. и др. Указ. соч. С. 56; Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 150.
(обратно)1244
Россия антибольшевистская. С. 187–188; АРР. Т. XIV. С. 295.
(обратно)1245
Там же. С. 304.
(обратно)1246
См.: Петров П. П. Указ. соч. С. 98, 101–102.
(обратно)1247
Там же. С. 108.
(обратно)1248
Там же. С. 107.
(обратно)1249
См.: Волков С. В. Указ. соч. С. 518.
(обратно)1250
ГАРФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1 г. Л. 27 об.
(обратно)1251
АРР. Т. XIV. С. 328–329.
(обратно)1252
Cм.: Петров П. П. Указ. соч. С. 107–109; АРР. Т. XIV. С. 330–335.
(обратно)1253
Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 1. С. 152.
(обратно)1254
Волков С. В. Указ. соч. С. 292.
(обратно)1255
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 258. Л. 1.
(обратно)1256
См.: Южное Зауралье в период гражданской войны (1918–1920 гг.). Сб. документов и материалов. Курган, 1963. С. 122.
(обратно)1257
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 273.
(обратно)1258
См.: Шулдяков В. А. Гибель Сибирского казачьего войска (1917–1920). М., 2004. С. 351–354.
(обратно)1259
АРР. Т. XV. С. 272.
(обратно)1260
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 258; Шулдяков В. А. Гибель Сибирского казачьего войска. С. 355; Волков С. В. Указ. соч. С. 219.
(обратно)1261
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 353.
(обратно)1262
АРР. Т. XIV. С. 320–321.
(обратно)1263
АРР. Т. XV. С. 261.
(обратно)1264
Россия антибольшевистская. С. 210.
(обратно)1265
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 93. Л. 36.
(обратно)1266
ГАРФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1 г. Л. 33 об. – 34.
(обратно)1267
АРР. Т. XIV. С. 331, 337.
(обратно)1268
ГАРФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1 г. Л. 32 об.
(обратно)1269
См.: Там же. Л. 37–38.
(обратно)1270
См.: Шулдяков В. А. Гибель Сибирского казачьего войска. С. 407–408; ГАРФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1 г. Л. 34.
(обратно)1271
Шулдяков В. А. Гибель Сибирского казачьего войска. С. 393, 397.
(обратно)1272
Там же. С. 416–420; Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 308.
(обратно)1273
ГАРФ. Ф. 6219. Оп. 1. Д. 19. Л. 341.
(обратно)1274
Петров П. П. Указ. соч. С. 112.
(обратно)1275
См., напр.: ГАРФ. Ф. 6219. Оп. 1. Д. 19. Л. 361.
(обратно)1276
Волков С. В. Указ. соч. С. 219; ГАРФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1 г. Л. 35.
(обратно)1277
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 147. Л. 12.
(обратно)1278
Генерального Штаба генерал-майор Русский. Великий Сибирский поход. Зима 1919/20 г. – ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 215. Л. 1.
(обратно)1279
ГАРФ. Ф. 6219. Оп. 1. Д. 19. Л. 393; РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 147. Л. 12.
(обратно)1280
Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 299–301.
(обратно)1281
Там же. С. 350.
(обратно)1282
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 91. Л. 54–55; Д. 92. Л. 5–8.
(обратно)1283
Военно-исторический вестник. 1960. № 16. С. 17–20.
(обратно)1284
Волков С. В. Указ. соч. С. 600.
(обратно)1285
Петров П. П. Указ. соч. С. 114–116.
(обратно)1286
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 53. Л. 24, 27.
(обратно)1287
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 53. Л. 28–29, 32; ГАРФ. Ф. 6219. Оп. 1. Д. 19. Л. 299 об.
(обратно)1288
Петров П. П. От Волги до Тихого океана в рядах белых (1918–1922). Рига, 1930. С. 117.
(обратно)1289
См.: Южное Зауралье в период гражданской войны (1918–1920 гг.). Сб. документов и материалов. Курган, 1963. С. 157.
(обратно)1290
Петров П. П. Указ. соч. С. 117.
(обратно)1291
Какурин Н. Е. Как сражалась революция. Т. 2. М.; Л., 1926. С. 357; Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак: исследователь, адмирал, верховный правитель России. М., 2002. С. 156.
(обратно)1292
Шулдяков В. А. Гибель Сибирского казачьего войска (1917–1920). М., 2004. С. 499–500; ГАРФ. Ф. 6219. Оп. 1. Д. 19. Л. 34, 52.
(обратно)1293
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 215. Л. 4.
(обратно)1294
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 90. Л. 42–43.
(обратно)1295
Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. 1918–1920. Пекин, 1921. Т. 2. С. 408.
(обратно)1296
Дневник П. В. Вологодского / Россия антибольшевистская. Из белогвардейских и эмигрантских архивов. М., 1995. С. 239.
(обратно)1297
Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. Белград, 1931. С. 45–46.
(обратно)1298
Россия антибольшевистская. С. 240–241.
(обратно)1299
Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 2. С. 409.
(обратно)1300
Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 2. С. 410; Сахаров К. В. Белая Сибирь. Внутренняя война 1918–1920 гг. Мюнхен, 1923. С. 176.
(обратно)1301
Последние дни колчаковщины. Материал подготовлен к печати М. М. Константиновым. М.; Л., 1926. С. 55–56; Сахаров К. В. Указ. соч. С. 176–178.
(обратно)1302
Сахаров К. В. Указ. соч. С. 178–179.
(обратно)1303
Последние дни колчаковщины. С. 55; Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. С. 40, 43.
(обратно)1304
Последние дни колчаковщины. С. 55.
(обратно)1305
Сахаров К. В. Указ. соч. С. 179.
(обратно)1306
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 215. Л. 5.
(обратно)1307
Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 2. С. 410.
(обратно)1308
Там же. С. 411.
(обратно)1309
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 215. Л. 5.
(обратно)1310
Там же. См. также: Сахаров К. В. Указ. соч. С. 179, 182.
(обратно)1311
Там же. С. 181.
(обратно)1312
Там же. С. 179–180.
(обратно)1313
Иностранцев М. А. История, истина и тенденция. По поводу книги генерал-лейтенанта К. В. Сахарова «Белая Сибирь». Прага, 1933. С. 21.
(обратно)1314
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 53. Л. 127.
(обратно)1315
Богданов К. А. Адмирал Колчак. Биографическая повесть-хроника. СПб., 1993. С. 253.
(обратно)1316
Жанен М. Отрывки из моего Сибирского дневника // Сибирские огни. 1927. № 4. С. 154.
(обратно)1317
Елачич С. А. Обрывки воспоминаний. – ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 306. Л. 35 об.
(обратно)1318
Смирнов М. И. Воспоминания о падении Российского правительства в январе 1920 г. – ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 473. Л. 1.
(обратно)1319
Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 2. С. 413–414.
(обратно)1320
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 94. Л. 36.
(обратно)1321
См.: Последние дни колчаковщины. С. 55–59; Какурин Н. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 358; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 215. Л. 6.
(обратно)1322
ГАРФ. Ф. 195 (В. Н. Пепеляев). Оп. 1. Д. 27. Л. 20–21.
(обратно)1323
Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. С. 38.
(обратно)1324
Последние дни колчаковщины. С. 112–113; Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920. М., 2003. С. 587–588.
(обратно)1325
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 91. Л. 1.
(обратно)1326
Последние дни колчаковщины. С. 128.
(обратно)1327
Там же. С. 113, 140.
(обратно)1328
Клеванский А. X. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. М., 1965. С. 343.
(обратно)1329
Последние дни колчаковщины. С. 143.
(обратно)1330
Клеванский А. X. Чехословацкие интернационалисты… С. 344.
(обратно)1331
Ширямов А. Иркутское восстание и расстрел Колчака // Сибир ские огни. 1924. № 4. С. 125.
(обратно)1332
Последние дни колчаковщины. С. 116.
(обратно)1333
Котомкин А. Е. О чехословацких легионерах в Сибири. 1918–1920. Воспоминания и документы. Париж, 1930. С. 86.
(обратно)1334
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 94. Л. 2.
(обратно)1335
Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. С. 160, 162; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 306. Л. 63 об.
(обратно)1336
Левинсон А. Поездка из Петербурга в Сибирь в январе 1920 г. // АРР. Т. III. С. 204–205.
(обратно)1337
Мельгунов С. П. Указ. соч. Ч. 3. Т. 2. С. 30–35; Сахаров К. В. Указ. соч. С. 191; Хартлинг К. Н. На страже Родины. События во Владивостоке, конец 1919 г. – начало 1920 г. Шанхай, 1935. С. 20–21, 34, 49–50, 63.
(обратно)1338
Там же. С. 86.
(обратно)1339
Серебренников И. И. Мои воспоминания. Т. 1. Тяньцзин, 1937. С. 243.
(обратно)1340
Процесс над колчаковскими министрами. С. 451, 653.
(обратно)1341
Сахаров К. В. Указ. соч. С. 188–189, 197; Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. С. 88.
(обратно)1342
ГАРФ. Ф. 5960. Оп. 1. Д. 8 а. Л. 164–165.
(обратно)1343
ГАРФ. Ф. 6219. Оп. 1. Д. 19. Л. 39, 82; РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 55. Л. 55.
(обратно)1344
ГАРФ. Ф. 6219. Оп. 1. Д. 19. Л. 28, 39, 47, 87 об.; РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 55. Л. 73 об.
(обратно)1345
Колосов Е. Сибирь при Колчаке. Воспоминания, материалы, доку менты. Пг., 1923. С. 16; РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 55. Л. 73 об.
(обратно)1346
Там же. Д. 148. Л. 1–3.
(обратно)1347
Сибирская Вандея. Т. 1. Сост. В. И. Шишкин. М., 2000. С. 64–65.
(обратно)1348
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 215. Л. 11.
(обратно)1349
Сибирские огни. 1993. № 5–6. С. 129.
(обратно)1350
Последние дни колчаковщины. С. 129.
(обратно)1351
Там же. С. 132–133.
(обратно)1352
Там же. С. 118.
(обратно)1353
Там же. С. 134–135.
(обратно)1354
Там же. С. 140.
(обратно)1355
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 771. Л. 4.
(обратно)1356
ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 115. Л. 84.
(обратно)1357
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 141. Л. 126, 128.
(обратно)1358
См.: Сахаров К. В. Указ. соч. С. 193–196, 199.
(обратно)1359
РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 42. Л. 1; Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. СПб.; М., 2002. С. 237.
(обратно)1360
Сахаров К. В. Указ. соч. С. 199.
(обратно)1361
См.: Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. С. 75–76; Гинс Г. К. Указ. соч. Т. 2. С. 465.
(обратно)1362
Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. С. 81.
(обратно)1363
Последние дни колчаковщины. С. 86; РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 51. Л. 2.
(обратно)1364
Последние дни колчаковщины. С. 66–67.
(обратно)1365
ГАРФ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 27. Л. 12.
(обратно)1366
Занкевич М. И. Обстоятельства, сопровождавшие выдачу адмирала Колчака революционному правительству в Иркутске // Белое дело. Бер лин, 1927. Т. 2. С. 148.
(обратно)1367
Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. С. 88–89; Плотников И. Ф. Указ. соч. С. 512–513, 661; Сахаров К. В. Указ. соч. С. 199–200; Белое дело. Т. 2. С. 149; ГАРФ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 27. Л. 23, 25.
(обратно)1368
Последние дни колчаковщины. С. 160.
(обратно)1369
Там же. С. 158–159.
(обратно)1370
Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. С. 83; Вол ков С. В. Указ. соч. С. 511.
(обратно)1371
ГАРФ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 27. Л. 25.
(обратно)1372
Белое дело. Т. 2. С. 150–151.
(обратно)1373
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 473. Л. 5.
(обратно)1374
Сибирские огни. 1924. № 4. С. 125.
(обратно)1375
Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. С. 100.
(обратно)1376
Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. С. 101–102. См. также: Процесс над колчаковскими министрами. С. 602; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 473. Л. 6.
(обратно)1377
Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 2. С. 497.
(обратно)1378
Воспоминания (автор не установлен) о гражданской войне в Сибири. – ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 771. Л. 5.
(обратно)1379
Там же. Д. 473. Л. 7—10.
(обратно)1380
См.: Процесс над колчаковскими министрами. С. 559–561.
(обратно)1381
Там же. С. 178.
(обратно)1382
АРР. Т. X. С. 183; Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. С. 119–121.
(обратно)1383
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 473. Л. 11–12; Д. 771. Л. 6–7.
(обратно)1384
Процесс над колчаковскими министрами. С. 611–612.
(обратно)1385
Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. С. 119.
(обратно)1386
Процесс над колчаковскими министрами. С. 452.
(обратно)1387
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 215. Л. 17.
(обратно)1388
Белое дело. Т. 2. С. 151–152; Филатьев Д. В. Катастрофа Белого движения в Сибири. Paris, 1985. С. 119–120.
(обратно)1389
Белое дело. Т. 2. С. 152.
(обратно)1390
Филатьев Д. В. Указ. соч. С. 121.
(обратно)1391
Белое дело. Т. 2. С. 153.
(обратно)1392
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 473. Л. 12.
(обратно)1393
Белое дело. Т. 2. С. 153; Клеванский А. X. Чехословацкие интерна ционалисты… С. 355.
(обратно)1394
Бурсак И. Н. Конец белого Адмирала / Разгром Колчака. Воспо минания. М., 1969. С. 272.
(обратно)1395
См.: Клеванский А. X. Чехословацкие интернационалисты… С. 357.
(обратно)1396
ГАРФ. Ф. 5960. Оп. 1. Д. 8 а. Л. 64–65.
(обратно)1397
Сибирские огни. 1927. № 4. С. 159.
(обратно)1398
Там же. 1924. № 4. С. 131.
(обратно)1399
Белое дело. Т. 2. С. 154–156.
(обратно)1400
Нестеров А. Г. Арест Колчака / Годы огневые, годы боевые. Сб. воспоминаний. Иркутск, 1961. С. 205.
(обратно)1401
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 473. Л. 13.
(обратно)1402
Годы огневые, годы боевые. С. 206. См. также: Котомкин А. Е. О чехословацких легионерах. С. 114; Шинкарёв Л. …Если я ещё жива // Известия. 1991. 18 окт.
(обратно)1403
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 215. Л. 6–7.
(обратно)1404
Там же. Л. 8.
(обратно)1405
Там же. Л. 9—10.
(обратно)1406
Там же. Л. 11.
(обратно)1407
Там же. Л. 11–12; РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 52. Л. 8.
(обратно)1408
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 306. Л. 65–66, 68; Оп. 2. Д. 215. Л. 12.
(обратно)1409
Там же. Л. 14.
(обратно)1410
См.: Там же. Л. 15; Филатьев Д. В. Указ. соч. С. 133–134.
(обратно)1411
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 215. Л. 15–16.
(обратно)1412
Там же. Л. 18–19.
(обратно)1413
Там же. Л. 19. См. также: Разгром Колчака. С. 278; Сибирские ог ни. 1924. № 4. С. 134–135.
(обратно)1414
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 215. Л. 20; Сибирские огни. 1924. № 4. С. 136.
(обратно)1415
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 215. Л. 20.
(обратно)1416
Котомкин А. Е. О чехословацких легионерах… С. 115.
(обратно)1417
См.: Никитин Д. В. Выпуск Колчака // Морские записки. 1944. № 3. С. 238; Милая химера в адмиральской форме. СПб., 2002. С. 148–149.
(обратно)1418
Котомкин А. Е. О чехословацких легионерах. С. 115–116.
(обратно)1419
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» М., 1996. С. 88–89.
(обратно)1420
Процесс над колчаковскими министрами. С. 452.
(обратно)1421
Там же. С. 532.
(обратно)1422
Политические партии в России. Конец ХГХ – первая треть XX ве ка. Энциклопедия. М., 1996. С. 261.
(обратно)1423
Разгром Колчака. С. 273–274.
(обратно)1424
Сибирские огни. 1924. № 4. С. 132, 134.
(обратно)1425
Разгром Колчака. С. 277.
(обратно)1426
Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. С. 156–157.
(обратно)1427
Разгром Колчака. С. 275.
(обратно)1428
Сибирские огни. 1924. № 4. С. 132.
(обратно)1429
Разгром Колчака. С. 278–279. См. также: Сибирские огни. 1924. № 4. С. 137; Чудновский С. Г. Конец Колчака / Годы огневые, годы бо евые. С. 207.
(обратно)1430
Сибирские огни. 1924. № 4. С. 137; Годы огневые, годы боевые. С. 207.
(обратно)1431
Котомкин А. Е. О чехословацких легионерах. С. 117.
(обратно)1432
Известия. 1991. 18 окт.
(обратно)1433
Сибирские огни. 1924. № 4. С. 137.
(обратно)1434
Ленин В. И. Неизвестные документы. 1891–1922. М., 1999. С. 329.
(обратно)1435
Там же. С. 330.
(обратно)1436
Cибирские огни. 1924. № 4. С. 137–138.
(обратно)1437
Годы огневые, годы боевые. С. 208; Разгром Колчака. С. 279–280; Ишаев В. Смерть Колчака и Пепеляева. (Воспоминания очевидца.) // Уральская новь. Свердловск, 1926. № 3. С. 9.
(обратно)1438
Разгром Колчака. С. 279; Сибирские огни. 1924. № 4. С. 138; Го ды огневые, годы боевые. С. 210.
(обратно)1439
Годы огневые, годы боевые. С. 208–209.
(обратно)1440
Котомкин А. Е. О чехословацких легионерах. С. 118; «Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» С. 93.
(обратно)1441
Устрялов Н. В борьбе за Россию. Сб. статей. Харбин, 1920. С. 75.
(обратно)1442
Филатьев Д. В. Катастрофа Белого движения в Сибири. 1918–1922. Paris, 1985. С. 135; ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 215. Л. 23.
(обратно)1443
Волкова М. В. Трагический силуэт // Луч Азии, Харбин, 1938. № 42. С. 45.
(обратно)1444
См.: Богданов К. А. Адмирал Колчак. Биографическая повесть-хроника. СПб., 1993. С. 289.
(обратно)1445
См.: «Милая, обожаемая моя Анна Васильевна…» М., 1996. С. 8–9, 385, 439.
(обратно)1446
Там же. С. 116.
(обратно)1447
См.: Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак. Исследователь, адмирал, верховный правитель России. М., 2002. С. 154–156.
(обратно)1448
Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. М., 2002. С. 254; Мартиролог русской военно-морской эмиграции по изданиям 1920–2000 гг. М.; Феодосия, 2001. С. 73.
(обратно)1449
См.: Болотников Н. Я. Никифор Бегичев. М., 1954.
(обратно)1450
Синюков В. В. Александр Васильевич Колчак как исследователь Арктики. М., 2000. С. 195.
(обратно)1451
Тимирев С. Н. Воспоминания морского офицера. СПб., 1998. С. 151.
(обратно)1452
Там же. С. 170.
(обратно)1453
См.: Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 257–258; Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920 г. М., 2003. С. 28.
(обратно)1454
Шулдяков В. А. Гибель Сибирского казачьего войска (1917–1920). М., 2004. С. 607–608.
(обратно)1455
Вибе П. П. и др. Указ. соч. С. 234; Процесс над колчаковскими министрами. С. 486.
(обратно)1456
Волков С. В. Указ. соч. С. 86–87.
(обратно)1457
Мельгунов С. П. Трагедия Адмирала Колчака. Ч. 3. Т. 2. Белград, 1931. С. 143.
(обратно)1458
См.: Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. С. 121–122.
(обратно)1459
Ауслендер С. А. Верховный правитель Адмирал А. В. Колчак. [Омск], 1919. С. 2.
(обратно)1460
Cтихи А. И. Несмелова (Митропольского) // Белая армия, Белое дело. Екатеринбург, 1998. № 5. С. 72.
(обратно)1461
Тютчев Ф. И. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1980. С. 62.
(обратно)1462
До 1 февраля 1918 г. – по старому стилю.
(обратно)
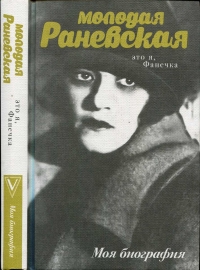

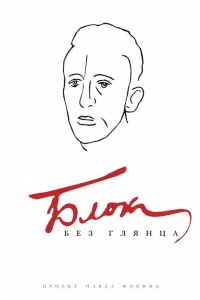
Комментарии к книге «Адмирал Колчак, верховный правитель России», Павел Николаевич Зырянов
Всего 0 комментариев