Аза Алибековна Тахо-Годи Лосев
Часть первая
Алексей Федорович, как я не раз об этом говорила, не любил вспоминать о прошлом, делать записки, набрасывать кое-что для будущих мемуаристов. Видимо, прошлое, особенно далекое, было тем ушедшим, счастливым миром, боль об утрате которого была мучительна. Да и жизнь научила Лосева если и делать записи, то только деловые, относящиеся к науке. Недаром сохранились толстые тетради, в которых он обязательно или сам записывал подробные тезисы своих докладов, или это делала Валентина Михайловна, или я, а потом уже и так называемые секретари.
Стихотворение в прозе Тургенева «Как хороши, как свежи были розы» поражало меня всегда страшной тоской по тому, что ушло безвозвратно. Какое отчаянье только в одних этих щемящих словах: «И все они умерли, умерли». Да, умерли. И для Алексея Федоровича все дорогие, близкие его сердцу – умерли, ушли. И действительно, ведь все родные как-то сразу исчезли. Когда я спрашивала А. Ф. о них, то оказывалось, что уже в годы 1918—1919-й никого не стало. Отец умер в 1916-м, а с матерью А. Ф. простился в августе 1917-го, и уже никогда ее не видел, а в город своего детства, Новочеркасск, впервые приехал в 1936 году, путешествуя по Кавказу.
И, знаете, даже фотографий ни одной не осталось – ни отца, ни матери, ни дедов, ни единственной сестры матери и ее мужа, ни родственников Житеневых (они жили в Москве) – никого и ничего не осталось. Полное одиночество Алексея Лосева в этой, другой жизни, убившей ту, прежнюю. Только серебряный подстаканник сохранился (и это после всех потерь, пожаров, бомбежек) с гравировкой: «В память концерта Федору Петровичу Лосеву, 26/XI – 1914».
Что это был за концерт, где он был, почему запомнился поклонникам таланта этого, вообще говоря, неудачника, не то церковного регента, не то виртуоза-скрипача, не то гимназического учителя или консисторского чиновника, бедного надворного советника Ф. П. Лосева? Да сохранилась еще прелестная, небольшая, с одним отбитым ушком синяя сахарница. А. Ф. говорил, что она – от детских лет. Как уцелела? Такие чудеса!
Недаром молодой Лосев, если читать его юношеские дневниковые записки или письма, мучается своим одиночеством, хотя есть хорошие товарищи, милые девушки-гимназистки, любящая сына до самозабвения мать, еще есть отчий дом в Новочеркасске и не менее близкий и добрый дом тетки Марфы Алексеевны и о. Стефана в станице Каменской на берегу Донца. А вот почему-то снедает юношу мысль об одиночестве. Он на пороге бытия как бы предчувствует свое одиночество на склоне его. Рука об руку с Валентиной Михайловной, своей спутницей в жизненном лесу, что не хуже дантовского, он прошел путь длиною в тридцать два года (со дня венчания в 1922-м по день кончины Валентины Михайловны в 1954-м). Со мной – тридцать четыре (с декабря 1954-го по год его кончины в мае 1988-го). Казалось бы, все время вдвоем. Но ведь он пережил всех своих друзей (хотя их было и мало, но это были настоящие его единомышленники), а молодежь, окружавшая его, была уже из другого мира, для всех он был Учитель, но ни с кем не мог говорить о том глубоко запрятанном и сердечном, о том интимно-духовном и потаенном, чем цвела его душа. Собеседника равного, понимающего с полунамека, с полуслова не было, и даже мне не открывал он свою святая святых, то, что раскрылось мне после его кончины. Я ведь тоже хотя и любила, и понимала, и печалилась, и жалостницей его была, но ведь и я была тоже из другого мира – родилась в год его венчания. Так сходились одиночество начала и одиночество конца. При начале – еще не пришли сопутствующие ему, при конце – все сопутствующие «умерли, умерли». Умер и он. Осталась одна я.
Алексей Федорович Лосев родился в 1893 году 10 сентября (по старому стилю) на юге России в городе Новочеркасске, столице Области Войска Донского. День своего рождения А. Ф. отмечал 23 сентября нового стиля, но почитал он главным образом свои именины, день Ангела, 18 октября, память митрополитов Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, святителей Московских и всея России чудотворцев.
Дед – протоиерей о. Алексей Поляков, настоятель храма Михаила Архангела, что находился неподалеку от дома (Западенская, она же Михайловская, 47), сам крестил внука. В старом двухэтажном доме (низ каменный, верх деревянный) с балконом и верандой, увитой виноградом, обитали трое – дед, мать, Наталия Алексеевна, и сын Алеша. Отец исчез из дома, бросил мать, когда ребенку было всего три месяца. Задолго до рождения Алеши скончалась (в 1889 году) его годовалая сестра Зоя. Деда не стало, когда мальчику исполнилось семь лет. Он помнил себя с четырехлетнего возраста, и детская память всю жизнь хранила образ старого, доброго, любящего деда. С отцом сыну пришлось встретиться лишь раз, незадолго до его смерти в 1916 году (в станице Константиновской). После отца сыну достался сундук с нотами и дорогая итальянская скрипка, которую не замедлили украсть, и вручили Алексею другую, попроще. Она до сих пор, несмотря на все превратности судьбы, сохранилась и лежит высоко под самым потолком на книжном шкафу в Москве, на Арбате.
Странный был человек этот Федор Петрович Лосев, родом из станицы Урюпинской. Умер он 57 лет (1859–1916), но твердого места в жизни так и не нашел. Строгая, устойчивая семейная жизнь тяготила его, еще больше – однообразная работа в Духовной консистории, да еще архивариусом, преподавание физики и математики в младших классах уездных училищ – все отдавало скукой. Стихия музыки была его настоящей, подлинной жизнью. Федор Петрович – страстный скрипач-виртуоз, дирижер и выдающийся церковный регент, кончил дирижерский класс Придворной певческой капеллы в Петербурге, где готовили дирижеров, хормейстеров и регентов высокого класса.[1] Натура артиста, окруженного поклонницами, тяготилась скромным укладом семьи. Человек талантливый, он умел блеснуть перед самой взыскательной публикой. Несмотря на, казалось бы, легкомысленную богемность, особенно влекла его музыка духовная, церковная. Он с упоением мог дирижировать вальсами Штрауса в городском саду и в то же время всей душой благоговейно отдавался управлению церковными хорами. Епархиальное начальство высоко ценило талант регента Федора Лосева, не раз давало самые блестящие отзывы, поручив ему должность регента Войскового певческого хора. Отмечали, что он «редкий знаток церковной музыки», которую исполнял «в строго церковном духе», «придавая религиозный характер даже народным мотивам», и к тому же «знаток церковного Устава». И не только начальство епархиальное ценило Лосева. После одного из концертов Войскового хора, на котором в мае 1887 года присутствовал император Александр III с супругой Марией Федоровной, регент Лосев получил в награду золотой перстень, украшенный бриллиантами и розами, что и удостоверяет запись за № 556 в Кабинете Его Императорского Величества от 9 марта 1888 года. Получил Федор Лосев и серебряную медаль в память Императора Александра III. Но когда А. Ф. однажды спросил свою мать, где же находится сей исторический перстень, она ответила кратко: «Вероятно, гулящие девки у него украли».[2] Да, любил Федор Петрович музыку, вино и женщин. Жизнь не удалась.
Но вот что характерно, сын его признавался, что от отца перешел к нему «разгул и размах, его вечное искательство и наслаждение свободой мысли и бытовой несвязанностью ни с чем».[3] Добавим сюда – страсть к музыке, скрипке, математике, театру (драме и опере), церковному пению, колокольному звону, артистизм, явленный в науке, в игре ума и мысли, в тончайших диалектических построениях философских категорий, в преподавании. Нет, немалое наследство перешло от беспутного отца к строгому логику, философу мифа, имени и числа, чьи книги – апофеоз системы – высокого горения ума, духа и сердца.
А мать? Тихая, скромная, беззаветно любящая сына. От матери же унаследовал Алексей Федорович строгие моральные принципы, те добродетели, о которых мы просим в Великий пост в молитве Ефрема Сирина: дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви. А дед, строгий протоиерей? От деда идет глубокая внутренняя связь с храмом и храмовым действом. Но кто его знает, может быть, и здесь свою лепту внес недостойный Федор Петрович? Скорее всего – и он.
Однако отца не было,[4] деда – увы, тоже. Остались мать и сын. Жили на средства, оставленные дедом. Мать подрабатывала в городской библиотеке. Каждое лето проводили в станице (уездном городе) Каменской верстах в ста от Новочеркасска, где жила родная сестра матери Марфа Алексеевна с мужем, протоиереем, настоятелем собора о. Стефаном Власовым и детьми Николаем и Марией – ровесниками Алеши Лосева. Именно там, в Каменской (ул. Коммерческая, 83), на привольных берегах Донца, была вторая, еще более любимая, родина Алексея Лосева. По-моему, А. Ф. с гораздо большим упоением вспоминал дом (вернее, два дома, соединенные воротами) в Каменской, огромный сад, расположение комнат, свою, всегда для него готовую, чем дом в Новочеркасске. Может быть, потому, что в Каменской – всегда праздник, лето, приволье, да и мать, когда Алексей уехал в Москву, продала дом (нужны были средства на будущее) и обосновалась у сестры. Казачий надел, как положено, Алексей получил по достижении 18 лет, но, конечно, сам не пользовался им, хотя и числился казаком хутора Власово-Аютинского, где была земля; с помощью матери сдавал в аренду – 100 рублей в год – тоже деньги (обучение в гимназии, например, стоило 50 рублей в год, да и то было для многих льготным, за этим внимательно следили).[5]
Почему-то с домом в Новочеркасске связаны рассказы А. Ф. о темных комнатах, где так и не провели электричество (дорого), а зажигали керосиновые лампы и свечи. Вспоминаются керосинщики и водовозы, снабжавшие дом, двор и собаки, одну из которых звали Мальчик. Алеша собак страстно любил, и память об этом в повести Лосева «Жизнь». Там соседский злодей Мишка ломает ножки маленьким щенкам, наслаждаясь их страданиями, и с ним, как с символом мирового зла, вступает в борьбу Алексей.
Отзвук этой любви к собакам на моей памяти. Мы с А. Ф. приехали впервые вместе в 1954 году, осиротевшие (умерла Валентина Михайловна), в город Владикавказ – когда-то столицу Области Войска Терского. Тогда он назывался Орджоникидзе. Это город семьи моей мамы, терских казаков Семеновых из станицы Терской. И как радостно было узнать, что имя дворового белого пса Мальчик. А. Ф. просто сиял, когда этот Мальчик сопровождал нас обоих на прогулки, увязывался за нами по любому поводу, прыгал, буквально целовался, тыкался мордой в лицо. Есть даже фотография, сделанная моей сестрой Миночкой, у крыльца нашего дома (одноэтажный особняк – тоже остатки некогда целой усадьбы – два дома, соединенные воротами, двор, хозяйственные службы – все в прошлом): Лосев и бросающийся к нему веселый белый Мальчик. Есть и еще такая фотография: в садике на скамейке сидят три казака: донской – А. Ф., терский – мой дядюшка профессор Леонид Петрович Семенов и – кубанский, так называемый дядя Федя, верный помощник в домашних делах. Поход этих трех казаков в городские бани обычно сопровождал буйствовавший Мальчик, отогнать было невозможно.
А на даче в Валентиновке у Расторгуевых (год 1950-й) – чудная северная лайка Аян. А. Ф. с куском сахара в руках на порожках дома. «Аян, сахару дать?» – вопрошает Лосев. «Дать», – слышится бодрый ответ, и сахар летит в пасть Аяна.
И на даче у А. Г. Спиркина, нашего старинного друга, где мы жили с 1966 года и где я теперь, сидя на веранде, пишу эти строки, замечательные псы, верные друзья А. Ф. – мощный львиной масти Рыжик; хитроумные Малышки, мать и дочь (одна из них злобно цапнула сзади за брюки А. А. Зворыкина, важное лицо в издательстве «Энциклопедия» – уж больно голос у него был неприятный, каркающий); замечательный Пират (он не хотел сидеть на цепи и выл, на что А. Г. Спиркин говорил с укором: «Пират, ты не Дубчек, нет, не Дубчек» (судите сами, какой это год), который добился все-таки свободы; Черныш, спасенный от смерти моей ученицей Надей Садыковой (в замужестве Малинаускене).
Так и вижу: поздно вечером, приехав из Москвы, открываю калитку и нас встречает молчаливая компания псов, ластящихся к ногам, лижущих руки. Мрак. Почти полночь. Мы идем по длинной темной аллее, и свита любящих молчаливых от радостного свидания верных друзей. Или – иду по темной аллее, опять-таки поздний вечер, А. Ф. сидит в качалке на открытой веранде, среди кустов жасмина. Он в задумчивости. Тишина. Вокруг него растянулась молчаливая стража – в вечернем тепле нежащиеся псы. Все молчат, и он, и они. Все думают, каждый о своем. Ох, сколько их было. И на фотографиях М. Ф. Овсянникова фигурируют иные из этой славной стаи. Хоть пиши целую поэму, новую «Собакиаду».
Вспоминал А. Ф. и вечный перестук ножей, доносившийся из кухни. Это рубят мясо на котлеты. «А мясорубка? – спрашивала я наивно. – Зачем же рубить?» – «Что ты, что ты, – отвечает со знанием дела А. Ф. – Мясорубка – это было новшество, его сразу не приняли. Рубила кухарка двумя ножами по старинке, в каждой руке по ножу. Только и слышится дробь перестука». Но кухарка неразлучна с очень важным персонажем, который регулярно ее навещает. Запрещать не положено, иначе обед будет испорчен. Это кум-пожарный, которого хорошо знает Алеша и который является как бы некой гарантией безопасности дома, хотя на скамеечке у ворот обычно прохлаждается дворник, друг керосинщика и водовоза.
Маленький Алеша навеки запомнил жгучую боль, охватившую его, когда он, бегая по дому, наткнулся на кухарку, несшую к столу кипящий самовар. Сколько было плача, крика, беспомощности перед разъедающей маленькое тельце болью. Мать спасла. Ребенка окутывали в пропитанные оливковым маслом простынки. Ожоги на груди сохранились навсегда. Бывало, врачи (на ежегодном осмотре в поликлинике Минздрава РСФСР) спрашивали о причинах этих рубцов и всегда удивлялись, как это удалось спасти ребенка. А кухарку уволили.
И еще жуткое воспоминание. Пожары. Что-то происходило неладное в большой России и в небольшом Новочеркасске. Какие-то предвестия страшных надвигающихся событий, какие-то знаки будущих революций. Почему-то по стране в разных местах горело как раз при начале нового века двадцатого. Горело и в Новочеркасске. Страшное зарево в полнеба стояло над городом, горели кирпичные заводы, склады на окраинах города. Небо пылало, огонь сливался с кровавым закатом, днем и ночью устремлялись к небу в течение нескольких дней дымные костры. Запомнилось навеки. Церковный набат тоже. И почему-то стал через много лет понятнее и ощутимее мировой пожар в вагнеровской тетралогии «Кольцо нибелунга», тот самый, что должен был испепелить Валгаллу, небесную обитель великих богов. Пожар из далекого детства вспоминал Лосев в годы гибели старой, дорогой сердцу России, уничтоженной огненной стихией большевистской ненависти. «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» – стоял вопль, и не только в поэме Блока «Двенадцать». Пожар вырастал во всемирный символ. Но в те далекие времена никто об этом не подозревал, хотя некоторые неслучайные напоминания и приключались. В год начала Первой мировой войны (тоже ведь мировой пожар) 21 августа сгорел неожиданно любимый новочеркасцами деревянный театр, простоявший без малого полсотни лет. Никто его не поджигал. Просто сгорел, о чем и будет подробнее сказано нами позже. Это был тоже знак.
Мальчик читал с четырех-пяти лет. Не действовали уговоры матери пойти поиграть с Петькой или Федоркой. На коленях лежала книга для детей «Нева». Но мать не строила больших планов на будущее. Ей казалось, что чем проще жизнь человека, тем лучше. И Алешу решили учить попросту, без затей – отдать в приходское училище, что находилось совсем близко от дома. Четыре правила арифметики, части речи и члены предложения – вот и вся премудрость приходского училища[6] в течение трех лет. Алеша окончил без труда училище с наградой – книгой «В лесу и в поле». Правда, даже матери, так стремившейся к простоте (видимо, в памяти всегда жил образ чересчур обремененного талантами неудачника-мужа), в конце концов пришла мысль (может быть, подсказанная ей кумом, батюшкой о. Михаилом)[7] все-таки отдать сына в классическую гимназию. Пусть сын кончит ту гимназию, которую беспутный Федор Петрович (тоже загадка) бросил, уйдя из последнего, VIII класса.[8]
И вот в 1903 году мальчик поступил в классическую Новочеркасскую гимназию. Гимназия была основана в 1875 году, содержалась на войсковые средства и называлась поэтому войсковой. В 1913 году, к столетию Отечественной войны 1812 года, ей присвоили имя знаменитого героя и основателя Новочеркасска – наказного атамана Войска Донского графа Матвея Ивановича Платова.
Город был, по нынешним меркам, небольшой (к 1913 году—около 60 тысяч жителей), но, заложенный 18 мая 1805 года Матвеем Ивановичем Платовым и военным инженером Ф. П. Деволаном, строился по строгому плану у слияния рек Тузлова и Аксая. Проспекты с бульварами шириной в 50 метров, улицы – 30, а переулки – 12 метров создавали упорядоченную, строгую, просторную планировку военного города. На пересечении Платовского и Ермаковского проспектов на Ермаковской площади возвышался величественный кафедральный Вознесенский Войсковой собор в «нововизантийском стиле». Он строился сто лет начиная с 1811 года и пережил две катастрофы и трех строителей (последний, А. Л. Ященко, не дожил до завершения собора). Огромный собор среди бескрайней площади, а вернее, военного плаца с памятниками знаменитым донцам – Ермаку Тимофеевичу и атаману Я. П. Бакланову – производил и сейчас производит грандиозное впечатление – третий по величине храм России (после Храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Петербурге). Правда, памятник Бакланову снесла, как и памятник М. И. Платову, советская власть. Уничтожили в 1923 году, а Ермака не сумели при всех стараниях сдвинуть с места. Красуется и поныне завоеватель Сибири. Храм, где настоятелем был дед Алексея Лосева, освятили в 1870 году. Построили в Новочеркасске не только церкви, но и гимназии (мужскую и женскую), духовную семинарию, епархиальное женское училище, Донской музей, архиерейский дом, консисторию, театр (правда, деревянный), дворянское собрание, гостиные дворы, Атаманский дворец, казачий кадетский корпус, казачье юнкерское училище, воинскую гауптвахту и первое на Дону высшее учебное заведение – Политехнический институт. Станица Новочеркасская, как официально именовался центр Области Войска Донского, к тому времени, когда Алексей Лосев учился в классической гимназии, стала городом с большими культурными традициями.
Мне пришлось увидеть Новочеркасск в 1989 году в осенние дни именин А. Ф. Из Ростова, где в университете проходила конференция памяти Лосева, нас, несколько десятков человек из Москвы и других городов, в том числе и Тбилиси, повезли на родину А. Ф. Дни стояли теплые, вдоль дороги – золото и багрец зарослей боярышника и рябины. Мы спешили и волновались – нас ждала в Вознесенском соборе панихида по А. Ф., заказанная заранее Мишей Гамаюновым, пианистом, исследователем лосевской философии музыки и просто нашим другом. Но сначала, конечно, гимназия и дом, где родился А. Ф. и где жил до поступления в Московский университет.
Странное чувство простора и какой-то нездешней пустоты охватило меня, чего-то не хватало в этом городе, было даже почти чужое и печальное. Душа города, казалось, исчезла. Да и как не исчезнуть ей. Прекрасное здание гимназии, осененное столетними деревьями, где нас гостеприимно встретили, оказалось просто советской школой, давно и безуспешно взывающей к ремонту. Высокие потолки, высокие окна, светлые аудитории – все терялось, помещений не хватает, классы перегорожены фанерой. Куда ведет парадная лестница? В актовый зал и в домовую церковь в память равноапостольных просветителей славян святых Кирилла и Мефодия, церковь, которую до последнего дня жизни вспоминал гимназист Лосев? Нет, эта парадная лестница никуда не ведет. Она упирается в тупик, который именуют библиотекой (выкроена из церкви). Скромные милые женщины сидят здесь, мы дарим кое-какие публикации о профессоре Лосеве. Но где храм? Его нет. Он весь перегорожен и так неузнаваем, что и следов не найти. Огромный актовый зал, где когда-то писали выпускное сочинение гимназисты VIII класса – 21 человек – в том числе Лосев, где когда-то на рождественских праздниках сияли огни и кружились в вальсе гимназисты с гимназистками, производит пугающее впечатление. Он темен и мрачен, в потолке зияет дыра, среди пустоты рояль, и на нем кирпич. Почему? И где-то в закоулке так называемый школьный музей, которым ведает трогательный человек и где среди классиков марксизма несколько книжек Лосева – место самое почетное.
Среди осеннего южного тепла и аромата вот-вот готовых перейти в небытие цветов и листьев охватывает меня чувство неизбывной тоски. Не так ли тосковал А. Ф., когда в августе 1936 года, в страшное для страны время, его потянуло после путешествия в горах Кавказа взглянуть на родное пепелище? Помню, как он рассказывал об этом возвращении в прошлое, в город молчаливый (не звонят более колокола), почти пустой (население пошло на убыль), с заколоченными окнами магазинов (товаров и еды нет), с какой-то военной частью в стенах бывшей гимназии. Все здесь бывшее, а о казачестве лучше и не вспоминать. Боятся как огня этих воспоминаний. И какая же наивность у профессора Лосева, умудренного жизнью, наукой и концлагерем! Он вместе с супругой Валентиной Михайловной, которая уже успела набросать карандашом план близлежащих улиц, идет к отчему дому, ищет Михайловскую, 47. Находит. Стучит в дверь. Просит жильцов жактовского дома (времена обитателей и владельцев прошли) показать комнаты, где проведено детство и отрочество. Жильцы в испуге. Подозрительный профессор из Москвы, человек важный. А вдруг потребует выселения и возврата собственности. Валентине Михайловне едва-едва удается увести своего спутника, уже окруженного встревоженными людьми. Того гляди пошлют за милицией, ишь какой собственник нашелся на нашу коммуналку. Да, из двухэтажного дома, где после смерти деда остались мать и сын, сделали коммунальные квартиры с обязательными перегородками, примусами, керосинками. Лучше было и не ворошить прошлого. Как возмущалась Валентина Михайловна через многие годы, заново переживая вместе со мной этот рассказ. Да и А. Ф. сопровождал его запомнившимся примером. Его друг по гимназии в 20-х годах был в упор застрелен неким матросом, узнавшим в нем белого офицера. А тоже хотелось взглянуть на родные места. И Лосевых арестовали бы запросто. Но спас слишком сильный испуг жильцов: боялись московского профессора, боялись и милиции, боялись за себя, а вдруг всех потащат к ответу.
Памятуя этот давний рассказ и имея на руках план, некогда набросанный Валентиной Михайловной, я со своими друзьями тоже направилась на розыск дома Лосева. Еще при жизни А. Ф. наш друг, главный редактор журнала «Студенческий меридиан» Юрий Ростовцев, специально ездил в Новочеркасск, беседовал со старожилами, познакомился с П. П. Назаревским (племянником академика Фесенкова, известного астронома), интересным человеком, музыкантом, краеведом, знатоком старины, почитателем Лосева. Лазареве кий писал и нам с А. Ф., приезжал в Москву, прислал рисунок дома, который, как он полагал, принадлежал о. Алексею Полякову. Но рассказы Ростовцева и рисунок от Назаревского (он хранится у нас дома) вызывали смутное чувство. Не было достоверности. А сестры Постоваловы, Лидия и Валентина, сфотографировали и вовсе другой дом и совсем на другой улице. Как известно, в советское время названия улиц и нумерацию меняли (вместо Ермаковского проспекта – проспект III Интернационала), почему-то именно нумерацию, чтобы окончательно запутать человека.
Так и теперь наше дружное общество разделилось на две группы – одни считали домом Лосева тот, что налево, а другие – тот, что направо. Нашлись даже экстрасенсы, которые с помощью маятника и лозы начали доказывать, что именно вот этот двухэтажный дом – лосевский. Но все было так неузнаваемо (где балкон и веранда в доме со стороны двора?), так застроено какими-то новыми постройками, что от рассказов о просторном дворе с большими воротами, калиткой рядом, хозяйственными службами, дворницкой и т. д. и т. п. не осталось и следа. Искать бессмысленно. Дом здесь, но его нет. Никогда не возвращайтесь по старым следам, найдете только одно пепелище и мерзость запустения.
А храм Михаила Архангела, слава Богу, на месте, цел и даже отремонтирован.
Утешало уже совсем к вечеру одно – панихида в Вознесенском соборе. Он, как древнерусский богатырь, возвышался громадой. Никто не решался на него покуситься, ни советская власть, ни немецкое нашествие. Но вокруг – полное безлюдье. Собор кик одинокий гранитный неприступный утес среди пустыни огромного в своей нечеловечности плаца. Но он помнит другие времена: торжественные службы, стройные ряды казачьих сотен – синие с серебром. Перед собором – парусиновый шатер. Молебен служат 10–12 батюшек, архиерей, Войсковой хор человек в 80. Под синим жарким небом нарядная праздничная толпа, звонкие голоса певчих, запах росного ладана. А теперь нас в этом гулком прохладном сумрачном храме жалкая горстка человечков, потерянная под мощными сводами, где конца и края не сыскать. Только огоньки свечей мерцают во мраке да возгласы старенького архимандрита Модеста призывают нас помолиться всем вместе об упокоении души раба Божия Алексия «в стране живых, в месте светле, идеже вси святые праведные упокояются», «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». А потом в быстро упавшей на южный город темноте провожает нас при свете единственного фонаря (в руках у служки), и благословляет, и плачет старенький архимандрит. Уезжаем, я – чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Одно осталось светлое в памяти, и навеки – собор, среди мрака вознесшийся к звездному небу, серебристые купола и благословляющая рука молитвенника за нас грешных.
А ведь город когда-то был живой, и шла в нем своя жизнь с театром, школами, книгами, музыкой, церковными службами, военными парадами; маленьким мальчиком вместе с матерью ходил Алеша встречать нового наказного атамана. Мать одела мальчика в казачью форму, с лампасами, галунами, фуражкой, и он, стоя во фронт, отдавал честь высокому начальству. Супругу атамана так умилила эта серьезность маленького казака, что она заключила его в объятия и расцеловала. Помнил А. Ф. и встречу императора Николая II в 1904 году. Шла Русско-японская война, и император посетил Дон и столицу Всевеликого Войска Донского. Гимназисты от мала до велика (Алеша во 2-м классе, по-нашему это 4-й) на плацу в Персиановке (в 15 километрах от города) среди августовской жары в летней форме – брюки с красными лампасами, летние рубахи из сурового полотна, гимназический духовой оркестр. Император верхом объезжает строй, рядом с ним – пешком – директор гимназии Ф. К. Фролов. «Здравствуйте, дети», – здоровается император. В ответ дружное: «Здравия желаем, Ваше Императорское Величество». Император благословлял иконами казаков. «Казаки – молодцы, впечатление самое лучшее», – записал в дневнике за понедельник 16 августа 1904 года Николай П.
Особое место в биографии юного Лосева играл театр. Театральную труппу в Новочеркасске долгие годы содержал С. И. Крылов, преданный искусству меценат. Гастролировали в этом театре выдающиеся антрепренеры и режиссеры, такие как Н. Н. Синельников, создавший в Новочеркасске «Товарищество актеров». Играли актеры, пользующиеся огромным успехом в России: братья Адельгейм, П. Орленев, В. Комиссаржевская, Вл. Давыдов, Н. Рощин-Инсаров, Е. Шатрова и др. Ставили весь классический репертуар – Шекспира, Шиллера, Ибсена, Метерлинка, Островского, Гоголя, А. К. Толстого, Чехова. Городской театр (архитектор Кампиони) небольшой, деревянный, с тремя ярусами, хорошо и с любовью отделанный – ложи, партер в бархате, хрустальные люстры и важные, похожие на римских центурионов, пожарные. Но, несмотря на их бдительность, театр, куда влекло гимназистов, сгорел в 1914 году, как бы сыграв свою роль в воспитании Лосева, покинувшего гимназию в 1911 году. В дневнике А. Ф. за 21 августа 1914 года есть трогательная запись молодого человека, сказавшего последнее «прости» милому театру. На глаза Лосеву, летом находящемуся в Каменской, попалась заметка в газете «Приазовский край» (21 августа 1914 года № 218) под заглавием «На пожарище». Лосев даже переписал ее в дневник с чувством глубокой грусти. «В несколько минут эта шестидесятилетняя деревянная руина представляла громадный костер, а через час от нее остались одинокие трубы да грудки обгорелых обломков и скрюченные листы железной крыши». Но с этой «бревенчатой театральной хижиной связаны были лучшие традиции, над ней веяли тени корифеев русской сцены, из которых для многих эта хижина была колыбелью славы». Здесь «учились, черпали силу и бодрость, отдыхали от повседневной пошлости», «эту хижину любили и новочеркасцы, и актеры». «Старая руина сгорела; но не сгорели с ней традиции, носительницей которых она была». Так писал автор заметки. «Прощай, мой милый карточный домик, – пишет Алексей Лосев в дневнике, – воспитавший меня и вскормивший мою незрелую младенческую мысль, – память о тебе не умрет в моем сердце и сердце любивших тебя».
Память о театре стала основой рассказа Лосева (1932 год) «Театрал».[9] Герой рассказа – страстный театрал, чтобы освободиться от наваждения ненавистной жизни, предает огню любимый театр. В пожаре гибнет постылая жена и сгорает все его постылое прошлое. Сам рассказ построен как настоящая драма с поистине сценическим и психологическим мастерством. А пожар оказывается не только символом крушения прежней жизни, очищением от нее, но и отзвуком, как мы видим, вполне реального события – гибели милого деревянного театра.
В театр гимназист Лосев ходил чуть ли не каждый день, а в воскресенье дважды – днем и вечером. У него было постоянное разрешение инспектора Ваккермана, человека крайне строгого. Первые оперы (дирижировал старик-чех Гильдебрандт), услышанные в театре, «Фауст» и «Травиата» остались в памяти как первая и вечная любовь. В город приезжали известные лекторы, такие, например, как критик Юлий Айхенвальд или философ Ф. Степун, тоже оставшиеся среди любимых авторов Лосева. И меня научил А. Ф., как и других своих учеников, прислушиваться к мнениям Ю. Айхенвальда. А воспоминания Ф. Степуна «Бывшее и несбывшееся» я читала вслух А. Ф., когда он получил в подарок эту книгу, только что изданную YMCA-Press в Париже и подаренную А. Ф. одним из его почитателей, навсегда уехавшим во Францию Евгением Терновским.
В городской и гимназической библиотеках Алексей Лосев – постоянный читатель. Там можно познакомиться и с любыми газетами, в том числе и местными: официальной «Донской мыслью» и либеральной «Донской жизнью» или «Приазовским краем». Он выписывает домой журналы «Природа и люди», «Вокруг света», «Вестник знания», упивается фантастическими романами французского астронома Камилла Фламмариона, изучает диссертацию Ж. Ж. Руссо о влиянии наук и искусств на общество, богословско-философские статьи в журнале «Вера и разум», книги известных русских богословов, но, главное, Вл. Соловьева и Платона. Правда, все это обилие книг, а значит, и мыслей пришло не сразу. Начинались гимназические годы очень скромно.
Мать привела Алешу на вступительный экзамен. Он хорошо написал диктант и был принят. Гимназия – это был особый мир, место обитания мальчика в течение восьми лет, и не просто место, а скорее всего дом, семья, в которой были старшие – директор, учителя, инспектор, классные надзиратели и младшие – ученики. А. Ф. вспоминал с неизменной любовью и трепетом свою родную гимназию. В последнем своем слове о святых Кирилле и Мефодии, что называлось «Реальность общего»,[10] он, наряду с самыми дорогими святынями, назвал родную гимназию и домовую церковь, посвященную святым Кириллу и Мефодию, покровителям просвещения славян, а значит, и России. Они, эти покровители философии и филологии, наблюдали первые шаги в науке мальчика Лосева, оберегали и наставляли его и провиденциально помогали ему, укрепляя дух для будущих испытаний.
Гимназия начиналась со швейцара у дверей, в мундире, с медалью за русско-турецкую кампанию. Солдата-швейцара в обиходе звали Сергеем, но относились почтительно. Правда, главный вход с Ермаковского предназначался для начальства и учителей, а гимназисты входили в другой вход, через гимназический сад. Парадная белая лестница в два крыла вела на второй этаж, где домовая церковь, актовый зал, рекреационный, квартира директора. На первом – учительская, библиотека, гимнастический зал, классы – восемь основных и восемь параллельных. Гимназия – общедоступная, не сословная школа. А. Ф. вспоминал, что в их классе учился сын местного керосинщика, развозившего по домам керосин; здесь же учились братья Меркуловы, сыновья швейцара Сергея, учились не только православные, но и лютеране, и иудеи. А. Ф. в младших классах застал правление директора Григория Макаровича Холодного.[11]
Но главные воспоминания гимназиста Лосева связаны с директорством Ф. К. Фролова, который был также классным руководителем, преподавал русский язык и литературу. Именно при нем гимназия, ставшая достаточно либеральной после 1902 года (греческий – факультативно, латынь с 3-го класса, на русский язык – пять часов в неделю, Закон Божий – два часа в неделю), приобрела особый престиж, стала первым учебным заведением в городе, где уже открылись еще одна мужская гимназия, реальное училище, частные гимназии и даже одна с совместным обучением мальчиков и девочек. Строгая дисциплина, непременное обращение к гимназистам на «вы», обязательная форма – серые гимнастерки, синие фуражки с красным околышем и белым кантом, синие брюки с красными лампасами, пояс с медной бляхой – цвета донского казачества. Преподаватели в мундирах (но не возбранялось и штатское платье), директор в синем мундире, отделанном серебром, – тоже цвета донского казачества.
При Ф. К. Фролове[12] немыслимы были беспорядки в гимназии. Директор был строг, но справедлив. Способных замечал и отличал, бездельников не терпел. Был инициатором драматических постановок, декламации, отрывков из классических авторов – «Ад» Данте, «Фауст» Гёте, сцены из пьес Гоголя, сам читал вслух Эсхила, Софокла, Еврипида, Байрона, Гёте. Гимназисты составляли схемы загробного путешествия Данте и Вергилия, чертили строение космоса «Божественной комедии» Данте, выступали с докладами. Свою первую лекцию о Руссо (она легла в основу большой письменной работы)[13] Алексей Лосев прочел по инициативе Ф. К. Фролова. Строгий директор иной раз отправлял Алексея домой, заметив непорядок в форменной одежде, но радушно принимал у себя дома гимназиста, дружившего с его детьми, и сквозь пальцы смотрел на Алексея, платонически вздыхающего по Верочке Фроловой, которой он так и не решался передать при встречах письма, регулярно сочиняемые и прятавшиеся в кармане.
Но все это – старшие классы. А начинал Алеша Лосев совсем плохо. В нашем домашнем архиве чудом сохранились годовые ведомости гимназиста Лосева. Младшие классы – оценки слабые, видно, что человек едва тянет чуждую ему науку, дроби одолеть никак не может, да еще приписки преподавателей, обращенные к Наталии Алексеевне. Сын, оказывается, рассеян, разговаривает на уроках, приходит не всегда по форме одетый – это упрек уже матери. Однако это жалкое существование гимназиста младших классов не помешало (а может быть, и помогло) ему с восторгом принять в дни 1905 года тот полный хаос, что воцарился не только в городе (это в цитадели казачества!), но и в гимназии. Шли толпы народа, ораторствовали, и кончались эти сборища драками. Слышались свистки, гудки, оркестры, по городу носили какие-то непонятные портреты, постоянно доходило до столкновений и ранений. Но главное, сумбур в гимназии. Регулярных занятий не было несколько месяцев, с октября до середины января 1905-го. Уроки почти прекратились, выступали какие-то агитаторы, в школьном саду торжественно сожгли символ реакции – безобидную латинскую грамматику Никифорова, и все ощущали небывалую свободу. Все это «наполняло голову и грудь каким-то бешеным восторгом. А почему, неизвестно… Хотелось драться и орать, совершенно не отдавая себе в этом никакого отчета». А. Ф. признавался, что таких волнений, как в 12-летнем возрасте, он в жизни уже никогда не имел. Поэтому настоящую революцию он уже не переживал безрассудно, а воспринимал «критически и обдуманно».[14]
Так плелся Алеша среди слабых учеников до 4-го класса (наш – шестой), когда вдруг что-то случилось, какое-то прозрение, и откуда что взялось – проснулся однажды утром другим человеком и с радостью набросился на любимую теперь науку, как будто изголодался по ней, истосковался. Даже каникулы и сладостный отдых в Каменской с купанием в Донце, со скачками на лошадях без седла, «охлюпкой», с рыбной ловлей, с собаками, с музыкальными вечерами в городском саду, с домашним музицированием – все это не могло вытеснить гимназии. Уже в старости А. Ф. признавался, что ждал начала учебного года как праздника. Это в ответ на мои сетования, что вот уже и 1 сентября близится, почему бы не продлить каникулы и студентам, и преподавателям. Становилось стыдно то ли за себя, а то ли за школу советскую, которая привила только отвращение к учебе, да и какая это учеба и наука, если подневольная.
Страсть к музыке родилась как-то незаметно и вдруг (это «вдруг» будет и в дальнейшем сопровождать Алексея Лосева), но, несомненно, таилась в глубине, чтобы в один прекрасный день проявить себя со всей силой. Это случилось в Каменской, на летних каникулах. Алеша дружил со своей ровесницей, дочерью инженера-немца Цецилией Ганзен. Однажды детские игры нарушило незаурядное событие. Цецилия Ганзен давала концерт. Правда, в окружении Алеши все музицировали, его кузина Маша решила стать профессиональной пианисткой, и музыка не смолкала в доме. Семья тетушки Марфы и ее друзья составляли ансамбли, устраивали концерты, приглашали гастролеров. Так и концерт с участием Цецилии Ганзен оказался общим праздником. Но Алеша после этого концерта маленькой скрипачки потребовал от матери, чтобы и его обучали игре на скрипке.
Пути его с Цецилией в будущем разошлись. Она действительно стала выдающейся европейской скрипачкой, уехала за границу, много концертировала, осела в Германии, профессором в Гейдельберге. Алеша же мечтал о карьере исполнителя, артиста-виртуоза, и довольно долго. Но расстался с этой мечтой, когда понял, что наука для него дороже. Однако в памяти А. Ф. сохранился образ подруги детских лет, талант которой подогревал страсть мальчика к овладению музыкальной стихией.
В Новочеркасске всякий, кто хотел серьезно заниматься музыкой, шел в школу Фридриха Ахиллесовича Стаджи (1853–1913), человека незаурядной судьбы. Итальянец, певец, лауреат Флорентийской музыкальной академии имени Керубини, Федерико Стаджи готовился к карьере скрипача-виртуоза, но оказалось, что он обладает прекрасным тенором. Как оперный певец он гастролировал по Европе и Соединенным Штатам Америки. Совершал турне и по России. Но в Таганроге простудился, заболел, потерял голос. Так Стаджи вернулся к скрипке. Человек незаурядный, одаренный, он был превосходным скрипачом и педагогом. В 1886 году женился, осел в Новочеркасске, открыл частную школу, где были классы скрипки и вокала. Когда в 1908 году в городе появилось отделение Русского музыкального общества, Стаджи вел и там класс скрипки. Славился он также непомерной силой. Могучий Стаджи был самый сильный человек в Новочеркасске. Выступал Стаджи и как артист в ансамблях. Здесь он вел партию альта, скрипичные партии исполняли Роберт Каминский (ученик Л. Ауэра) и Ф. И. Попов (преподавал музыку в гимназии, ученик М. А. Балакирева), а виолончели – Алоиз Стернад (будущий профессор Парижской консерватории).
Среди выдающихся учеников Стаджи знаменитый виртуоз Константин Думчев (имя его красуется на мраморной доске Московской консерватории в выпуске 1902 года вместе с Неждановой); Петр Ильченко (выпуск Московской консерватории 1912 года вместе с Н. А. Обуховой и Н. С. Головановым); профессор Московской консерватории К. Г. Мострас (1886–1963) – скрипач, доктор искусствоведения, отец его был дирижером казачьего полкового оркестра; К. А. Кузнецов (1883–1953), московский музыковед, доктор искусствоведения; композитор И. П. Шишов; известный московский артист Александр Миненков.
Алексей Лосев, учась в гимназии, одновременно получал музыкальное образование у Ф. Стаджи, закончив с отличием его школу в 1911 году, вместе с гимназическим курсом.
Музыкальная подготовка, полученная у Стаджи, не только практическая (на выпускном экзамене Лосев играл трудную «Чакону» Баха),[15] но и теоретическая, была столь основательна, что дала возможность А. Ф. Лосеву, профессору Московской консерватории, выпустить в 1927 году книгу «Музыка как предмет логики», напечатать ряд музыкальных статей начиная с 1916 года и на высоком профессиональном уровне общаться с такими близкими ему выдающимися теоретиками и музыкантами, как Н. С. Жиляев, Г. Э. Конюс, Г. Г. Нейгауз, А. Б. Гольденвейзер, Н. Я. Мясковский, М. Ф. Гнесин, Н. А. Гарбузов, С. С. Скребков и многими другими.
Но и в гимназии музыкальное образование было превосходное, как и вообще вся система обучения в годы директорства Ф. К. Фролова.
Музыку преподавал Федор Иванович Попов, окончивший Придворную певческую капеллу в Петербурге, ученик М. А. Балакирева. Он не только обучал игре на скрипке, но приучал к пониманию и слушанию музыки, организовал струнный оркестр гимназистов, разучивал с ними хоры из опер (из «Жизни за царя» и «Руслана и Людмилы» Глинки), народные казачьи песни, управлял хором гимназистов – певчих в домовом храме, который по субботним и воскресным дням посещали прихожане, жившие поблизости, причем наиболее интеллигентные и именитые, а также родители учеников.
Профессор А. В. Позднеев (1891–1975), друг А. Ф. Лосева со школьных лет, брат которого, профессор М. В. Позднеев, учился в одном классе с Алексеем, вспоминал, как Ф. И. Попов, будучи регентом церковного хора, «ставил» к церковной службе исполнение духовных концертов. Композиций Чайковского и Гречанинова (достаточно светских) хор не исполнял, но зато пел произведения известных духовных композиторов Турчанинова и Разумовского. В церковном хоре пели Алексей Лосев и Александр Позднеев. Особенно много пришлось разучивать народных хоровых и оперных вещей, готовясь в 1903–1904 годах к юбилею гимназии. К этой дате приурочивалась книжка законоучителя священника И. Артинского, вышедшая в 1907 году, «Очерки истории Новочеркасской войсковой гимназии». Сам хороший музыкант, А. В. Позднеев первые навыки в игре на скрипке получил от Ф. И. Попова.[16]
Гимназические учителя, по воспоминаниям А. Ф., были выдающимися педагогами и учеными, «не чета нынешней профессорне», – язвительно говорил Лосев о новоиспеченных дутых авторитетах. Особенно ценил А. Ф. Николая Павловича Попова – учителя истории, ученика Ключевского, соединявшего на своих уроках строгость исторического видения, следование источникам и художественное мастерство, то есть то, что было привито ему его знаменитым учителем в Московском университете. Ф. К. Фролов – выпускник Харьковского университета (в те времена у него была высочайшая репутация), блестящий знаток языка и литературы, великолепный воспитатель и организатор. Здесь же Дмитрий Максимович Муравьев – математик, поощрявший интересы Лосева к астрономии и точным наукам. Учитель Закона Божия Василий Антонович Чернявский, о. Василий, еще молодой человек (родился в 1882 году), окончивший Киевскую духовную академию, знаток не только духовной, но и светской литературы, всех новомодных течений, в том числе и символистов, устроитель дискуссий и путешествий. Это с ним гимназисты прошли пешком от Владикавказа до Тифлиса всю Военно-Грузинскую дорогу.[17] А потом через Западную Грузию вышли к Черному морю. Это путешествие было для Лосева особенным. Во-первых, он кончал гимназию и поступал в Московский университет, а во-вторых, в Адлере он встретил гимназистку из Новгорода Веру Знаменскую, с которой у него завязалась серьезная переписка.[18]
Будучи студентом первого курса, летом Алексей опять отправился вместе с гимназистами во главе с о. Василием и преподавателем немецкого Адальбертом Яковлевичем Цейгером в поездку на Урал и по Каме, впечатления от которой он записал в своем дневнике.[19] Бедный о. Василий! Кое-как существовал он в годы революции, преподавал историю и латынь, а потом, когда в 1920 году гимназию закрыли, бывшие ученики встречали о. Василия на Новочеркасском базаре при хлебных ларьках. Хлеб был страшным дефицитом. До 1922 года Новочеркасском владел голод, ибо 7 января 1920 года город окончательно захватили красные.
Ну и, конечно, кумиром Лосева навсегда остался Иосиф Антонович Микш (род. в 1859 году), чех, преподаватель латинского и греческого языков. И. А. Микш учился в Пражском университете, а затем поступил в Русскую филологическую семинарию в Лейпциге, где обучался три года вместе с Ф. Ф. Зелинским, тоже славянином, поляком, ставшим выдающимся русским ученым-античником. По условиям русского правительства преподаватели древних языков приглашались из славянских стран, получали стипендию и должны были отработать в России шесть лет, то есть два года за каждый год стипендии в течение трех лет. Так Микш и Зелинский попали в Россию. Микш принял русское подданство, работал сначала в Тамбове. Там среди его учеников был будущий наркоминдел Советской России Г. В. Чичерин. Он, между прочим, помог Микшу после революции вернуться на родину, в новое независимое государство Чехословакию. Микш любил Россию и Чехию. Он переводил на чешский язык русских классиков, имя его значится в чешской энциклопедии Отто. Из Тамбова Микш переселился в Новочеркасск (в 1886 году), имел четверых детей (два сына и две дочери), все были православными. Сам же он сохранял в домашнем обиходе привычки давних лет. Володя Микш, сын Иосифа Антоновича, страстный театрал, а затем и артист, до самой своей смерти в 30-е годы оставался ближайшим другом Алексея Лосева.[20] Как друг Володи Алексей был завсегдатаем в доме Микша. Иной раз, вспоминая старика (он так и остался стариком в глазах бывшего гимназиста), А. Ф. рассказывал, что, как типичный чех, Иосиф Антонович каждый вечер перед сном выпивал одну-две бутылки пива, которые ему приносила на подносе горничная. Любил хорошие поджаренные сосиски – тоже чешское блюдо. Он так и не расстался с характерным акцентом, который придавал ему некую чудаковатость и добродушие. Он ставил странные для русского уха ударения (в чешском языке ударение ставится на первом слоге), звук «л» всегда произносил твердо, а «ж» смягчал. А. Ф. любил, смеясь, повторять фразы Микша на примеры из латинской грамматики, вроде: «Скажи-ка, малчик, кто Бабилон стенами окружил» (косвенный вопрос).
Спасибо Иосифу Антоновичу Микшу. Это он направил Лосева на стезю классической филологии и этим дал возможность научной работы, когда его ученику было запрещено советской властью заниматься философией.
А гимназисты, обученные Микшем читать Вергилия, после очередной проказы, чуя приближение классного надзирателя, распевали, ехидно перефразируя строки «Энеиды»: «Харю педанту утри на лету, катит пугало с кантом».[21]
Уже с гимназических лет филология и философия объединились у Алексея Лосева в одно целое. Увлечение астрономией и математикой только подогревало осмысление таких удивительных понятий, как «бесконечность», которая являлась юному Лосеву то в виде бездонного небесного свода, то в виде звездного неба, то какой-то «золотистой далью, может быть, слегка зеленоватой и слегка звенящей».[22] Хотелось эти чувства выразить в слове, как выражал стремление своих героев в бесконечность, к далекой Беге и светлому Сириусу любимый Алексеем Фламмарион. Алексей уже понимает, как и его собственный герой, его alter ego, что только в надзвездной красоте – бессмертие, только там нетленная, неизменная жизнь, что Бог прежде всего есть бесконечность. Значит, человек и Бог будут бесконечно стремиться к соединению. «…Перенести бы математику в эту темную область догадок и предположений».[23] Философия для него – «дочь заходящего солнца», в «видимом, осязаемом, слышимом» – ощущает он тайну. В движении к истине – настоящую жизнь, ибо «обладание истиной есть смерть». Бесконечность – и в поисках истины, и в движении к красоте, к любви.
Алексей пытается даже в словах выразить «ужас бесконечности»,[24] который охватывает нас под «лазоревым небом, до которого сколько ни поднимайся, никогда его не достанешь».
Человек – «у моря тайн», он измучен в поисках таинственных образов и звуков, открывающихся духовному взору, наполняющих бесконечность. И нет предела этим неразгаданным тайнам, и нет предела стремлению к ним человека.
Вот здесь как никто более стали созвучны юному Лосеву Вл. Соловьев и Платон. Сочинения Вл. Соловьева подарил при переходе в восьмой, последний класс гимназии директор своему лучшему ученику в качестве награды (тогда это было первое издание – восьмитомное), а шесть томов Платона в переводе профессора В. Карпова Алексей получил в подарок от И. А. Микша.
Юноша вчитывался в теоретические труды Соловьева, в его отвлеченнейшую диалектику в «Критике западной философии (против позитивистов)», в «Философских началах цельного знания», в «Критике отвлеченных начал», хорошо знал его литературно-критические статьи, но и спорил с ними, восставал против соловьевского понимания Лермонтова, своего любимого поэта. Именно тогда Вл. Соловьев стал учителем Лосева в диалектике конечного и бесконечного, в принятии их вполне реального (отнюдь не абстрактного) неразличимого совпадения, в принятии единства прерывности и непрерывности во времени и пространстве. Платон с его вечно вопрошающим Сократом, доказательствами бессмертия души в «Федоне», с движением сонма богов на золотых колесницах по небесному своду в «Федре» и стремлением к высшей красоте и высшему Благу в «Пире» был также созвучен философским устремлениям юноши. Так и оказалось, что к завершению гимназии Алексей Лосев, по его собственному признанию, был уже готовым философом и филологом-классиком, то есть знатоком греческого и латинского языков, а также античной литературы.[25]
Ряд своих сочинений юный Лосев писал по собственной инициативе, а не по заданию Ф. К. Фролова, причем эти сочинения касались философско-религиозных проблем. Уже в то время знание и вера неизменно связывались Алексеем воедино по завету апостола Павла, слова которого «верою разумеваем» (в русском переводе «верою познаем») (Послание к евреям. 11,3) любил повторять Лосев. Так, к 1909 году (то есть к 5-му классу гимназии) относится сочинение «Атеизм, его происхождение и влияние на науку и жизнь» (написано за два дня, 16–17 июня),[26] в котором он обличал атеистов на основе современных научных исследований.
Таким же философско-религиозным сочинением является его «Высший синтез как счастье и ведение», которое написано в 1911 году накануне отъезда в Москву, когда он поступал в Московский Императорский университет. Пишет Алексей 16 и 24 августа. Он спешит, торопится, слова часто неразборчивы, много вставок, сокращений. Хочется изложить в первую очередь основные мысли, наметить дальнейшую структуру работы, задуманной как обширное сочинение, не завершенное после начала университетских занятий. Автор собирался рассмотреть религию, философию, науку, искусство, нравственность – все пять компонентов в десяти главах. Всего в работе должно было быть 15 глав, причем в 14-й объединяются в высшем синтезе установленные пять главных компонентов, а в главе 15-й речь идет о применении высшего синтеза к современной науке. Весь развернутый план работы, включая завершающие 14-ю и 15-ю главы, написан в один день – 16 августа 1911 года. Глава «Религия и наука» – 24 августа. Сохранились материалы к работе, множество заметок с указанием книг, журнальных статей, выписки из них, которые указывают на удивительно широкий диапазон в ряде философско-богословских проблем у юного Лосева. Это юношеское сочинение явилось тем зерном, из которого в дальнейшем выросло древо философско-религиозной мысли зрелого Лосева.
И вот наконец выпускные экзамены. А. Ф. вспоминал особенно значительный первый экзамен – русский язык, сочинение. В те времена строгость была необычайная. Даже директор до последнего момента не знал темы сочинений, присылаемые от попечителя Харьковского учебного округа в запечатанном сургучом конверте, вскрываемом в присутствии комиссии экзаменаторов и экзаменующихся. Собирались в актовом зале, 21 человек, по одному за отдельными столами. Время с девяти утра до трех часов дня. Тема обрадовала Алексея: «„Авторы помогают своим согражданам лучше мыслить и говорить“. Н. Карамзин». Тема близка юноше, который уже писал сочинения, связанные с ролью просвещения и наук, с их влиянием на общество. Сочинение признали образцовым, подходили, поздравляли молодого человека, пожимали руки, вспоминали и в дальнейшем успех будущего студента. Очень хотелось Алексею получить свою работу, но не тут-то было. Оказывается, выпускные сочинения отправляли в округ, попечителю, для проверки не столько учеников, сколько учителей и справедливости их оценок.
Так и не увидел Алексей Лосев больше своего замечательного сочинения. А может быть, и найдется оно?[27] Кто знает?
Перед расставанием гимназисты оставили свои подписи под обязательством встретиться всем вместе непременно через десять лет. Расписывались размашисто, с чувством свободных, самостоятельных людей. Но встреча не состоялась. Разве предвидели они на пороге новой жизни пришествие грядущего хама? Никакой фантазии не хватило бы представить их будущее. Алексей сохранил дружбу в течение всей жизни только с братьями Позднеевыми (я приходила проститься с почившим Александром Владимировичем в Хлебный переулок, недалеко от Арбата) и Б. В. Властовым, будущим профессором, биологом, с 20-х годов поселившимся в Москве на Пречистенке, непременным гостем вместе с женой на наших встречах под Новый год.
А. Ф. с нежностью вспоминал Володю Микша, актера в Ленинграде, друга, которого знал с 1-го класса гимназии в течение 33 лет. «Чистый, ясный, простой, нежный был человек», «со страстными мечтами и с вечным неистощимым энтузиазмом». Оба первоклассника делали бумажные колпаки и надевали на голову украдкой от учителей. А в старших классах Володя поражал актерским талантом, мастерски читал Гоголя и стал участником всех вечеров и концертов в гимназии. Скончался Володя в 1936 году, призывая до последнего часа Алексея.[28]
С Юрием Долинским встречались до 1941 года, приезжая на юг. Жил он и учительствовал в Таганроге, преподавал математику (письма от него сохранились и фотографии). После войны оказался в Чехословакии, искал через Красный Крест Лосева, нашел его, и уже после смерти Сталина приезжала к нам на Арбат молодая дама, дочь Юрия, Таня, смешная физиономия которой осталась на карточке, снятой провинциальным фотографом.
Умер и Коритко-Снитковский, который в старости преподавал в провинциальной школе в Аксае, под Новочеркасском, так и не встретившись с Алексеем. Но его семейный альбом через М. В. Позднеева попал к нам в дом, а в нем фотографии гимназистов лосевского выпуска.
У нас дома, несмотря на все превратности судьбы (архив Лосева погибал трижды), тоже осталась эта память давних лет. Кончая гимназию, каждый почел своим долгом сфотографироваться у Браудо и подарить другу на память свой портрет. Наивно убежденные в неизменности жизни и встреч, они часто не подписывали карточки, так что теперь даже имена их неведомы. Остались только черты, которых теперь не встретишь в оскудевшей России. Что за симпатичные, живые, смышленые, независимые, то смелые, то задумчивые лица смотрят на нас из-под гимназических фуражек. Всех разметало время, все оказались унесенными ветром революции, и ученики (восемь гимназистов были убиты в боях с Красной армией, одного красноармейцы убили дома), и учителя. Исчезали не только люди, но и документы. Директор гимназии Ф. К. Фролов 1 марта 1919 года с горечью сообщал в Отдел народного просвещения Всевеликого Войска Донского о погроме, произведенном красноармейцами в архиве гимназии.[29] Почему именно в архиве бесчинствовали? Наверное, чтобы и следов прежнего не осталось. Знали, что делали.
Но если юный Лосев погружен в науку, в философию, в бесконечность и звездное небо, в стихию музыки, то мог ли он оставаться вне вечной проблемы красоты и любви? А он и не оставался, наоборот, пребывал в поисках прекрасного, доброго, любимого. Из дневников гимназиста Лосева (а затем и студента), из рассказов самого А. Ф., из воспоминаний друзей очевидно, что душа его тянулась к обретению близкой, созвучной ему души, к единению с все понимающим другом, спутницей на трудном жизненном пути.
То там, то здесь на страницах дневников мелькают имена милых, симпатичных гимназисток, хорошо знакомых или случайно где-то увиденных, иной раз совсем мимолетно, а то безнадежно долго обожаемых издалека, безмолвно, романтически и, как любили говорить, платонически.
Юный искатель родственной прекрасной души даже завел обычай записывать под номерами тех, кто произвел на него неизгладимое впечатление, и этих номеров были десятки. Но самые главные в эти ранние годы – Цецилия и Фрида Ганзен, Олечка Позднеева, Вера Фролова, Вера Знаменская.
Сестры Цецилия и Фрида в годы 1905—1907-й – одна скрипачка, другая пианистка, подруги детства Алеши в станице Каменской, предмет не только воздыхания, но и соперничества. Дружба с этими девочками привела Алексея в мир музыки. Уже студентом он с благодарностью вспоминал их, зная, что они за границей, где уже делают блестящую артистическую карьеру.
Ольга Позднеева, сестра Александра и Матвея Позднеевых, друзей А. Ф. с гимназических лет. В дневнике около имени Ольги помечено: 15 ноября 1909 – 24 марта 1910 года. В нашем архиве хранятся пять записных книжечек Алексея Лосева, в которых перемежаются записи Ольги и Алексея, своеобразный письменный диалог без начала и конца. По воспоминаниям (рукопись) А. В. Позднеева, роман был трудный, так как, по его словам, Ольга была «равнодушна» к Алексею, но «принимала его ухаживания».[30] В конце концов в марте 1910 года наметился разрыв. Алексей писал ей письма по 20 страниц и более. Александру пришлось распутывать это дело. «Было очень трудно, ибо сколько боли, увлечений, страданий и упреков переживал он. Но все же справился с собой и понемногу отошел от сестры». Да, молодой Лосев любил писать письма предметам своих воздыханий. И не только в 20 страниц. А вот 40 страниц Евгении Гайдамович (уже в университете) – это серьезно.
Увлечение Верой Фроловой, дочерью директора гимназии, пришлось на весну (апрель—май) 1911-го, последнего гимназического года. Алексей встречал Веру на пути в гимназию, каждый раз пытаясь передать ей заготовленное письмо (их накопилось в кармане тужурки много), но каждый раз не решался это сделать. Встречаясь в доме Фролова с Верой – страдал, не показывая вида. К лету все кончилось, вытеснили другие, более сильные впечатления. Уж слишком платонической была любовь к недоступной дочери директора гимназии.
Но вот в июне 1911-го, во время путешествия выпускного класса по Кавказу, Алексей по пути в Адлер, на пароходе, встречает гимназистку из Новгорода – Веру Знаменскую, которая с осени становится петербургской курсисткой. Эта встреча произвела на Алексея глубочайшее впечатление. Однако Вера вскоре должна была все-таки уехать. С тоской провожал Алексей на пристани Адлера пароход, который увозил прелестную девушку (письмо от 14 июля 1911 года). Но молодые люди успели доверительно поговорить, обменяться адресами и заручились обещанием подарить друг другу на память фотографии.[31] Вначале А. Ф. передал Вере записку (без обращения), подписав ее «Ваш А.» со «скромными пожеланиями скромного человека». Началась с 14 июля 1911 года переписка; из нее сохранились 17 писем Алексея, последнее из которых датировано уже 22 июля 1914 года. Отношения развивались серьезные, но у Веры уже наметилась своя судьба к 1914 году, тут же началась война, близилось окончание университета в 1915 году, начиналась новая жизнь. Однако поиски молодым Лосевым прекрасной души и спутницы жизни продолжались еще несколько лет, пока в 1917 году А. Ф. не познакомился с Валентиной Михайловной Соколовой. Слова Алексея в его первой записке Вере (28 июня 1911 года) оказались пророческими: «Весьма возможно, что мы не встретимся в течение целой жизни». В этом мире они никогда больше не встречались, но Вера, выйдя замуж и обретя свой путь, все-таки хранила давние письма молодого человека, мечтавшего о ней «на заре туманной юности».
Из писем к Вере Знаменской мы узнаем, как начал первый учебный год в Московском университете Алексей Лосев. Сначала он подумывал о Германии, средоточии старой науки, но потом, узнав, что в Москве «прекрасная постановка философии», подал туда документы на конкурс аттестатов.[32] «Рано или поздно, но я возьму все нужное для меня из Берлина, Лейпцига и Гейдельберга», – писал он Вере (1911, лето, Каменская), не подозревая того, что советская власть никогда никуда его не выпустит. Изгоняли из страны только в наказание (как было в 1922 году), но его еще следовало заслужить. «Все нужное» придется Лосеву брать из книг, которые, к счастью, поступали в большие библиотеки или какими-то загадочными путями приходили из-за рубежа.
Но пока начинающий студент полон энтузиазма. Летом на берегу Донца или у живописных озер вблизи Каменской Алеша перечитывает Достоевского, Платона, романы Фламмариона, своего первого воспитателя и первой любви в философии и науке. Читает на немецком «Введение в философию» О. Кюльпе, на французском – полный курс современной литературы, на греческом – «Эдипа-царя» Софокла.[33] Одиночество с книгами было, по его признанию, «источником и трудов и наслаждения» (там же).
Наступило 1 сентября. Теперь Алексей чувствует себя полноправным студентом. Поселился он в Первом студенческом общежитии имени императора Николая II на Большой Грузинской, 12, квартира 92. Это было замечательное учреждение, за которое платили 32 рубля в месяц, тогда большие деньги, и которое не каждому было по карману. Но мать присылала 600 рублей в год, кроме того, Алексей давал уроки древних языков по рублю за час, так что мог даже иметь за 21 рубль абонемент за место в ложе Большого театра на 15 спектаклей. Деньги уходили главным образом на книги, театр и концерты. Но ведь мы знаем, что мать продала дом в Новочеркасске, чтобы содержать сына в Москве, да и казачий надел давал кое-какие доходы.
Во всяком случае, А. Ф. всегда с восторгом рисовал прелести своего быта в общежитии, напоминавшем скорее всего строгий пансион для молодых людей, в комнаты которого не могла ступить нога женщины, кто бы она ни была. Так, когда к Алеше приехала мать, то встретиться с сыном она могла только в гостиной на первом этаже. А затем уже сын приезжал к ней в гостиницу, где она остановилась. Вся прислуга общежития была мужская. Каждый студент имел отдельную комнату и был освобожден от бытовых забот. Раз в неделю меняли все белье, личные вещи забирали в стирку и возвращали выглаженными, если надо, накрахмаленными. Служитель чистил обувь, следил за освещением, наливал керосин в лампы, чернила в чернильницу. Заниматься можно было, если пожелаешь, в читальном зале с библиотекой; был зал, где ты мог играть на рояле или скрипке, не мешая никому. В своей столовой кормили вкусно, освобождая от лишних хлопот.
Эти рассказы так мне нравились, что я однажды в начале 60-х годов попросила А. Ф. поехать с ним вместе и посмотреть хотя бы на дом около зоопарка, где обитал А. Ф.[34] Мы поехали вдвоем, нашли этот большой, внушительный дом, в котором помещалось много разных учреждений и каких-то жильцов, прошли внутрь, поднялись на второй этаж, и А. Ф. показал мне дверь своей комнаты. Запомнила лестничную площадку, кованую решетку перил и закрытую дверь. Вот все, что осталось в памяти. И больше ничего. А ничего и не было. Все нутро дома перегородили на какие-то клетушки; ни следа гостиных и залов – все кануло в небытие. Что уж говорить об исчезнувшем Доме, если вся прежняя жизнь погибла. Хорошо, если человек чудом остался жив. И на том спасибо.
Выдали первокурснику студенческий билет и его строго требовали предъявлять при входе, времена были неспокойные.
Первую лекцию, которую слушал Лосев в самой большой, Богословской аудитории,[35] читал в 12 часов дня 1 сентября 1911 года Р. Ю. Виппер, известный историк античности, занимавшийся также историей раннего христианства. С особенным интересом слушал юный студент историю Греции. Перед этой первой в своей жизни лекцией Лосев дрожал от волнения, как перед слушанием Шаляпина в «Борисе Годунове».[36]
В два часа дня слушали лекцию по курсу психологии профессора Г. И. Челпанова. С интересом слушал студент историю древнего искусства у профессора В. К. Мальмберга и введение в языковедение у В. К. Поржезинского. Со следующей недели должны были читать лекции профессор Л. М. Лопатин (друг Вл. Соловьева) – история новой философии, И. В. Попов – философия Средних веков, Н. В. Самсонов – история эстетических учений и семинарий по Платону, С. И. Соболевский – этика Аристотеля.
В архиве А. Ф. сохранилось множество университетских программ, из которых видно, какое количество и очень важных курсов слушали студенты историко-филологического факультета. Характерно, что с некоторыми профессорами у А. Ф. сохранились на всю жизнь добрые, даже дружеские отношения. Так, Г. И. Челпанова он считал своим учителем. Когда Челпанов основал Психологический институт, студент Лосев, как один из лучших, был принят в члены этого института. Там А. Ф. вел работы по экспериментальной психологии, активно участвуя в семинарах и экспериментальных работах. Сохранились в архиве Психологического института, в архиве А. Ф. и в архиве Г. И. Челпанова документальные свидетельства об этой деятельности.[37] А. Ф., смеясь, рассказывал о том, как университетский служитель на вопрос Алексея, как ему нравятся лекции Челпанова, ответил: «Ненаучно читают, господин студент». – «Как ненаучно?» – удивился Лосев. «Уж очень все понятно. Вот Лев Михайлович (Лопатин) читают, так ничего понять нельзя. Вот это наука». Ясность и четкость мысли очень ценились А. Ф., и сам он придерживался в своих лекциях этого принципа понятности. Что касается Льва Михайловича, то Лосеву был чужд его утонченный абстрактный спиритуализм. С профессором Поржезинским – автором труднейших и запутаннейших штудий по сравнительной грамматике индоевропейских языков – никто из студентов не мог смириться. Зубрили, не понимая. На лекции ходили по спискам по очереди, несколько человек. На экзамен выучивали литографированный курс и вздохнули с облегчением, когда все завершилось. Зато через десятки лет, работая с аспирантами, А. Ф. всегда пользовался лекциями своего давнего профессора и тщательно, но не без труда, в них разбирался. Я этому свидетель. Эти курсы до сих пор лежат на письменном столе Лосева в его кабинете. Весело вспоминал А. Ф. экзамен у профессора Мальмберга, у которого студенты знали наизусть, какая, чьей работы та или иная статуя и в каком зале стоит. Все годы помнил классическую расстановку древнегреческой скульптуры в Музее изящных искусств, основанном И. В. Цветаевым. Но вряд ли А. Ф. сумел бы выдержать экзамен по античному искусству в последние годы своей жизни. Часть слепков увезли в какие-то хранилища, всю экспозицию коренным образом изменили в угоду международным выставкам и престижным вечерам.
С И. В. Поповым А. Ф. в дальнейшем свяжут близкие отношения. Этот крупнейший специалист по патрологии (учение Отцов Церкви) преподавал и в Московской духовной академии. Общие богословские идеи объединяли старшего и младшего. Попов был арестован в 1930 году по одному делу с Лосевым, был с ним сначала в одном лагере на Свирьстрое, а затем их разделили. Попова отправили в Соловки. Там он принял участие в составлении знаменитого «Соловецкого послания» сосланных туда иерархов.[38] Погиб в лагерях.
А. Ф. близок был и с Н. В. Самсоновым, «Историю эстетических учений» которого (М., 1915) он очень ценил.
С. И. Соболевский, у которого слушал А. Ф. греческих авторов, не одобрял философских пристрастий Лосева. Идеи знаменитых лосевских книг 20-х годов он считал «фантазиями» и «гипотезами». Единственной реальностью для этого великого знатока греческого и латинского языков (он прожил почти сто лет) была реальность грамматических форм, незыблемых и устойчивых в течение веков.
Пребывание в Москве складывалось из университетских занятий, систематического и продуманного чтения книг, главным образом научных, музыки и театра. Те музыкальные симпатии, которые были заложены с отрочества, итальянская музыка – «первая любовь, как и Фламмарион в науке и философии»,[39] твердо сохранились, можно сказать, на всю жизнь. Если в 1916 году молодой Лосев опубликовал одну из своих первых статей, посвященную «Травиате» и великой Неждановой, то в старости он прямо утверждал, что не любящий итальянской колоратуры никогда не поймет диалектики Гегеля. И там и здесь прихотливая игра оттенков, тончайших переходов, нанизывания и россыпи звуков, живого голоса и живой мысли.
Но вот наступают симфонические концерты Кусевицкого – все шесть симфоний Чайковского, увертюра «Манфред», «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини». И хотя Алексей в эту пору недолюбливает Чайковского за его «упорный пессимизм», но музыка эта подкупает своей искренностью и простотой, «подчас даже по-итальянски задушевным, светлым настроением». А Римский-Корсаков, «эффектный знаток народной души и мелких изгибов просветленно-эпического настроения»?[40] Как же не пойти на концерты Кусевицкого? Зато учеба сразу «осложняется». Тем более в театре студент бывает два раза в неделю, не считая Большого с Шаляпиным, Собиновым, Неждановой. Потому и в университете сидит Алеша в неделю часов 26–28, хотя записался на 95. Нет времени, а пропущенные лекции не представляют большого интереса. Сдает экзамены на «весьма», и сдача их не составляет непосильного труда, хотя, например, профессор Челпанов требует от членов Психологического института изучить за два года ряд учебных пособий (а сдавали тогда серьезно): «Введение в самостоятельное изучение высшей математики и механики» Делонэ, «Основы физиологии» Гексли – Розенталя, «Статистические методы в применении к биологии» Леонтовича, учебник физики Косоногова. К тому же надо овладеть сложной экспериментальной аппаратурой, привезенной в институт из Соединенных Штатов Г. И. Челпановым.
А тут еще увлечение философом Н. О. Лосским, «одним из лучших современных». Студент оказался «поклонником» двух его работ: «Обоснование интуитивизма» и «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма». Разве можно сравнить его с Лопатиным и петербургским неокантианцем профессором А. Введенским (9/Х—1912)? Свое суждение о спиритуализме Лопатина А. Ф. сохранил на всю жизнь. К Введенскому же, увидя лично в 1914-м, стал относиться с огромным уважением и хранил его фотографию с подписью.
Так, студент Лосев в качестве члена Психологического института проделал основательную работу по экспериментальному исследованию эстетической образности в октябре-ноябре 1914 года; при этом он проанализировал сущность и происхождение вопроса с детальным обследованием идей Фехнера о значении ассоциаций в эстетическом процессе, Фолькельта – противника этого принципа, П. Штерна о «вчувствовании» в новой эстетике, О. Кюльпе, намечающего условия для эстетических ассоциаций.
Выделяет Алексей Лосев общие принципы эксперимента, устанавливая понятие эстетического ритма по теории К. Грооса и переходя к постановке самого эксперимента, используя самонаблюдения при слушании музыкальных произведений Бетховена, Шумана, Шуберта, Вагнера, Чайковского, Римского-Корсакова. Автор проекта будет иметь в виду свои настроения и мысли и на основе этого сформулирует выводы из протоколов исследования, проводя эксперименты в лаборатории. Музыка, оперы, концерты не проходят зря. Экспериментатор готов анализировать Симфонию h-moll Шуберта, «Кольцо нибелунга» Вагнера, Девятую симфонию Бетховена. Автор проекта уверен, что его «давнишние занятия музыкой и эстетикой и любовь к эстетическим, главным образом, к музыкальным настроениям» должны ему сильно помочь.
Следует сказать, что эстетикой ритма Лосев будет заниматься и дальше, став членом Государственной академии художественных наук. Его привлекает не только эстетика ритма в самой музыке, но и учение о ритме в работах Шеллинга, Гегеля, немецких романтиков. А что касается анализа бетховенских симфоний, то приблизительно в 1920 году он даст великолепный анализ Пятой симфонии, который один из исследователей Лосева называет «гениальным», «может быть, доступным мало кому из музыкантов XX века».[41]
Музыка и театр – верные друзья студента Лосева. Его дневниковые записи пестрят воспоминаниями и восторгами, вызванными искусством. Вот уж где коренилась лосевская эстетика выразительности. В театры, оперу, концерты и даже в оперетту Алексей часто ходит с друзьями: Леонидом Базилевичем, своим однокурсником,[42] по прозвищу Декан, А. Ф. Поповым (сыном Ф. И. Попова, преподавателя музыки в гимназии), А Манохиным, а то и с братьями Позднеевыми, Александром и Матвеем, тоже одержимыми музыкой друзьями гимназических лет, с товарищем по учебе фон Эдингом. А если приезжает из Петербурга Володя Микш или сам Алексей едет к Володе, то и с ним – в драму, а то и со своим однокашником Павлом Поповым и его сестрой, талантливой художницей Любой. С семьей Поповых очень даже близок и часто бывает в их особняке вблизи Кудринской, с огромным садом, спускающимся к Москве-реке. Семья богатая (отец – фабрикант-суконщик), хлебосольная, молодежи много (потом тоже в революцию все изменится, и Люба в 1924 году умрет). Музыку слушает и с приятельницами, курсистками, чаще всего с Евгенией Гайдамович, а бывает, что и с ученицами-гимназистками, которым дает уроки латыни и греческого. Но чаще один. Тогда, в окружении чужих, особенно слушается.
Если на первом курсе часто страдали занятия от музыкальных восторгов, то в дальнейшем Лосев как-то приспособился. С особенным чувством он вспоминает «Снегурочку», «Сказку о царе Салтане», «Майскую ночь» Римского-Корсакова, «Демона» Рубинштейна, вечных «Травиату» и «Фауста», вагнеровские драмы «Тангейзер» и «Лоэнгрин», «Кольцо нибелунга» (в Москве и в Берлине), «Летучий голландец», «Парсифаль» (в Берлине). Он посещает камерные концерты известных музыкантов Д. Шора, Д. Крейна, Р. Эрлиха, так называемое «Московское трио». На концертах иностранных гастролеров бывает обязательно. Он слушает норвежца, композитора и дирижера Ю. Свендсена, французского скрипача виртуоза Анри Марто, с восхищением вспоминал концерт для скрипки с оркестром Мендельсона (e-moll, op. 64) и концерт для скрипки с оркестром Бетховена[43] (D-dur, op. 61), любимые им всю жизнь, как и «Реквием» Моцарта.
Что уж говорить о знаменитых исполнителях – пианистах, скрипачах, композиторах, которых слушал Лосев, – Рахманинове, И. Гофмане, Зилоти, Н. Метнере, Изаи, Казальсе, Дебюсси и особенно Скрябине. Лосев слушал самого Скрябина, а также пьесы в исполнении его первой жены Веры Исакович и прекрасной исполнительницы пьес Скрябина Елены Бекман-Щербины, игру которой одобрял сам композитор.[44] Любовь к Скрябину и неприятие им Бога стали поводом для многих записей в его дневнике 1914–1915 годов и категорической в своей запальчивости молодой статье «О философском мировоззрении Скрябина».[45]
Сколько страниц в дневнике 1914–1915 годов посвящены больному для Лосева вопросу – Скрябин и Бетховен, бог Скрябина и Бог Бетховена. Даже перед самым отъездом в Берлин он идет на симфонический концерт в Сокольниках[46] – Скрябин, 1-я и 2-я симфонии и 3-я соната. Сравнивает порыв Скрябина, Бетховена и Вагнера. «Для первого у Скрябина не хватает созерцательной сгущенности, для второго определенной волевой целенаправленности. Дух человеческий витает в творениях Скрябина или, лучше сказать, мечется по поднебесью и, кажется, он еще не на небесах» (27/V—1914). В дневнике он дает анализ 2-й симфонии Скрябина и заключает: «У него Бог с маленькой буквы. У Бетховена нет бога, у него есть Бог». И наконец, «у Скрябина нет Бога. У него есть дух и вселенная, где этот дух мечется». Вот почему в своей статье о Скрябине Лосев строго предписывает анафемствовать мятежного гения.
Да, музыка для Лосева – это «Бог, который лечит… от жизненных треволнений и дает новое откровение высшего мира» (18/I—1915). Читая дневники студента Лосева, можно понять, что идеи повестей Лосева, писавшихся в лагере на стройке канала, а затем и в Москве (о колдовском наваждении музыки), заложены были в давние годы, когда глубочайшие переживания музыкальных экстазов граничили с возвышенным религиозным одухотворением.
Хотя Лосев и упивался занятиями так, что даже «экзамены взвинтили нервы» (15/II—1914), но хотелось «склонить усталую голову свою», хотелось «красивых чувств, чуждых реальности». Это значит пойти с Матвеем Позднеевым в театр, сначала в Художественный, затем и в Большой, но «не удалось прогнать тоску искусством». Не удалось. Реальность же подступает со всех сторон. Но лучше бежать в мечту. «Да и зачем мне реальность?» Ее же надо осуществлять. «А мечта не нуждается в осуществлении». Алексей вскоре привыкнет превращать в действительность свои замыслы, но пока он живет «опоэтизированными чувствами». Поэтому – опять театр. Теперь уже опера «Демон», в четвертый раз (там же). Однако наука берет свое, надо жить наукой, но «наука без искусства и без любви – уродство», а искусство и любовь без науки – «порывание без осознания цели, утомительный бег на месте» (16/II—1914). Значит, опять синтез – наука, искусство, любовь. Лосев не терпит односторонностей. Он с удовольствием дает уроки девочкам-гимназисткам (надо подрабатывать), но после уроков, ощутив вдруг, что «стал стареть» (это в 20-то лет), так как девицы именуют его Алексеем Федоровичем, он – их учитель, с бородой, усами, рассуждающий о Вагнере и Бетховене, – решает опять-таки идти в театр. Художественный, на «Николая Ставрогина» (по «Бесам» Достоевского) или читать Байрона и «в одиночестве ждать лучшей жизни». Чувства в молодости противоречивы. То разочарование, а то надежды (2/III—1914). Лучше всего отправиться в библиотеку, в Румянцевский музей, куда он когда-то ходил со Знаменки, потом уже через главный вход, на первый этаж, в 20—30-е годы – его постоянное место в большом зале на антресолях для научных работников.
А еще лучше сесть за дневник. Но Алексей признается, что дневник ведет плохо, нерегулярно и чаще тогда, когда не с кем поговорить и душа беседует сама с собой. Алексей – ученик выдающегося психолога и философа Г. И. Челпанова. Он знает, что такое экспериментальная психология, как умелый психоаналитик изучает сам себя, особенно когда реальная жизнь отступает в тень или когда надо разобраться в чувствах к Жене Гайдамович, доставившей ему много страданий. И умна, и красива, и образованна. Познакомил их Александр Позднеев на вагнеровском «Золоте Рейна», потом шубертовская «Неоконченная симфония» (h-moll) в Работном доме (и туда ходил на концерты Лосев), где Женя выделялась своей интеллигентностью среди серой рабочей публики. Затем встретились в Большом, а дальше Женя захотела брать уроки латинского языка. Знакомство с Женей поддерживал Александр Позднеев. Но Алексей вскоре понял, что Женя – язычница, мила со всеми и ее трудно приобщить к красоте, которую он исповедует. А Лосеву важно быть вместе. Вместе читать Фета, Гёте, Шиллера, слушать Вагнера и Бетховена, вместе исповедоваться перед одним священником, вместе любить православную Древнюю Русь, что теплится в Чудовом монастыре, в Успенском соборе, Иверской часовне; вместе совмещать Вагнера и славянофилов. А вот если этого «вместе» нет, то, делает вывод Алексей, «в одиночку я сделаю больше, чем вдвоем». Он требует красоты как подвига, христианской красоты, а не красоты ощущений – языческой (11/Х—1914). Все кончается обменом письмами (лосевское занимает 45 страниц) и полным разрывом отношений, потому что «жить наукой и остаться живым человеком может только тот, у кого есть жизненная, дающая энергию любовь» (29/XII—1914). Разрыв с Женей оказался полезным для молодого человека. В Лосеве вновь проснулся интерес «к этической проблематике» (1911–1915), которую он забросил из-за психологии и университетских формальностей. Вполне возможно, что именно в это время Алексей Лосев написал работу «Этика как наука».[47] Оказывается теперь, что жизнь – не мечта, которая не требует реализации. «Да. Жизнь есть школа», – резюмирует Алексей (18/I—1915).
Психология личности интересует Лосева как профессионала, ученика Г. И. Челпанова. Ведь «жизнь души и жизнь сознания – это удивительная вещь». «Какая интересная вещь физиогномика», надо всмотреться в человеческие лица, «что таят они», надо искать обобщения и в фотографиях (26/VII—1914). А пока он экспериментирует над собой, отмечая то «дионисийское ощущение», врывающееся в душу, то «бессознательное», ведущее к сумасшествию; то смерть и сладкий сумрак, и всегда Христос – светлый, очищающий, возвышающий (22/XII—1914). Проводит опыты не только над собой. Любопытный эксперимент проводит он, анализируя два портрета Великой княжны Ольги Николаевны, старшей дочери Императора Николая II, погибшей в 1918 году вместе со всей семьей в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Психологический анализ характера Великой княжны поражает тонкостью, мельчайшими деталями, нюансами, едва заметными для непосвященных, удивительной убедительностью и аргументированностью суждений. Здесь изучение типа женской красоты, характера, ума, тела, позы, одежды, психологический и физиологический портрет незаурядной 20-летней девушки, трагическое будущее которой осуществится через несколько лет. В полночь 31 декабря 1914 года, под Новый год, когда уже все занятия кончились и в общежитии в целом коридоре никого нет, народ разъехался, на месте только «я да Смирнов»,[48] Алексей исписывает 12 страниц дневника, на практике доказывая, какая интересная вещь физиогномика. Он создает психологический портрет внутреннего «я» Великой княжны и приходит (ничего не зная о будущем) к замечательному выводу: у Ольги Николаевны, этой, казалось бы, безмятежной царственной особы, есть «твердая решительность к повиновению своему року». Вывод удивительный, можно сказать, пророческий – для нас, которые знают трагическую судьбу царской семьи. Но этот вывод доказывает, что занятия наукой в Психологическом институте не прошли даром для Алексея Лосева.
Здесь, в Москве, несмотря на всю интенсивность умственной жизни, музыкальных восторгов, театральных переживаний, томит, томит одиночество, тянется душа к другой, родственной, понимающей, той, что и полюбит, и пожалеет.
Рядом, в семье двоюродного дяди Евдокима Петровича Житенева (по материнской линии родства), человека солидного, важного (он член правления известной Грибанове кой мануфактуры, инженер и делец), вечно занятого дяди Авдоши, – добрая тетушка Мария Михайловна, дети: младшие девочки – Уля (лет 8), Оля (лет 6) и старшая Елена, она же Люся, 16 лет, в 6-м классе гимназии, от общения с которыми радостно и чисто на душе. Живут своим домом на Остоженке, в Зачатьевском переулке, дети ходят с фрейлейн в театр, синематограф, на каток, ставят домашние спектакли, тетушка принимает гостей, весело встречают праздники, Алеше всегда рады, приветливы. Но ему необходим друг, настоящий. Ему недостает любви, возвышенной, чистейшей и доброй. Алексей верит в высшее благо, высшее добро, в то, что именно «не красота спасет мир, а добро» (1/XI—1912). И вот эту доброту, чистую, нетронутую, видит он в своих кузинах и скучает по «светлой душе». Но почему скучает? «Не знаю», – откровенно записывает он (18/XI—1912).
Люся же и не подозревает о столь возвышенных мыслях своего серьезного и ученого кузена, но ухаживания ей нравятся, так же как когда-то они нравились Олечке Позднеевой. Она смеется над Алексеем, кокетничает, просит решить (к великой его радости) алгебраическую задачку, а потом проявляет равнодушие, и уже задачка не нужна – сама только что решила; то подолгу разговаривает по телефону, а то скучает, сидя рядом. Но верен себе бедный рыцарь, воспитанный на Жуковском и Лермонтове. Он думает только о благе Люси (как он думал о благе Веры Знаменской), благословляет ее судьбу, молится за нее, желает «хорошего, красивого счастья», мысленно просит хоть немного ласки, чтобы согреть душу, помочь в одиноком труде. Он вспоминает все увлечения, переживаемые наедине с собой, и печально записывает: «И счастье было только во мне, о нем мало знали те девушки, которых я любил и которые давали мне счастье от этой любви». «И любил и был счастлив я молча», – заключает юный романтик, благословляя тех, кто даровал ему это счастье.
Коварная Люся, которая даже и не подозревала своей роли «ангела-хранителя», за которого каждый день молится беззаветно любящий, приводит нашего героя в отчаяние. Да и кто полюбит какого-то филолога или философа, разве не лучше него инженер или юрист? Алексей утешает себя тем, что Люся, видимо, скрывает свои чувства под маской насмешницы над идеалами и мучительницы. Он радуется пустякам – позвонила по телефону, поговорила, пригласила в гости в воскресенье. Но уверенности никакой нет. «Один, один за книгой, один на улице, один в Университете, один в путешествии, один в церкви», – записывает, преувеличивая свое одиночество, Алексей, ибо если есть книга, университет и церковь, – то одиночество преодолено. Но «по отношению к земле» «я – пессимист», – заключает он. Приходится примириться с тем, что Люся смеется теперь над его «старой юностью», как лет через 20 будет смеяться над его «юной старостью».
Нет, не будет смеяться Люся, потому что все Житеневы вдруг исчезнут в роковые годы великой революции. Умрут вскоре важный, вечно занятый дядя Авдоша и добрая тетя Маша, и загадочно исчезнут все следы семьи Житеневых, как будто и не было ее на свете. А сам Алексей, который пророчил себе, что, видимо, «уйдет из мира, одинокий, осмеянный, с какими-то идеалами, непризнанными, нежизненными»? Он окажется не так уж и неправым.
Но оставалось небо. «Да, без неба нельзя жить», и юноша готов был «взять крест и идти за Спасителем, крест, который надо нести, обливаясь кровью, надрывая последние силы и умертвляя тело». От этого он никогда не отказывался.
Студент Лосев поставил цель закончить факультет по двум отделениям, полагаясь на свою работоспособность. «Отнимите у меня талант, отнимите оригинальность исследований, но работоспособности у меня нельзя отнять», – пишет он Вере, ссылаясь на свой «опыт уже многих лет работы над книгой и рукописями» (9/Х—1912). Студент, которому всего-то 19 лет, пишет как умудренный научный работник. Но действительно, за плечами уже несколько лет серьезных занятий философией. А силы воли у этого человека достаточно. Недаром, подбадривая Веру, всю в сомнениях на научной стезе, он ссылается на личный опыт. В 4-м классе прочел всего Фламмариона и так увлекся, что в 5-м захотел добиться успеха в занятиях и науке. Захотел – и стал переходить с наградами. Вот что такое воля.
Жизнь в Москве становится для студента «все сильнее и все интенсивней». И не только от книг и музыки, от которой можно сойти с ума (прослушав 4-ю симфонию Чайковского под управлением Никиша), хотя «сумасшествие будет примирением с природой и жизнью» (8/XI—1913). Есть главное – вера, есть память о гимназической церкви, есть университетский храм в память великомученицы Татианы.
Алексей особенно сердечно и трепетно переживает великие дни Страстной седмицы и Пасхальную заутреню. Приход весны для него – это и улыбка, и свежий поцелуй, и радость Божьего мира. А если сидеть на подоконнике ближе к весне, к свету, видеть безоблачное небо и ласковое солнце, то одинокую комнату наполняет тихая, просветленная радость и тут же всплывает воспоминание о гимназической церкви и поражает странное сходство ее с университетской церковью. Только не хватает батюшки да директора, «чтобы была родная, ничем не заменимая гимназическая церковь». «Милая гимназия, милые воспоминания, милый весенний день!» Алексей невольно восклицает: «Дай, Всевышний, побольше таких дней, чтобы стать ближе к твоей нетленной красоте!» (4/III—1912).
Но вот наступает Светлое Христово Воскресенье. Алексей Лосев после светлой заутрени изливает в дневнике свою горячую любовь к воскресшему Спасителю. Он убежден, что «человек живет радостью», но главная радость «рождается от внутреннего духовного подвига». Ни искусство, ни наука не есть достаточное условие для счастья. Только «религия – синтез всего человеческого знания. Она же – синтез и тех источников, которые дают нам счастье».
Только в религии сливаются все чувства хорошего, светлого и святого в один гимн красоте, в одно настроение, окрыляющее дух бессмертной силой. «Пусть ум ваш занят философскими вопросами о мире, Боге, человеке, но не трогайте вашей души, не трогайте вашей религии», – записывает Лосев. В день великого праздника он узнает, «что такое совмещение веры сердца и искание разумом истины возможно» (25/III—1912).
Растет и крепнет идея, зародившаяся у Алексея Лосева еще в последние месяцы гимназического бытия, – идея высшего синтеза как счастья и ведения, и не только в строго-логическом виде, а как чувство, вырывающееся из глубины сердца, высокое, чистое, неиссякаемое.
Приобщиться к научной столичной жизни не составляло особого труда, лишь бы было желание. У студента Лосева такое горячее желание всегда оставалось жизненной потребностью. Алексей, например, присутствовал на защите докторской диссертации С. Н. Булгакова «Философия хозяйства» на юридическом факультете Московского университета, которая происходила при большом стечении слушателей в Богословской аудитории. Но в 1911 году Булгаков покинул университет в знак протеста против реакционной политики министра народного просвещения Л. А. Кассо (1910–1914), так же как и многие выдающиеся профессора. В этом же 1911 году Алексей начал участвовать в заседаниях Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, он видит и слышит там выдающихся философов и писателей, цвет Серебряного века русской культуры. Рекомендательное письмо дал молодому человеку профессор Г. И. Челпанов, заметивший талант и усердие своего ученика. Лосев регулярно посещал заседания общества, которые тогда проходили в особняке известной меценатки, утонченно-образованной красавицы М. К. Морозовой (1873–1958) на Новинском бульваре, а то и в Мертвом переулке. Там он постепенно познакомился с философами С. Л. Франком, С. Н. Булгаковым, П. А. Флоренским, Е. Н. Трубецким, Н. А. Бердяевым, критиком Ю. И. Айхенвальдом, писателем С. Дурылиным, своим кумиром поэтом-символистом Вячеславом Ивановым. Там он услышал доклад Вяч. Иванова «О границах искусства», напечатанный потом в журнале «Труды и дни». В Психологическом обществе при Московском университете Лосев слушал Льва Шестова, приехавшего из Киева. Доклад под характерным названием «Memento mori» («Помни о смерти») в духе литературно-философского эссе не очень понравился молодому человеку, прошедшему строгую академическую школу университета. А. Ф. со свойственной ему скромностью подчеркивал, что все это были люди на много лет его старше, знаменитые, а он – обыкновенный студент. Кроме того, рассказывать о своих отношениях с людьми, большинство из которых Ленин выслал в 1922 году за границу как враждебные элементы или которые эмигрировали сами, было совсем небезопасно. Лосеву, которому запретили на долгие годы заниматься философией, невозможно было афишировать свои, пусть и в далекой молодости, философские связи. Даже в беседах 80-х годов, когда А. Ф. много печатали, он, наученный тяжелыми временами, привычно молчал. Но теперь, через много лет стали известны разные факты из биографии молодого человека начала XX века.
Лосев был погружен в мир философии. Она – живая – являлась ему в личностях русских религиозных мыслителей, в книгах, в новейших теориях, осмыслявших точные науки. Отсюда увлечение Эйнштейном, уравнением Лоренца, по которому объем тела зависит от скорости его движения, математиком Георгом Кантором, объединявшим науку и веру, неокантианцем Когеном, у которого непрерывность мышления обосновывалась математическим учением о бесконечно малых. Вслед за Гуссерлем пришли неоплатоники во главе с Плотином, диалектика Гегеля и Шеллинга. Целые месяцы Алексей Лосев не расставался с «Философией искусства» и «Системой трансцендентального идеализма» Шеллинга. Но это совсем не мешало упиваться «Творческой эволюцией» Анри Бергсона – тоже любовь всей жизни. Лосеву близка была идея философа о трагической борьбе жизни в окружении мертвой, неподвижной и безжизненной материи. С тех пор, признавался А. Ф., «жизнь навсегда осталась для меня драматургически трагической проблемой».[49] Ну а попозже и Шпенглер с его «Закатом Европы», столь созвучным ожидаемому Лосевым мировому пожару (помнил с детства огненное небо). Оправдались ожидания, обернулись катастрофой – революцией.
И здесь же поэты-символисты, особенно Вяч. Иванов и Андрей Белый (а из давних – Тютчев, и особое место И. Анненскому). С ним познакомился Алексей Лосев у своего друга (и ближайшего друга Вяч. Иванова) поэта Георгия Чулкова, бывал там в старинном домике Чулковых (Смоленский бульвар) вблизи Зубовской площади на докладах Белого и литературных спорах. Навсегда сохранилась в памяти молодого Лосева в выступлениях поэта «бешеная взмытость, воспаленность. Полет сразу во все стороны».[50]
Не мог обойтись Лосев и без Фрейда, с его углублением в тайны подсознательного, и без тончайшего и хитроумного Василия Васильевича Розанова, который все понимал, все знал и ни во что не верил, стремясь «к весьма изысканному и весьма изощренному изображению только своих чувственных ощущений при полном равнодушии к субстанциально жизненному воплощению всех этих величайших и прекрасно им ощущаемых объективных ценностей».[51]
В общем, можно сказать, жизнь молодого человека в канун революционных потрясений была полна интеллектуальных, духовных и сердечных радостей.
На старших курсах университета было у Алексея несколько важных событий. Одно из них – официальное открытие Психологического института, деньги на который дал известный московский меценат С. И. Щукин с условием, что институт будет носить имя его покойной супруги Лидии Щукиной. Институт основал Г. И. Челпанов в 1912 году, но торжественное открытие проходило в 1914 году. Алексей как член Психологического института присутствовал на этих торжествах, куда прислали поздравления выдающиеся психологи В. Вундт, К. Штумпф, К. Марбе, куда прибыло до 400 гостей, а из Петербурга – профессор Ал-др И. Введенский, неокантианец, чьи «массивная стройная фигура» и «ни одного седого волоса» произвели на студента большое впечатление. Он подарил студенту Лосеву свою фотографию с датой 23–26 марта 1914 года. Целых три дня с 23 марта читали адреса, доклады, показывали гостям институт, вся неделя была как в чаду. «И что можно тут описать, этими жалкими словами» (17/IV—1914). У А. Ф. сохранились две большие фотографии, где во главе с Челпановым сняты студенты, члены Психологического института, и среди них Алексей Лосев. Ближе всех сидит ученик Челпанова К. Корнилов, будущий профессор, глава официальной советской психологии, погубивший своего учителя. Среди студентов – ученики Челпанова, те, с которыми Лосев поддерживал добрые отношения в 20-х годах до своего ареста (В. М. Экземплярский, В. Е. Смирнов, Н. В. Петровский, П. П. Блонский) и даже позже (Н. Ф. Добрынин, П. А. Рудик, П. С. Попов, Н. И. Жинкин).
Второе важное событие – научная командировка в Берлин. Алексей возлагал большие надежды на эту поездку. Можно поработать в Королевской библиотеке, съездить в университеты Лейпцига и Гейдельберга, увидеть Рейн, а главное – в Королевской опере впервые идет «Кольцо нибелунга». До этого года разрешалось ставить тетралогию только в Байрейте; теперь же она обойдет весь мир. Алексею надо было поработать в Берлине по темам философским и психологическим, его ожидала встреча со средневековой латинской схоластикой. Студент уже начал изучать средневековую диалектику, учение о словесной предметности.[52] Кроме того, Германия – это философ Гуссерль, слава которого шла по Европе и докатилась до России. Алексей записал в дневник 27 мая, приехав после концерта, о феноменологии красоты: «Произошло, кажется, откровение через Гуссерля». Это так потрясло молодого философа, что заснул уже утром, когда на дворе было совсем светло. Как не вспомнить здесь героя повестей Лосева, тоже философа и эстетика, Вершинина, который после тяжких событий или глубоких переживаний засыпает крепким сном под утро, когда светает.
Молодой Лосев так увлечен наукой, так ею живет, что ему чужда любимая русским человеком хандра «от неумения пользоваться жизнью». Из «современной сумятицы идей» он выходит победителем. Почему? Перестроить жизнь он не в силах. Тогда, «почувствовав в себе силы для самостоятельной работы над своими мыслями и чувствами», он уходит «от той жизни, которая способна только разменять силы и способности на мелкие, затертые и ничего не стоящие монеты» (письмо к Вере Знаменской от 11/XII—1911). Цель его жизни, и это еще с первого курса университета, или, вернее, с последнего класса гимназии, – вечно стремиться к постижению добра, красоты, истины, «через высший синтез любви». «И в этом бесконечном приближении к счастью и истине – весь наш смысл» (там же). Знающий платоновский «Пир» скажет – это влияние Платона. Но это только одна сторона дела. А вот запись 30 мая 1914 года, где повзрослевший Лосев вдруг сознает, что он создан «для важного дела воспитания и перевоспитания человека… не для видимых благ, не для материальной культуры я хочу работать». Да, это предчувствие любимого Лосевым дара учительства. И не просто преподавать эмпирические науки, а работать для того, «что неразрушимо, что дает жизнь о Духе Святе…». «Господи, – восклицает он, – даже голова кружится от такой бездны дела, которая меня ждет» (там же). Всю жизнь «бездна дела» ждала А. Ф., и он погружался в нее ежедневно и ежечасно, наслаждаясь работой о Духе Святе.
Так и теперь в Берлине он уже полон мыслей об Эсхиле и об его мироощущении, готовясь писать кандидатское (дипломное) сочинение, но мысли эти близки и к Вагнеру, поскольку он постепенно углубляется в философский смысл его великих драм – и вскоре наступит день, когда он погрузится в трагедию великой любви и судьбы – «Тристана и Изольду».
Мечтам Алексея не суждено было сбыться. Разве мог он подозревать, что мировая война на пороге. Прибыл он в Берлин 9 июля (нового стиля) 1914 года, успел начать работу в библиотеке и дома, насобирал книги, устроился у приличных хозяев, слушал в Королевской опере тетралогию Вагнера, бродил по улицам города, не чувствуя себя чужестранцем. Немецкий язык и немецкая культура были для него свои, близкие. Именно поэтому такой ужас объял нашего путешественника, когда хозяин сообщил ему, что дипломатические отношения между Сербией и Австро-Венгрией прерваны и что Россия готова вмешаться. Уже на улицах появились возбужденные толпы, а наш студент умудряется купить на Фридрихштрассе «злосчастный» костюм, сорочку и другие мелочи. Уложил все в чемодан вместе с рукописями, расплатился с хозяевами (пользуясь обстоятельствами, они взяли с него не 5–6 марок, а 11) и отправился в половине шестого вечера к поезду, уходившему в семь часов вечера. Аккуратный, любящий порядок Алексей успел схватить авто, чтобы сдать книги в библиотеку и поспеть на вокзал. Наверное, нынешний студент первым делом бросил бы книги, подумаешь – библиотека, но Лосев был не таков: книга – орудие высокой науки, она для него священна. И что же? За свою аккуратность он был наказан. Поезд, осаждаемый пассажирами, ушел. Надо ждать до половины двенадцатого ночи. Бродил по Берлину – времени еще много. А всюду толпы и крики: «Долой Россию!», «Долой Сербию!». Снова на вокзале, а там без носильщика не сядешь, началось бегство из Германии. Случайно какой-то, как пишет Лосев, «хулиганчик» втащил в вагон чемодан, которого через минуту не стало. Ходил по вагонам, искал. В чемодане главное – рукописи, над которыми автор работал уже два года. Все безнадежно. Тогда «попытался призвать на помощь философию». Видимо, помогло. Ведь «несчастье – вещь условная. Оно вполне зависит от нас, от нашей индивидуальности». Несколько усилий над собой – и счастлив или по крайней мере не так несчастлив (письмо В. Знаменской от 22/VII—1914). «Да что такое пропавшие рукописи. Ведь голова на плечах осталась? Жизнь, которую я отдаю своему делу, осталась? Ну так чего же там разговаривать» (там же).
Бог послал испытание. Приехал в Россию в первый день мобилизации, 17 июля по старому стилю – 1 августа по новому. На пятый день добрался до родного дома, а там слезы матери, уже потерявшей сына, – телеграмму не получила вовремя. Уже и не думала увидеть Алешу, надеялась только на иконку Николая Чудотворца, которую дала сыну, прощаясь с ним.
На Дону все в экстазе. Одни плачут, другие – поют казачьи песни, нет хода среди людских толп, шинелей, шапок, ружей. Поезда раз в сутки, остальные – воинские. Но все воодушевлены. Кричат «ура», поют гимн и «Спаси, Господи, люди Твоя»; все это возбуждает и «хочется идти туда, постоять за православную веру, за нашу родную землю. Недаром же я казак», – с гордостью пишет Алексей Вере (22/VTI—1914) из Каменской.
По бабке своей, Евдокии Алексеевне, Лосев потомок славной семьи казаков Житеневых, воевавших и в Отечественную войну 1812 года, и в русско-турецкую 20-х годов. Прадед, сын есаула, сотник Алексей Житенев, 15-летним юнцом уже участник кампании 1812–1814 годов. Он отличился в знаменитой «Битве народов» под Лейпцигом, где разбили Наполеона (1813 год).[53] За участие во взятии Парижа молодой казак награжден не только боевым крестом святого Георгия (№ 27850) и памятной серебряной медалью, но и удостоен потомственного дворянства.[54]
Да, было кем гордиться правнуку Алексею, но бегство из Берлина он не может забыть. Недаром в дневнике записывает горестно: «Голодный, раздетый, разбитый, без своих драгоценных и милых рукописей, забытый и прогнанный Берлином, нежданный и никем не зовомый в Каменской» (17/VII—1914, поезд Москва – Каменская), и далее еще печальнее: «Вот уже третий год приезжаю в Каменскую, усталый, оборванный, нервный, без любви, без удачи в науке» (23/VII—1914). Значит, несмотря на успехи в науке и полноту московской жизни, не очень-то сладко приходилось старшекурснику А. Лосеву.
Наконец совершилось и третье важное событие – защита кандидатской (дипломной) работы «О мироощущении Эсхила», которую Алексей готовил у профессора Н. И. Новосадского, известного филолога-классика.[55] Близость Лосева и профессора Новосадского длилась многие годы. Для А. Ф. он был сначала научным руководителем, а потом, как и Г. И. Челпанов, стал близким человеком. В трудные для Лосева дни, когда его обвиняла советская власть в идеализме и вражеской деятельности, Новосадский не устрашился дать отзывы о научных трудах своего ученика. Уже стариком он трогательно относился к А. Ф., который оставался для него всегда молодым человеком.
Новосадский скончался в первые дни Отечественной войны, когда в Москве устраивали учебные воздушные тревоги с имитацией бомбежек. Новосадский не перенес этого ужаса, никогда дотоле не виденного. Умер от разрыва сердца после первой же так называемой учебной тревоги. Ученику же его, Лосеву, довелось пережить настоящую катастрофу 12 августа 1941 года, когда фугасная бомба уничтожила его дом. И среди обгоревших, вымокших в воде рукописей сохранились странички отзывов Новосадского, его отчеты о работе Алексея и отчеты ученика о проделанных по плану заданиях.
Трагедии Эсхила, мощные, беспощадные, суровые, полные символов и загадочных знаков, написанные возвышенным, часто темным, почти сакральным языком бывшим участником элевсинских таинств, изгнанным из Афин за какой-то загадочный проступок, связанный с ритуалом великих богинь Деметры и ее дочери Персефоны, – эти трагедии по стилю своему и по трактовке архаических мифов оказались внутренне глубоко близкими Алексею Лосеву, убежденному символисту и мифологу. Кроме того, Лосева, ученика Челпанова, влекла психология ужаса (не забудем, что шла жестокая война) как проявление каких-то подспудных сил древнего хаоса и проклятий, наложенных богами на того, кто преступил некогда законы божественной судьбы.
Символиста и мифолога Лосева привел к великому Вяч. Иванову (жил он тогда в Москве, на Зубовском бульваре в прекрасном доме, где жило много ученых и где мне пришлось бывать через десятки лет у профессора М. Е. Грабарь-Пассек) тоже один из последних символистов и мифологов, друг Алексея Владимир Оттонович Нилендер (он же друг юных дочерей профессора И. В. Цветаева), близкий к поэту.
Дипломная вчерне была готова, и переписывать ее помогали друзья Алексея, слишком много было кропотливой работы. Студент решил ее посвятить Евгении Антоновне Гайдамович, очень образованной и утонченной особе, с которой, как уже говорилось, у молодого Лосева намечались романтические отношения, приведшие к полному разрыву, что и заставило молодого человека мстительно вычеркнуть посвящение.
Лосев и Нилендер принесли великому поэту и знатоку античности, который учился в Германии, защищал там на латинском языке серьезнейшую диссертацию, кандидатское сочинение и просили читать его без всяких скидок. Вяч. Иванов прочитал работу со всей серьезностью и строгостью, сделал много замечаний, но одобрил. Алексей исправлял свой труд, внимательно прислушиваясь к замечаниям Вяч. Иванова. Ведь никто не был так созвучен в своем стиле и поэтическом языке Эсхилу, как Вячеслав Великолепный. Недаром он сам решился переводить Эсхила, и мы обладаем почти всеми трагедиями древнего автора в его удивительном и неповторимом переводе.
Наследие Лосева тяжко пострадало от военной катастрофы, и мне с трудом пришлось собирать разрозненные части дипломной работы в единое целое, готовя ее к изданию. К сожалению, рукопись погибла, и сохранились только экземпляры, перепечатанные на ремингтоне.
В своей работе «О мироощущении Эсхила» Лосев четко разграничивает мироощущение и миросозерцание. Разницу в них он находит в степени и качестве моментов восприятия окружающего. Мироощущение интуитивно, не требует доказательств, мир воспринимается как целостная данность.
Миросозерцание же основано на рассудочно-логическом восприятии окружающего. Задача работы не только определить слагаемые той суммы, которую представляет мироощущение Эсхила, но также вскрыть и психологически осветить индивидуально-эсхиловские черты отношения к миру как к целому. В исследовании трагедий Эсхила Лосев занят внимательным филологическим анализом психологии «страха и ужаса», переходя к психологии чувства, волевых процессов и характеров. Изучая психологию «страха», «ужаса», волевых движений и характеров, Лосев приходит к выводу, что трагизм Эсхила выражен отнюдь не в драматической форме, а эпически и мифически.
Антидраматизм проявляется у Эсхила в мистическом ужасе, чувстве страха перед ликом Судьбы. А это в свою очередь создает антипсихологизм, ведущий к абстрактности и схематичности героя, носителя только какой-нибудь одной черты. В связи с этим воля и характеры героев отмечены непсихологическими мотивировками.
Герой Эсхила связан с иными мирами, он вслушивается в гул судьбы, в «черное беззвездное небо», познавая жизнь через страдания, через сострадание и страх. В его трагедиях – вечное столкновение аморальной и хаотической основы мировой жизни и морального сознания человека. Человек со своим моральным сознанием пытается пробиться сквозь спокойную видимость жизни и познать мир запредельный. Это и есть, по Лосеву, дионисийский экстаз, то есть порыв, или прорыв, к вечному, борьба двух начал – Рока, стоящего за пределами всякой морали, и свободного нравственного сознания человека.
Лосев видит в Эсхиле «великого символиста» и «титанический порыв моральности в запредельную аморальную мглу», а не только чисто логическое утверждение этих двух начал.
Весь Эсхил дионисичен, поскольку его герои, как пишет Лосев, не живут «видимой оболочкой мира». Они в раздумьях «о роке, о сокровенных судьбах мировой и жизненной истории, о тайной, злой или доброй Необходимости, прядущей свою вечную пряжу». Эти тайны в трагедиях Эсхила дано, по словам исследователя, знать «только преступникам и подвижникам, только братоубийце Этеоклу, матереубийце Оресту, рыдающим персидским старцам и прикованному к скале богу. Познание и страдание – альфа и омега мироощущения Эсхила».
Эсхил, заключает Лосев, «никакого человека не изображал», «драм не писал», а оставался всегда «достойным жрецом Диониса».
Судя по тому, что Алексея после окончания университета в 1915 году оставили при кафедре классической филологии для подготовки к профессорскому званию, научный руководитель Н. И. Новосадский и государственная комиссия одобрили научную деятельность начинающего ученого.
Итак, началась для бывшего студента новая жизнь. Звучало очень важно – «оставленный для подготовки к профессорскому званию». Однако готовиться к этому высокому званию, заниматься только чистой наукой было невозможно. Не хватало элементарных средств, и уже не могла помочь мать, деньги от проданного дома были на исходе, шла война, близилось разорение, времена наступали тяжелые.
Министерство народного просвещения мало заботилось о категории столь малочисленной, как «оставленные при университете». Самих университетов было всего несколько (но зато какие!). Оставленных тоже считаные единицы, но каждому из них надо было иметь твердое обеспечение, чтобы спокойно заниматься научной деятельностью. Видимо, положение было достаточно тяжелым, о чем свидетельствует любопытное письмо А. Ф. Лосева члену Государственной думы П. Н. Милюкову (6/XI—1915),[56] в котором Лосев рисует бедственное положение того, кто имеет «печальное счастье быть оставленным при Университете и выносить на себе всю тяжесть начала ученой деятельности».
Обращается Лосев к Милюкову, как к ученому и гражданскому деятелю, надеясь на помощь таким, как он, «полустудентам» и «полудоцентам» и наивно полагая, что вопрос о материальной помощи будет рассмотрен при обсуждении бюджета в Государственной думе.
А. Ф. совершенно правильно пишет, что теперешние неудачи (видимо, неудачи в войне) связаны с «пагубными и злыми сторонами нашего внутреннего устройства». После войны (он не сомневается в победе России) встанет вопрос о возрождении культурной жизни, и, «победивши Круппа, мы тем самым еще далеко не победим и не превзойдем немецкую культуру, у которой учились». Оказывается, пустует около 150 кафедр, придет молодое поколение, но его надо поддержать сейчас, а не ставить в «комичное и трагичное» положение.
Городовые и околоточные получают 75—100 рублей в месяц, трамвайные служащие – 60 рублей, а оставленный при университете не получает ничего и должен находить постороннюю работу, мешающую основной, чаще всего преподавание в школе, тем более что большинство оставленных происходят из среднего класса, если не сказать просто пролетарии.
Всякий человек, даже обеспеченный, должен получать вознаграждение за свой труд. Но даже место учителя получить в большом городе не так-то просто: молодых и неопытных стараются не брать. К тому же встает квартирный вопрос. Квартира или дорога, или ее невозможно найти, особенно теперь, в военное время, когда полно беженцев. Научный же труд требует определенных условий и в первую очередь тишины.
Нельзя ждать реформы общего университетского образования. «Мы стонем и изнываем в труде сейчас». Нельзя ждать решения университетских коллегий, где заседают профессора, часто «неподатливые» и «жестокие», которые приводят в пример свою молодость, тоже проведенную в нужде. Это, считает Лосев, «черствость сердца». «Если раньше жизнь была неустроена, то почему же и теперь она должна быть такой же, а не лучше?»
Более того, стипендии получают 1/а всех оставленных, причем они присуждаются от частных лиц, и потому это редкость. Поэтому стипендиатство создает «смутную систему фаворитизма, вызывает неприязнь и ссоры». Стипендии введены во всех новооткрытых учебных заведениях (Московский коммерческий институт в Петрограде, Донской политехнический институт, Воронежский сельхозинститут и др.), а старые университеты по-прежнему лишены регулярных стипендий. И много ли денег требуется, если при всех университетах всего 200 оставленных, так что даже сумма в 1500 рублей в год составит для министерства только 300 тысяч рублей, что не отразится на его бюджете. Но все равно даже и при такой стипендии придется подрабатывать в средних учебных заведениях.
Лосев направил П. Н. Милюкову огромное, четко аргументированное письмо, но вряд ли был услышан этот зов о помощи. В архив оно, во всяком случае, попало и сохранилось как свидетельство не просто частной просьбы, но гражданской позиции автора, отстаивающего важность науки и культуры для государства, которое, не заботясь о молодых ученых, подрывает собственное благополучие и приводит к отступлению «перед чужой культурой и чужой силой».
Надо сказать – редкостное письмо. Привыкнув к представлениям о Лосеве, всегда погруженном в высокую науку и отгороженном кабинетными стенами от мира, даже я в первый момент решила, еще не читая, что это какой-либо другой Лосев. Но уже первые строки письма, рисующие положение оставленных при университете, совпали с фактами биографии Лосева, а дальше и не надо было никаких подтверждений. Передо мной раскрылись истоки еще одной важной черты характера этого удивительного человека – не таиться униженно, а убежденно высказывать выстраданные им мысли. Вот так он поступит, печатая книги 20-х годов, когда сознание невозможности молчать и неотвратимости кары со стороны социалистического государства привело его к «Диалектике мифа», а затем и в концлагерь.
Действительно, материальное положение Алексея оказалось трудным, и он, долго не раздумывая, начал педагогическую деятельность в школе. Но мы ведь знаем, что с самых юных лет в нем был заложен талант учительства и работа в гимназиях, несмотря на трудности, только приумножила способности к преподаванию и даже увлекла молодого человека. Он готов был не только сидеть за книгами в тишине любимого Румянцевского музея, но быть постоянно среди молодых лиц. Он, несмотря на все свои сетования в дневниках о надвигающейся старости (это он-то, который и в 90 лет чувствовал себя молодым, черпая силы в вечно юной науке), был всего на несколько лет старше своих учеников. Преподавал он в старших классах, начиная с четвертого (наш – шестой).
Алексей Лосев погрузился в школьную суету 20 августа по старому стилю 2 сентября (по новому) 1915 года, в четверг, в частной мужской гимназии А. Е. Флерова, где проработал год. В «Календаре для учителя» (он сохранился у нас), симпатичной книжечке в кожаном переплете, с удобными кармашками, с календарем, с разделами на разные случаи гимназической жизни, идут записи молодого преподавателя литературы и латинского языка. В этом классе учился у него сын Ю. И. Айхенвальда Борис, там же Вальтер Филипп, сын крупного предпринимателя, домашним воспитателем которого одно время был Лосев (десятикомнатная квартира в Шереметевском переулке у Воздвиженки после разгрома роскошного особняка на Пречистенке толпой обывателей в начале войны – немцы, враги) по рекомендации своего товарища по университету поэта Б. Л. Пастернака (тот тоже, еще раньше, воспитывал Вальтера).[57] Одновременно А. Ф. преподавал литературу (латинский – факультативно) в женских гимназиях Е. П. Пичинской и А. Д. и А. С. Алферовых (последние были расстреляны в революцию), у Хвостовой, Свенцицкой – все они в арбатских переулках, поблизости от университета и Румянцевского музея.
У молодого педагога были самые добрые и доверительные отношения с гимназистками. Но строгость соблюдалась. Ходил в темном костюме и белоснежной накрахмаленной сорочке с воротничками, манжетами и галстуком (А. Ф. умел великолепно завязывать галстук) – начальницы бдительно следили за благопристойным видом преподавателей, особенно молодых. Алексей Лосев этого времени – интересный человек. Красивый, высокий, прекрасно сложенный, широкие плечи, тонкая талия, руки и пальцы музыканта, лицо одухотворенное, обрамленное маленькой бородкой и усами, рыжеватая шевелюра и зеленоватые глаза, – сохранились фотографии этих лет, на которых Алексей выделяется особым изяществом, светится каким-то внутренним тихим светом.
Прямо скажем, гимназистки влюблялись в молодого ученого преподавателя, который заражал их жаждой знания, читал стихи своих любимых поэтов – Жуковского, Лермонтова, Фета, Тютчева, не боялся символистов и со страстью зубрил с девицами латинские исключения. Сохранился забавный рисунок. Есть дата – 21 марта 1918 года и надпись на обороте: «На память Алексею Федоровичу». Над рисунком виден (уже испорченный) список латинских исключений II склонения: liber, miser, asper, tener. На черной доске известная поговорка: «Тасе, iace, sub fornace» (наше «Всяк сверчок знай свой шесток»), спряжение глагола «ато» – «люблю», а также начало известной строки из «Энеиды» Вергилия (II, 49): «Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes» («Что тут ни есть, боюсь Данаев я и дары подносящих» – пер. В. Брюсова) – слова жреца Лаокоона по поводу дара врагов – деревянного коня.
У доски высокий, тощий А. Ф., рыжие волосы в разные стороны, руки дирижируют хором девиц в коричневых платьицах и черных фартуках, повторяющих латинские исключения. Судя по тому, что в классе одни девицы, это не совместная школа, а остатки женской гимназии. Вполне возможно, что это класс, в котором учились большие поклонницы А. Ф. и три подружки. Первая – Елена Четверикова (дочь знаменитого генетика С. С. Четверикова, в дальнейшем жена В. И. Воздвиженского, сына последнего настоятеля Успенского собора в Кремле). Вторая – Натуля Реформатская (дочь выдающегося химика А. Н. Реформатского и сестра лингвиста А. А. Реформатского). Третья – Маня Лорие (дочь московского ювелира, в будущем известная переводчица с английского, кто не читал Голсуорси в ее переводах?) Дружба сохранялась долгие годы.[58]
В 1987 году 9 июля пришло 94-летнему А. Ф. Лосеву, на пороге ухода из жизни, трогательное письмо (отправитель тоже вскоре скончался) от Екатерины Сергеевны Порецкой из тогдашнего Ленинграда. Она узнала адрес у друга нашей семьи, поэтессы и художницы Магдалины Брониславовны Вериго-Властовой, жены товарища А. Ф. по гимназии профессора Б. В. Властова.
Катя Порецкая училась у А. Ф. в гимназии Свенцицкой в 1917–1918 годах в шестом классе (наш – восьмой). Гимназия в это смутное время стала совместной – обучались вместе мальчики и девочки в деревянном доме на Сивцевом Вражке. В классе – девять девочек и три мальчика.
С любовью вспоминает Порецкая свой класс, помнит всех до одного, и среди других даже мне знакомые лица – Лиза Бриллинг (из выдающейся ученой семьи, подруга моей покойной тетушки М. В. Тугановой) и Саша Гуревич, будущий Александр Абрамович Гуревич, известный ботаник, скромнейшая, тишайшая душа, ученейший человек (учился потом в Германии), пострадавший при гонениях Лысенко, профессор, доктор двух наук (биология и ботаника).
Сколько раз он бывал в нашем доме на Арбате, как беседовала я с ним о замечательных открытиях в ботанике моего дядюшки профессора В. Ф. Раздорского (узнав о моем с ним родстве, А. А. Гуревич как-то особенно стал доверителен). Как любил А. Ф. добродушно подсмеиваться над этим тихим, но стойким, выдержавшим все невзгоды человеком, расспрашивал о новых работах, а то, вспоминая старину, экзаменовал по латыни.
В гимназии Свенцицкой Лосев преподавал латинский язык и литературу XVIII века. Гимназисты сдавали Цезаря, Цицерона, Овидия, писали сочинения, одно из которых запомнила Екатерина Порецкая: «Образовательное и воспитательное значение театра». Правда, Лосев в это время переходил все границы дозволенного, и XVIII век превращался у него, по воспоминаниям Е. С. Порецкой, в беседы о Достоевском и Ницше. Все вместе философствовали, и, как отмечает Порецкая, в классе создавалась «особенная духовная атмосфера».
Чтобы создавать такую атмосферу, мало одного энтузиазма, нужны знания, наука, свободное владение предметом, умение говорить об одной проблеме несколько часов, а если требуется, всего полчаса. Так может поступать человек обширных знаний.
Нам известна эрудиция, то есть многосторонняя ученость Алексея Лосева, к которой он стремился с гимназических лет. Преподавателю в классе надо быть на высоте. В гимназиях не редкость профессора университета и приват-доценты. У Ряжской – профессор И. Н. Розанов, в гимназии Констант – фольклорист Ю. М. Соколов, у Флерова – географ А. С. Барков, товарищ Лосева по Психологическому институту П. А. Рудик, у Хвостовой – славист В. Ф. Ржига, у Пичинской – профессор Н. Н. Фатов, у Алферовых – философ и психолог П. П. Блонский.
А. Ф. внимательным образом готовится к занятиям, читает выдающихся европейских педагогов: В. А. Лау «Методика естественно-исторического преподавания» (перевод, СПб., 1914), «Экспериментальная дидактика» (1914), «Экспериментальная педагогика» (1912). Интересует молодого преподавателя теория дошкольного воспитания Ф. Фребеля, создателя дошкольной педагогики как самостоятельной науки, Р. Пенциг, немецкий доктор философии, писатель, педагог, книги которого издавались многократно в Германии и России. Умение экспериментировать Лосев приобрел в Психологическом институте у Г. И. Челпанова. Он любит ставить опыты в классах, решать трудные задачи и в области литературы, и, что особенно важно, – в целях воспитательных, особенно имея в виду религиозное воспитание, хотя, казалось бы, заниматься такой проблемой – привилегия священников на уроках Закона Божия.
Преподавали Закон Божий в гимназиях иной раз выдающиеся богословы и священнослужители, как И. И. Фудель в единственной в Москве женской классической гимназии Фишер, или богослов Н. Н. Соколов у Ржевской, о. Иоанн Кедров, известный всей Москве, строитель храма Воскресения Христова в Сокольниках – в гимназии Образцовой, а в гимназии Винклер сам знаменитый о. Алексей Мечев.
Но Лосев готовит конспекты и учебные разработки не только по литературе, как, например, «К юбилею Карамзина» (1766–1916) или «Импрессионизм и догматизм в критике» (Ю. И. Айхенвальд, критика И. Тэна, О. Уайльд, А. Франс, Жюль Лемэтр); подробный анализ «Фауста», главным образом мало читаемой второй части драмы с ее философской символикой, тезисы доклада «Сокровище смиренных», навеянного Метерлинком, в котором обсуждаются проблемы молчания, соприкосновения душ, сокровенной жизни, пробуждения души, трагедии каждого дня, глубины жизни, любви и красоты. Невольно вспоминается запись 3 июля 1913 года, в которой студент Лосев пытался дать определение любви как подвига, ибо для нее необходимо взаимное соприкосновение душ, немыслимое в земных условиях. Приводит А. Ф. анализ басен Крылова, «Горя от ума» Грибоедова, лермонтовского Печорина – очевидные разработки для школьных уроков.
Особенно волнует его проблема преподавания Закона Божия в гимназиях во времена, когда повсюду распространялся если не прямой атеизм, то арелигиозность, опасное равнодушие, полный разрыв веры и знания.
Молодой Лосев видит великую роль религии в воспитании человека, начиная с детских лет, признавая неотделимость религиозности от народности и твердо отстаивая православие как онтологическую основу нашей национальности. Видимо, религиозное воспитание – слишком больная проблема смутного времени предреволюционного декаданса, назревшая еще в конце прошлого века.
Внук русского протоиерея, европейски образованный философ в течение нескольких лет возвращается к основам религиозного воспитания. Он составляет обширные конспекты и тезисы под названием «Общая методология истории религии и мифа», тезисы «Мать-Земля» с обзором мифологии и религии Земли от II тысячелетия до Р. X. через Византию к Руси XV–XVI веков и, наконец, к Тютчеву и Достоевскому. Он знакомится с работами М. Рубинштейна «О религиозном воспитании» («Вестник воспитания», 1913, № 1) и И. Смирнова «Эстетическое воспитание и религия» («Вестник воспитания», 1913, № 6).
Используя весь многовековой опыт европейской и русской литературы, он ищет подход к детской и юношеской душе.
В общении с учениками необходимы любовное приятие и оценка всех сомнений и противоречий, возбужденных творческих потенций души, ибо религия есть творческий акт, а пафос и красота способны увлечь слушателя. Для современного человека немыслима догматическая система в «Нравоучении», ибо человек – «насквозь желание», для него важен не отвлеченный свод нравственных правил, но «конкретное мироощущение».
Лосев предлагает непосредственное просвещение ума в младших классах и теоретическое усвоение основ религиозного процесса в старших, различая три периода в обучении: период наивной веры (I–IV классы), переходный (V–VI) и критический (VII–VIII). В первом периоде – идея богочеловечества как центр религии Христа, христианская космология Ветхого и Нового Заветов, сказания и предания Древней Руси, использование художественной литературы, понятие о древнерусской иконописи.
Учитель Лосев, имеющий свои права на суждение о Законе Божием, наряду с чтением Евангелия и Апостолов при изложении христианского нравоучения привлекает чтение художественных произведений. Он требует «обязательного отсутствия учебника» в младших классах, отсутствия обязательных ссылок на текст и обязательное отсутствие логических определений. Даже в IV классе (наш шестой) обзор истории церкви не должен быть научным, а скорее полумифологическим. «Свободное чувство и искание», «незадавание учить наизусть», «свободное творчество» – вот что необходимо воспитывать. Более того, в V и VI классах он предлагает полностью отменить Закон Божий, но зато дать обширный материал по истории религии, от первобытности к европейскому монотеизму и зарождению христианства. Особое значение придается истории догматов от их возникновения к дальнейшему развитию, чтобы показать «живое развитие идеи и живое творчество духа», причем все это строится на отсутствии принуждения, чтобы подойти от позитивно исторического мышления к критически философскому, а значит, к философии религии. Здесь и осмысление религиозного исторического процесса, и история религиозных воззрений с оценкой христианства. Всю эту систему венчает философия истории религии с выводами о психологической закономерности религиозного процесса, из которой вытекает проблема веры в знании как религиозная природа основного критерия истины, веры в воле («волевая природа веры, вера – основание свободы и нравственного закона») и веры в жизни человека.
Главными принципами Лосева становятся: изучение каждой проблемы в ее историческом развитии, в процессе, в становлении, в органическом единстве. «Догматы веры, граненые и высеченные, воспринимаются нами, начиная с их зародышевого состояния, и – их граненость и сталь, растворяясь и расчленяясь, уходят в мглу религиозных инстинктов». Недостаточно изучение завершенных форм литературы, религии, философии, языка, мифа, искусства. Надо предварять их историко-психологическим анализом, рассматривать их «как живой, единый организм, как живое тело истории».[59] Хотя эти слова относятся ко времени, когда Лосев завершал подготовку к профессорскому званию и даже читал лекции в Нижегородском университете, где в 1921 году он и стал профессором, но пафос лосевских основополагающих принципов не изменился, начиная с юной работы «Высший синтез как счастье и ведение». Он, наоборот, укреплялся, набирал силу, отбрасывая всякие механистические односторонности. Ведь Лосев – принципиальный диалектик, для которого вера и разум, знание и вера едины.
Полная кристаллизация мыслей молодого ученого и педагога нашла свое отражение уже в советское время, когда он выступил с докладом в педагогическом кружке Нижегородского университета 29 марта 1921 года.
Бедный Лосев! В 1916 году ему не давали покоя мысли о реформе Закона Божия в гимназии. Еще были надежды на мирное житие после войны (вспомним письмо П. Н. Милюкову) и не терпелось воплотить в жизнь, сделать действенной свою теорию религиозного воспитания в средней школе. Уже и революция позади, уже разразилась катастрофа, ушла в прошлое старая Россия с гимназиями, Законом Божиим, религией. Уже вскрывают кощунственно мощи великих святых старой Руси, уже пролилась кровь первых новомучеников православия, уже Советы готовят полное уничтожение церкви, а Лосев снова выступает с докладом «О методах религиозного воспитания».
Особое внимание уделяет он в этом докладе воспитанию безрелигиозных детей, которое он сам испробовал на внимательном изучении с ними художественной литературы, в личном общении и спорах. А. Ф. убежден, что этот последний метод особенно эффективен. Он свидетель того, как безрелигиозные ученицы благоговели перед тайной и начинали прислушиваться к учителю. Так он обратил в веру свою любимую ученицу Елену Четверикову (привлекая ее внимание к «потоку сознания» Джемса), другую ученицу – Русанову, читая с ней Карамзина, «Бедную Лизу»; третью – на поэзии Тютчева, и таким методом – многих. Главное, считал молодой воспитатель душ, – «личная убежденность и вера в свое дело и его правоту». Конечно, такую школу трудно осуществить. Но «единственная цель, из-за которой стоит жить в обществе, это – воспитание и собственная религиозная заинтересованность в нем».[60]
Правильно писал Алексей Лосев П. Н. Милюкову, что преподавание в гимназиях отвлекает «оставленного при Университете» от его прямых обязанностей. Необходимы немалое усердие и работоспособность, чтобы выполнить требования программы, заданной научным руководителем. Мы знаем, как студент Лосев признавался в одном из писем, что работоспособности у него отнять нельзя. Несмотря на гимназические уроки, библиотеку, театр, музыку, Алексей тщательно готовился к магистерским испытаниям по кафедре классической филологии у профессора Н. И. Новосадского. Сохранились отзывы научного руководителя за 1915–1916 и 1916–1917 годы вместе с отчетом Лосева за 1916–1917 годы.
Из этих материалов видна серьезность подготовки начинающего ученого, ничего общего не имеющая с программами нынешних времен по широте материала и глубине его разработки.[61]
В 1915–1916 годах Алексей изучал историю греческой литературы, греческих авторов, греческое государственное право, греческую философию. Он пишет статью «Происхождение греческой трагедии» в качестве 1-го приложения к отчету. По государственному праву Алексей слушал лекции Новосадского и изучал античные политические учения, написав 2-е приложение к отчету: «Эволюция пессимизма в греческой политической литературе». По философии он читал диалоги Платона: «Пир», «Федр», «Лисид» и написал статью «Эрос у Платона» – 3-е приложение к отчету. Эта статья явилась первой печатной работой Лосева, изданной в том же 1916 году в «Юбилейном сборнике профессору Г. И. Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве».
Изучая греческих авторов, магистрант прочел в подлиннике пять трагедий Софокла («Эант», или «Аякс», «Электра», «Эдип-царь», «Эдип в Колоне», «Антигона»). Две оставшиеся («Трахинянки» и «Филоктет») отнесены на будущий год, как и трагедии Еврипида. Весь Эсхил в связи с дипломной работой прочитан Лосевым еще в бытность студентом.
Из латинских авторов прочитаны Цезарь «Записки о гражданской войне» и три песни «Энеиды» Вергилия. Кроме того, Алексей посещал семинарий профессора М. М. Покровского с анализом трактата Цицерона «О домогательстве консульства» и изучением политических процессов времен Тиберия по «Анналам» Тацита.
«Происхождение греческой трагедии» рассматривается им со стороны историко-филологической с внимательным изучением древних свидетельств о четырех истоках греческой трагедии, а также важнейших современных трудов. Профессор Новосадский дает высокую оценку «Происхождению греческой трагедии», отмечая «большое увлечение Ф. Ницше», но вместе с тем указывая на возможность добавления в статью философского анализа, что «даст такое цельное, богатое содержанием и оригинальное решение проблемы о происхождении греческой трагедии, какого мы не находим в западноевропейской литературе».
В статье «Эволюция пессимизма в греческой политической литературе» исследуется огромный материал от милетской натурфилософии и Гераклита к антропологии софистов и Сократа, устанавливается тесная связь скептицизма и пессимизма древних в политике с теоретической философией.
В третьей статье «Эрос у Платона» исследованы все доплатоновские тексты, статья, по словам Новосадского, написана «живо и увлекательно», но под влиянием Вл. Соловьева, повторяя мысль философа, что Платон «жаждет Эроса конкретно теургического, то есть богочеловеческого», а это требует больших доказательств. Лосев прочитал сотни страниц греческих и латинских авторов, и Новосадский признал его работу «весьма успешной и в методическом отношении правильной», причем два первых приложения рекомендовал к печати.
В 1916/I7 академическом году профессор Новосадский отмечает работу своего подопечного при изучении лирика Архилоха, историко-мифологического анализа трагедий Софокла, греческого права (судоустройство и судопроизводство в Афинах, афинское финансовое устройство). Работал Лосев в семинарии по эпиграфике у своего научного руководителя и прочитал там реферат о недавно открытой эпикурейской надписи из Эноанды.
Греческая грамматика представлена у Лосева вопросами синтаксиса и этимологии.
Изучал Лосев по римской филологии поэтику «Тристий» и «Героинь» Овидия, написав статью «Риторика последних сочинений Овидия в сравнении с его „Героинями“», участвуя в семинарии профессора М. М. Покровского. Посещал Лосев также просеминарий профессора С. И. Соболевского по греческому и латинскому синтаксису.
Весной 1917 года Лосев приступил к магистерскому испытанию и в заседании историко-филологического факультета 14 апреля 1917 года выдержал экзамен по истории греческой литературы с отметкой «весьма удовлетворительно».
Сохранился и отчет Алексея за 1916/I7 академический год с четырьмя приложениями, которые входили в программу испытаний по греческой литературе: 1. Архилох как ранний представитель эпохи ионизма. 2. Происхождение греческой трагедии. Филологическая и философская точка зрения. 3. Характеристика творчества Эсхила. 4. Изучение общих руководств по истории греческой литературы. Все четыре приложения насыщены богатейшим материалом, историко-филологическими фактами, текстами древних авторов, теориями современных исследователей, изучением лексики, синтаксиса, метрики, свидетельствами схолиастов и грамматиков, и всё носит следы собственных мыслей и выводов молодого ученого. Ему нельзя отказать ни в талантливости, ни в работоспособности.
В эту размеренную, полную наукой жизнь вскоре постучится сама судьба. И произойдет это в год великой революции в месяце мае.
Часть вторая
О жизни Алексея Федоровича и Валентины Михайловны Лосевых можно сказать словами Вячеслава Иванова: «Мы – две руки единого креста».
Судьбы их так переплелись, составили такое единое целое, столь духовно нераздельны, что писать и думать порознь о каждом из дорогих мне людей очень трудно. Так и вижу их всегда вдвоем. Вот они встречают меня летним поздним вечером на дачной станции. Оба высокие, статные, красивые. Полотняное платье Валентины Михайловны и старенькое легкое пальтецо А. Ф. – белым пятном в наступающей темноте. Охватывает ни с чем не сравнимое чувство теплоты и радости. А то выхожу из арбатского метро на площадь (она еще не претерпела разрушения) и вижу: в мою сторону идут рука об руку, всегда вместе, двое. Заходящее солнце как-то печально смотрит на них. Идут сосредоточенно, но свободно, независимо, сразу бросаются в глаза своей необычностью среди арбатской суеты. Мои, родные.
Вот и сейчас, не поверите, пишу и плачу, вижу их теперь, увы, духовными очами. Но знаю – будем вместе, в вечности. Так же встретимся, обнимемся, так же будем сидеть под прозрачной тенью деревьев, так же будем читать вместе с Мусенькой Пасхальный канон, а из дверей кабинета выйдет он, А. Ф., и мы похристосуемся, обнимемся, обменяемся красными яичками.
Говорят, что родство по крови сильнее всего, сила телесного тяготения ни с чем не сравнима. Нет, утверждаю я, Дух единит чуждых по крови и родству, Дух сжимает нас в своих нетелесных, нетленных объятиях. Тяжесть материи преображает он в нечто трепетно легкое, невесомое, радостно юное. Утверждает навеки, в жизни и смерти, сильнее любых оков, даже и адамантовых.[62]
Трудно мне писать о духовно близких. Пишешь как будто о них, а оказывается, и о себе тоже. Рассказываешь о событиях, свидетелем которых не был, а оказывается, ты все это видишь своими глазами, ты рядом. Они страдают, переживают гонения, теряют близких по крови и по духу, дают монашеские обеты, пытаются заново жить другой, отягченной землею жизнью. А ты листаешь эти скорбные оставшиеся листки, уцелевшие чудом, и знаешь – это ты сам вместе с ними плачешь об умирающем о. Давиде, о разлуке тысячеверстной, о «пространстве в скорбех», о гибели дома. И тебя вместе с ними удушают, и руки связывают, и бьют по лицу, как в одном из снов Алексея Федоровича. Но ничего не поделаешь. Пишу как стоящий с ними рядом и как вместе с ними страждущий.
Пусть простят меня читатели за горячность (скажут – субъективизм), за непримиримость (врагов надо прощать), за памятливость, не всегда трезво оправданную (излишний психологизм).
Начиналось, как всегда кажется, случайно. А. Ф. Лосев, оставленный при Московском университете для подготовки к профессорскому званию, в мае 1917 года искал себе новое пристанище, а попросту комнату. На Воздвиженке, рядом с Моховой, в доме 13 увидел билетик – сдается комната. Зашел в дом, в квартиру 12, познакомился с семьей М. В. и Т. Е. Соколовых и стал их постояльцем.
Казалось бы, случай привел Лосева на Воздвиженку. Но это была сама судьба, а если брать еще выше, то самый настоящий Промысел Божий. Новая квартира оказалась предвестием новой жизни. Здесь А. Ф. познакомился с дочерью хозяев Валентиной Михайловной, которая была младше его на пять лет (родилась в 1898 году, 27 апреля) и училась на Высших женских курсах Герье, что на Малой Пироговской улице, а потом в Московском университете.[63]
Она математик, а точнее астроном, специалист по небесной механике.
Родители Валентины Михайловны – почтенные люди. Он – владелец предприятия и магазина – лучшие щетки в Москве (сортов этих щеток было полторы тысячи, если не больше). Она – владелица модной дамской мастерской. Оба люди простые, из подмосковных крестьян, в детстве помнили крепостное право. Михаил Васильевич, по слухам, незаконный сын помещика. Оба, Михаил Васильевич и Татьяна Егоровна, искали счастья в Москве и принадлежали к купеческому сословию, набиравшему силу, но задавленному революцией. Сами малограмотные, но прекрасно умеют считать, ведут бухгалтерию (сохранились огромные бухгалтерские амбарные книги), есть у них и мастера, и мастерицы, и помощники в финансовых делах.
Семья Соколовых жила размеренной, деловой, зажиточной жизнью. Вряд ли думали родители, что их единственная дочь Валя станет ученым-астрономом да еще выйдет за философа Лосева и обоим будет уготован путь в лагеря и многие другие испытания. Не к этому ее готовили, давая ей утонченное образование.
Начали Соколовы скромно, но все-таки сразу же сняли помещение для мастерских в центре, на Арбате, в собственном доме генерал-майора Альфонса Леоновича Шанявского (Арбат, 2/4), известного основателя Общедоступного университета. Магазин щеток Михаила Васильевича находился на первом этаже, модная мастерская Татьяны Егоровны – на втором, там, где и квартира.
Однако уже с 1903 года Соколовы переехали на Воздвиженку, в дом Арманд, где можно развернуться – семь комнат на втором этаже, три – на антресолях, не считая других помещений: сараев, мастерской во дворе и жилья для мастеров. Вывеска у Татьяны Егоровны «Моды, платья и приданое» на русском и французском языках украшала дом 13 вместе с вывеской «Специальное щеточное заведение М. В. Соколова».
Аттестат на открытие собственного дела супруги получили еще в 1893 году – Татьяна Егоровна и в 1896-м – Михаил Васильевич. Когда дочь Валя стала гимназисткой, Михаил Васильевич тоже продвинулся. Он получил диплом и нагрудный знак «Действительного члена попечительного Общества о трудовых приютах для увечных воинов и их семей» (1908), участвовал в аукционных выставках лошадей в Императорском Московском обществе сельского хозяйства (выставлял специальные щетки для чистки лошадей) и получил не только бронзовую (1903) медаль, но и большую серебряную (1904). Эти медали стали фигурировать на особенных фирменных бланках Михаила Васильевича, где было перечислено много всяких полезных вещей, изготовляемых в «Специальном заведении».
События 1917 года оборвали деятельность супругов Соколовых. Постепенно приходилось отпускать мастеров и мастериц, ликвидировать деловую часть жизни и превращаться то в члена «Общества кустарей и ремесленников», то в члена «Кооперативной щеточной артели», пока наконец не стал старик Соколов «кустарем-одиночкой». Этот одиночка, однако, сохранял связи со своими мастерами, работа шла, и уже советская власть в Москве не могла обойтись без щеток Соколова. По сохранившимся счетам видно, что в нем нуждались все: наркомвоенмор, Высший совет народного хозяйства, Отдел снабжения ВЦИК (в Кремле), больницы, Дом печати, Наркомат транспорта, Дом крестьянина, Ленинский райсовет, не говоря уже о посольствах. Щетки были всем нужны. Но любопытно, что в 1931 году, в самый разгар бурной деятельности кустаря (о чем повествуют бланки заказов), Михаил Васильевич получил отказ на просьбу о выдаче хлебных карточек. 18 апреля 1931-го (через год после ареста зятя, А. Ф. Лосева) 79-летнему старику отказали в карточках, как будто он лишенец, хотя налоги брали исправно. И в этот же день Ленинский райсовет сделал ему заказ на изготовление нескольких десятков щеток для натирки полов и вытирания ног посетителям райсовета. Советская власть наводила чистоту в своих высоких учреждениях, а хлеб старик пусть покупает по рыночной цене, нечего прибедняться. Ведь отобрали же у Михаила Васильевича припрятанные царские рубли. Не выдержал препровождения в Бутырки старик и показал тайничок, когда шла кампания по изъятию золота. Вспомните, почитайте «Мастера и Маргариту» Булгакова, где великолепно рисуется фарс с «добровольной» выдачей властям сбережений царского времени. Михаила Васильевича прославляли, водя по камерам Бутырок, и ставили его в пример. Авось еще найдется какой-либо глупец и добровольно расстанется с валютой. Знали, что делали, когда отказали в карточках. Раскошелится Соколов, купит хлеба, небось еще где-нибудь припрятал.
А ведь так оно и было. Припрятал. Да погибло все в одну ночь, в бомбежку 12 августа 1941 года. Так и не воспользовался старик и дочери своей не сумел передать именно для нее, единственной, сохраненное, для будущих жизненных трудностей нажитое честным трудом за долгую жизнь золотишко. Но это ведь еще впереди, когда будет, а пока на дворе 1917 год. Одни говорят – революция, другие – переворот, а в общем все одно – разбой. Страшно жить в большой квартире, да при психически больном сыне и дочери-курсистке. К тому же появилось новое невиданное слово «уплотнение». Стали уплотнять квартиры буржуев, а попросту отнимать площадь и вселять братьев по классу, прихватывая заодно мебель, одежду, посуду – освобождали буржуев от излишков. Опасаясь разбоя, Соколовы вывесили билетик о сдаче комнаты. Может быть, попадется приличный человек. Он, как ни удивительно в это время, нашелся. Это был А. Ф. Лосев.
Детей двое (остальные умерли в младенчестве). Старший, Николай, окончил Императорское Высшее техническое училище – инженер-теплотехник; Валентина, младше чуть ли не на 20 лет, в 1915 году окончила Первую московскую женскую гимназию с медалью. Одновременно прослушала курс математического отделения и дополнительный педагогический класс Московской женской гимназии № 4. Прекрасно говорит по-французски, знает английский и немецкий, изучала латынь и греческий, любит музыку, хорошо играет, любит живопись и литературу, но не меньше – философию, математику и небесный свод. С детства ежегодно сопровождает мать в поездках за границу, в Париж, на выставки лучших модных ателье. Служит матери переводчицей и рисовальщицей, тайно делает зарисовки, чтобы потом в Москве опередить конкурентов. Соколовы живут зажиточно. Квартира в десять комнат, в два этажа, с антресолями. Дом четырехэтажный, большой, с флигелями, каре, во дворе мастерские и помещение для работников. Принадлежит дом семейству Арманд, фамилия, ставшая знаменитой благодаря верному другу Ленина Инессе, в замужестве Арманд.
В толстом фолианте «Вся Москва» за 1916 год можно найти объявления предприятия и магазина М. В. Соколова. Сохранился у нас дома рисунок вывески магазина (рисовала Валентина Михайловна, она вообще хорошо рисовала карандашом и красками), утвержденный московскими властями, с подписью и печатями.
Начало революции сильно не отразилось на устойчивой семье Соколовых. Запасы продуктов делали большие, на годы, связи были основательные, особенно с деревней, откуда родня везла масло, мед, мясо и всякую живность. На лето все еще снимали двухэтажную дачу по Ярославской дороге в Пушкине и Братовщине среди лесов (теперь это станция Правда, и леса давно свели) недалеко от реки. Приглашали гостей, молодежь. И молодой Лосев там бывал. Вместе с тем решили сдать комнату, боялись вселения «классово чуждых». Так потом и случилось. Являлись какие-то личности, требовали предъявить право на излишки (в нашем архиве сохранились документы), постепенно притесняли Соколовых.
Главное, что их поколебало, – душевная болезнь сына. Болел он тяжело, впадал и в буйное помешательство, так что врачи даже запретили Валентине Михайловне играть на рояле – на целых два года. В тихие периоды Николай любил игру сестры и очень был с ней кроток. Мучился он долго, скончался в 1926 году. Валентина Михайловна считала, что революция в болезни брата сыграла роковую роль, хотя, возможно, было и предрасположение. Нет, не от родителей. Они жили долго – Михаил Васильевич 92 года, а Татьяне Егоровне, когда она погибла, было тоже под 90 лет. Возможно, утонченность натуры брата и сестры идет по незаконной отцовской линии. Стоит посмотреть на портреты детей. Они оба – в отца, материнского ничего нет. Материнский только у Валентины Михайловны непреклонный характер, однако, в отличие от матери, – справедливый, а все остальное – отцовское.
Валентина Михайловна, как, наверное, многие барышни ее поколения, любила поэзию, но очень была разборчива: Новалис, Тютчев, Жуковский, Вяч. Иванов. Романтики, символизм и бездны космоса. В музыке – Бах, Бетховен, Римский-Корсаков, Чайковский. Конечно, Вагнер и Скрябин. Сама признается, что музыку чувствовала с 14 лет. Созерцая небесный свод и делая математические расчеты, Валентина Михайловна читала философов, ходила слушать Бердяева и Вяч. Иванова. Писала Николаю Александровичу о путях России как безумии перед людьми и мудростью перед Богом. Судя по сохранившемуся ответу Бердяева, даже ставила перед ним личные вопросы, связанные с неразделенной любовью. Философ указывал ей на ложность, обманчивость такой любви, не благословенной Богом. Из этой записи (относится она к 17 июня 1919 года) понятно, что Валентина Михайловна глубоко переживает свое чувство к А. Ф., который не проявляет пока никакого особого отношения к дочери своих хозяев.
Круг философской деятельности Лосева в это время неуклонно сужался. Библиотеки, правда, работают, запасы научных книг еще не иссякли. А философские общества и кружки доживают последние дни. Закрыли в революцию Религиозно-философское общество памяти Вл. Соловьева, которое с 1911 года посещал молодой Лосев.
Лосев успел прочитать в Обществе памяти Вл. Соловьева доклад «Вопрос о принципиальном единстве диалогов Платона „Парменид“ и „Тимей“». По докладу выступали среди других председатель общества Г. А. Рачинский и о. П. Флоренский. В измененном виде этот доклад слушали у Н. А. Бердяева в его Вольной академии духовной культуры, которую тоже прикрыли в 1922 году, выслав представителей духовности за границу. У А. Ф. сохранилась не очень совершенная запись этого доклада, сделанная каким-то усердным слушателем. У Бердяева на одном из последних заседаний (5/IV—1922) Лосев выступил с докладом «Греческая языческая онтология Платона», который может быть связан с сохранившимися тезисами доклада тоже 1922 года (7/XI) «Философия имени у Платона». Заседания проходили в Мерзляковском переулке, 1 (в здании гимназии А. Е. Флерова), а не в квартире Н. А. Бердяева в Большом Власьевеком, где во время докладов подавали скромный чай и сухарики.[64]
В обсуждении доклада участвовали (как тогда говорили, были «собеседниками») выдающиеся философы С. Л. Франк, с которым у А. Ф. были теплые отношения и глубокое взаимопонимание, Б. П. Вышеславцев; филолог, знаток Данте Б. А. Грифцов; бывший председатель соловьевского общества Г. А. Рачинский, товарищ Лосева по университету П. С. Попов.
В философском кружке имени Л. М. Лопатина (он помещался в Психологическом институте Г. И. Челпанова) А. Ф. читал доклад «Учение Аристотеля о трагическом мифе», который лег в основу главы «О мифически трагическом мировоззрении Аристотеля» в книге 1930 года «Очерки античного символизма и мифологии».
В Московском Психологическом обществе при Московском университете на последнем заседании в 1921 году под председательством И. А. Ильина, высоко ценившего молодого собрата по философии, А. Ф. прочитал доклад «„Эйдос“ и „идея“ у Платона». Этот доклад отражал огромную работу, проделанную Лосевым по терминологии кардинальных понятий Платона, оснащенную тщательными статистическими подсчетами. Она вошла в качестве третьего очерка (главы) «Терминология учения Платона об идеях (eidos и idea)» в книгу «Очерки античного символизма и мифологии». Существует также отдельный оттиск этого очерка. Там же, в Психологическом обществе, выступал А. Ф. с докладом «Теория абстракции у Платона» (сведения из письма Лосева Г.Г. Шпету от 30/V—1922).
Замирает жизнь чистой философии. Остается кабинетная работа – подготовка будущих книг. Ею Лосев с энтузиазмом начнет заниматься в доме на Воздвиженке.
Печататься Лосев начал в последний предреволюционный год. «Эрос у Платона» – философия, «Два мироощущения», «О музыкальном ощущении любви и природы» – из области музыки, о любимых операх «Травиате» и «Снегурочке», итальянском и русском национальном мелосе – все статьи в 1916 году. В 1918-м написал «Русскую философию», напечатанную в Цюрихе в 1919 году в сборнике «Russland» на немецком языке.[65] Он уже начал работать над статьей «О философском мировоззрении Скрябина» (закончил только в 1921 году), написал статью о религиозном движении имя-славцев, которая оказалась в архиве Лосева тоже на немецком языке. Значит, предназначалась для немецких издателей и свет увидела на русском только в 1993 году в «Вопросах философии» № 3. Пишет он и «Философский комментарий к драмам Рихарда Вагнера».[66]
В труднейший и голодный 1918 год затеял вместе с С. Н. Булгаковым и Вяч. Ивановым серию книг по русской религиозной философии и, что характерно, на темы о русской национальности. Удивительно подходящее время выбрал Алексей Лосев. Он, договорившись с известным издателем М. В. Сабашниковым, сначала сагитировал С. Н. Булгакова, потом направил письмо о. П. Флоренскому с условиями, которые «издатель склонен считать ультимативными». Среди этих условий (сроки, размеры, оплата) «никаких партийных точек зрения и никакой злободневности».[67] Постепенно организовался замечательный круг авторов, причем каждый выпуск принадлежал одному сочинителю, а было их 13.
Сохранились письма А. Ф. М. В. Сабашникову с перечнем участников издания и их статей. Здесь С. Н. Булгаков, Вяч. Иванов, Е. Н. Трубецкой, С. Н. Дурылин, сам Лосев. Он подготовил сразу две статьи: одну – о национальной русской музыке, другую – о Римском-Корсакове и Вагнере.
Вот перечень ряда статей этой замечательной серии, которая так и не увидела свет:[68]
«Духовная Русь» – религиозно-национально-философская серия под общей редакцией А. Ф. Лосева.[69]
Вып. I. Вячеслав Иванов. Раздранная риза.
Вып. П. Н. А. Бердяев. Духи русской революции (Гоголь, Достоевский, Толстой).
Вып. III. Георгий Чулков. Национальное воззрение Пушкина.
Вып. IV. С. Н. Дурылин. Религиозное творчество Лескова.
Вып. V. А. Ф. Лосев. О русской национальной музыке.
Вып. VI. Кн. Евг. Трубецкой. Россия в ее иконе.
Вып. VII. С. Н. Булгаков. [О духовной Руси].
Вып. VIII. С. А. Сидоров. Юродивые Христа ради.
Вып. IX. А. Ф. Лосев. Рихард Вагнер и Римский-Корсаков (религиозно-национальное творчество).
Вып. X. С. Н. Дурылин. Апокалипсис и Россия.
А. Ф. Лосев замечает, что «название серии „Духовная Русь“ предложено Вяч. Ивановым. Оно может быть изменено в связи с пожеланиями издателя, так как оно не у всех участников серии встречает полное сочувствие».
Не увидела свет также большая философско-психологическая работа. Опять этот фатальный 1919 год.
Он переделывает, меняя композицию и сокращая (учитывает, видимо, трудности издания), свою еще университетскую рукопись «Обзор и критика основных учений Вюрцбургской школы». Снова меняет, расширяет ее, пишет новое предисловие, как бы не замечая 1919 года, и дает ей новое название «Исследование по философии и психологии мышления». Она обращена к учителю: «Георгию Ивановичу Челпанову – борцу за истинную психологию в России посвящает эту книгу автор – ученик». Характерно, что эта в несколько сот страниц рукопись, хранящаяся в университетском архиве А. Ф., не имеет столь важного посвящения. Однако собственноручно написанное Лосевым, оно обнаружено мной в его домашнем архиве. Думаю, что А. Ф., желая издать эту работу, еще раз ее пересмотрел и специально публично решил поддержать Г. И. Челпанова, которого вытеснял из созданного им института его же ученик К. Н. Корнилов, перекинувшийся к новой власти.
Молодой человек учится, работает, изучает древности, готовится стать профессором, а тем временем отошли дни Февральской революции и как-то незаметно, но решительно произошел большевистский переворот.
Еще летом 1917 года Алексей ездил в станицу Каменскую к матери и родственникам. Там в храмах еще возглашали многолетие благоверному Временному правительству (вспоминал А. Ф.), и никто не предполагал, что конец его уже при дверях. Сын и мать прощались до зимнего перерыва, в крайнем случае до следующего лета, но им не суждено было увидеться.[70] Гражданская война объяла громадную страну, все связи расторглись, билось на смерть донское казачество, белые и красные, свирепствовала «испанка», пришел голод. Никого не осталось в Каменской из старшего поколения, то ли всех скосила эпидемия, то ли что похуже. Так это исчезновение родных, близких, друзей навсегда осталось тайной.
В университете еще теплится наука, но и ученым жить надо, а есть нечего. Алексей Лосев вместе с такой же, как он, молодежью пускается в не очень далекий путь, но все-таки в другой, чужой город, где открылся новый университет, в Нижний Новгород. В университет этот принимали демократично, всех, кто достиг 16 лет, даже если он ничего не кончал. В программе этого университета за 1918/I9 учебный год есть замечательный список принятых, который поражает размахом либерализма. Но если большевики провозгласили мир – народам, землю – крестьянам, то почему бы не провозгласить науку – всем?
Ученые-энтузиасты ехали не только учить, они ехали за заработком и, главное, за хлебом, запасшись бесчисленными охранными бумажками, спасаясь от бдительности заградительных отрядов; все стали мешочниками, и Лосев тоже. В Нижний ездил он на курсы лекций по классической филологии, принципы которых изложил в указанной программе.[71]
В Нижегородском университете профессор Лосев читал «Введение в классическую филологию» (два часа в весеннем семестре), пропедевтический курс греческого языка и такой же курс латинского языка (четыре часа каждый в весеннем семестре). В брошюре «Историко-филологический факультет» (Н. Новгород, 1919) были помещены программы читавшихся курсов. Программа профессора Лосева предусматривала осветить «синтетическое восприятие античности как культурно-исторического типа». На заре своей научной деятельности А. Ф., таким образом, уже поставил вопрос об античности как типе культуры. И здесь невольно вспоминается последняя прижизненная книга, которую он назвал примечательно – «Античность как тип культуры». Лосеву важно связать воедино историю литературы, историю философии, историю религии, мифологию, археологию, грамматику, изучение древностей, то есть все то, что создает специфику эллинского духа. «Времена материализма и сенсуализма», трактовавших филологию как науку об изолированных вещах, прошли (так считал молодой Лосев, но практика советской науки скажет обратное) или «проходят безвозвратно» (какая наивность!). И опять звучат любимые мотивы: «В истории и филологии мы не знаем ничего устойчивого и изолированного», «нас интересуют не вещи, а процессы; не бытие, но становление; не машины, но организмы». Изучение завершенных форм должно рассматриваться как «живой, единый организм, как живое тело истории… живое и живущее», а не просто как собрание фактов. От завершенности к «эмбриональному состоянию» организма, где вместо скульптурных и живописных форм рождаются безобразные, музыкальные (ибо музыка во времени, а не в пространстве), безликие, те, что «уходят во мглу зачатий и в тайны рождения» (с. 17). В этой, казалось бы, учебной программе звучат любимые лосевские темы, узнающиеся нами в дипломной работе об Эсхиле, в консерваторских лекциях по истории эстетических учений, в мифологических трудах и эстетике зрелого Лосева. Не напрасно ездил в Нижний А. Ф. Он оттачивал там, в лекциях студентам, свои заветные идеи, заострял их, проверял на аудитории, вживался в них.
Жизнь приехавшей ученой молодежи была крайне насыщена. Вели большую культурную работу,[72] кроме обычных лекций, устраивали кружки, дискуссии, делали доклады, спорили. Лосев с увлечением просвещал нижегородцев музыкальной классикой. Читал лекции о Бетховене, Вагнере, Римском-Корсакове, Чайковском. Музыкальное сопровождение – молодые талантливые пианисты (впоследствии профессора Московской консерватории) А. Г. Руббах и Л. М. Юрьева. Именно там, в Нижнем, Лосев стал профессором в 1919 году.[73] Уж очень необычной оказалась подготовка к профессорскому званию. Никаких диссертаций и вообще никаких занятий: историко-филологический факультет Московского университета в 1921 году закрыли.
Однако ни школу, ни науку Лосев не оставляет. Он преподает для заработка в так называемой советской трудовой школе, где отменили звонки, регулярные уроки, экзамены, опрос, контрольные – как буржуазные предрассудки. В основном, вспоминал А. Ф., ездили куда-то за едой – пшенной кашей или горохом в каких-то котелках, распределяли среди учеников и учителей, тут же ели и расходились по домам. В эти годы трудовой школы молодой учитель навсегда распростился с крахмальными сорочками, воротничками, манжетами, галстуками, а также шляпой – опять-таки опасные буржуазные пережитки. Смеясь, рассказывал А. Ф., что впервые вновь пришлось ему надеть костюм с жилетом, крахмальным воротничком, манжетами и галстуком, когда в 1939 году он сфотографировался у знаменитого М. Наппельбаума, чтобы послать карточки своим слушателям в Куйбышев. Строгий Наппельбаум сразу же отослал Лосева домой, приказав профессору вернуться, но, во-первых, тщательно побритым, а во-вторых, экипированным по-буржуазному (тут уже с 1934 года шли послабления: елка, изучение истории СССР в младших классах и все атрибуты нормальной школы). Так и сфотографирован А. Ф. с воротничком, манжетами и даже запонками. А кепку носил всю жизнь, и ему даже иной раз специально ее шили. Он говорил: «Вон мой сосед по двору, Николай Карпович, тот, как и положено человеку рабочему, ходит в шляпе, а я, пролетарий, как Ленин в Париже, и кепкой обойдусь». Шляпа же ему очень шла. Но купленную мной после смерти Сталина (начиналась новая эра), велюровую, надел и отставил, вернулся к кепке.
Лосев в 1919–1921 годах, как нам известно, регулярно ездит в открывшийся Нижегородский университет, где он уже профессорствует. Занят молодой ученый философско-богословскими проблемами и, будучи по природе своей Учителем, вопросами воспитания, особенно воспитания религиозного. В 1921 году в Нижнем он делает доклад «О методах религиозного воспитания» (указан нами раньше в первой части). О многочисленных его выступлениях в начале революции и начале 20-х годов свидетельствуют сохранившиеся тезисы, связанные с философско-богословскими основами имяславского движения.[74]
Лосев, как истинный философ, погруженный в дела глубоко ученые, не замечает, что происходит рядом, писем из Нижнего не пишет, а Валентина Михайловна, привыкшая иметь дело с небесными пространствами, тем не менее сразу увидела, поняла и приняла свою судьбу, даже если придется остаться одинокой, с неразделенной любовью. Вот тут-то она и написала Бердяеву.
Ее астрономическими штудиями руководили выдающиеся ученые: профессор К. Л. Баев, академик В. Г. Фесенков, Ал. Ал. Михайлов, а далее и профессор Н. Д. Моисеев, но это уже при написании диссертации. Учились тогда долго. Университеты и факультеты были неустойчивы, сливались, разливались, дробились, закрывались временно или почти навсегда.
Валентина, ставшая женой А. Ф., все 20-е годы носила фамилию Соколова-Лосева. На первой печатной работе Валентины Михайловны значится: В. М. Соколова-Лосева «Задания по астрономии» (М., 1926). Уже замужем окончила она Московский университет (тогда 1-й МГУ), где училась с 1918 по 1924 год на математическом отделении физмата по специальности астрономия (программа бывших Московских Высших женских курсов). Сдала 26 предметов на экзаменах (в том числе политэкономию, истмат, государственный строй СССР и РСФСР и даже германоведение) и 13 зачетов.
Работа ее в Астрофизическом институте, который возглавлял ее научный руководитель академик В. Г. Фесенков, прервется арестом в 1930 году, однако эта изящная, хрупкая женщина с железным характером защитит в 1935 году диссертацию с очень трудным для непосвященных заглавием «Об изменении эксцентриситета и большой полуоси орбиты спектрально-двойной звезды под влиянием прохождения встречных звезд». Ее напечатают в «Трудах Астрономического института им. Штернберга» в 1936 году (VII, 2).
Диссертацию будет писать с особенным вдохновением – изголодалась в лагере по науке. Руководитель научный, известный астроном профессор Н. Д. Моисеев, тот самый, что посылал письма и книги в лагерь, безответно влюбленный, будет тоже сочинять, только стихи, предназначенные Валентине Михайловне (они сохранились), а себя станет именовать «плачевного образа рыцарем».[75] Человек с тяжелым характером и тяжелобольной (передвигался последние годы на костылях), мучитель окружающих, он Валентину Михайловну боготворил, но понимал, что «suum cuique» – «каждому свое» (как он написал на оттиске), держался благородно, стихи же, очень интересные по форме (содержание было одно – Она, недосягаемая), писал в большом количестве. Он преданно помогал печатать работы Валентины Михайловны, которая в 20-е годы начинала еще робко.
От тех времен сохранилась в «Трудах государственного астрофизического института» (т. III, вып. 3. М., 1936) фотография (с. 17), где в первом ряду В.М.Лосева и бедная Е. Ф. Ушакова (о ней речь впереди), на втором плане сам В. Г. Фесенков, приятель Валентины Михайловны Г. Н. Дубошин (вместе с ней поступил в аспирантуру), Н. Д. Моисеев, Б. А. Воронцов-Вельяминов, профессор А. А. Михайлов. В списках трудов института пока значится одна работа Валентины Михайловны «О поправках к собственному движению по склонению звезд каталога Босса». Пока одна. Занята Валентина Михайловна больше делами духовными, церковными, но и науку не бросает.
После лагеря и даже в начале 40-х напечатает ряд статей: «О некоторых корреляциях в бинарных системах» («Астрономический журнал», XIII, № 5, 1936); затем уже упомянутую диссертацию; «О возрастных характеристиках бинарных систем» (А. Ж. XV, № 3, 1938); «Современное состояние вопроса о возрастных характеристиках бинарных систем» («Успехи астрономических наук», № 2,1941); «Гипотезы о происхождении кратных систем звезд» (там же, в соавторстве с Б. М. Щиголевым); «Качественные характеристики движения в плоской осредненной гиперболически ограниченной проблеме трех точек со сферой действия», ч. 1 (Труды ГАИШ, XV, 1, 1945).
Н. Д. Моисеев будет иметь все основания написать отзыв о трудах Валентины Михайловны (он к 1938 году заведовал кафедрой небесной механики МГУ), ходатайствуя о присвоении своей диссертантке, успешно работающей в области небесной механики и динамической космогонии, звания доцента.
Перед войной Валентина Михайловна покинула Астрономический институт им. Штернберга, но оставалась в Московском авиационном институте, где работала с 1937 года до самой своей кончины в 1954 году.
Но я, как плохой рассказчик, который все сразу готов изложить, забежала далеко вперед. В те годы шла достаточно нудная для многих, но любимая Валентиной Михайловной вычислительная работа в обсерватории Астрономического института имени Штернберга. Валентина Михайловна выступает с лекциями то в Физическом обществе, то в Астрономическом обществе (к примеру, доклад «О движении и температуре туманности Орион»), а то и оказывает помощь своему руководителю В. Г. Фесенкову при исследовании атмосферы Марса. Не забудем, что Валентина Михайловна преподает в это время в средней школе.
Способности и усердие Валентины Михайловны были таковы, что она претендовала на аспирантуру. В те времена пролетарской культуры предприятие для буржуазного элемента почти безнадежное. Но в 1925 году из пяти претендентов в аспиранты Астрономического института Главнаука утвердила только двоих – Валентину Михайловну и Дубошина, ее коллегу в будущей работе. Было разрешено сдавать магистерские экзамены (еще сохранились какие-то отжившие названия). Вот уже полная неразбериха – пролетариат, Главнаука, магистры. Зато получала стипендию 80 рублей. Если же учесть, что Лосев, действительный член ГАХН (1923–1929), в это время получал около 100 рублей в месяц, то и 80 рублей его жены-аспирантки были довольно внушительны.
Валентина Михайловна в трудные для ее душевного состояния времена твердо поняла: «Вся задача моя жизненная», «весь смысл жизни моей на земле» – любовь к А. Ф. Лосеву (дневник, 1919 г. 1 марта, 3 часа ночи). В 1918 году она видит провидческий сон: мать А. Ф. передает своего сына Валентине Михайловне. Ощущение материнства в своем отношении к А. Ф. началось задолго до брака и продолжалось всю жизнь. И в 1920 году (5/VII) то же чувство: «Есть сын у меня», и другая запись (26/VIII—1920): «Вся моя жизнь в любви к А.».
1919 год, когда рядом нет А. Ф. (он в Нижнем), заполнен в дневнике Валентины Михайловны записями страдающей души среди «тьмы непроглядной», «одиночества вечного». И опять тема материнства. «Сегодня я матерью себя чувствую» (29/V—1919), – пишет она. Через год А. Ф. получит известие о кончине своей матери на Дону, в станице Каменской. Отныне и навеки Валентина Михайловна заменит ему мать. «Только бы тебе было хорошо. О трагедии своей, о трагедии любви моей я не буду думать, но чувствую ее всегда» (29/IV—1919). «Есть сын у меня, Алексей» (5/VII—1919) и вместе с тем: «Ведь я рождение твое, Алексей» (20/VIII—192O). На душе плохо, одиноко и думается: «Умереть бы теперь с А.» (20/IX—192O). Пошел третий год ее ожидания.
Спасают мысли о молитве, о подвигах и страданиях первых христиан: «Я б умерла за Христа» (26/VIII—1920). Еще девочкой десятилетней молилась: «Господи, дай Бог, чтобы меня преследовали и мучили». Каждое утро, идя в гимназию, заходила в часовню Страстного монастыря (24/VI—1919). И теперь, в 1919 году, для нее, молодого ученого-астронома, неприемлема и страшна мысль великого Леонардо о математике как Высшей справедливости. «Только не надо мне такого счастья», – пишет Валентина Михайловна (5/V—1919). Счастье было в другом – в любви и вере. В любви жертвенной, вплоть до отречения от мира. Недаром вспоминается ей в это время зов брата Николая уйти в монастырь: «Ты игуменьей будешь, я архиереем».
В 1922 году, 23 мая старого стиля (5 июня н. ст.), в день Вознесения Господня, о. Павел Флоренский обвенчал Алексея Федоровича и Валентину Михайловну в Сергиевом Посаде, в Ильинском храме. Знаю это от них самих. Сохранилось также письмо А. Ф. к о. Павлу от 24 мая 1924 года (напечатано в сб. «Контекст-90». М., 1990), в котором А. Ф. приглашает о. Павла домой, в гости, вместе встретить годовщину венчания и «разделить благостные воспоминания».
С этих пор началась совместная жизнь Лосевых в доме на Воздвиженке, полная трудов и молитв. Видимо, столь насыщена нездешним счастьем была эта жизнь, что Валентина Михайловна оставила свой дневник. Дневник молчит с 1921 года, то есть с возвращения А. Ф. в Москву из Нижнего, вплоть до 1925 года. В одиночестве и горести, как думалось, неразделенной любви дневнику поверялись душевные тайны. Наступило счастье, одиночество кончилось, новые горести еще не пришли, и дневник умолк.
Заговорил он снова уже в 1925 году. И это понятно. А. Ф., который давно, еще с первых лет революции, готовит ряд философских книг в своем кабинете, не имеет до 1925 года реальных возможностей их напечатать.
Однако издательских попыток не оставляет. В письме к о. Павлу Флоренскому (24/V—1924)[76] опять возникает речь о «ряде сборников» близких к о. Павлу лиц и отчасти учеников. Темы – математике-астрономические с философским уклоном. Так, сам Лосев готовит статью об имени и числе у Плотина и Ямвлиха. В. М. Лосева – об астрономической системе Птолемея и Прокла. Сотоварищи Лосева Валериан Николаевич Муравьев и Василий Павлович Зубов также готовят статьи. Первый – об ипостасийном построении учения о множествах, второй – о средневековой физике и оптике (Р. Бэкон).[77] «Ряд сборников», как и следовало ожидать, в это время не состоялся. Плотин и Ямвлих осуществились позже. Плотин в «Диалектике числа у Плотина» (1928), а затем в «Истории античной эстетики» (1980, т. VI). Ямвлих – тоже в ИАЭ (1988, т. VII, кн. I).
Чтобы иметь возможность работать не только в стенах своего кабинета, иметь возможность научного общения в среде профессионалов, Лосев обращается к эстетической стороне философии. Вся философия для него выразительна, то есть эстетична.
Он становится действительным членом Государственной академии художественных наук[78] (прибежище интеллектуалов 20-х годов), где и пребывает с 1923 по 1929 год, до ее закрытия, числясь по специальности «эстетика». Всю дальнейшую научную жизнь Лосева будет спасать именно эстетика, которую, на счастье А. Ф., невежественные идейные руководители и не подумают объединить с философией. Философией же после ареста в 1930 году Лосеву официально запретят заниматься власти.
Сохранилось и напечатано письмо А. Ф. Лосева Г. Г. Шпету, известному философу, вице-президенту Государственной академии художественных наук (сначала Российская АХН), от 30 мая 1922 года.[79] А. Ф. просит глубокоуважаемого Густава Густавовича (тогда директора Института философии) принять его внештатным сотрудником I разряда в Институт философии. Г. Г. Шпет вначале был не против, но потом на заявление А. Ф. ответил отказом, и Лосев просит в письме о личной встрече. Ему важно выяснить возникшее недоразумение и узнать, не может ли Шпет представить Лосева кандидатом в Академию художественных наук. А. Ф. не хочется, чтобы представляли его люди, не имеющие отношения к философии. Неизвестно, дал ли согласие Шпет,[80] но Лосев с 1923 года уже действительный член ГАХН. Одновременно А. Ф. сообщает своему адресату, что 15 июня будет читать в Психологическом обществе доклад «Теория абстракции у Платона», а также о своем курсе, читанном в течение двух лет, «История эстетических учений» в Музыкальном педагогическом институте. Из письма мы узнаем, что Лосев состоит на службе в ГИМНе (Государственный институт музыкальной науки) и приготовил рукопись «Опыт феноменологической характеристики музыкального объекта» (эта рукопись, как известно, стала частью книги «Музыка как предмет логики», 1927).
Лосев не хотел входить в Институт философии вопреки желанию его директора, хотя он даже приготовил тему для научной работы «Влияние платонизма в английской философии». В Институт философии Лосев не попал при Г. Г. Шлете, но не попал он туда и при «красных профессорах», партийных деятелях от философии.
Одновременно профессорствует А. Ф. в Московской консерватории, во 2-м Университете (бывшие курсы Герье). В ГАХНе заведует музыкально-психологической комиссией (1924), председатель Комиссии по форме философского отделения (1924–1925).
В 1925 году А. Ф. – штатный член Музыкальной секции академии, в 1926–1927 годах заведует Комиссией по изучению эстетических учений философского отделения. В 1923 году – член Комиссии по изучению художественной терминологии при философском отделении.[81] В 1929 году дал согласие занять должность ученого секретаря группы по изучению музыкальной эстетики.
Внушительно количество докладов, на которых присутствовал Лосев, их в 1924–1925 годах 31 за семь месяцев, в 1925—1926-м – 38 за восемь месяцев. Высчитаны даже часы научной работы 1927 года – 96 часов в месяц. За 1924–1929 годы прочитан Лосевым 41 доклад. Здесь темы, связанные с историей эстетических учений, исторической терминологией, философией искусства, с теорией музыки, с художественным воспитанием, экспериментальным изучением ритма, психологией художественного творчества и всеобщей литературой. Любимые лосевские имена и темы проходят через все эти годы – Аристотель, Платон, Плотин, Прокл, немецкие романтики, Шеллинг, Гегель, Кассирер, музыка и математика, миф и символ, ритм и его структура, эстетические категории, систематика музыкально-теоретических категорий, филология и эстетика.
Научная жизнь Лосева в эти годы насыщена до предела. Большие книги, как, например, «Античный космос», печатались медленно. Корректуры основного текста (не считая огромных дополнений и примечаний) шли еще в течение 1925 года (дома сохранились некоторые листы).
В самом конце года книгу спустили в печать, долго не было бумаги. С этой книгой происходили странные вещи. В 1927 году умер неожиданно П. М. Боков – заведующий 4-й типографией Мосполиграфа, где печаталась книга, вслед за ним скончался его помощник А. В. Васильев. С книгой задержались, но она все-таки в 1927 году вышла в свет.
В 1928 году идет подготовка к печати рукописи «Очерков античного символизма и мифологии». Валентина Михайловна вставляет греческие слова в русский текст. Смешная подробность: множество мест с каким-то неясным словом. А. Ф. советует: «Пиши, родная, везде, где неясно, „эйдос“». Оказывается, в шрифте не хватает литеры «э».
Озабочены Лосевы прохождением книг через Главлит, где царит П. И. Лебедев-Полянский. Цензор Т. Романенко смотрит сурово на книгу «Диалектика числа у Плотина». Раздражает его комментарий к переводу. «Методология не выдержана идеологически». Как это может быть, что материя и эйдос не пространственны? Идеализм. Предлагает автору издать перевод со словарем, без всяких статей и комментариев. «И смешно, и досадно, и противно», – замечает Валентина Михайловна в дневнике (10/V—1928). Этот факт почти буквально повторится в 1948 году в отзыве И. Б. Астахова об «Эстетической терминологии» – зачем обобщения и разъяснения? Надо дать словарь терминов Гомера. И точка. Все неучи одинаковы, и в 20-е и в 40-е годы. Цензор книгу не разрешил. Бедная Валентина Михайловна считает себя виноватой – не ходила утром в церковь, не молилась о помощи. Валентина Михайловна даже собралась к Лебедеву-Полянскому жаловаться на цензора Романенко. Но не пришлось. Через месяц, 4 июня, в любимый Духов день «Диалектику числа» разрешили. Слава Богу!
По четвергам Лосевы принимали. Еще можно было собираться, но к концу 20-х годов эти встречи прекратились, становилось опасно. Уже в 1925 году идут аресты и «никого не выпускают» (запись в дневнике З/XII—1925).
Лосев писал свои труды, работал систематически, но сколько было препятствий.
В предисловии к «Античному космосу и современной науке» (14/VIII—1925) – книга вышла в 1927 году – А. Ф. писал о своих «долголетних изысканиях» в области античной философии. Изданная тоже в 1927 году «Философия имени», оказывается, была написана уже в 1923 году (предисловие 31/XII—1926). Следовательно, А. Ф. в самые трудные голодные годы сидел над текстами античных философов, а «ученая Москва, – как он пишет, – занималась тогда больше мешочничеством, чем Платоном и новой литературой о нем, да и связи с заграничными книжными магазинами у нас в Москве, – продолжает А. Ф., – не было решительно никакой в течение нескольких лет».[82] В эти голодные годы рождались замечательные по своей самостоятельности идеи о типе античной философии, науки, мысли и шире – культуры, которые найдут свое завершение в поздних трудах Лосева, и особенно в восьмитомной «Истории античной эстетики».
Молодой ученый трудится не покладая рук. Он привык со студенческих лет, что «надо работать за идею», что, по его словам, «лучше страдание со смыслом, чем счастье без смысла». На ум ему приходят стихи Пушкина: «Ты царь: живи один», и он живет в уединении своего кабинета и книг, потому что, «если не можешь перестроить жизнь, – уйди от нее» и потому что «мечта реальнее жизни». А мечта одна: не познать добро, не быть совершенным, не постичь истину, а приближаться, стремиться к совершенству, постигать истину. И даже если мы в этих утверждениях найдем отклики на платоновского «Пира», как и в рассуждениях о любви к знанию и вере в идеал, когда на них лежит отблеск вечной красоты, то это не должно смущать читателя. Хорошо, когда молодости свойственны идеалы и мечты, которые в конце концов принимают форму замечательных книг, тех, к которым пришел А. Ф. Лосев в конце 20-х годов XX века.
Работа над книгами была выражением огромной внутренней жизни молодого ученого, нуждавшегося в аудитории, читателях, слушателях. Двадцатые годы оказались не лучшими для таких наук, как философия и классическая филология. С энтузиазмом насаждалась пролетарская культура, путь был открыт пролетарским писателям, с «корабля современности» сбрасывали Пушкина и Чайковского, а заодно и всю русскую классику, процветали вульгарное социологизирование в духе Вл. Фриче, классовый подход к явлениям культуры, и даже Московская консерватория была переименована в Высшую музыкальную школу имени Феликса Кона (в обиходе называлась «конская школа»). Филологи-античники уходили в экономисты, профсоюзные деятели и юриспруденцию – ни греческий, ни латинский никому не были нужны. Историко-филологический факультет Московского университета, как мы уже знаем, закрыли.
Не так-то просто было писать в те годы книги по чистой философии и по истории античной философии. Еще труднее было их печатать, приходилось прибегать к разного рода ухищрениям. Так появились, как мы уже знаем, книги А. Ф. Лосева под маркой «Издание автора». С 1927 по 1930 год, то есть всего за три года, Алексеем Федоровичем было издано восемь книг, или, как часто говорят, его «восьмикнижие». Это были: в 1927 году «Античный космос и современная наука» (550 с), «Музыка как предмет логики» (262 с), «Философия имени» (254 с), «Диалектика художественной формы» (250 с). В 1928 году – «Диалектика числа у Плотина» (194 с); в 1929 году – «Критика платонизма у Аристотеля» (204 с). В 1930 году – первый том «Очерков античного символизма и мифологии» (912 с.) – второму так и не дали появиться. И, наконец, последняя, фатальная книга «Диалектика мифа» (тоже 1930 г., 250 с). Уже одни заголовки этих томов подтверждают слова А. Ф. о себе как о философе имени, мифа и числа.
К 1930 году выпущено было восемь книг, да еще две печатались. Одна – «Вещь и имя» в Сергиевом Посаде (типография Иванова), а вторая – «Николай Кузанский и средневековая диалектика» в Твери (в государственной типографии). «Вещь и имя» теперь (после возврата рукописей из хранилищ Лубянки[83]) известна мне в четырех главах без пятой, которую я вообще считала ненаписанной из-за ареста. Но если книга находилась уже в типографии, следовательно, была завершена. Где же ее последняя глава, оправдание и смысл имяславия, или, что то же, ономатодоксии? Где же она? Опять загадка. Неужели дома не было полного экземпляра? Был. Но забрали раннюю редакцию и часть последней, а целый экземпляр, наверное, погиб в бомбежке.
Что же касается «Николая Кузанского», то какие-то смутные странички, листочки непонятные лежат у нас в папках. Вернули мне тоже обрывки. Вот и еще одна потеря целой книги. Не искать же в Твери.[84]
«Издание автора». Что это такое? «Античный космос», например, печатался в 4-й типографии Мосполиграфа вполне законно, но фактически издавал его некто Берлин, гонорара не платил, а, наоборот, взял у Лосева 200 рублей. Ни одного экземпляра автору не дал, и бедный автор вынужден был купить на свои средства 25 экземпляров. Причем этот Берлин из тиража в 1500 экземпляров будто бы продал 200 или 300 «Международной книге».
Пришлось издательским делом заняться самому автору, так как Берлин, хоть и работал якобы в издательстве «Сегодня», исчез бесследно, совсем как издатель Рвацкий в «Театральном романе» Булгакова.
Книги печатались в провинции. «Диалектика художественной формы» и «Очерки античного символизма и мифологии» в Туле (тираж 1500 экземпляров). Уже через десятки лет там тоже будут печатать некоторые тома лосевской «Истории античной эстетики» (т. IV, т. VIII, 1-я часть). Остальные в Сергиевом у Иванова. Бумагу давала типография, а перевозить в Москву надо было самому. Книги для продажи автор сдавал в «Книгосоюз», в «Международную книгу», в Госиздат. Тиражи выходили маленькие, 1500 экземпляров («Античный космос», «Диалектика художественной формы», «Музыка как предмет логики») или даже 750 («Очерки античного символизма и мифологии», «Диалектика числа у Плотина», «Критика платонизма у Аристотеля»). Дома автор обычно оставлял 100 экземпляров, чтобы можно было раздать бесплатно в библиотеки, послать ученым, подарить друзьям. Прибыли книги не давали, но и материальную помощь Лосев ни от кого не получал. Издание каждой книги стоило от 600–750 рублей до 1300–3500, включая стоимость бумаги, которую покупали типографы.
Сам А. Ф. на мои расспросы о марке «Издание автора» говорил, что оно означало одно: вся ответственность за книги падает на автора, а по сути дела издание это не его личное, а государственное. Может быть, он не хотел, чтобы я знала тонкости давно прошедших дней, столь непонятные во времена, когда никто не имел права сам что-либо издавать и «самиздат» преследовался. Теперь, после крушения советской власти в 1991 году, сколько угодно «изданий автора», а раньше трудно было воспринять книжную политику 20-х годов, где еще сохранились какие-то частные отношения, видимо, остатки нэпа. Но цензура зато действовала строго и безжалостно, так что Лосев всегда имел шанс угодить в какую-либо неприятную историю, что и случилось с ним, когда он попал прямо в тюрьму.
Но была ли столь актуальна и нужна в те 20-е годы античность, с которой начал А. Ф. Лосев? Античность совершенно необходима в те времена, когда пытаются уничтожить фундамент культуры, оторвать человека от его естественной почвы. Именно в ней, в античности, залегают корни современных жизненных основ. Там рождается древнейшая форма мышления – миф. Там заложено учение об имени и числе.
В эпоху, когда стремятся сокрушить старые формы жизни, античность уже только одним своим наличием оправдывает преемственность в истории культуры.
Еще будучи студентом университета, А. Ф. сделал следующую запись, как всегда, точно по пунктам излагая свои мысли: «1. Расширение нашего горизонта через изучение прежних эпох: а) без истории мы подобны кротам, Ь) для понимания истории надо пересоздаваться, перевоплощаться, с) жизненный опыт создается в результате накопления и переработки исторических восприятий. Это и в личной и в исторической жизни». Молодой ученый не хотел, чтобы общество уподобилось слепым кротам. Отсюда – создание книг, раскрывающих людям глаза на мир.
Книги А. Ф. Лосева были теснейшим образом связаны с современностью. Он писал не просто об античном космосе, но о достижениях современной науки, самых последних, наиболее интересных, но и опасных в 20-е годы, да и не только тогда (например, теория относительности Эйнштейна, знаменитая формула Лоренца, математические теории П. А. Флоренского). В «Очерках античного символизма и мифологии» была четко продумана история понимания разных типов античности в новоевропейской культуре. Впервые при изучении Платона был применен типологический подход, выявивший специфику именно языческого платонизма, без всякой модернизации и христианизации философа. А. Ф. Лосев своими книгами осуществлял ту самую связь времен, которая грозила распасться в 20-е годы и в конце концов в ряде гуманитарных наук, в том числе в философии и классической филологии, была уничтожена.
Итак, книги печатались,[85] но с выходом каждой из них, как вспоминал А. Ф., от него отходили знакомые, не здоровались, как будто не узнавая. Люди, ожидая самого худшего, боялись, и лучше было им отделить себя от Лосева. Так что же это были за опасные книги?
Одна из главных – «Философия имени»,[86] написанная еще летом 1923 года, была вынужденно сокращена в 1926 году из-за цензурных условий, когда особенно пострадали главы 8, 12, 13, 22–28, 31, 33. «Философия имени» писалась в те годы, когда в доме Лосевых собирались его единомышленники, светские и духовные лица. Но если в докладах, прочитанных в узком домашнем кругу в самом начале 20-х годов, можно было говорить откровенно, открыто, то в печати приходилось вести себя крайне осторожно.
«Философия имени» тесно связана с философско-религиозными имяславскими спорами начала века о сущности Имени Божия, что привело молодого философа к поискам сущности имени вообще. Со времени античности Платона, Плотина и христианского ареопагитского неоплатонизма (приблизительно VI век) имя понималось глубочайшим образом онтологически, бытийственно. Назвать вещь, дать ей имя, выделить ее из потока смутных явлений, преодолеть хаотическую текучесть жизни – значит сделать мир осмысленным. Видимо, не случайно в письме о. Павлу Флоренскому (30/I—1923) А. Ф. Лосев обратился с просьбой обсудить с ним тезисы имяславского учения, о котором А. Ф. беседовал с выдающимся деятелем этого движения на Афоне о. Иринеем. Письмо написано в январе 1923 года, а летом этого же года «Философия имени» была завершена.[87] Открыто признаться в ареопагитских и имяславских истоках интереса к имени ученый не мог. Эзоповым языком он писал в предисловии о том, что «испытывал влияние тех старых систем, которые давно забыты и, можно сказать, совершенно не приходят никому на ум» (с. 71-го изд. = с. 615 2-го изд.),[88] что никто не разработал имя с такой точки зрения (А. Ф. писал без влияния Гуссерля и Кассирера, да и книги Кассирера о символических формах вышли позже завершения его труда). Без онтологического понимания имени мир – глух и нем, он полон тьмы и чудовищ. Но мир не такой, потому что «Имя есть жизнь» (с. 9 = 617).
Идея книги А. Ф. удивительным образом современна и перекликается (как это теперь видно) с его поздними работами по языку. Ученый с полным правом утверждает, что он почти первый в русской философии не лингвистически и не феноменологически, но диалектически обосновал слово и имя как орудие живого социального общения и вскрыл живую и трепещущую стихию слова.
В слове люди общаются между собой, в имени обосновывается глубочайшая природа социальности и проявлена сама социальная действительность. «Слово – это орудие общения с предметом и арена интимной и социальной встречи с их внутренней жизнью» (с. 47 = 642). Без слова и имени человек «антисоциален, необщителен, не соборен… не индивидуален» (с. 47 = 642), являясь чисто животным организмом. В словах о смысле слова, как свете, и бессмыслице, как тьме, ощущаются не только платонические, но и паламитские интуиции (учения о свете Григория Паламы в XIV веке). Несколько раз на страницах книги в духе античного жанра энкомия встречается похвала слову (с. 27 = 627, 180–182 = 745–747). «Слово – могучий деятель мысли и жизни. Слово поднимает умы и сердца… Слово движет народными массами» (с. 27= 627), слово побуждает сознание, волю, глубину чувств, делает слабого человека героем, нищенское существование – титаническим порывом. Без слова и имени нет и мышления вообще. «И молимся мы и проклинаем через имена… И нет границ жизни имени, нет меры для его могущества. Именем и словами создан и держится мир… Именем и словом живут народы, сдвигаются с места миллионы людей, подвигаются к жертве и к победе глухие народные массы. Имя победило мир» (с. 181–182 = 746).
Вполне логично книгу завершают строки из знаменитого гимна с похвалой имени, который приписывался то христианину Григорию Назианзину, то язычнику Проклу, но так и остался анонимным.
Исследование имени ведется диалектическим методом и логически чрезвычайно последовательно. А. Ф. Лосев признавался в одном из писем жене (из Белбалтлага в Сиблаг 11/III—1932):[89] «В философии я – логик и диалектик». Логикой и диалектикой пронизана вся книга, именно потому что «диалектика – ритм самой действительности» (с. 8 = 617), «диалектика есть непосредственное знание» (с. 10 = 618), диалектика есть «окончательный реализм» (с. 12 = 620), диалектика есть «абсолютная ясность, строгость и стройность мысли» (с. 19 = 625), это «глаза, которыми философ может видеть жизнь» (там же).
Замечателен способ, каким дается определение диалектики, – идущий еще от неоплатонической и ареопагитской логики – через отрицание, как принято говорить – апофатически. И только уже после всех этих отграничений предлагаются определения утвердительные – катафатические, да еще приводятся примеры самые обычные, излюбленные Алексеем Федоровичем с молодости и до последних работ. Шкафы, карандаши, какие-то неведомые люди Иваны Ивановичи, Иваны Петровичи, Петры Ивановичи, обычные, всем знакомые слова «город», «земля», «небо» доказывают разную степень приближения к предмету (с. 40–45= 637–639). В рассуждениях о логике и диалектике одного и иного (с. 49–59 = 637–639) вспоминается любимый Алексеем Федоровичем платоновский «Парменид», с докладом по которому он выступал в ранней молодости. А категории, которыми оперирует Лосев, – все эти «самопорождаемость», «структура», «взаимосвязанность модели», «знак», «символ», «миф» – нашли место в поздних работах Алексея Федоровича: во «Введении в общую теорию языковых моделей» (1968, 2004), в книгах «Знак. Символ. Миф» (1982), «Языковая структура» (1983), связанные с ними идеи оказались безусловно актуальными в современном языкознании.[90]
В бумагах А. Ф. Лосева, разрозненных, со следами пожара и песка (после фугасной бомбы, уничтожившей дом Лосева на Арбатской площади в августе 1941-го), был обнаружен мной в 1989 году листок, представляющий собой фрагмент новой книги об имени и ее краткое оглавление. Эту страницу я позволю себе здесь привести. Она, как видно по дате, поставленной Алексеем Федоровичем, относится к 14 февраля 1929 года. Книга явно должна была быть новой ступенью в изучении философии имени и продемонстрировать социальную силу имени. Лосев писал следующее.
На «(…) этих, несомненно, ярчайших образцах социальной силы имен показать и вскрыть значение имени вообще и развить кроющуюся здесь философскую систематику понятий. Я утверждаю, что сила имени в теперешней жизни, несмотря на ее полное удаление от живой религии, нисколько не уменьшилась. Мы перестали силою имени творить чудеса, но мы не перестали силою имени завоевывать умы и сердца, объединять ради определенных идей – тех, кто раньше им сопротивлялся, и это – ничуть не меньшая магия, чем та, о которой теперь читают только в учебниках.
Еще не настало время, чтобы я высказал об имени то, что я мог бы высказать и что мне дороже и ближе, чем философский анализ имени. Но предрассудки механицизма и позитивизма так еще крепки, что я буду вполне удовлетворен, если прочитают хотя бы только мой философский анализ имени. Раз диалектика – универсальный метод, то ему подчинена не только логика, не только экономика и не только история и культура, но и самая дикая магия, ибо она тоже есть момент и логики, и экономики, и истории, и культуры. Нужно быть самым отчаянным и рассудочным метафизиком, чтобы вырвать религию и магию из живого исторического процесса. Но если этого делать нельзя, то не только религия и магия, а самая необузданная и противоестественная фантастика и сумасшествие есть тоже момент в истории и, след., имеет свою диалектику. Вот эту диалектику имени я и хотел дать. Сознаюсь, что это отвлеченно. Но для конкретности в этих вопросах я сам еще не вполне подготовлен. Впрочем, для философа диалектика и есть последняя конкретность.
Москва, 14 февраля 1929 г.
Оглавление.
I. Действительность.
II. Имя.
III. Имя и вещь.
IV. Из истории имени.
V. Философские тезисы ономатодоксии».
Как оказалось в дальнейшем, этот фрагмент был предисловием к еще одной книге об имени, а именно к книге «Вещь и имя», которая писалась в 1929 году, была сдана А. Ф. в типографию Иванова в Сергиевом Посаде и, судя по всему, погибла, когда автора ее арестовали в 1930-м. Однако сохранились исходный вариант книги и тот, который обрабатывал Лосев, вернувшись из лагеря в 1933 году. Оба они – краткие. В рукописях, возвращенных мне Центральным архивом ФСБ РФ, где они пролежали после ареста автора 65 лет, сохранилась огромная глава IV «Из истории имени». Следовательно, книга, отданная Лосевым в печать, была достаточно объемной. Теперь же приходится довольствоваться двумя незавершенными вариантами.[91] И в том и в другом нет ни подробной главы IV «Из истории имени»,[92] нет ни V главы «Философские тезисы ономатодоксии». Так печально закончились изыскания Лосева 20-х годов в области учения об имени.
То, что А. Ф. Лосевым были определены большие философские цели, связанные с проблемой имени, доказывает также то, что уже к 1930 году он перевел с греческого весь знаменитый Ареопагитский корпус (куда входит трактат «О Божественных именах»), который погиб в недрах ОГПУ в 1930 году после ареста А. Ф. Лосева;[93] второй раз (вновь переведенный Алексеем Федоровичем целиком) он погиб в бомбежке 1941 года.
А. Ф. Лосев считал себя не только логиком и диалектиком, но и «философом числа», полагая математику «любимейшей» из наук (письмо 11/III—1932). Математика и в жизни, и в философии Лосева играла одну из главенствующих ролей, будучи связана особенно в античных штудиях Алексея Федоровича с астрономией и музыкой. Известно, что Алексей Федорович серьезно занимался рядом математических проблем, особенно анализом бесконечно малых, теорией множества, теориями комплексного переменного, пространствами разного типа. Он общался с великими русскими математиками Н. Н. Лузиным и Д. Ф. Егоровым, который был близок ему глубоко мировоззренчески, в плане философско-религиозном, имяславском. Не забудем, что и супруга А. Ф. была математиком и астрономом, ученицей академика В. Г. Фесенкова и профессора Н. Д. Моисеева, помощницей А. Ф. в научных трудах (не говоря уже о практической жизни), целиком разделявшей все его взгляды. Обсуждение философско-математических проблем было для Лосева не только обычным, повседневным делом, но еще и глубоко внутренним, даже интимным. А. Ф. мечтал, будучи принципиальным диалектиком, о диалектической разработке математики. Для него вместе с Валентиной Михайловной существовала их общая наука, которая есть и астрономия, и философия, и математика. В тюрьме он прошел «подробный курс дифференциального и интегрального исчисления под хорошим руководством» и обдумал «целую диалектическую систему анализа, куда в строгом порядке и системе входят такие вещи, как ряды Тейлора, Маклорена и Коши, формулы Эйлера с величиной – е, уравнения Клеро, Бернулли и Риккатти, интегрирование по контуру и т. д.» (письмо 12/XII—1931). Его вместе с Валентиной Михайловной привлекает философский аспект теории аналитических функций (интегрирование по контуру, теоремы Моавра, Грина, Стокса и др.), которые А. Ф. приводит «в стройную диалектическую систему» (22/I—1932). Все это, как он пишет, мысли из «нашей общей науки, которая есть сразу и математика, и астрономия, и философия, и общение с „вселенским и родным“ (как сказал бы Вяч. Иванов)». «Книга о диалектике аналитических функций, написанная мною пока в уме, посвящена, конечно, тебе», – заключает Лосев (там же). Мысли о единении философии, математики, астрономии и музыки, столь характерные для античной культуры, не покидают ученого. Задумывая в лагере книгу «Звездное небо и его чудеса», он хочет, чтобы она была «углубленно-математична и музыкально-увлекательна»… «Хочется музыки… с затаенной надеждой я изучаю теорию комплексного переменного… И сама-то математика звучит как это небо, как эта музыка» (27/I—1932). Математика и музыкальная стихия для него едины. И среди тягот лагерной жизни не покидают мысли о философии числа: «Пока хожу и сторожу свои сараи и раздумываю на темы по философия числа», – делится он с Валентиной Михайловной (там же). Этими размышлениями «по философии числа» А. Ф. занят, пока по восемь часов в сутки сторожит лесные склады. В уме создает «много разных теорий», которые, как полагает оптимистично Лосев, «обязательно опубликую» (22/I—1932). Памятуя свою книгу «Философия имени», он мечтает издать труд по философии числа. Надежды были, конечно, наивны. Однако в архиве А. Ф. сохранились большая работа «Диалектические основы математики» и ряд других работ о числе, намеченных еще в лагере, но написанных в 30—40-е годы.[94] Еще находясь на воле, он успел опубликовать «Диалектику числа у Плотина», а страсть к синтезу философии, математики и астрономии выразить в книге об античном космосе и современной науке. Единство философии, математики и музыки стало предметом особого труда «Музыка как предмет логики». Как сам, улыбаясь, говорил А. Ф., он специально обозначил на титуле книги свое авторство – «профессор Московской государственной консерватории», чтобы все видели не дилетанта, а ученого специалиста, и отнеслись серьезно к такому, казалось бы, странному заголовку. Дилетантом его никто и не считал, ни в ГИМНе, ни в ГАХНе, ни в консерватории.
Его связывали близкие отношения с М. Ф. Гнесиным и его супругой Г. М. Ванькович, Н. А. Гарбузовым, Е. А. Мальцевой, С. Л. Толстым, А. Б. Гольденвейзером, Г. Г. Нейгаузом, Н. С. Жиляевым, Н. Я. Мясковским, Г. Э. Конюсом, М. В. Юдиной, драматические отношения с которой вылились в фантасмагорию романа Лосева «Женщина-мыслитель».
После книги 1927 года «Музыка как предмет логики» он через много лет снова придет к музыкальной теме. «Проблема Вагнера в прошлом и настоящем» выйдет в 1968 году, «Исторический смысл эстетического мировоззрения Вагнера» – в 1978 году и посмертно выйдет «Основной вопрос философии музыки» (1990). В архиве ГАХНа сохраняются материалы, посвященные разработке им музыкальной проблематики (доклады «Музыка и математика», «О понятии ритма», «Непосредственные данные музыки», «Шеллинг о ритме», «Гегель о ритме», «Диалектика музыкального образа», «К вопросу о систематике музыкально-теоретических категорий», «О понятии и структуре ритма»).
Работа в консерватории прерывается в 1929 году перед арестом. Профессора попросту лишили часов, сняв курсы, которые он читал, так как в консерватории уже хорошо знали о травле, начатой против него, и, надо сказать, иные слушатели и коллеги вели себя недостойно (см. часть третью, об аресте).
В книгу «Музыка как предмет логики» вошли очерки, написанные с 1920 по 1925 год и, несомненно, связанные с работой автора в ГАХНе и ГИМНе, где он общался с теоретиками и практиками консерватории, в том числе с профессором Г. Э. Конюсом, которого он глубоко уважал и с теорией метротектонизма которого был хорошо знаком, неизменно высоко ее оценивая.
С любовью вспомнит А. Ф. своего старшего коллегу, когда по просьбе дочери Г. Э. Конюса напишет статью «Памяти одного светлого скептика», где нарисует царившую в консерватории, теперь уже в «конской школе», атмосферу приспособленчества к пролетарскому классовому подходу и вульгарному материализму. И среди всего этого безобразия – светлый образ неизменно благородного Г. Э. Конюса. Дочь Конюса прислала А. Ф. восторженную телеграмму, прочитав статью. Издатели же перепугались, как же – задеты уважаемые имена, и отказались печатать. Времена не менялись для Лосева – что 20-е годы, что 80-е. Только в 1989 году Владимир Лазарев включил эти воспоминания в примечательную книжку «Что с нами происходит? Записки современников».
В своей молодой книге (а также в одной из последних музыкальных статей «Основной вопрос философии музыки»)[95] А. Ф. твердо отстаивает принцип независимости феномена музыки от физических и психофизиологических явлений и вообще от всякого натурализма и вульгарно-материалистических представлений. Автора занимают непосредственно эйдос и логос музыки, которые он кратчайше формулирует так: «Эйдос – сущность предмета, Логос – сущность эйдоса» (с. 33 = 428),[96] тем самым пытаясь прояснить самые глубины музыки как высшего откровения и философии. Музыке, как полагает Лосев, нет необходимости сводить себя ни на какое другое бытие. Для нее характерен «вместо закона основания – закон самообоснования, самодеятельности, самостоятельности» (с. 51 = 442), наличие чистого музыкального бытия. Отсюда – истинное музыкальное восприятие не должно опираться на программы, интерпретацию музыки или жизнеописания композиторов, так как музыка сама по себе «изображает не предметы, но… их сущность» (с. 53 = 443). В ней идеально преподано единство звуков, аккордов, мелодии, гармонии (категориям ритма, мелодии и гармонии посвящены с. 190–198 = 549–556).
Самое важное – это наличие чистого музыкального бытия, где предельная бесформенность и хаотичность формы имеет свою особую оформленность. В ней – единство субъекта и объекта, нераздельность и слитность, вечная изменчивость и самопротиворечие, самопротивоборство, данное как жизнь. Чисто музыкальное бытие – это «слияние противоположностей, данное как длительно изменчивое настоящее» (с. 25 = 422). В музыке слитность, нерасчлененность, множественность единства и сплошная процессуальность и динамика. Музыка противоположна науке. Она гонит науку и смеется над ней, отрицая железный строй понятий и суждений, ибо «мир – музыка, а наука – его накипь и случайное проявление» (с. 47 = 439).
В этих определениях чувствуется неизменный для Лосева диалектический подход к сущности бытия и его проявлениям. Здесь рождаются афористические дефиниции об «органическом сращении подвижной бесформенности и идеальности», «форме бесформенности», о «светлой идее», «разбегающейся по сторонам тьмы апейрона», то есть беспредельности (с. 111–113 = 489–490), о том, что в музыкальном времени нет «прошлого», так как о прошлом можно говорить только уничтожив предмет, а в музыке есть только настоящее, которое творит будущее. Переживать музыку – значит вечно стремиться к идее и не достигать ее (ср. платоновский «Пир», где Эрос – это вечное стремление к истине и абсолютному Благу, то есть высшей любви).
Самое же главное, что музыка основана на соотношении числа и времени. Она не существует без них, ибо она есть выражение чистого времени. А время, в свою очередь, объединяет длящееся и недлящееся. Время всегда предполагает число и его воплощение (см. замечательные страницы 157–178 = 527–540, где дается сравнение времени и числа). Но ведь «без числа нет различения и расчленения, а следовательно, нет и разума» (с. 158 = 525). А число, в свою очередь, и есть подвижной покой самотождественного различия смысла (или «одного», «этого», «сущего»). Поэтому в музыкальной форме существуют три важнейших слоя – число, время, выражение времени, а сама музыка есть «чисто алогически-выраженная предметность жизни числа» (с. 141 = 512). Музыкальная форма тем самым является реализацией диалектического соотношения числа и времени.
Таким образом, музыка теснейше связана с числом, числовыми отношениями, математикой в целом и ее отдельными теориями. Только идеальность численных отношений можно сравнить с эйдетической (эйдос – смысл) завершенностью музыкальных образов. Сфера математики – идеальна, так как она не имеет дела с реальными пространственными телами и психикой и т. п. «Теорема верна или не верна сама по себе» (с. 103 = 483). Вот к этой чисто музыкальной сфере относится музыкальное бытие, а значит, «музыка и математика – одно и то же» в смысле идеальной сферы (там же). Отсюда следует делать вывод о тождестве математического анализа и музыки в смысле их предметности. Ведь в музыке происходит прирост бесконечно малых «изменений», «непрерывная смысловая текучесть», неугомонность и «вечная ненасытимость», «беспокойство как длительное равновесие – становление» (с. 116–118 = 493–495).
Рассматривается соотношение музыки и учения о множествах. И там, и здесь многое мыслит себя как одно. И там, и здесь учение о числе, в котором составляющие его единичности мыслятся не сами по себе, но как нечто целое, ибо множество есть эйдос, рассмотренный как «подвижной покой» (с. 122 = 498).
Однако в музыке и математике есть и свое решительное различие. Музыка живет выразительными формами, она есть «выразительное, символическое конструирование числа в сознании» (с. 123 = 498). От математики музыка отличается как раз именно тем, что искусство живет «выразительным и символическим конструированием предмета» (там же), то есть способ конструирования предмета у музыки и математики разный: «…Математика логически говорит о числе, музыка говорит о нем выразительно» (с. 123–124 = 499). Характерно, что изучение чистой музыкальной формы А. Ф. Лосев в дальнейшем предполагал рассмотреть как бытие социальное, о чем он и упоминал в книге, ссылаясь на свои пока неизданные работы по античной музыке. В дальнейшем, через многие годы, А. Ф. выпустит единственную у нас в то время книгу по античной музыкальной эстетике (1960–1961), в которой теснейшим образом свяжет античную музыкальную форму со спецификой мышления и бытия Древней Греции и Рима.
Наконец в 1930 году вышла книга, определившая судьбу А. Ф. Лосева на всю дальнейшую жизнь, – «Диалектика мифа». Книга эта была несомненно связана со всеми предыдущими (если мы вспомним, А. Ф. в равной степени называл себя не только философом имени и числа, но и философом мифа. Особые отношения были у этой книги с «Философией имени»). В греческом языке «миф» означает не что иное, как «слово», «имя», «наименование», в котором древний грек в первобытные времена обобщал опыт своей общинно-родовой жизни. Поскольку же древнейший человек не знал иных отношений, кроме родоплеменных и семейных, то и весь мир являлся ему в разных обобщающих словах, то есть мифах. Так, плодоносящая земля именовалась матерью, небо – отцом, морской простор – владыкой вод или супругом земли, и вообще весь мир был полон загадочных, магических стихийных сил, часто даже не имевших отдельных имен, но обобщенно называемых даймонами. Да и эта магическая, пока еще бесформенная сила как бы пронизывала всю природу, была разлита в ней. Что же касается обитавших на Олимпе богов со своими именами и мифами, уподобленных прекрасному человеческому облику, то они знаменовали собой гораздо более позднюю ступень мифологического развития, уже не чисто природную, но антропоморфную.
Древнейший памятник греческой поэзии, гомеровский эпос (греч. epos – такое «слово», в котором подчеркивается звуковая оформленность) оперирует лишь «мифом», не зная его другого эквивалента – «логос». Зато классическая культура греков, особенно философская, великолепно владеет не только словом как целостно-мыслительной сущностью, но и словом дифференцирующим, выделяющим, разделяющим, то есть логосом.[97] «Миф», таким образом, не выдумка, не фантазия, даже не сказка (сказка появилась позже и опирается на установку выдумки, вымысла, которые принимаются как непременное условие всеми участниками «игры» – рассказчиком и слушателями). Миф – это древнейшая форма освоения мира, обобщающая в одном слове множественные конкретности жизни.
Мифологическая тема звучит у Лосева в его самых ранних работах. Так, дипломное сочинение «О мироощущении Эсхила» посвящено соотношению бытия и мифа в жизни трагического героя, соотношению «видимой оболочки мира» и его «дионисийской подпочвы», «надземного и подземного гула затаенных сил». Здесь изучались «сокровенные судьбы мировой и жизненной истории» в трагедиях Эсхила, «расхождение человеческой воли» с «тайными суровыми предначертаниями» судьбы, рока, ведущее к «познанию и страданию» – «альфе и омеге мироощущения Эсхила».[98]
В статье 1916 года «О музыкальном ощущении любви и природы» – снова миф, но уже созданный Римским-Корсаковым в «Снегурочке», где нет «грани между космическим и реально-человеческим», где «достигнуто всеединство и достигнуто преображение». «Снегурочка» для Лосева навсегда осталась единством «народности музыки и мифологии». Музыка оперы вызвала «глубинную характеристику бытия», достигла необычной степени «выразительности», «зацвела символом», «изнутри освещая рождающуюся здесь мифологию», «любовный союз личности с природой».[99]
И еще ранняя работа «Философский комментарий к драмам Рихарда Вагнера» – тоже посвящена мифу, но уже его интерпретации в тетралогии «Кольцо нибелунга». Молодой Лосев прославляет в этой «всемирно-божественной трагедии» «творческий экстаз, выводящий за пределы пространственно-временных оформлений», «последнее напряжение любви и страсти», «приобщение к Бездне и Первоединому», узрение «в любви, смерти, жизни и Хаосе – Ничто, Одного и Всего».[100] Перед нами вся концепция «Кольца» «и в понятии и в мифе», вся «диалектика бытия», «мировая диалектика»[101] в привычных для Лосева философско-мифологических первопринципах – Ничто, Бездна, Хаос, Всё, Одно, Первобытно-Единое, Первоединое.
Во фрагменте, условно мной названном «Очерк о музыке»[102] (возможно, 1920 год, а может быть, и раньше), есть завершающие его страницы – настоящий гимн «Светлой Безбрежности», «вечному Восторгу», «Деве страстной и огненной», «Невесте», «Жене предвечной», «Матери-наставнице», «Девочке-Царице», «Невесте-Матери», «Единой и Великой». Молодой Лосев творит здесь собственный миф о «душе миров», «матери миров и душе Времени», напоминающий о Соловьеве кой влюбленности в Софию.
В строжайше продуманной категориально книге «Музыка как предмет логики» (1927) Лосев прибегает к интересному литературному приему, стремясь изложить сущность музыки «с мифологической точки зрения». Он помещает здесь некий «Музыкальный миф», будто бы переведенный им из сочинения одного малоизвестного немецкого писателя. Вымысел Лосева в духе музыкальных откровений и видений гофмановских героев совершенно очевиден.[103] Но эта игра, к которой прибегает философ, завораживает, и читатель вполне согласен, что «в эстетически-мифологическом отношении» это наиболее яркие, интимные, искренние страницы. Создавая свою экстатическую похвалу музыке, философ пользуется «мифологическим закреплением» отвлеченного анализа и наглядно живописует, «как из океана алогической музыкальной стихии рождается логос и миф».[104]
Вне мифологической сферы не могут быть поняты страницы таких книг, как «Античный космос и современная наука» или «Очерки античного символизма и мифологии». Теории мифа в его соотношении с другими, связанными с ним категориями, посвящены важнейшие рассуждения в «Диалектике художественной формы». Осмысление мифа как необходимого компонента жизни общества, отнюдь не только античного, но современного, стало предметом «злосчастной» книги (так ее называл А. Ф.), «Диалектики мифа».
А. Ф. Лосеву было глубоко чуждо марксистско-ленинское противопоставление идеализма и материализма, идеи и материи. Помню, что, принимая участие в первой пятитомной «Философской энциклопедии» (1960–1970), А. Ф. каждый раз протестовал, когда редакторы требовали определять античных философов по признаку принадлежности к идеализму или материализму. В сохранившихся подлинниках его статей по античной философии все эти навязанные ему определения отсутствуют, в напечатанном виде они – результат работы редакторов, спорить с которыми было бесполезно. Бывало, А. Ф. хватался за авторитет «Философских тетрадей», где Ленин пишет, что Аристотель сразу и материалист и идеалист на протяжении нескольких строк, но и этот авторитет не помогал. Однако Лосев был убежден, что никакого противопоставления бытия и сознания не может быть, как нельзя метафизически признавать обязательную первичность одной из этих категорий.
В предисловии к «Истории эстетических учений» (1934), подготовленной Лосевым на основе лекций, читанных в 20-е годы в Московской консерватории, мы находим воплощение той «чистой мысли», что «утешала», «укрепляла», «не давала терять последнего равновесия», поддерживала «отвлеченно-диалектический эрос», которым жил не только «маленький философ в Советском Союзе», но и «многие философы всемирно-исторического значения».[105] Такой чистой и честной мыслью для Лосева являлась необходимость диалектики «с живым и проникновенным физиономизмом», которую «создает сама философская жизнь».[106] Именно эта диалектика не может остановиться на «бытии» и «сознании» как «абстрактных сторонах одного и того же живого тела культуры». Между бытием и сознанием существует «не причинно-силовая и вещественная связь, но диалектическая». То и другое – неразрывные стороны типа данной культуры. «Один и тот же тип, лик, душа… охватывает и подчиняет себе и все внешнее в ней, включая производственные отношения, и все внутреннее в ней, включая религию и философию». Поэтому для Лосева «нет ни просто идеи, ни просто материи, нет ни только одной сущности, ни только одного явления».[107] А значит, «не только бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие».[108] Тело осуществляет, реализует дух, а тот, в свою очередь, воплощается в теле, и, таким образом, для Лосева «последней, известной реальностью» является «диалектическое саморазвитие единого живого телесного духа».[109] В этой саморазвивающейся идее философ видит и дух ее, и ее тело, а именно производственные отношения. И поскольку «бытие определяет сознание, но сознание осмысляет бытие»,[110] то и «дух осязается физически, как тело, и тело стало смыслом», а значит, в настоящей реальной жизни «потухнет… самое различие духа и тела».[111]
Эти мысли А. Ф. Лосева можно считать основополагающими и для его понимания мифа, который представляет собой тождество идеального и материального, идеи и материи. В мифе идея одушевляет материю и сама становится живой плотью.
Но если идея воспринимается как живая плоть, то есть живое существо, то она проявляет себя в мифе как символ, то есть как внешняя выраженность мифа, а затем и как личность. Если же миф явлен в личности, то эта последняя должна обязательно проявить и осознать себя в имени. В личности – «тождество и синтез тела и смысла, дающих общий результат – мифическое имя». Поэтому «личность, данная в мифе и оформившая свое существование через свое имя», есть высшая форма выраженности.[112] Но ведь имя есть не что иное, как выражение энергии сущности эйдоса, или идеи. Так оказываются неразрывно связаны между собой сущность, эйдос (или идея), миф, символ, личность, энергия сущности, имя.[113]
Из этого рассуждения можно сделать вывод о тесной связи лосевского понимания мифа и его учения об имени. В мире, где царствует миф, живая личность и живое слово, – все полно чудес, воспринимаемых как реальный факт, а само имя обладает удивительной магической силой. Эта магия имени великолепно раскрыта в предисловии Лосева к его незавершенной рукописи (1-я редакция работы «Вещь и имя». См. выше).
А. Ф. Лосев десятки лет занимался античной мифологией и в нашей науке разрабатывал теорию социально-исторического развития мифа (см. у нас ниже анализ его труда «Античная мифология в ее историческом развитии». М., 1957). Но он стал исследователем античного мифа и античного мифомышления уже после того, как ему было запрещено заниматься мифом современным, которому была как раз посвящена «Диалектика мифа» с ее глубочайшим образом продуманной теорией.
Как обычно, в своих научных трудах А. Ф. дает дефиниции объекта исследования. И доказательства его идут сначала путем отграничения понятия мифа от других, путем отрицательных определений (см. гл. I-Х). Только после этого наконец устанавливается позитивное определение мифа.
Оказывается, что миф – это не идеальное понятие, не идеальное бытие, не вид поэтической образности; не наука, не догмат. Миф «есть сама жизнь» (как не вспомнить слова из «Философии имени» – «имя есть жизнь», «жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная… действительность» (с. 14),[114] «миф есть само бытие, сама реальность, сама конкретность бытия» (с. 28 =25). Это «энергийное самоутверждение личности» в «выразительных функциях», это «образ личности», «лик личности», а не ее субстанция (с. 118 = 99). «Миф есть в словах данная личностная история» (с. 182 = 151). Он есть чудо, как чудом и мифом является весь мир (гл. XI).
Судя по всему, древнее представление о слове-мифе как жизненной реальности оказалось у А. Ф. проецированным в современную действительность именно потому, что современность была чревата рядом идей, которые утверждались вопреки всем другим, естественно развивавшимся. Происходила фетишизация, обожествление одной идеи (например, идеи материи, идеи построения социализма в одной стране, идеи обострения классовой борьбы и т. д.). Но фетишизация издревле характерна для мифа. Поскольку же идея может двигать массами, то фетишизация, а шире мифологизация идеи имеет поистине глобальные последствия. Один миф может, как в цепной реакции, создавать другой, но он может в такой же мере его уничтожать, разрушать. Он заставляет целое общество жить по законам мифотворчества, и никакая наука не убедит и не разуверит человека в созданном им личностном или общественном мифе. А. Ф. Лосев с твердой логической последовательностью, остроумием и даже изящно подходит к определению мифа и раскрывает все его диалектические моменты с точки зрения чуда, ибо не иначе как чудом можно считать безраздельное и бездоказательное, в корне иррациональное признание одних движущих сил общества, часто губительных, разрушающих его, вопреки другим, разумным и аргументированным. Последовательно выводится логика доказательств, из которой следует, что знание в сущности своей и есть подлинная вера, поскольку верить можно только тогда, когда знаешь, во что нужно верить, и знать только тогда, когда веруешь, что объект знания действительно существует. Автор как бы воскрешает сократовский метод беседы с читателем в вопросе о вере и знании.
А. Ф. Лосев анализирует ряд научных теорий, получивших статус подлинного мифа (Декарт, Кант, Ньютон – мифологизация пространственных идей), так как миф не предшествует науке, но эта последняя всегда сопровождается мифологией, питается ею.
Особенно блестяще разработаны в этой книге мифы о времени и пространстве, отнюдь не однородном, как это было у Евклида, Канта или в неокантианском доэйнштейновском мире.
Интереснейше представлен Лосевым, например, миф о материи. Материя здесь «мертвое и слепое вселенной чудище», а учение о материи есть не что иное, как «вырождение христианского учения о троичности» (с. 152 = 127). Причем этот миф о материи прекрасно соотносится с «Философией имени», где он предстает в контексте живописной картины мира современного человека, находящегося в плену поистине мифологических взглядов на живую материю, ради которой он борется, приносит в жертву свою жизнь, проливает кровь. Мифологичен и сам мир современного человека (кстати, как он мифологичен и в христианской культуре), мир, в котором отсутствуют сознание и душа, ибо «все это – лишь одна из многочисленных функций материи, наряду с электричеством и теплотой». Вселенная, в которой живет современное общество, механистична и бездушна. Это «кладбище людей, превратившихся в мешки с червяками», где господствует единственная цель – движение вперед против души, сознания, религии и прочего дурмана. Это «мир – труп», которому люди обязаны служить «верой и правдой» и «отдать свою жизнь во имя общего». «Разве мы можем умереть, – спрашивает Лосев, – мы, новая Европа, не положивши свои кости ради торжества материализма?» – «Нет, – патетически и иронично отвечает он, – мы верим в нашу материю, поклоняемся ей, и никто не вправе отнять ее у нас» («Философия имени», с. 214–217= 773–774). Миф о всемогуществе знания – всецело буржуазный миф («Диалектика мифа», с. 140 = 117). Существует и социологическое пояснение для мифа о «бесправном пролетариате» (с. 141 = 118), и мифы повседневной жизни о цвете, свете, лунном освещении, электричестве, свечах, мифы прямо бытовые (керосин, стеарин, одеколон, волосы, борода, мифы о лице, личности, душе). Особенно остро дискутируются проблемы социального порядка. Мифы «пролетарской идеологии», которые ничем не отличаются от мифов «капиталистических гадов и шакалов» (с. 169 = 140); коммунистическая идеология создает свой миф о возможности безрелигиозного общества, хотя свою идеологию пролетариат возводит в степень мифа. Идеи Пролеткульта, РАППа и других «творческих» объединений, несомненно, повлияли на создание мифа о том, что пролетарию-коммунисту искусство чуждо, так как оно немыслимо без феномена гениальности, а гений – это неравенство, неравенство же означает эксплуатацию. А поскольку передовое общество преследует попов за эксплуатацию, то и искусство, в том числе Шаляпина, надо гнать, так как их воздействие на людей не отличается от религиозного. Широко распространявшиеся через газеты, журналы лозунги-идеи об усилении классовой борьбы при успехах социализма порождают миф о страшном мире, в котором «призрак бродит по Европе, призрак коммунизма», «где-то копошатся гады контрреволюции», «воют шакалы империализма», «оскаливает зубы гидра буржуазии», «зияют пастью финансовые акулы». Всюду снуют «бандиты во фраках», «людоеды в митрах». Везде «темные силы», «мрачная реакция», «черная рать мракобесов», и в этой тьме «красная заря мирового пожара», «красное знамя восстаний». «Картинка! – восклицает автор. – И после этого говорят, что тут нет никакой мифологии» (с. 123 = 103).
Сталинский миф о построении социализма в отдельно взятой стране, то есть в Советском Союзе, представлен в виде патетической долбежки, сопровождаемой внутренним голосом, который тоненько пищит в душе: «Н-е-е-е-е» или «Н-и-и-и-и-и». Стоит только спросить: «Как? Невозможно?» – и этот голос умолкает, но возникает опять «насмешливо-лукаво», как только начинается очередная долбежка (с. 100–101 = 84–85).
Добавьте к этим острым и опасным, но строгим в логическом отношении доказательствам нового мифотворчества, создания новых социалистических мифов на переломе 20-х и 30-х годов, дерзкий и совершенно свободный стиль, форму непринужденной беседы последних книг (не забудем, что их писал человек молодой), горячие симпатии к православию и его обиходу, трепетную интимность в пассажах о молитве, посте, монастыре, девстве, о «небушке родном-родном», о «блаженном безмолвии тела и души», трогательное обращение к «сестре и невесте, деве и матери» (здесь биографические детали, о которых А. Ф. пишет в письме жене 11/III—1932: «Там много интимного и сокровенного из нашей дружбы и жизни. Но ведь не назвал же я тебя там по имени»), все это бесчисленное роскошество примеров из Достоевского, Тютчева, А. Белого, о. Павла Флоренского, 3. Гиппиус, В. В. Розанова – и перед читателем рождается мир идей, ярко, с блеском, талантливо выраженных.
Однако эта талантливость дорого обошлась автору «Диалектики мифа». Книга, где Лосев раскрыл действенность мифов научных, философских и литературных, а главное, социальных – в эпоху «великого перелома» и «построения социализма в одной стране», – была запрещена цензурой, выбросившей все идеологически опасные места. А. Ф. не убоялся запрета и вставил в печатавшийся текст ряд мест, которые были исключены цензурой. Предлог для ареста книги и ее автора был найден. А поскольку все издательские дела с чиновниками и типографиями вела супруга А. Ф., то и она попала в тюрьму, а затем и в лагерь. Но иного выхода, кроме как высказать вслух заветные свои идеи, у философа не было. В одном из лагерных писем жене он справедливо писал (22/III—1932): «В те годы я стихийно рос как философ, и трудно было (да и нужно ли?) держать себя в обручах советской цензуры». «Я задыхался от невозможности выразиться и высказаться. Этим и объясняются контрабандные вставки в мои сочинения после цензуры, и в том числе (и в особенности) в „Диалектику мифа“. Я знал, что это опасно, но желание выразить себя, свою расцветавшую индивидуальность для философа и писателя превозмогает всякие соображения об опасности».
Автор этих опасных книг не подозревал, что на них достаточно быстро откликнутся русские философы, оказавшиеся после революции за границей, то ли вынужденные сами уехать, то ли высланные властями, те самые, с которыми Лосев был знаком по Религиозно-философскому обществу памяти Вл. Соловьева, по Вольной академии духовной культуры. Так, уже в 1928 году С. Л. Франк писал в журнале «Путь» (Париж) в статье «Новая русская философская система» (январь, № 9): книги Лосева свидетельствует о том, что, несмотря на ужасающее давление марксизма, философское творчество не замерло. Лосев, по словам Франка, «несомненно сразу выдвинулся в ряд первых русских философов» и подтвердил своими книгами, что в России «жив дух истинного философского творчества, пафос чистой мысли, направленной на абсолютное – пафос, который сам есть, в свою очередь, свидетельство духовной жизни, духовного горения» (с. 90).
Известный историк философии Дм. Чижевский оценил книги Лосева как создание «целостной философской системы», не декларированной, но «осуществленной… обоснованной и утвержденной на своеобразном подходе к миру и жизни».[115] Работа Лосева «стоит в русле живого развития философской мысли современности» (с. 515), а «историческое содержание работ Лосева имеет… первостепенное значение и не только для русской философской литературы» (с. 517). Книги Лосева, заключает Чижевский, сделавший подробный анализ его трудов, «приносят с собой столько свежести, порыва и истинной философской серьезности, что их нужно признать замечательным симптомом того философского кипения и тех философских творческих процессов, которые где-то под поверхностью жизни совершаются в России» (с. 520). Да, правильно заметил Чижевский, – «под поверхностью жизни», ибо жизнь была страшна и чревата скорым арестом философа.
Ранние книги Лосева не забывались за рубежом и через несколько десятилетий, когда он вынужденно молчал. Известный философ Н. О. Лосский написал «Историю русской философии» в конце 40-х годов, которая в переводе на английский вышла в 1951-м, а на французский – в 1954-м. А. Ф. Лосеву, «выдающемуся философу», он посвятил особый раздел, признавая в нем «страстного поклонника диалектического метода», ученого «огромной эрудиции», который в «философии имени» дал «набросок целой философской системы», понял мир как «идеал-реалистический символизм» и открыл своей диалектикой «существенно важную черту мирового бытия», которой не замечают материалисты, позитивисты и другие «представители упрощенных миропонимании».[116]
Протоиерей профессор В. В. Зеньковский в своей «Истории русской философии» 1950 года[117] также утверждал символизм Лосева, его необъятную эрудицию, его «живую интуицию всеединства»,[118] его близость к «христианской рецепции платонизма», отмечал, что лосевское «учение о Боге (хотя имя это не названо нигде) нигде не подменяется учением об идеальном космосе, а восприятие космоса как живого целого (софиологическая концепция) решительно отделено от отождествления этого космоса cosmos noetos с Абсолютом». В. В. Зеньковский поражается «мощью дарования», «тонкостью анализа» и «силе интуитивных созерцаний, воплощаемых в лице Лосева».[119]
В 1957 году философские «утверждения» (afermazioni) Лосева, собственно говоря, его идеи, были признаны «вне всякого сомнения гениальными»,[120] но обреченными в Советской России на одиночество.
Шли годы, а ранние книги Лосева помнили, над ними размышляли не только философы, но и богословы. Ученый-богослов архимандрит Евфимий (Григорий Вендт), ровесник русского философа, ушедший, будучи офицером, с Добровольческой армией на Балканы, а затем – священник в Париже и слушатель знаменитого Богословского института им. преподобного Сергия, специально занимался «Философией имени» и написал на эту тему большой, очень сложный труд. О нем сообщила нам в 1969 году Жаклин Грюнвальд, с которой мы среди наших ближайших друзей счастливо встречали новый, 1970 год. В 1989-м Жаклин, ставшая матушкой Анной в православном монастыре во Франции в Бюсси (Bussy-en-Othes), прислала мне ксерокопию этого сочинения. Так вот, о. Евфимий в 1971 году в Вестнике Русского Студенческого Христианского движения опубликовал статью, в которой смело поставил в один ряд о. П. Флоренского, о. С. Булгакова и А. Ф. Лосева, назвав их троих «Учителями церкви, представителями русской святоотечности».[121]
А еще позже, когда А. Ф. было уже около 90 лет, выдающийся русский богослов, переводчик Дионисия Ареопагита о. игумен Геннадий Эйкалович, давний почитатель Лосева, назвал его «самым крупным русским гуманистом и философом настоящего времени» и написал статью «Шесть онтологических тезисов Платона в интерпретации А. Ф. Лосева».[122]
К 90-летию философа исследователи его творчества М. Хагемейстер и профессор А. Хаардт переиздали в Мюнхене «Диалектику художественной формы», книгу «одного из самых значительных русских философов и филологов XX века».[123]
Шли годы, и А. Ф. уже не было на свете, и тут-то стали выходить вновь его опальные книги, которые были изданы им с 1927 по 1930 год. Вышли они в сочинениях Лосева (изд. «Мысль») в больших томах вместе с архивными материалами – в 1993–1999 годах – в течение шести лет (не говорю уже об отдельных изданиях). Самая замечательная книга «Диалектика мифа» оказалась переизданной несколько раз. В 1994 году она вышла на немецком языке в Германии.[124]
Значит, не зря молодой философ в далекие 20-е годы трудился над своими любимыми книгами. А вот слышать о том, что где-то за пределами России его знают, ценят, почитают, А. Ф. не хотел. Для него, на пороге жизненного предела, это было слишком поздно, да и с точки зрения вечности не нужно. Но все-таки писал эти выстраданные умом и сердцем книги А. Ф. не напрасно.
Лосев как будто не слышал осуждающего шепота вокруг себя и подозрительных слухов. Он был полон идей. В самые дни арестов 1925 года ему пришла в голову мысль издать перевод Платона в нескольких вариантах, по-старинному «изводах», в шеллинговском понимании, с позиции Гуссерля, о. П. Флоренского и других философов. В «Очерках античного символизма и мифологии» Лосев прекрасно изложил и прокомментировал главные вехи в изучении Платона. В этой книге нашли свое место Гегель, Э. Целлер, П. Наторп, Гуссерль, о. П. Флоренский и другие исследователи Платона. Но идея о столь завлекательном издании Платона погибла.
«Философии имени» предшествовали и сопутствовали многочисленные доклады А. Ф., связанные с проблемой Имени Божия.[125] Кроме того, Лосев готовил книгу об именах Божиих (сохранился ее план из восьми пунктов). Из дошедших до нас тезисов одни имеют обобщающий характер – «Школа имяславия», «Имяславие, изложенное в системе», доклад 17 ноября 1922 года об определении имени; другие – связаны с историей имяславского движения в России («О книге „На горах Кавказа“», 1923 год, «Краткая история имяславия 1907–1921 гг.», доклад 1925 года).
В лосевском архиве сохранились доклады к истории вопроса от античности до великих Отцов Церкви («Философия имени у Платона», 1922 год, «Эллинизм и христианство», 1924год, «Учение Григория Нисского о Боге», 1922 год, «Спор об именах в IV в. и его отношение к имяславию», 1923 год). Итог размышлений об Имени Божием выражен в «Тезисах», отосланных в 1923 году о. П. Флоренскому и правленных о. Иринеем, афонским старцем.
Есть доклады, специально ориентированные на паламитскую проблему сущности и энергии («Анализ религиозного сознания» – возможно, 1923 год, «Об Имени Божием и об умной молитве», 1925 год, «О сущности и энергии имени», 1925год). Проблема Софии изложена в 11 тезисах о Софии, Церкви, Имени. Ряд заметок и записей тоже свидетельствует о большой подготовительной работе к задуманной книге («Дионисий Ареопагит „О церковной и небесной иерархии“», «Заметки об употреблении Имени Божия в Новом Завете», заметка о Константинопольских соборах в связи с учением святого Григория Паламы о Фаворском свете). Некоторые тезисы поражают широтой охваченных проблем (например, «Учение о мире, творении и твари и наука»), связующих религию и науку.
На размышления об Имени, сущности, энергии, Софии не хватало времени в докладах и беседах днем. Велись разговоры ночью. Так, в дневнике Валентины Михайловны от 4 декабря 1925 года фиксируется ночная беседа А. Ф. с его другом, известным литератором В. Л. Комаровичем о Софии. В этом ночном разговоре А. Ф. четко отграничивает свое понимание Софии от понимания Вл. Соловьева и о. Павла Флоренского. У них София – тварь, чуть ли не равнозначная четвертой ипостаси, у Лосева София – премирное Тело Божие. В ней Бог осуществляет себя. Даже если бы мир не был сотворен, София оставалась бы Телом Божиим. Здесь полное совпадение с тезисами А. Ф. о Софии, церкви, имени, изложенными им в 11 пунктах.
Спорят о православии и его отношении к браку, о пришедших к христианству из других религий, о религии и искусстве (можно ли в воскресенье после литургии слушать Вагнера?), о положении Церкви и ее расколе.
Валентина Михайловна сдает магистерские экзамены и переписывает от руки Правило Зосимовой пустыни об избавлении от плотских страстей (для о. Мельхиседека из Зосимовой),[126] делает задания для школы (никак ее не бросит), исследует атмосферу Марса для В. Г. Фесенкова и ходит через день по типографиям.
Есть еще одна важная задача. Записывать жизнь старца о. Давида (Дм. Ив. Мухранова), знаменитого афонского архимандрита. Они с о. Иринеем и другими братьями были высланы за имяславие с Афона еще перед Первой мировой войной, отлучены от службы, но потом суд Московской Синодальной конторы оправдал главных зачинщиков этого «мятежа», разрешил служить в определенных московских приходах.[127] Батюшка о. Давид – духовный отец и наставник Лосевых, к нему со всеми невзгодами идет Валентина Михайловна. Живет он у одной благочестивой духовной дочери, Екатерины Ивановны,[128] в окружении заботливых, но спорящих из-за любви к о. Давиду матушек и монахинь. Валентина Михайловна мечтает после смерти о. Давида напечатать его житие. Батюшка против записи его слов: «бес подглядит», но Валентина Михайловна не слушает батюшку. Она вообще очень своевольна, несмотря на послушание у любимого старца и желание смириться. Удается ей это плохо, ибо она, по словам о. Давида, «мир с Богом соединить хочет». А это для монаха немыслимо. Он призывает свою духовную дочь к терпению, приводит в пример собственную жизнь. Оказывается, трижды хотел наложить на себя руки. Трудно бороться с мирскими искушениями и страстями. От них не так-то просто уйти. Вот о. Давид возлагает на голову Валентины Михайловны крест Афонский со святыми мощами. Утешает – нельзя помнить все свои грехи, отдельно каждый. Бес тогда одолеет; и думать непрестанно о грехах нельзя – впадешь в уныние, а это самая радость для беса. Бог посылает искушение по силам, говорит он. И помыслов, учит о. Давид, не надо бояться. «Врагу приятно, что боишься. Пусть идут. Пройдут» (14/I—1926). Учит о. Давид Иисусовой молитве Алексея Федоровича и Валентину Михайловну. Сначала по пять минут, следуя правильному дыханию, а потом и дольше, и «на сердце» переводит.
Хорошо говорит монахиня Степанида (она при о. Митрофане), что, кроме исповеди и отпущения грехов, еще нужно покаяние: «Все, что взыщете с верой, – придет». И молиться надо так: «Хочу или не хочу, спаси меня». Усмирить себя советует о. Давид Валентине Михайловне молитвой и поклонами. Назначил ей 300 молитв Иисусу Спасителю, 200 – Богоматери, 30 земных поклонов – Иисусу, 20 – Богоматери. Молитву только вслух, чтобы «шла по всем суставам».
Идет своя научная, философская жизнь, своя церковная, семейная, духовная. Именно такая духовная общность, «крепкое родство не по крови, а по духу» (10/V—1928) связывает Лосева с имяславцами, со знаменитым математиком, президентом Московского математического общества Д. Ф. Егоровым, с богословом М. А. Новоселовым, философом В. Н. Муравьевым, с о. Феодором Андреевым и его супругой Наталией Николаевной (из Ленинграда), математиком Н. М. Соловьевым, его сыном экономистом С. Н. Соловьевым, математиками, совсем молодыми В. Н. Щелкачевым, П. А. Черемухиным, В. Л. Олсуфьевым, университетским товарищем Н. В. Петровским, А Б. Салтыковым и его кузеном A.В. Сузиным, Г. А. Рачинским, бывшим председателем Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, профессором математики и физики Н. Н. Бухгольцем, владыкой Феодором (Поздеевским), священниками И. А. Сверчковым, о. А. Воронковым (непреклонным антисергианцем), B.Д. Лиорко (будущей супругой писателя М. М. Пришвина), ученицей Лосева по Институту Слова, артистом М. Н. Хитрово-Крамским, искусствоведом Н. М. Тарабукиным, филологом Н. М. Гайденковым, поэтом Г. И. Чулковым, другом Вячеслава Иванова.
Лосевы – активные антисергианцы, держат сторону митрополита Петра (Полянского), патриаршего местоблюстителя с 1925 года, гонимого и скитающегося по тюрьмам (помню, как А. Ф. рассказывал об его ссылке в какое-то страшное место под зловещим названием Хэ – как будто издевательская ухмылка). Они на стороне первого кандидата на должность патриаршего местоблюстителя митрополита Кирилла (Смирнова) – тоже в арестах и ссылках. Оба – Петр и Кирилл – погибнут в 1937 году. Обоих расстреляют.[129] Лосевы связаны с насельниками Данилова монастыря во главе с епископом Феодором (Поздеевским),[130] отложившимися от митрополита Сергия, и с насельниками Зосимовой пустыни.[131]
Имяславие стало для Лосевых не только настоящим исповеданием веры, но и основой научных трудов А. Ф. об имени, хотя по цензурным обстоятельствам Имя Божие в «Философии имени» вообще не упоминается. Еще в 1922 году начали собираться приверженные к этому высокому духовному религиозному движению на квартире у Лосевых. Она была удобна тем, что помещалась на антресолях (вполне изолированно) квартиры родителей Валентины Михайловны. Были встречи и на квартире у П. С. Попова, сотоварища А. Ф. по университету. Именно у него дома познакомился А. Ф. с Н. М. Соловьевым, главным пропагандистом и ревнителем имяславия. Там однажды читал имяславский доклад о. П. Флоренский. К 1923 году относятся как раз имяславские тезисы богословского характера, направленные Лосевым о. П. Флоренскому, которые правил о. Ириней (Цуриков). Сохранился и черновик этих тезисов, несколько отличающийся от белового текста. В дальнейшем встречались и у профессора Д. Ф. Егорова, тоже старого имяславца. Приходили на эти собрания Н. В. Петровский, товарищ Лосева по университету, В. Н. Муравьев, сам Н. М. Соловьев, А. В. Сузин, Д. Ф. Егоров, Г. И. Чулков, инженер Ф. Г. Пономарев, художник В. А. Баскарев, артист М. Н. Хитрово-Крамской, профессор Н. Н. Бухгольц, Г. А. Рачинский, П. С. Попов. Бывали и монахи-имяславцы с Афона – о. Давид, о. Манассия и о. Ириней (соборный старец Пантелеймонова монастыря на Афоне). Монахи-имяславцы служили в часовне на Таганке и там поблизости жили, кроме о. Давида.
Именно на этих собраниях делал А. Ф. свои доклады, тезисы которых, как мы знаем, сохранились в его архиве. Их около тридцати. Там же читал доклад Н. М. Соловьев «Перед кем должен был каяться патриарх Тихон». В докладе главной темой был тезис: покаяние Тихона не перед советской властью, а перед имяславцами. Патриарх возобновил в 1918–1923 годах запрещение Св. Синода, хотя имяславцы подавали челобитные на Собор. Н. М. Соловьев – враг компромиссов – требовал «политики патриарха Гермогена». Патриарх Тихон на требование «твердой политики» ответил, что «он Гермогеном быть не хочет» (Дело Лосева, т. 11. 4/Х—1930, л. 124).[132]
Н. М. Соловьев делал как-то доклад о Синодском послании против имяславцев в 1919 году, резко выдвигая политические моменты (23/Х—1930, л. 133). У Лосевых с Н. М. Соловьевым были расхождения в 1924 году, Лосев имел свою точку зрения, философско-догматическую, на учение об Имени Божием, и политическо-идеологический пыл Н. М. Соловьева его не мог удовлетворять. Обычно, как говорила Валентина Михайловна, разговоры их кончались «классической фразой»: «Что вы все, Алексей Федорович, философия, говорите, да диалектика! Жизнь, творчество нужно! Творчество, а не диалектика!» С женой и сыном Соловьева познакомились после его смерти. Сын – Серафим – был специалист по экономике и праву, причем считался марксистом, но и имяславцем.
Лосев был сторонником имяславия как «чисто религиозной идеи», и политика в этом деле была ему чужда, поэтому крайности современных имяславцев на Кавказе, активно занимающихся политикой, были для него неприемлемы (17/VII—1930, л. 120). (Они, например, отказывались получать паспорта, распространяли антисоветские листовки и совершали другие акты гражданского неповиновения.)
Дело о реабилитации всех имяславцев, так и заглохшее в годы революции и на Поместном Соборе 1918 года не поставленное, все еще не было забыто. Афонские старцы о. Манассия и о. Давид еще в 1923–1924 годах напрасно ожидали решения патриарха.
Было составлено кружком московских имяславцев даже нечто вроде Отречения от Синодского послания 1913 года, и к нему присоединился епископ Ювеналий,[133] но от патриарха не отошел. Валентина Михайловна тоже подписала это отречение от Синодского послания, но лично с Ювеналием не встречалась, а Лосеву с Егоровым и Соловьевым пришлось быть у епископа Ювеналия, хотя он этого и не очень хотел, понимая бесполезность этого дела. Самое интересное, что запрещение патриарха было формальное и он сам лично служил в храме вместе с о. Давидом (16/III—1981, л. 246). Правда, не забудем, что в свое время Синодальная контора в Москве оправдала о. Давида и ряд главных «мятежников». Патриарха Тихона посетили Д. Ф. Егоров и Н. М. Соловьев, но патриарх не принял во внимание их прошения решить окончательно дело пострадавших еще при царском Св. Синоде и митрополите Антонии Храповицком (24/VII—1930, л. 115).
Однако как ни старались Лосевы остаться на путях чисто догматической проблематики, но неминуемо их имяславие соединилось с антисергиевским движением[134] (хотя отложившиеся от Сергия вовсе не были обязательно имяславцами и даже совсем не принимали имяславия, как, например, митрополит Иосиф (Петровых).[135]
Сохранился в Деле А. Ф. Лосева замечательный документ, являющийся, можно сказать, неким «Символом веры» имяславцев, собиравшихся вокруг Егорова и Лосевых (л. 218–219).
Он начинается словами «Во Имя Отца и Сына и Св. Духа». Следуя апостольскому завету «держать предание», «ревнуя о чистоте святой православной веры, ныне поругаемой и гонимой, исповедуем сие». Далее идут пять пунктов, из которых второй включает в себя еще три (сразу видно, что составлял Лосев, да и почерк его собственный). Здесь говорится о бедственном положении Церкви, об ее «духовном оскудении», о послании Св. Синода от 18 мая 1913 года, «официально закрепляющем впадение ее в ересь», направленную против почитания Имени Божия. Документ излагает все три лжедогмата, провозглашенных этим посланием. А именно: Имя Божие не в молитве, а «на деле» есть «только имя, а не сам Бог и не Его свойства, название предмета, а не сам предмет» и не есть «энергия Божия». И чудеса не творятся Именем Божиим, и святые таинства совершаются не Именем Божиим, «а по молитве и вере Церкви», от ее лица.
А. Ф. Лосев и его сотоварищи утверждают здесь свою веру и свое исповедание, что Имя Божие чудно по существу, свято само в себе, славно и препрославленно есть, а Слава Имени Божия вечна и бесконечна, как Бог, – сопровождая эти утверждения ссылками на великих святителей. Посему, если сказано: «Да не будут тебе бози инии, разве Мене, то и Имя Божие, поелику в Церкви славится и восхваляется, не должно быть отделяемо от Существа Божия: как веровала и исповедовала Вселенская святая Православная Церковь, всякое слово Божие, произнесенное устами Божиими, есть Бог, равно так и всякое Имя Божие, изреченное устами Самого Бога, есть Бог.
И сию веру нашу в Слово Божие и во Имя Божие утверждаем собственноручною подписью». Так кончается это исповедание истинно православной веры, как бы завершая споры средневековых схоластов реалистов и номиналистов, нынешних диалектиков-идеалистов и механистов-позитивистов.
Под этим замечательным документом стоят собственноручные подписи:
Дмитрий Егоров, профессор Московского университета.
Алексей Лосев.
Николай Соловьев.
Александр Сузин.
Павел Попов.
Валериан Муравьев.
Валентина Лосева.
Артист М. Н. Хитрово-Крамской.
Николай Бухгольц.
Григорий Рачинский.
Здесь подписи людей ученых, математиков, физиков, философов, психологов, историков, почтенных и молодых, и среди них – человек искусства – дворянин родом из Орловской губернии Крамского уезда.
Судьба всех их (за исключением к 1930 году скончавшихся Муравьева и Соловьева) объединится в Деле № 100256.
Документ этот написан с определенной долей стилизации под старину и даже по старой орфографии, отмененной в 1918 году. Даты под документом нет, но он относится несомненно к году 1922-му, когда все еще ожидалось решение по делу имяславцев самим патриархом Тихоном. Кроме того, по показаниям П. С. Попова, он с Лосевым домами не встречался с 1924 года, имея только деловые отношения в ГАХНе.
Егорова Попов перестал видеть с 1923 года, Соловьева он обвинил в фанатизме, а монахов, участников имяславских собраний, назвал «необразованными стариками, с которыми и говорить нечего» (25/IV—1931, л. 730, т. 2). «Домами же оба» не встречаются, по словам Лосева (допрос 2/VI—1930, т. 2, л. 565), ввиду инцидента на романической почве, бывшего у него с Валентиной Михайловной (которая, добавим, его притязания отвергла и всю жизнь видела в нем предателя былых идеалов).
К 1925 году в Москве из афонских монахов-имяславцев остался о. Давид, а из кружка имяславского – Лосев, Соловьев и Баскарев, к которым присоединился В. Л. Олсуфьев (не граф). Перестали участвовать в кружке Бухгольц, Сузин и Муравьев, хотя последние двое продолжали свое знакомство с Лосевым. С Бухгольцем встречались на Арбате в церкви Николы Плотника (там служил о. Вл. Воробьев), Валентина Михайловна работала с ним в школе и на курсах при Педагогическом институте в 1922–1923 годах. В 1929 году умер Олсуфьев; от кружка остались Егоров, Лосев, Баскарев. Собирались у Егорова. Большею же частью сидели вдвоем Лосев с Егоровым и читали Брянчанинова и о. Иоанна Кронштадтского об Имени Божием (16/III—1931, свидетельство В. М. Лосевой).
Современники много десятилетий спустя будут помнить письмо митрополита Петра (оно распространялось среди верующих). Местоблюститель патриарха Петр[136] просил Сергия не нарушать единства Церкви, помнить, что Церковь жива кровью мучеников, а не земным процветанием. Патриарх Тихон, по его словам, жил «под удавлением», а митрополит Сергий говорил: «Весь вопрос в том, кто кого обтяпает», государство или церковь. Сергий потребовал от Агафангела отказа от местоблюстительства. Не дождавшись от него ответа, собрал епископов и лишил его права, установленного патриархом Тихоном.[137] Нового раскола Церкви опасались видные деятели-имяславцы. Так, М. А. Новоселов считал, что Церковь одна, но «не забывайте крови мучеников и пронесите свидетельство до будущего церковного собора, который нас рассудит, если только не кончится история и не рассудит уже сам Господь».[138]
С антисергианцем епископом Варфоломеем (Ремовым), который тоже погибнет,[139] Лосевы занимались древнееврейским языком, читали Ветхий Завет, псалмы Давида. Тяжелые споры приходилось вести с М. Ф. Мансуровой (урожденной Самариной) и ее мужем о. С. Мансуровым (скончался в 1929году), людьми очень близкими, но примирительно настроенными к митрополиту Сергию: пусть под пятой государства, но как-то сохраниться церковным людям и иерархам, спасти Церковь.
Но как мог спасти Церковь высокий иерарх, который, будучи членом Св. Синода, грубо нападал на имяславцев, бросал на пол разорванную бумажку с именем «Бог» в доказательство того, что Имя Божие никакого сущностного отношения к самому Богу не имеет. Да и вообще спасение Церкви не дело человеческих рук, знали Лосевы, а дело Божие. Но кровь мучеников, о которой напоминал М. А. Новоселов, взывала к небесам и только укрепляла здание Церкви, как это было еще во времена гонений на первых христиан.
А. Ф., находясь в заключении, сделал важное признание, как раз памятуя о крови мучеников. На допросе 17 июля 1930года (л. 118) А. Ф. прямо заявил: «Я – верующий человек. Я бы не сказал, что я целиком принадлежу к какой-либо организации в православии. К течению, которое возглавляет митрополит Сергий, я не могу принадлежать в силу тех причин, в числе которых находится, между прочим, и мое отношение к нему как к личности, и мой взгляд на его политическую платформу по отношению к советской власти и многое другое. Я считаю, что митрополит Сергий в своей политике по отношению к соввласти неискренен, и по отношению к власти и по отношению к Церкви. По отношению к власти он неискренен в том, что заверяет ее в лояльности всей Церкви, в то время как в Православной церкви есть еще много элементов, относящихся к советской власти антисоветски. По отношению к Церкви его неискренность заключается в том, что Церковь не получает никакого облегчения в ее тяжелом положении».
Однако дела церковные были достаточно сложные, так что Лосев не считал себя официально принадлежащим и к течению сторонников митрополита Иосифа, антисергианца и вместе с тем «ненавистника» имяславия. Сторонники Иосифа стоят за непримиримое отношение к властям, но они «поступают искреннее, чем митрополит Сергий, и вот эта-то искренность и привлекла меня к ним», – говорил профессор Лосев (17/VII—1930). Что касается отложенческого течения, возглавлявшегося епископом Гдовским Димитрием (Любимовым), то его активно поддерживали о. Ф. Андреев, профессор Бриллиантов, Мансуров (отец) и Новоселов, который воздействовал на Димитрия, «ссылаясь на меня лично, на мой авторитет, на мое мнение», – говорил Лосев на допросе. И он этому последнему течению «сочувствовал», но «это течение не было „моим“» – так заключил А. Ф. свои ответы на вопросы, поставленные 23 августа 1930 года (л. 122).
А. Ф. прекрасно знал расстановку церковных сил в связи с антисергиевским движением. Были попытки Новоселова склонить на свою сторону известных священников о. Вл. Воробьева, С. Мечёва, А. Гомановского, архимандрита Серафима (Битюгова), но эти трое последних опасались примкнуть открыто к движению против Сергия и оказались сначала «межгрупповцами», хотя в дальнейшем и они воздержались от общения с Сергием. С другой стороны, твердо держались Димитриевского течения такие московские священники, как о. В. Свенцицкий и о. Александр Сидоров.[140] От Сергия в 1928 году отложились ярославские епископы во главе с митрополитом Агафангелом, Серафим Угличский, Алексий Воронежский (Буй), епископы в Твери, Серпухове. Были случаи отхода и возвращения буквально через несколько дней (епископы Григорий Лебедев, Серафим, Гавриил), о чем свидетельствовала Н. Н. Андреева, вдова о. Ф. Андреева (21/II—1931, л. 261 об.).
Антисергиевскую политику проводил киевский священник и духовный писатель о. А. Жураковский, в то время как экзарх Украины митрополит Киевский Михаил (Ермаков) был солидарен с Сергием.
Мысли о «спасении гибнущей родины», в котором главную роль может сыграть Церковь, не раз появлялись у Лосева и его друзей, но ни в какую политическую позицию они не воплощались, оставаясь в сфере чисто религиозной и догматической (24/XI—1930). Круг Новоселова – Лосева не создавал никакого церковно-политического центра и задачи себе такой не ставил. Однако Новоселов активно распространял пропагандистские брошюры, писал письма своей пастве, вел переговоры с епископом Димитрием, устанавливал связь с приходами Ленинграда, рассылал документ под названием «Большое имяславие», в котором соединились цели имяславия и антисергиевские.
А. Ф. Лосева с Д. Ф. Егоровым этот документ «покоробил» некоторыми антисоветскими местами. Но тем не менее В. М. Лосева отправила «Большое имяславие» в Ленинград с одобрительным отзывом (З/Х—1930, л. 128). А это уже означало практическую деятельность, и круг Лосева – Новоселова объективно начинал играть роль некоего руководящего центра.
А. Ф. Лосев заявлял: «Я не мещанин, не мог свои взгляды не проводить практически» (23/Х—1930, л. 134).
Однако практика эта была до невероятия наивна. Чего стоили, например, откровенные записи в дневниках В. М. Лосевой. Уже они одни составляли криминал, тем более что в дневниках фигурировало множество лиц и фактов. Удивительно, что эти дневники остались нетронутыми при обыске. А чего стоили, наконец, наивные шифровки при переписке с Ленинградом, где вместо «Лосев» писали «профессор», где Новоселов был «дядей» или «гостинькой», ГПУ именовалось «Глафирой Петровной», «заболеть» означало попасть под арест, а измена обозначалась как «переход в другой трест», «харьковский гостинец» означал какую-нибудь бумагу по церковному вопросу, «попурри» из фрагментов означало новое сочинение Новоселова (21/VII—1930, л. 222). Вот пример шифрованной новоселовской телеграммы: «Сообщите дедушка ослабел переехал в Сокольники неужели с согласия Симы Очень беспокоимся Федя». Это, оказывается, митрополит Агафангел склонялся на сторону Сергия, а епископ Серафим Угличский уговаривал его отложиться.
Все эти «тайные отношения» с Новоселовым, с которым В. М. Лосева познакомилась (по ее показаниям) незадолго до 1927 года в церкви на Поварской в Ржевском переулке, были тоже ни для кого не секретом. Валентина Михайловна исполняла с радостью много разных поручений Новоселова.[141] Через него знакомилась со многими, независимо от Лосева, так как у Новоселова была «страсть» сводить друг с другом людей, до того незнакомых. «Новоселов как личность производил сильное впечатление», «трогала его беспомощность», его «моральное величие». Он был «организатор приходской жизни», хотя к определенному приходу не принадлежал. Ему, признавалась на допросе Валентина Михайловна, «я не могла отказать» (21/VII—1930, л. 222) и потому взяла на хранение его документы, целый церковный архив. Этот доверчивый поступок Валентины Михайловны стал роковым и для нее, и для судьбы ее приятельницы Елизаветы Федоровны Ушаковой.
После ареста Новоселова Валентина Михайловна «пришла в ужас» от всей его нелегальной литературы антисоветского характера. К тому же в доме находился еще имяславский лосевский архив, включая документы, переданные ему после смерти Н. М. Соловьева, главного поборника имяславия. Тогда решительная Валентина Михайловна, чтобы спасти все эти документы и не компрометировать А. Ф., упаковала их в портплед и отнесла к своей приятельнице по Астрофизическому институту Е. Ф. Ушаковой под предлогом ремонта в квартире. А. Ф. был возмущен этой историей, когда она стала ему известна. Но было уже поздно. Арестовали Лосева, его жену, Новоселова и среди десятков других ничего не подозревавшую Е. Ф. Ушакову, которая тем не менее получила по приговору Коллегии ОГПУ свои три года ссылки в Казахстан. Возвратившись, бедная Е. Ф. Ушакова ни с кем из круга Лосевых никогда не встречалась. В 1960 году Е. Ф. Ушакова-Шапошникова была реабилитирована на основании давних показаний супругов Лосевых о том, что Ушакова «никакого участия в антисоветской деятельности не принимала». Все-таки Лосевы ей помогли, не могли не помочь (л. 770, т. 2).
Если вдуматься поглубже, то уже только один документ «Большое имяславие» мог бы послужить поводом для ареста Лосевых. Тем более что этот «программный документ» для отложившихся от Сергия «в значительной мере» содержал выписки из сочинений А. Ф. (8/Х—1930, л. 128). и его «заметок» (22/VII—1930, л. 117). Лосев не только просмотрел этот документ по просьбе Новоселова, но и был с этим документом «согласен» (там же). Кроме того, распространялись и другие брошюры, «Ташкентская» или «Воронежская», тоже антисергиевские и тоже составленные имяславцами (причем автор последней якобы Новоселов, и она «небезызвестна» и Лосеву) (22/VI—1930 от ПП О ГПУ по ЦЧО Алексеева, п/нач. ИНФО ОГПУ т. Герасимовой, л. 203). В Деле Лосева находился и документ, составленный священником Павлом в Дивеевской пустыни, начинавшийся словами: «Св. Нифонт предрекал…» По словам Лосева, этот документ содержит идеи, «соответствующие моим мыслям о советской власти, как сатанинской, о Церкви, как борце с ней, о капитализме, как грехе» (15/XII—1930, л. 142).
«Большим имяславием» назывался документ, начинавшийся словами: «В неделю о страшном суде 6/I9 февраля 1928 года повем имя твое братии моей, посреди церкви воспою Тебя». В документе говорилось о «кровавом и мутном тумане бесовской силы, обдержащей и церковь нашу и нашу родину». «Потому мы и гонимы, что мы христиане». «Похулено и осквернено сладчайшее Имя Иисусово, и вот постигла Россию великая разрушительная война, падение и расслабление великого народа, безумие и окаянство жесточайшее сатанинского десятилетия, включая и распри церковные, разделение церковного общества на непримиримые партии и еретически-раскольнические блуждания». «Взываем мы, – обращаются авторы этого документа, – ко всем верным чадам православной церкви и умоляем выслушать наше слезное прошение и увещание».
Документ, можно сказать, опасный и антисоветский, а вот А. Ф. Лосев, признавая свою вину, считает, что участвовал в этой антисоветской организации «без особой практической деятельности» (8/Х—1930, л. 129). Да и когда же ему было заниматься практикой, «направлять Димитриевское ли или еще какое-либо течение», если «главным интересом» Лосева была наука, а «влиянию на церковное движение» он уделял «ничтожную часть» времени. Да и это влияние, которое оказывали Лосев и Егоров, шло исключительно по основным вопросам. А главное, их, как «людей прямых», «злила компромиссно-приспособленческая политика» (л. 134–136). В конце концов и это «влияние» успеха не имело, приходилось спасать родину своим философским трудом.
Лосевы держали сторону владыки Серафима (Звездинского) и его друга владыки Арсения (Жадановского), а он твердо запрещает посещать сергианские храмы, ибо Сергий «подчиняется сатане», а церковью Сергиевой управляет Тучков из ОГПУ.[142] Владыка Арсений не имел литургического общения с сергианцами, считая, как и владыка Серафим, что митрополит Сергий превысил «полномочия данной ему церковной власти».[143]
Супруги Лосевы также постоянно гостили в монастырях. Чаще всего в Борисоглебском Аносином монастыре,[144] где хранится чудотворная икона Богоматери, или в Екатерининском, где образованнейшая игуменья Елена и великолепный хор (монахинь эвакуировали из Варшавы в 1914 году). Там, в монастырях, праздник особый, туда везут подарки, все больше сладкое, монахам тоже надо подсластить трудное житие. В Аносиной пустыни (по Рижской дороге, около Снегирей) – строгий устав византийца св. Ф. Студита. Добрейшая мать Алипия, милые юные послушницы Таня (дочь профессора-медика Фомина), в дальнейшем мать Магдалина (скончалась в начале 80-х годов, ее хорошо знала Е. В. Селиванова), Любочка (племянница известного украинского писателя Нечуй-Левицкого), в дальнейшем мать Леонтия (ее хорошо знал о. Алексей Бабурин, друг нашей семьи, скончалась в конце 80-х), о. Досифей – исповедник монахинь в Аносиной – напоминает блаженного, юродствует. К нему едут на исповедь Лосевы. «Бог простит», – говорит он в ответ на сокрушения Валентины Михайловны. Из Зосимовой, куда тоже наезжали, иеромонах Митрофан, близкий человек Лосевым. После закрытия в 1923 году этой обители о. Митрофан поселился под видом родственника у Лосевых, где и был арестован 5 июня 1930 года вместе с Валентиной Михайловной. Положенные службы проходят у Лосевых дома, и о. Митрофан на 1 января 1928 года служил молебен. Посещали Гефсиманский скит вблизи Троице-Сергиевой лавры, собирались к последнему оптинскому старцу о. Нектарию (запись 1/I—1928). Совершили Лосевы паломничество в Саров и Дивеево. Хранила Валентина Михайловна список иконки Богоматери с младенцем «Знамение» (письма одной из сестер Серафимо-Понетаевского монастыря в 1879 году), наделенной благодатной силой исцеления. На Светлом озере (в той же Нижегородской губернии, где и монастыри), на дно которого ушел от разорения татар град Китеж, вступала Валентина Михайловна в споры с сектантами и, по рассказам ласково-ироничным А. Ф., – спорила успешно, доказывая правоту веры православной. Прислушивались оба, не прозвучит ли из глубин звон китежских колоколов. Вели о Китеже беседы с приезжавшим из Питера другом – В. Л. Комаровичем, который в дальнейшем издаст книгу о древней Китеже кой легенде.[145]
Валентина Михайловна ездила в 1925 году в Петербург на Астрофизический съезд. Пробыла там пять дней. Заранее продумала поездку, чтобы познакомиться с о. Феодором Андреевым (через М. А. Новоселова) и получить духовную поддержку (З/XII—25).
С Валентиной Михайловной были переданы от московских имяславцев письма и некоторые важные веши.[146] Батюшка о. Феодор и матушка – имяславцы. Он – ученик о. Павла Флоренского по Духовной академии. У него, как заметила Валентина Михайловна, «хорошее серьезное монашеское лицо» (З/ХII—1925). Именно ему написала Валентина Михайловна письмо (от 21/XI—1927) о кончине Николая Михайловича Соловьева, умершего в 53 года 17 ноября 1927 года. С ним, первым, поделилась она горем, постигшим друзей Николая Михайловича. В храме о. Владимира Воробьева у Николы Плотника была заупокойная всенощная. А. Ф. молится каждый день о покойном, читает канон по исходе души и по кафизме ежедневно, так в течение 40 дней.
«Глубокоуважаемый батюшка, отец Феодор, благословите! По просьбе дяди моего, М. А.,[147] сообщаю Вам, что в четверг 4/I7 ноября в 4 ч. 20 м. утра скончался Николай Михайлович Соловьев. Дядя очень Вас просит о нем молиться и передать эту просьбу всем его знавшим, Вашим знакомым и вообще всем православным, кому будет возможно сообщить эту просьбу. Много было врагов у Николая Михайловича и многие его осуждали, в том числе и мы, близкие ему по вере. И вот теперь думается, имеет право он сказать: «Вот все Вы меня осуждали. Ну вот теперь меня нет. Посмотрю, что Вы сделаете для прославления всесвятаго Имени Господня. Пусть у меня были ошибки, но сердце и жизнь свою святому делу отдал». Я особенно себя виноватой перед ним чувствую, так как по нерадивости своей, несобранности духовной и привязанности к миру совсем ничего для Господа не делаю. Недостатки Н. М. имею, вероятно, вдесятеро большие, а подвига его и ревности о Господе и следа во мне нет. И когда стояла у его гроба, не за него, а за себя было страшно: «Что отвечу на Суде Его?» И перед Н. М. хочется заслужить прощение: всех кого могу стараюсь просить о нем молиться. И Вас ради Христа прошу: скажите всем, кому возможность почувствуете, чтобы помолились о нем.
Помоги Вам Господи в Вашей трудной жизни. Простите, благословите и помолитесь иногда и о нас.
8/21 ноября В.Лосева».
Чувство приближающихся каких-то невиданных событий охватывает Лосевых в конце 20-х годов, а казалось бы, как хорошо, книги выходят одна за другой. Но уже давно вспоминает Валентина Михайловна слова своего брата о монастырском житии. Ищет ответа у батюшек, ученых и неученых монахов, читая «Добротолюбие», преподобного Нила Сорского, Четьи-Минеи, труды владыки Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника, о. С. Булгакова, К. Леонтьева, Вл. Соловьева…
Поиски монастыря не мешают мыслям Валентины Михайловны о высоком предназначении брака. Есть замечательная запись в дневнике Валентины Михайловны от 21 января 1926 года: «Только от о. Алексея я слышала родственные слова о браке. Схимонах, но ведь около 30 лет прожил с женой». Запомнились его слова о том, «как два родных человека смотрят друг другу в глаза, соединяется душа с душой».[148] «Великая правда в браке», – заключает Валентина Михайловна.
Никакое чтение, никакие молитвы помочь не могут в годы церковных гонений. Девочкой мечтала Валентина Михайловна о том, чтобы ее преследовали и мучили, как первых христиан. Теперь на опыте церкви Лосевы подготавливаются к собственным мучениям. Тем дороже своя родная «верхушка», антресоли в родительской квартире, своя родная келейка.
4 октября 1928 года Валентина Михайловна записывает: «Тихо, светло, горит лампада, чуть пахнет ладаном, стоят иконы Павлика Голубцова (в дальнейшем архиепископ Сергий, иконописец, друг живописца П. Д. Корина. – А. Т.-Г.).[149] На окне у меня чисто, бело, тянется к потолку дикий виноград зеленью свежею по белой раме окна. Вся тут родная наша верхушка. Ясочка, радость моя светлая, тихо, глубоко, хорошо как вместе. Благостно и тишина, образ будущего века. И кажется, что все это на том уже свете». Запись сделана в день памяти святого Дм. Ростовского. На этой записи кончается дневник.
Слишком хорошо было в тишине и благости родной «верхушки» с иконами и книгами. Вокруг идут аресты, на улицах (на Арбате, совсем рядом) «ощущение первых христиан среди капищ». «Жутко, что может не хватить сил перед стихией сатанинской, сойдешь с ума или отупеешь. Не такие люди сдаются и побеждаются. Говорят, о. Павел после этого весь разбит» – вот какую запись в этот же день делает Валентина Михайловна, и кажется ей, что предстоит мученичество, как в древние времена. «Замучают за исповедание Христа. И только хочется, чтобы уж скорее, а главное, чтобы дал Бог силы перенести с мужеством, не отречься при всем ужасе мук и умереть во Христе». Лосевы понимали, что им не жить «церковно-свободно при этой власти». «Надо уходить в пустыню самим или „идти на подвиг исповедничества“» (тогда же).
Лосевы готовы идти и в монастырь, а на подвиг исповедничества они уже пошли. Что означают книги Лосева 1927–1930 годов, как не вызов властям, как не попытку жить и мыслить свободно, пусть выраженную трудно, философским языком, нарочито сложным, но «мудрому достаточно», он поймет, а там и растолкует не слишком мудрым.
К монастырю уже готовятся давно, хотя где теперь монастырь – всех разгоняют, все закрывают, даже вслух опасно говорить, упоминают в разговоре некое условное словечко «хутор», а подразумевают монастырь. Брак, который может быть препятствием для ухода от мира, не страшит. Можно и в браке жить безгрешно, не плотски, духовно. Еще в 1925 году назревают события новой жизни. Думали так: А. Ф. уйдет в монастырь, Валентина Михайловна – в монашки (Дневник, 26/XII—1925). Даже наука отступает на далекий план: «Ведь все равно через несколько лет неизбежно в монастырь прийти» (31/I—1926). Когда А. Ф. однажды сказал о. Давиду, что надо бросить науку, тот ему мудро отвечал: «Ты не науку брось, а страсти свои брось» (см. письмо 9/III—1932). Так же и Валентине Михайловне он указывал, что на одни чувства «полагаться нельзя». Без рассуждения нельзя спасаться. «Если рассуждения нет – не удержишься» (12/I—1926). И уход от мира тоже требует разумного обдумывания. Вот ведь Валентине Михайловне в монастырь одной трудно идти. Она признается: «Не могу быть я одна в монастыре без Ясочки» (8/XI—1927). И утешает себя: «А. Ф. все определит. За ним, – пишет Валентина Михайловна, – я пошла бы на что угодно и даже, может быть, дала обет» (12/I—1926).
Иной раз бывала Валентина Михайловна в храме у о. Сергия Мечёва на Маросейке. Запомнилась особенно одна всенощная 16 января 1926 года. Запомнилось лицо о. Сергия. Хорошее, но «страшное». «Слишком значительное, слишком много духовных возможностей. Бес особенно должен ополчиться на такого человека». Захотелось даже написать батюшке. Это не то, что свой храм Воздвижения Креста Господня рядом с домом, где Лосев звонит в колокола (называли его Алексей-звонарь), или управляет хором левого клироса, или прислуживает в алтаре вместе с А. Б. Салтыковым, где, по словам свидетеля, друга В. Д. Пришвиной Олега Поля, «служба была длинная, с литией… И вдруг откуда-то иной свет… Что-то новое, сильное».[150] «Слишком значительно». Важные слова.
А вот в храме на Ильинке[151] 18 апреля 1928 года увидела Валентина Михайловна впервые обряд монашеского пострига. Ее потрясло, что среди XX века, среди всех этих радио, кино, мавзолеев, фокстротов и прочего – живет тысячелетняя традиция – совершается таинство пострига. И тут же возник разговор с близким другом, А. М., об одном «хуторе» (монастыре), который должен держаться во что бы то ни стало, сохранить свой устав, ни в коем случае не ликвидироваться добровольно, ибо «терять нечего». Что это был за монастырь, где, почему зашел такой разговор и кто этот А. М., дающий такие твердые указания?[152]
Для Лосевых «все уже и уже путь», «не уйти от монастыря», говорят оба (22/III—1926); «умирает во мне тело», – пишет Валентина Михайловна (6/XI—1927). Ей нет еще тридцати.
Но что значат все болезни, все томление духа и тела, все страдания «перед тем светом и радостью, которые идут оттого, что в Православии мы находимся и что вместе» (10/V—1928).
Они оба, Алексей Федорович и Валентина Михайловна, вместе дали монашеские обеты, приняв имена Андроника и Афанасии при совершении тайного пострига архимандритом о. Давидом 3 июня 1929 года. Что же касается монастыря, то явные монастыри были закрыты и разогнаны, а потаенный монастырь – жизнь Алексея Федоровича и Валентины Михайловны в миру.
Катастрофа, которую предчувствовала Валентина Михайловна, совершилась. Она была неминуема после выхода «Диалектики мифа», книги запрещенной, разгромленной, уничтоженной,[153] после попыток сделать контрабандные вставки из «Дополнений» к «Диалектике мифа». 18 апреля 1930 года, в Страстную пятницу, а точнее в 1 час ночи с пятницы на субботу Алексея Федоровича арестовали. Предъявили ордер на арест № 3693, задержали гр. Лосева А. Ф. в присутствии дворника Т. Ф. Пискунова, составили опись реквизируемых вещей, запечатали комнату и шкафы печатью № 23. Гр-ка Лосева-Соколова В. М. приняла комнату и три шкафа на хранение, жалоб на неправильности при обыске и исчезновение предметов не было.
Увели Лосева. Унесли лосевские книги: «Диалектику художественной формы», «Критику платонизма у Аристотеля». Зачем они понадобились?
Унесли рукописи о Вагнере, Скрябине, Н. Кузанском («Исторический контекст трактатов Н. Кузанского»), о понятии ритма в немецкой эстетике, раннее сочинение о методах и учении Вюрцбургской школы (философско-психологического характера). Забрали черновики и варианты разных книг. Кому нужны были эти рукописи и черновики работ? Особенно понятие ритма и Вюрцбургская школа. Видимо, под школой поняли какую-то тайную организацию. Разорили кабинет философа.[154]
Путь испытаний, которые так призывала Валентина Михайловна – «хочется, чтоб уж скорее», – начался в тот самый вечер, после службы, когда дал свое благословение о. Давид. Он перекрестил А. Ф. и сказал: «Да сохранит Вас Христос, да даст Вам благодать хранить истину. Прощаю, разрешаю всех здесь присутствующих и молящихся. Простите». Это было последнее свидание о. Давида и его духовного сына. Старец был тяжело болен и ожидал смертного часа. Казалось, что вот-вот и он отойдет. «Самый великий подвижник в России» – так назовет его А. Ф. Лосев (письмо к М. В. Юдиной 17/II—1934). Этот великий подвижник, прощаясь, напутствовал А. Ф.: «Всякое страдание принимай как дар любезного Отца. Кто страдает по вине, тот озлобляется. А кто страдает безвинно, тот радуется. Иди с миром» (там же).
И А. Ф. пошел с благословением афонского старца в свой арестантский путь. Валентина Михайловна осталась одна. За все время совместной жизни супруги не расставались. Теперь им, как христианам V века, супругам святым Андронику и Афанасии, надо было пожить врозь. У тех далеких мучеников тоже была потеря (умерли внезапно любимые дети), после которой они приняли постриг и жили каждый в своем монастыре 12 лет. Потом случайно встретились и в тихости прожили вместе оставшуюся им жизнь, плотски чуждые друг другу.
Великой радостью было для Валентины Михайловны получить поздравление со Светлым Христовым Воскресением от ближайшего друга Лосевых о. Александра Воронкова, чья судьба тоже вскоре завершилась арестом.[155] Получила она и письмо от давнего друга Г. В. Постникова,[156] с которым были последние два года расхождения. Теперь и это преодолено письмом. Несчастный, его судьбой тоже был и арест, и гибель. Валентина Михайловна трогательно ответила на письмо друга. Она чувствует себя без А. Ф. как «тело без души», как «былинка неприкаянная», ей и радостно (страдание за веру пришло), и скорбно. Помнит, однако, что «не по силам не дается». И хотя кончилась для нее блаженная жизнь, Господь зовет к скорбям, но утешает чувство причастности к страданиям А. Ф. С Богом никогда не страшно. Просит, молится за А. Ф. и себя, сокрушаясь и взывая: «Преподобные отче Андрониче и мати Афанасия».
28 апреля пошла в ГПУ, затем второй раз 12 мая, затем третий 18-го. Уже и месяц прошел незаметно. Показали издалека карточку А. Ф.[157] – значит, жив. Уходил, думает она, беззащитный и беспомощный. Но о. Давид причастил его Святых Тайн, осенил крестом, благословил. Значит, он имеет высоких заступников. Чего боится Валентина Михайловна, так это умереть раньше А. Ф. и не увидеть его. Молится уже не об освобождении (такое немыслимо), а о поддержке сил и души. Матушка Степанида благословила читать псалмы 26-й и 29-й. Великие слова: «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся». «Потерпи Господа, мужайся и да крепится сердце твое, и потерпи Господа». Да, надо терпеть то, что Господь посылает. Господь терпит всех нас, грешников, так и ты потерпи Господа. Боже, какие слова! Читает псалом 49-й: «И призови Мя в день скорби своея, и изму тя, и прославиши Мя». День скорби настал. К кому же обратиться, как не к Господу, к Пресвятой Троице. Душа успокаивается при чтении канона и акафиста Пресвятой Троице. Да, понимает Валентина Михайловна теперь матерей христианок, отдававших детей на муки. Своими силами не выдержать. Не свои силы, а Божий. Вот почему трудно, но по силам.
Наступает 25 мая, день святого Гермогена, патриарха Московского и всея Руси чудотворца. Уже больше месяца прошло со дня ареста. Жизнь идет, работа продолжается. Приходится ходить в Астрономический институт – там она уже научный сотрудник, аспирантура кончена. Хорошо, что в мае как-то совсем тихо в институте, а в воскресенье нет никого. Пришла в пустоту. На вечерней службе слушала канон священномученику, и сейчас вспоминаются стихиры святому Гермогену, умершему в темнице, в заточении:
«Что ми есть заточение».
А работать все-таки надо. Начала Валентина Михайловна читать лекции в Горной академии, хотя, как пишет сама, «душонка болтается». Посоветоваться тоже не с кем. Одна раздумывает о своей и общей с Алексеем Федоровичем судьбе «по ночам». Хотя «бывает жутко», но старается в молитве найти покой. Твоя да будет воля. «Спасибо Богу за все». И опять ночью вспоминает песнопение церковное о скорбях и заточении. «Не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить».
Время движется быстро. Вот уже и 31 мая, суббота. Пошла перед всенощной к батюшке о. Давиду и пробыла у него до 10 вечера. Старец тяжело болеет и жить ему, как говорят, всего месяц. Уже в третий раз его навещает смерть. Вот будто совсем уже пришла и вот вдруг ушла. Спрашивают о. Давида: «Вы, батюшка, видели, как смерть приходила?» – «Это духовное», – отвечает он.
Дома, опять ночью, в 12 часов 10 минут (Валентина Михайловна – астроном и всегда точно указывает в своих записях время, часы с минутами) открыла молитвенник. Оказалось – «Последование при исходе души». Поняла, что вскоре останется не только без единственного родного человека, но и без старца. И тут же мысль – а вдруг Господь сотворит чудо и батюшка останется жив?
Чудо не произошло. Валентина Михайловна не знала, что уже готовился ее арест вместе с о. Митрофаном из Зосимовой пустыни, что жил у Лосевых в семье. Наступило 2 июня 1930 года, и афонский старец, великий подвижник земли Русской архимандрит Давид, а для Лосевых «батюшка», свой, родной, скончался. Июня 4-го дня Валентина Михайловна и Д. Ф. Егоров (тоже духовный сын о. Давида) похоронили батюшку, сиротами остались. А 5 июня, в годовщину венчания Лосевых, произошел арест, причем буквально в тот же день, когда было издано соответствующее постановление, подписанное начальником IV отдела ИНФО Штрангфельдом и утвержденное помощником начальника ИНФО ОГПУ Герасимовой. Оба, В. М. Лосева и М. Т. Тихонов, были задержаны за активное участие в преступных действиях А. Ф. Лосева, «антисоветской пропаганде», «распространении антисоветской литературы» (автором ее является сам Лосев) и за «разжигание религиозных предрассудков».
Несколько лет сомневалась я, предполагая, что этот М. Т. Тихонов есть не кто иной, как о. Митрофан, и даже писала об этом в журнале «Начала» (1994, № 2–4), поместив там ордер на арест.[158]
Но теперь уже твердо знаю, что о. Митрофан и М. Т. Тихонов одно лицо. В Деле А. Ф. Лосева прямо об этом сказано и о том, что он из Зосимовой пустыни и что по закрытии ее в 1923-м перебрался к Лосевым и жил там под видом старика-родственника. Из этого же Дела мне известно, что сначала, 28 марта 1931 года, о. Митрофан был приговорен к ссылке в Северный Край на три года, но 16 мая 1932 года его досрочно освободили и дали свободное проживание. Так разрешились мои сомнения. А чутье было правильное. Михаил и Митрофан оказались одним и тем же лицом.
Знаменитый имяславец и математик Д. Ф. Егоров тоже был арестован и сослан на пять лет в Казань, но, добравшись до Казани, там вскоре и умер в 1931 году. Не вынес. Как рассказал мне профессор В. Н. Щелкачев, замечательный человек и ученый, друг Лосевых, связанный делом № 100256, Д. Ф. Егоров похоронен на Арском кладбище рядом с могилой великого Лобачевского. Не символично ли? Оба геометры. Владимир Николаевич привел могилу Д. Ф. Егорова в порядок, побывав в Казани на научной конференции. А ведь сам Владимир Николаевич 1907 года рождения и родина его город Владикавказ, так что мы с ним земляки.[159]
Часть третья
Еще в 1929 году в «Комсомольской правде» появилась статья И. Бачелиса под длинным броским заголовком «„Бессмертные“ от мертвых идей. Академия Худ. Наук в плену у реакционеров. Требуем вмешательства пролетарской общественности» (20/II). Среди реакционеров, упомянутых в газете среди других (Габричевского, Жинкина, Недовича, Циреса), значился и Лосев. Бачелис делился с читателями своими впечатлениями от доклада А. Деборина на конференции марксистско-ленинских учреждений в апреле 1929года. В журнале «На литературном посту» в 1930 году М. Григорьев клеймил «реакционную диалектику эстетического учения Лосева» (о книге «Диалектика художественной формы»). Почва для шельмования Лосева подготавливалась исподволь.
И вот в мае 1930 года, когда Алексей Федорович уже месяц как был арестован, а Валентина Михайловна металась в одиночестве и ожидала решения своей судьбы, в Институте философии Коммунистической академии состоялся 21-го числа доклад X. Гарбера «Против воинствующего мистицизма А. Ф. Лосева» (напечатан в «Вестнике Комакадемии» № 37–38. М., 1930).
X. Гарбер занят в докладе выявлением «идейного облика Лосева», со ссылками (конечно, с передергиванием и неграмотным прочтением – все эти так называемые красные философы были безграмотны) на «Очерки античного символизма и мифологии», на книги, которые напечатаны были к
1930году и стали поводом к аресту автора.
Критик увидел здесь не только «нападение на социализм» (это правда), но «злобствование против всякого ума» и все грехи подряд: беспринципность, мистическую экзальтацию, реакционность, мистику, бредни, легкомыслие, невежественность, злобную критику, реставрацию средневековья, близость к фашистской эмиграции, обскурантизм, мракобесие, реабилитацию алхимии, астрологии, магии и т. д. и т. п.
Обвиняется Лосев в противопоставлении себя Ленину. Для Лосева Аристотель – формальный логик, а для Ленина он на подступах к материализму. «Можно себе представить, как бы Ленин отнесся к комментариям Лосева» (с. 131), – возмущается Гарбер.
Оказывается, Лосев «считает себя не то Плотином, не то Проклом наших дней» (с. 132). Обвинение замечательное и, надо сказать, к вящей славе Лосева. Да, он действительно (если угодно) и Плотин, и, что несомненно, Прокл, сосредоточивший в конце XX века всю мудрость предшествующих веков.[160]
X. Гарбера утешало одно: «буржуазия скоро покинет историческую арену», «близится момент всемирной экспроприации экспроприаторов» (любимый лозунг Ленина – «грабь награбленное!»). Вместе с буржуазией погибнет и Лосев, ибо он выражает «умонастроение самых реакционных слоев буржуазного общества» и его устами глаголют «господствующие классы былой России». Однако деятельность Лосева «не остановит всепобеждающей поступи социализма».
Как он счастливо ошибся, этот пророк, и в судьбе России, и в судьбе Лосева! Но какой у него при всем невежестве пролетарский нюх: да, Лосев действительно враг страны победившего социализма.
В итоге Лосев – «философ православия, апологет крепостничества и защитник полицейщины» (с. 144). К этому можно добавить, что в журнале «Под знаменем марксизма» (1929, ‹ 10–11, с. 12–13) в статье «О последнем выступлении механистов» (механисты – Аксельрод, Скворцов-Степанов и др.) Лосев упоминается среди «идеологических врагов марксизма-ленинизма», живущих «духовной пищей капитализма». Оказывается, «по-русски Гуссерль читается Шпет, Фрейд – скажем, Ермаков, а Бергсон – Лосев». Диалектики во главе с Дебор иным критикуют Лосева, А. Богданова, Ш. Нуцубидзе. Но это, как видно, только начало. Ругань X. Гарбера стала кульминацией, а дальше ожидается апофеоз. Бешеная ярость врагов вполне доказала, что Лосев – и один в поле воин.
А враги тем временем во главе с Комакадемией вторгались в науку, приступили к оплоту буржуазного сознания – Академии наук, требуя ее реорганизации, изменения устава, избирались академиками.[161] Мало кто из старых членов академии мог им противостоять. Разве только Иван Петрович Павлов (академик с 1907 года), проголосовавший против Бухарина. По словам А. Ф., Павлов сказал швейцару, подававшему ему шубу: «Вот ты мне уже двадцать лет подаешь пальто. Но ты не холуй. А холуи – вот где они, – и показал на потолок, – там, наверху».
Запланировали в аспирантуру в конце пятилетки принимать 95 % членов ВКП(б) (тот же сб., с. 156), рабочих не 20 %, как раньше, а все 70 %. Отныне набором аспирантов и методологическим их руководством стал заниматься Институт философии Комакадемии. Сталин провозглашался «лучшим знатоком Ленина», «самым последовательным учеником и проводником его идей» (с. 135). И это провозгласили ученые-холуи. Даже О. Ю. Шмидт, настоящий ученый,[162] в своем докладе «Проблема научных кадров» скромно признался: «Орабочить научный состав на 100 % мы, конечно, не можем». Однако «после завершения культурной революции (вот где уже встречается этот термин, якобы привилегия китайских фанатиков-коммунистов. – А. Т.-Г.)… при исчезновении грани между умственным и физическим трудом – исчезнет также грань между ученым и неученым» (с. 13). Лосев на сплаве леса как раз вполне доказал «стирание» этих граней. К тому же у нас «сняты религиозные путы», а в Европе они «сковывают науку» (с. 16). Да, путы сняли. В год «великого перелома», 1929-м, началось новое жесточайшее преследование церкви и разорение монастырей. Надеется выдающийся ученый О. Ю. Шмидт, что «предстоящий XVI партсъезд» примет ответственное решение по «вопросам революционной борьбы и социалистического строительства» (с. 14).
И XVI партийный съезд не заставил себя долго ждать. На этом съезде на утреннем заседании 28 июня 1930 года делает доклад Лазарь Моисеевич Каганович. В разделе «Обострение классовой борьбы и организация политической активности масс», задавая вопрос о недостатках в работе этой сферы, Каганович признает наличие таковых недостатков. Классовая борьба обостряется «по линии культуры, по линии литературы». За примером не надо далеко ходить. Он на виду у всех. В газете «Правда» помещены рецензии на семь книг (не поленились!)[163] «философа-мракобеса» Лосева. Главлиг разрешил к печати последнюю книгу этого «реакционера и черносотенца» (уже и черносотенец, что-то новое) «Диалектику мифа». Кстати сказать, в заключении Главлита, сделанном цензором (он же сатирик-баснописец) С. А. Басовым-Верхоянцевым,[164] значилось: автор «трактата» – «совершенно чуждый марксизму (идеалист)». Но разрешение было все-таки дано, «разве только в интересах собирания и сбережения оттенков философской мысли». Это те самые «оттенки», о которых на XVI съезде возмущенно вспомнил драматург Киршон. Автор – «наглейший классовый враг, но книга, к счастью, не увидела света».[165]
Каганович пустился приводить примеры из этого «контрреволюционного» и даже «мракобесовского» произведения. Фрагменты о дыромоляях, диамате как «вопиющей нелепости», колокольном звоне, монашестве, об отношении коммунизма к искусству, а также знаменитое «ты, дяденька, вор и разбойник» и «долбежку» о «возможности социализма в одной стране». Кто-то из специалистов подбирал примеры со знанием дела.
С места раздавались голоса заинтересованных подхалимов: «Кто выпускает? Где выпущено? Чье издание?» Вспомнили резолюцию Главлита «о некоторых оттенках» этой книги. А чуть позже возмущенный драматург Вл. Киршон в своем выступлении выкрикнул: «За такие оттенки надо ставить к стенке!» И напророчил – собственный расстрел.[166]
Ответом на слова Кагановича об «узде пролетарской диктатуры» для наглейшего врага прозвучали подхалимские возгласы из зала: «Правильно!»
Не последнюю роль в аресте Лосева сыграл также Деборин. Лосев прямо утверждал (л. 183, т. 11), что «вражда Деборина» к нему «как к философу» носила «личный характер», хотя сам Лосев с Дебориным не был знаком. Это «вражда на расстоянии». «Деборин совершенно нетерпим». «Он изгнал Аксельрод»… «так же нетерпимо он относится и ко мне». Лосев даже думал пойти к Деборину с попыткой примириться, но ему отсоветовал, указав на «безнадежность такой попытки», философ Асмус, «человек наиболее талантливый из Деборинской группы». Этот «молодой профессор-марксист» посещает Лосева, но свои посещения он «из опасения преследования, по-видимому, тщательно скрывает». Асмус пришел к Лосеву «по своей инициативе». Он знаком с трудами Лосева и хотел с ним лично познакомиться. Асмус «полностью солидарен» с философскими взглядами Лосева, к религии «относится с уважением». Возможно, что Асмус не один, но многие «боятся выявить свое отношение» к Лосеву, так как Деборин «за ними очень следит».
В результате травли, поднятой марксистами и Дебориным, уже арестованный Лосев пришел к выводу, что «чистая наука» в советской стране игнорируется, а там, за границей, его, философа-идеалиста, «знают и ценят больше».
Выступлений политического характера Лосев не делал. Он занимался античной классикой, хотя иной раз говорил резкости в своих книгах и рукописях, а однажды в ГАХНе при обсуждении доклада Алыпванга указал на общие черты (но и различия) фашизма и коммунизма. Но политику он вообще не терпит, марксизм же для него «не есть научный метод», а религия есть «социологическая реальность». К атеизму он относится «отрицательно», в «искренность атеистов не верит», а «обновленчество и вообще считает „барахлом“ и „заигрыванием с властью“» (л. 185).
Ну как здесь было не возмутиться благонамеренным гражданам? К этим голосам возмущения против Лосева присоединился еще один, постыдный – великого пролетарского писателя Максима Горького. Под скромным названием «О борьбе с природой» в газетах «Правда» и «Известия» от 12 декабря 1931 года, когда Лосев уже был на лагерной стройке канала, М. Горький в качестве примера «особенно бесстыдного лицемерия из числа буржуазных „мыслителей“», защитников христианства и «изуверства церкви Христовой», приводит выдержки из «рукописной копии нелегальной брошюры профессора философии Лосева „Дополнения к диалектике мифа“».[167]
Горький приводит две выдержки из «Дополнения»: о конце России, когда народ ее перестал быть православным, а также краткую характеристику рабочих и крестьян, рабов в душе и сознании. Любопытно, что последняя относится к мнению Платона о работниках в идеальном государстве, но Горький переадресовал ее Лосеву. В статье Горького профессор Лосев именуется «идиотом», «безумным» и «очевидно малограмотным». Не стыдно было всезнающему Алексею Максимовичу Лосева не читать. Вот Пришвин читал «Античный космос и современную науку». Но ведь Горький больше пребывал в «прекрасном далеко», хотя и это не извинительно. Каких только книг ему туда не посылали! А в 1931 году, да еще в конце года, он находился в Москве. Зато с Лосевым встреча была так возможна и так близка на канале, когда Горький ездил туда в познавательно-увеселительное путешествие с группой писателей (были там среди многих Всеволод Иванов с супругой и Михаил Зощенко!). Но больше водили Горького знакомиться с уголовниками (это ему ближе) – те перековывались, а не к философам и вообще интеллигентам, очень уж закоренелым.
Итак, профессор мало того что идиот и малограмотен, но и «слеп». Да, Алексей Максимович, Лосев действительно начал слепнуть на стройке канала. Вы угадали. Профессор «морально разрушен злобой». Делать ему, как всем «мелким, честолюбивым, гниленьким людям», нечего в стране «строителей социалистического общества», где «создается новая индивидуальность». Такие люди, как Лосев, «опоздали умереть», но «гниют и заражают воздух запахом гниения».
Что же делать с Лосевым? – возникает вопрос после чтения этой злобой пышущей инвективы. Не высылать же его за границу, как выслали две сотни интеллигентов в 1922 году, как вышлют А. Солженицына в 1974-м. Чересчур роскошно. А с ним сделали то, что надо. «Молодой хозяин, рабочий класс» в лице ОГПУ отправил Лосева в архипелаг ГУЛАГ, пока самого этого хозяина еще не пришло время расстреливать. Время это, не сомневайтесь, вскоре придет. Не забудет оно и автора лозунга «Если враг не сдается, его уничтожают» – М. Горького. В 1936 году Горький, не без содействия властей, расстанется с жизнью, а профессор, которому великий писатель грозил петлей, доживет до 95 лет, напечатает сотни трудов и при жизни будет признан классиком философии XX века.
Да, нет пророка в своем отечестве. Ошибся Алексей Максимович.[168]
Тем временем, пока Лосева проклинали, предавали большевистской анафеме, он проходил предназначенный арестантский путь. На Лубянке 17 месяцев он находился во внутренней тюрьме. В одиночке сидел четыре с половиной месяца. Последний допрос – в январе 1931 года. После 12 марта 1931 года перевели из одиночки в общую камеру.
Из консерватории Лосева удалили в 1929 году, чуяли, что творится с профессором что-то неладное. И угадали. Арестовали Лосева, слушателей и сослуживцев стали вызывать свидетелями, так же как вызывали и бывших коллег по ГАХНу или ГИМНу. По всему видно, что некоторые испугались страшно и, конечно, наговаривали на арестованного кто как мог. Да это и неудивительно. Другое удивляет – наговаривали иные, которых Лосев всю жизнь считал своими учениками или уважительно отзывался о их ученых заслугах, не подозревая истины. Да и я никогда бы ее не узнала, если бы не ходила на Кузнецкий читать Дело Алексея Федоровича.
Среди студентов были партийные и беспартийные. Так, некто Ч., член ВКП(б), студент консерватории, бывший доброволец Красной гвардии, знал профессора Лосева с 1925 года как профессора консерватории, будто бы происходившего из духовного звания, известного как крайне реакционного и религиозного. Лосев, оказывается, голосовал против назначения нового ректора Пшибышевского,[169] находясь в контакте с Жиляевым[170] и Мясковским,[171] тоже настроенными реакционно. Из допроса мы узнаем, что в апреле или мае 1929 года на какой-то «конференции при ЦК партии» говорилось о Лосеве, причем было вынесено решение заменить в консерватории реакционную профессуру.
Несмотря на все усилия, вспомнить что-то невероятно опасное по поводу Лосева свидетель не сумел и все свел к гомосексуализму, расцветшему в консерватории, указывая на тех, кто с кем-то «сожительствует», и на тех, кто может эти факты подтвердить.
Таким образом Лосев оказался, слава Богу, только реакционером в компании с Жиляевым и Мясковским. Компания оказалась недурная – три выдающиеся личности: философ-эстетик, теоретик музыки и симфонист – выступают здесь как единомышленники.
Еще один допрос некоей Т. (18/V—1930), студентки консерватории и лектора музыкальной секции райкома комсомола. Лекции Лосева слушала в 1927/28 учебном году. Читал он курс эстетических учений «с упором на древнюю философию», а студенты хотели «с упором на современность». Правда, на втором году Лосев читал уже «с упором на современность», но лекции «были неудовлетворительны», «освещались не по-марксистски». В консерваторию Лосев приходил в дни и часы лекций (видимо, это плохо, надо бы ходить каждый день), а на совете факультета бывал иногда и «обычно молчал» (а это совсем плохо). После лекций как-то обсуждали лозунг «Искусство – массам», а Лосев считал, что этот лозунг «демократический» и неприемлем в социалистическом обществе (значит, профессор разделял социализм и демократию, а это тоже плохо). О книге Фриче «Социология искусства» Лосев отозвался как о «ненаучной». В спорах «по другим вопросам», темы которых студентка не помнит, принимали участие слушатели, чьи фамилии она хорошо помнит: Лео Абрамович Мазель, Саул Григорьевич Корсунский, Александр Рабинович, Д. Житомирский и др. Свидетельница не помнит ни докладов Лосева в ГИМНе, ни в других местах. И с кем встречался тоже не помнит.
Аспирант ГИМНа, Лео М., окончивший Московскую консерваторию (в 1936–1947 годах заведовал кафедрой теории музыки), слушал Лосева в 1928/29 учебном году. Общее впечатление «у многих студентов», что Лосев «под видом марксистского толкования преподносил идеалистико-мистическое освещение» (стилистика допроса сохраняется). Одним студентам он казался «идеалистом и мистиком», а другим – «материалистом», так как «изложение его лекций носило сильно запутанный слог». Недовольные студенты стали посещать лекции Любови Исааковны Аксельрод в ГАХНе. «Преподает он совсем не то, что говорит». М. здесь ссылается на члена ВКП(б) Г., который сразу после первой же лекции признал в Лосеве «идеалиста и мистика». К тому же в «Вечерней Москве» Деборин напечатал заметку, где обозвал Лосева идеалистом. Значит, авторитет партийцев Г. и тов. Деборина был непоколебим. Как, интересно, отнесся в дальнейшем М. к тому, что Г. арестовали, а Деборин получил (от самого Сталина) официальный статус «меньшевиствующего идеалиста»?
Еще один свидетель – В. А. Ц., доцент консерватории по теории музыки. Знал Лосева с 1926 года как преподавателя, но лично знаком не был. Однако, «по слухам», «из разговоров студентов», «было очевидно, что философия профессоpa явно антимарксистская». Ц. приводит некий факт, который мог быть истолкован во вред Лосеву, хотя что могло быть хуже водворения на Лубянку. Оказывается, на докладе в ГАХНе, где указывалось на связь буржуазной музыки с фашизмом, Лосев сказал: «Идеи это одно, а факты другое. То, что по идее может называться социализмом, – на практике может оказаться совсем иным». Ц. признает, что сам Лосев «направление своей работы не скрывал», за что его исключили из ГАХНа и консерватории. В данном случае, заметим мы, лосевские немарксистские идеи и факты его независимого поведения совпали. Будущие профессора Ц. и М. – основоположники «метода комплексного анализа музыкального произведения», как гласит «Музыкальная энциклопедия» (т. 6, 1982, с. 146). Свидетелями по Делу Лосева они проявили тоже завидное единомыслие.
Как все это печально и вместе с тем как понятно. Ведь эти свидетели в общем-то были правы: Лосев – идеалист (но диалектик), антимарксист (но историко-социальный контекст обязателен), религиозный человек (но не мистик! Мистик – это о. П. Флоренский) и, страшно сказать, даже тайный монах (но они этого, к счастью, не знали). Лосев и сам признавался в этих своих «грехах» (читайте его предисловие к «Истории эстетических учений»[172]) и видел одну направляющую мировую силу «саморазвивающегося телесного духа». Так за что же мы будем судить свидетелей?
Может быть, только за то, что свои признания они делали, когда Лосев уже сидел во внутренней тюрьме на Лубянке и каждый брошенный в него камень был на руку следователям и отягощал обвинения? Ну тогда Бог им судья.
Полным диссонансом звучит с этими показаниями свидетельство профессора Б. А. Фохта (1875–1946), преподавателя немецкого языка в Институте красной профессуры. Этот человек из обрусевшей немецкой семьи, который окончил философский факультет в Германии, сам беспартийный, спокойно и объективно рассказал о своих отношениях с арестованным Лосевым.
Б. А. Фохт не испугался, не скрывал от следователя своих встреч с Лосевым на философских собраниях, прямо признал, что Лосев «в настоящие годы стал наиболее ярким представителем диалектической логики», изучая труды Платона, Плотина, Прокла и Гегеля. Профессор Фохт деликатно сказал, что «затрудняется перевести на политический язык» произведения Лосева и что сочинения Лосева (даже рукописные), касающиеся вопроса «социально-политического характера», ему не известны. Так же, как он не знает и политических взглядов арестованного. «Считаю его просто лояльным человеком», – заключил Б. А. Фохт, а религиозность Лосева «не вытекает из его философских взглядов». Книги же арестованного, «независимо от взглядов автора, приобретают большую ценность», основаны на текстах «не переведенных произведений древнегреческих философов».
Профессор Фохт был порядочным человеком, человеком чести и таким оставался в любых обстоятельствах до конца своей жизни.
Вот всего несколько примеров, а, наверное, допрашивали многих. Во всяком случае, в Деле Лосева есть большая группа привлекавшихся более серьезно, но не ставших однодельцами А. Ф., хотя иные из них были арестованы в дальнейшем и попали в соучастники других дел, сфабрикованных Лубянкой (например, историк-византинист Бенешевич[173]).
Следствие длилось, как видим, долго. Положение самого Лосева, Валентины Михайловны и о. Митрофана усугублялось серьезностью дела об «Истинно-православной церкви», которую нагнетали в ОГПУ. Как же, целая организация с десятками интеллигентов, духовных и светских лиц.[174]
Помощник начальника IV Информационного отдела ОГПУ Шиваров постановил 30 июня 1930 года; а помощник начальника ИНФО ОГПУ Герасимова утвердила постановление 1 июля 1930 года. Там говорилось, что, поскольку трое подследственных связаны с широким кругом лиц вне Москвы, необходимо осуществить «разработку и опрос» этих лиц, выявить «их роль в имяславском движении», а значит, надо ходатайствовать перед ЦИК СССР о продлении срока дознания по делу № 100256 до 30 июля 1930 года (л. 133). «Разработка» и «опрос» означали новые аресты и углубление лично-лосевского дела. Во всяком случае, тут же 30 июля Шиваров и Герасимова соорудили второе постановление, где фигурировали не только «Диалектика мифа» с ее поповщиной и мракобесием, но и установленная дальнейшим следствием роль Лосева как «теоретика и философа наиболее активного к. р. церковного движения – имяславства и активная роль его помощников В. М. Лосевой-Соколовой и иеромонаха М. Т. Тихонова» (л. 134). Оба начальника пришли к выводу, что результаты следствия «перерастают компетенцию ИНФО и ПК ОГПУ», а значит, обвиняемых по делу № 100256 надо передать для дальнейшего следствия специальному отделу ОГПУ. Что и сделали.
Что касается «опроса» новых лиц, то можно указать среди нескольких десятков арестованных на один, может быть, не очень характерный, но любопытный пример – арест уже в 1931-м П. С. Попова, сотоварища А. Ф. Лосева по университету. В его квартире сначала устроили только обыск, после которого Попов скрылся. В справке зампреду ОГПУ Г. Ягоде Запорожец, зам. начальника специального политического отдела ОГПУ, 16 сентября 1931 года пишет, что жена Попова, А. И. Толстая, «делала попытки поместить его в частную психиатрическую лечебницу, на основании его заболевания якобы манией преследования».[175]
Попов на допросах отрицал связь с арестованными, «по донесению агентов», в камере «держался твердо, надеясь на заступников». Таковые действительно помогли, и Попов был выделен из дела № 100256, освобожден из-под стражи. Сроком на три года ему запретили жить в Москве и Московской области. Он отправился в Ясную Поляну, а дело сдали в архив.
Привлекли позже к делу «Истинно-православной церкви» инженера Ф. Г. Пономарева, который, давая показания на допросе, указывал на церковно-политический характер своих бесед с Лосевым, после чего, по его словам, он отошел от Лосева, а также не ходил в церкви Димитриевского течения, то есть фактически не считал себя антисергианцем (23/VIII—1930, л. 122).
Много позже, когда Лосев уже был освобожден, все еще разыскивали связанных с делом Истинно-православного центра людей. Была арестована ученица Лосева еще по Институту Слова (начало 20-х годов) В. Д. Лебедева (урожд. Лиорко), в будущем ставшая супругой знаменитого М. М. Пришвина. Мы с Алексеем Федоровичем встречались с Валерией Дмитриевной уже в 60-е и далее годы. Как-то приехали в 1971 году к ней в усадьбу Дунино вместе с маленькой трехлетней племянницей Леночкой, моей младшей сестрой Миной Алибековной Тахо-Годи и И. М. Наховым, нашим приятелем, на его машине.
Встреча там, среди благоухающих цветов, скошенного луга со стожком сена, пчелами, муравейниками, упоительным воздухом, с нависшей как будто над обрывом верандой деревянного дома, с его удивительной простотой и какой-то внутренней чистотой навсегда сохранилась в моей памяти. Валерия Дмитриевна, приезжая в Москву, бывала у нас, даже выступила в 1978-м на 85-летии А. Ф., несмотря на страшный декабрьский мороз. Казалась она нестареющей, глаза живые, а голова серебряная, белый пуховый платок на плечах, удивительное изящество и в фигуре, и в жестах, и в словах, и в мыслях.
Валерия Дмитриевна оставила после себя рукописную книгу «Невидимый град», где есть важные сведения о М. А. Новоселове, с которым она была близка, о пустынниках Кавказских гор, куда ушел, чтобы потом погибнуть в 1930 году (его расстреляли), ее друг Олег Поль (иеромонах Онисим).[176]
Валерия Дмитриевна хорошо знала о. Измаила Сверчкова, друга Лосева, осужденного вместе с ним. Он тоже в Институте Слова учился у А. Ф. По сведениям Валерии Дмитриевны, он погиб в таежных лагерях на Свири. Знала она и лосевского друга профессора Московской духовной академии И. В. Попова, А. М. Бардыгина – историка и тоже слушателя А. Ф. по Институту Слова, сосланного и умершего в глуши, о. А. Гомановского, имя которого упоминалось в допросах Лосева (батюшка погиб в лагерях), знала и мать Елену, игуменью Екатерининской пустыни, близкую Лосевым. Друг Валерии Дмитриевны, Олег Поль в 1929-м был в лосевском храме Воздвижения и писал Валерии Дмитриевне о длинной службе с литией, когда он вдруг увидел «иной свет», «что-то новое, сильное». «Вот ее [Богоматери] присутствие» (с. 655 = 401). Олег читал «Античный космос» Лосева (см. выше) так же, как и в дальнейшем М. Пришвин, который записал в своем дневнике от 17 ноября 1937 года: «Чем дальше человек от действительности – вот удивительная черта, – тем прочнее держится он. Пример – я как писатель, Лосев как философ» (сообщено мне Л. Рязановой, которую с любовью благодарю).
Валерия Дмитриевна уже в 1939 году летом ездила на Кавказ в «Красную поляну» на склоне горы Ачишхо, где в дупле дерева Олег Поль когда-то спрятал свою рукопись «Остров Достоверности». Но тут грянула финская война, и Валерия Дмитриевна спешно покинула Кавказ. Так что, может быть, до сих пор в дупле на горе Ачишхо хранится рукопись расстрелянного[177] Олега, ушедшего в 1924 году в горы Кавказа, чтобы там стать иеромонахом Онисимом среди пустынного уединения и безмолвия.
Так вот, и Валерию Дмитриевну арестовали. Но вину (какая еще вина у этих преданных Господу женщин, истинных жен-мироносиц, Валерии Дмитриевны и Валентины Михайловны) не доказали, а на всякий случай, для острастки, дали три года ссылки в Сибирь. Вернулась она из Нарыма (ближний свет!) и работала вольнонаемной в Дмитрове, на стройке канала Москва – Волга. После освобождения Лосевых были проекты у начальников канала перевести их на эту стройку. Но, слава Богу, подоспело постановление ЦИК СССР о восстановлении в гражданских правах.
Валерия Дмитриевна там, на канале, познакомилась с четой Яснопольских, Сергеем Леонидовичем и Валентиной Николаевной. Сергей – сын ученого-экономиста, известного еще в царское время либерального депутата Думы, подписавшего Выборгское воззвание, а Валентина Николаевна была духовная дочь о. А. Жураковского, проходившего по делу Истинно-православного центра. Более того, Валентина Николаевна (урожд. Ждан) весной 1929 года приехала из Киева в Ленинград исповедоваться у о. Ф. Андреева, сблизилась с семьей о. Феодора, ухаживала за детьми[178] и переехала к ним, когда в квартире освободилась комната (в дальнейшем в квартире Андреевых поселилась семья Валентины Николаевны – ее родители и брат), даже устроилась работать. Валентина Николаевна тоже была арестована по этому церковному делу. Между прочим, она рассказала Н. Н. Андреевой о некоем Юрии Косткевиче, молодом человеке, который собирал сведения о репрессированных архиереях (21/II—1931, допрос Н. Н. Андреевой, л. 263). В Дмитрове, таким образом, встретились бывшие заключенные, близкая к М. А. Новоселову Валерия Дмитриевна Пришвина и В. Н. Яснопольская, духовная дочь о. А. Жураковского. Валентина Николаевна помогла устроиться на работу Валерии Дмитриевне. Они и потом не раз встречались в квартире Лосевых на Арбате.
Яснопольские в войну оказались в Москве, пристанища у них не было, и старик Л. Н. Яснопольский, маститый украинский академик, попросил своего друга А. Ф. Лосева пустить эту бездомную пару близких людей на несколько месяцев. Прожила эта пара в квартире Лосева, занимая прекрасную отдельную комнату (превратив большую комнату Лосевых в проходную, а квартиру – в коммуналку) до 1960 года, когда они наконец купили себе машину и кооперативную квартиру.
Кстати сказать, эти бывшие товарищи по несчастью были крайне бесцеремонны, бесконечно мешая работе А. Ф. телефонными разговорами, гости их ходили через отгороженный шкафами книг узенький коридорчик, заглядывая в нашу столовую, пока я не переставила шкафы и не сделала драпировки.
Странным казалось мне, молодому человеку, что эти гости, если им откроешь дверь, даже не здороваются, а брат Валентины Николаевны, Виталий Ждан, известный кинематографист, проходил, как мимо стенки, хотя его жена-актриса (он потом с ней развелся) рыдала на груди Валентины Михайловны, изливаясь в жалостливых рассказах о своей судьбе.
Приходили сюда и некоторые из бывших арестованных по делу Истинно-православного центра, как, например, А. Б. Салтыков с женой Татьяной Павловной. Но они не заходили на половину Лосевых.
Изменения произошли после смерти Сталина. Тогда на нашей половине я наконец увидела Салтыкова, с семьей которого А. Ф. сохранял в дальнейшем самые теплые отношения. Валентины Михайловны уже не было в живых, она скончалась в 1954 году, а через год я стала хозяйкой в доме.
Не знаю почему я эти как будто не относящиеся к делу факты записала здесь. Но ведь и они говорят о страхе, владевшем людьми, когда-то судимыми по делам церковным. Хотя, как сказать. Вот профессор В. Н. Щелкачев ничего не боялся. Он, когда скончалась Валентина Михайловна, читал над ней псалтирь, всегда бывал у нас, помогал снимать дачу в Звенигороде, где и я с ним познакомилась. Он – непременный друг (родом из Владикавказа, где родовой дом моей матери Н. П. Семеновой, из семьи терских казаков) до своей кончины.
П. А. Черемухин (ныне покойный), осевший в Ташкенте, постоянно писал А. Ф. и мне, не боялся поздравлять со Светлым Христовым Воскресением или Рождеством, трогательно выводя эти поздравления на древнегреческом языке.
Очень хотелось ОГПУ из всех арестованных сколотить прочную организацию, и не только московскую, но всесоюзную. Недаром дело так и называлось «О центре всесоюзной контрреволюционной монархической организации». Наличие в деле о. А. Жураковского указывало на Киев, на Украину, митрополита Иосифа, епископа Димитрия Гдовского и Н. Н. Андреевой – на Ленинград и близлежащие области. Епископ Алексий (Буй) представлял Воронеж и земли, прилежащие к нему, то есть Центральную черноземную область.
А тут еще Кавказ, имяславцы с гор Черноморского побережья. Очень уж хотелось соединить Лосева и Новоселова с этими имяславцами, которых подозревали в подготовке вооруженного восстания. Статья совершенно особая и грозившая сами знаете чем. Да, кавказские пустынники стали в России известны еще с 1907 года, с выхода книги о. Илариона «На горах Кавказа». Затем этих пустынников связали уже в 1913 году с афонским имяславческим делом. Интерес к ним особенно возрос после путешествия в горы к отцам-пустынникам духовного писателя Валентина Свенцицкого (в дальнейшем священник, близкий к Лосевым, даже служил одно время в их приходе в церкви Воздвижения Креста Господня). Книга В. Свенцицкого «Граждане неба. Мое путешествие к пустынникам Кавказских гор» (è»., 1915), замечательная по своей безыскусности и простоте, описывала путешествие автора и его спутника, одного из обитателей пустыни в Аджары, по ущельям реки Кодор, а потом и к пустынникам Брамбы, еще более глухим и удаленным местам. Там искали насельники новой Фиваиды, славившие сладчайшее имя Иисусово, полного безмолвия и уединения. Они забирались все выше, почти к снегам, в горы невиданной красоты, смыкавшиеся с небесами, как будто с самим небесным градом.
И вот в допросах начинает появляться тема кавказских имяславцев. С ними, оказывается, переписывался Д. Ф. Егоров с 1924 года до последнего времени. Но сам Лосев не состоял с ними в каких-либо отношениях, хотя были письма от о. Феодора Макаровского и в Москву к Лосеву приезжала с Кавказа игуменья Марианна Макаровекая, только в связи с описанием истории этого движения. В 1924 году старый афонец о. Ириней (Цуриков) ездил на Кавказ примирять имяславский раскол, возникший по догматическим и личным вопросам. Лосев признавался: «Нам не нравилось превращение имяславцев в обособленную от церкви секту, и по этому вопросу мы спорили с ними» (15/XII—1930, л. 142).
Когда о. Ириней поехал на Кавказ, Лосев дал ему конспект своего доклада по имяславию (4/Х—1930, л. 124). Однако монахи могли и не понять его, что, добавим, совершенно естественно, учитывая философскую, а не только богословскую основу многих докладов по проблемам имени, которые до сих пор хранятся в архиве А. Ф. От вдовы Н. М. Соловьева (он скончался в 1927 году) А. Ф. получил бумаги от имяславцев с юга России, то есть с Кавказа. И от В. А. Баскарева Лосев получил документ, так называемое «Завещание» монахов-имяславцев с Кавказа, но, однако, как говорил А. Ф., «направленное не ко мне», а переданное ему как «собирателю всех вообще документов, касающихся имяславия».
Эти бумаги, которые монахи, считая себя обреченными на смерть, завещали рассмотреть ученым епископам, просмотрел и оставил в своем архиве Лосев.
Старый афонец о. Манассия, друг о. Давида, находившийся в Москве с о. Иринеем, в дальнейшем уехал на Кавказ, где поддержал движение южных имяславцев против получения паспортов, «антихристианских документов». Но о. Давид был категорически против этих крайностей и не поддержал ни о. Манассию, ни игуменью закрытого на Кавказе монастыря мать Марианну, приезжавших в Москву. А когда Н. М. Соловьев стал переписываться с о. Манассией, вопреки о. Давиду, тот разошелся с Соловьевым, осуждая всякую политическую окраску имяславских дел.
В. М. Лосева послала на Кавказ деньги имяславцам, но это произошло в связи с кончиной ее брата Николая, так что деньги были посланы на поминовение. Последний раз в Москве о. Манассия был в 1927 году (24/VII—1930, л. 115).
Сам Лосев на допросе (17/VII—1930, л. 120) признался: «Мы далеки от имяславцев на Кавказе, активно занимающихся политикой». Таким образом, хотя в справку Герасимова и внесла пункт о вооруженном сопротивлении имяславцев под идейным руководством Лосева, фактически на приговор такая формулировка не подействовала.[179]
Но всего этого было мало. Еще требовалась и заграница, и папа Римский, и Русская Зарубежная Православная церковь.
У П. С. Попова интересовались, с кем из иностранцев он знаком. Агентурные сведения дали материал о том, что П. С. Попов и его кузен Д. И. Щепкин через чешское посольство отправили за границу документ о гонениях на Церковь и веру в СССР. Сам Попов поддерживал связи с представителем Чехословакии, был знаком с Мельгуновым, приезжавшим в качестве эмигрантского эмиссара из Парижа в СССР. Мать жены Попова С. Н. Толстая жила в Праге, и это одно было предосудительно. Плохо было и то, что Попов знаком был и с профессором Кизеветтером (опять-таки из Праги), которого выслали из Союза в 1922 году; знавал он профессора Р. Виппера (а это уже Рига), что вполне естественно. Тот был профессором Московского университета; знавал и Бердяева, а это совсем плохо, ибо Бердяев выслан в 1922-м и живет в Париже (7/III—1931, л. 728). Видно, что П. С. Попов допрашивающих не удовлетворил, так как его вскоре освободили, правда, как говорилось выше, при помощи его жены, внучки Толстого.
В допросах упоминается какой-то разговор о возможном «крестовом походе» Запада, если бы не повредило интервью, данное на заграницу митрополитом Сергием о благополучии веры в Советском Союзе.
Кто-то донес, что Лосев якобы сказал о приемлемости для него католиков, «но без ГПУ». Лосев, кроме того, не подписывал протеста советских ученых против выступления папы Римского, а это несомненный криминал (4/Х—1930, л. 126). Плохо и то, что Г. В. Постников, сын священника о. Василия Постникова, друг Лосева, рассказывал Лосеву иногда о новостях политической жизни за границей и о новостях в церковно-политической эмиграции (24/XI—1930, л. 140). Да и с философом Бердяевым А. Ф. был знаком в свое время. Приезжал к тому же из заграничной командировки, как раз из Парижа, профессор-ботаник Маркович, был у Новоселова и сообщил, что Декларация Сергия 1927 года расколола Зарубежную церковь на две группы. Большая – согласна с Сергием, а меньшая, но зато «авторитетная» во главе с митрополитом Антонием Храповицким (бывшим гонителем имяславцев) – против, и сам Антоний даже выпустил послание под названием «Гласник», которое Маркович передал Новоселову (15/XII—1930, л. 141). В. М. Лосева твердо заявляла, что Новоселов никогда не говорил о загранице и об эмигрантской деятельности, посещая дом Лосевых (З/III—1931, л. 238), а молодого человека с иностранной фамилией, якобы астронома, она не знает (там же).
В допросе Н. Н. Андреевой появился и некий, судя по костюму, иностранец по фамилии Бернстрем, который приезжал к Андреевым от Новоселова, и ему были якобы переданы бумаги для информации за границу, но, видимо, туда не успели попасть (15/IV—1931, л. 267). Этот загадочный иностранец, как я обнаружила, носит другую фамилию. Это общий знакомый В. Д. Пришвиной и Олега Поля. Зовут его М. М. Бренстед.[180] А то, что к Лосеву заезжал известный искусствовед Э. Голлербах выразить свое восхищение «Античным космосом» и «сочувствие трудам» Лосева, так он и вообще русский, еще до революции переписывался с В. В. Розановым и жил в Ленинграде (там от голода потом и умер в войну). Профессор Б. А. Фохт (из семьи, несколько сот лет как обрусевшей), с которым Лосев дружен, хоть и неокантианец и учился в Марбурге, но иностранцем никогда не был (2/VI—1930, л. 505). Так что с заграничным филиалом «Истинно-православной церкви» тоже ничего у ГПУ не получилось. Все оказались или русскими, или истинно православными, но отнюдь не католиками.
В. М. Лосева находилась шесть месяцев в Бутырках, в общей камере на 40–50 человек, где даже была избрана старостой, а с 26 декабря 1930 года по 23 июня 1931 года, то есть опять шесть месяцев, пребывала уже во внутренней тюрьме на Лубянке, но тоже в общей камере.
Валентина Михайловна на следствии все время старалась спасти мужа и много обвинений брала на себя, даже отказывалась от знакомства с Н.Н.Андреевой (11/XI—1930, л. 234), с которой якобы увиделась только в тюрьме, правда, потом все равно пришлось «вспомнить» и поездку в Ленинград, и переписку и посещение Андреевых.
Валентина Михайловна твердо заявляла, что все лица, с которыми она встречалась, «непосредственно политических задач себе не ставили» (12/Х—1930, л. 235), действовала же она «по указанию своей религиозной совести», а уж оценивает ее пусть сама советская власть (л. 236). Советская власть, по ее мнению, «является гонительницей религии» (л. 235, оборот). «Всегда мое сердце, – твердо заявила жена Лосева, – будет за церковь, за родину, так как понятие родины мне с детства было и сейчас остается связанным с христианством, точнее с православием» (л. 237, оборот). Подчиниться гражданской власти можно в тех пределах, «где это не противоречит моим религиозно-идеологическим взглядам» (там же).
Пытаясь спасти А. Ф., она даже заявляет, что ее роль в Димитриевском движении больше, чем роль Лосева: «Прошу считать меня виноватой во всем, в чем советская власть считает виноватым его» (там же). Она считала, что Церковь должна подчиняться власти в вопросах, не касающихся веры, но другом советской власти быть не может, так как «идейно, по вере, церковь и советская власть, конечно, враги» (15/III—1931, л. 242). Митрополит Сергий же, издав Декларацию 1927 года, отдал распоряжение, чтобы в церквах поминали советскую власть, но наложил запрет молиться о заключенных, а это подорвало всякое доверие к нему, который должен был в трудное время сохранить веру в чистоте. При всякой власти Церковь молилась за заключенных в темницах и, пока она Церковь, должна и будет молиться.
С митрополитом Сергием надо прервать каноническое общение, а не лицемерить, осуждая Декларацию про себя, но не откладываясь и не подставляя себя под арест. «Силы Церкви сохраняются не дипломатией, не политическими хитростями, не лицемерием и прочим, а только Господом Богом; аресты же и ссылки именно увеличивают мистическую силу Церкви, а не ослабляют ее» (л. 243). Лично для Валентины Михайловны Сергий перестал быть православным епископом еще в 1922 году, когда она узнала об имяславии и о Синодальном послании 1913 года, которое составлял именно он.
Антисергиане не борются с советской властью, они хотят сохранить «идейную чистоту православной веры», но вполне возможно, что это движение могут использовать и в политических целях. При всякой власти люди будут думать о вере. Если это враги, «то враги честные, искренние», которые «не бьют из-за угла или в спину» (там же). Валентина Михайловна дала здесь пример замечательного исповедания веры.
Что же касается Новоселова, то его характеристика у Валентины Михайловны исключительна по точности. В нем «редкое христианское устроение личности, моральная высота, эрудиция в православной литературе, знание устава службы церковной». Последнее Валентина Михайловна могла оценить, так как сама была прекрасной уставщицей и до тонкости знала практику церковной и христианской жизни. Особенно ценила службу по древнему уставу у о. С. Мечёва и с ним беседовала на эту тему. А вот Лосев о. Сергия не видел и не знал, добавляла Валентина Михайловна.
После отложения Валентина Михайловна стала ходить на Маросейку к о. С. Мечёву. Новоселова Валентина Михайловна оправдывала, доказывая, что сама просила его давать ей церковную литературу, и, как она полагает, такие же книжечки собирали сотни православных людей.
Все было вполне в порядке вещей для жены Лосева – ходить по поручениям Новоселова, принимать от него через незнакомых светских и духовных лиц письма. Писала она Новоселову на имя Н. Н. Андреевой и в письмах обращалась к нему, как к Наталье Николаевне. «Он так просил» (л. 247). Тоже наивная конспирация. Получив телеграмму от Новоселова: «Сообщите Сереже Симы прещения недействительны» (то есть епископ Серафим Угличский не считает действительным запрещение Сергия не поминать советскую власть), тотчас же отправилась к о. С. Мечёву по поводу вопроса о «непоминании» (л. 244). И к о. Серафиму Битюгову ходила в связи с отложением епископа Димитрия; раздавала церковные бумажки, сама брала их. С А. Б. Салтыковым, который в церкви Воздвижения читал обычно Жития святых, вела Валентина Михайловна разговоры о делах церковных и бумаги кое-какие передавала.
Не скрывала Валентина Михайловна своего посещения храма на Воздвиженке, когда отложился служивший там о. Александр Сидоров, то есть весной 1922-го. Бывали там с А. Ф. часто, стояли на клиросе, подпевали, читали часы, приглашали домой священников на праздники, о. А. Сидорова,[181] о. Ал. Троицкого, о. Петра, о. Измаила. Бедная Валентина Михайловна «не помнит» фамилии последнего, а ведь это о. Измаил Сверчков, близкий Лосевым.
Иной раз ходила Валентина Михайловна в церковь на Ильинке (Никола Большой Крест). Там служил о. Валентин Свенцицкий (он был настоятелем в храме Николы Большой Крест), тот самый, что когда-то путешествовал к кавказским пустынникам. Ходила в приход Грузинской Божией Матери, на Поварскую, в Ржевском переулке (где якобы и познакомилась с Новоселовым).
Спасая Лосева, утверждала, что отложившихся епископов он никогда не знал, а вот о покойном о. Ф. Андрееве помнила, как он говорил, что «послушание в делах веры не применимо даже в отношении к духовному отцу» (имея в виду Сергия и священников, которые проповедовали безоговорочное ему послушание) (л. 246).
И вообще к участию в движении антисергианцев, признается Валентина Михайловна, именно она привлекла Лосева, уговорила его написать письмо Новоселову весной 1928-го. Она же уговорила А. Ф. «прокорректировать» с точки зрения богословской имяславский знаменитый документ «Большое имяславие» (л. 247), который Валентина Михайловна читала и до Лосева, и до Егорова, и до Олсуфьева. Она же в сокращенном виде переписала эту бумагу и отослала назад к Новоселову, а полный экземпляр оставила у себя «для коллекции», хотя и сокращенный оставила тоже в копии (это так называемое «Малое имяславие») и с этим документом «совершенно была согласна» (там же).
С сокрушением признается Валентина Михайловна, что после ареста Новоселова весь важнейший церковный архив передала Е. Ушаковой, человеку в этом деле совершенно постороннему, внецерковному, хотя и православной. Обманула свою приятельницу во имя дела Валентина Михайловна, сославшись на ремонт квартиры. «Мне очень тяжело, что я виновата и не только в том, что втянула в это дело мужа, но еще послужила и причиной ареста такого человека, как Ушакова», которая о содержании архива даже не подозревала. В довершение всего у нее активный туберкулезный процесс и базедова болезнь. «Если она не минует тюрьмы, все это на моей совести» (л. 248). К счастью, именно такое показание Валентины Михайловны в дальнейшем дало возможность реабилитировать бедную Елизавету Федоровну. Но в ссылку она все-таки попала. ОГПУ не посчиталось с болезнями.
Интересно, что Валентина Михайловна привела все бумаги в полный порядок, по два экземпляра отложила для архива по истории Церкви, а остальное А. Ф. советовал сжечь, но «как-то это не вышло со сжиганием, так все и отправила» (л. 249). Все бумаги Валентина Михайловна пронумеровала хронологически, разложила их по темам, по новоселовским названиям (например, «Ташкентская») или по содержанию («имяславие», «апостасия», то есть отложение).
После ареста Новоселова прошло примерно года полтора до ареста Лосевой, но уже не с кем было переписываться, некому было передавать бумаги, никакого участия в церковно-политической жизни не принимала и о церковных новостях тоже ничего не знала, как и сам Лосев, «еще в большей мере», добавляет Валентина Михайловна.
Сожалеет после своей подробной исповеди жена Лосева, что антисергианское движение не было в общем имяславским и оно, конечно, было бы ей ближе, если бы отход от Сергия был основан на его гонениях против имяславцев (л. 249).
Ближе к приговору Валентину Михайловну перевели снова в Бутырки, откуда обычно шли по этапу. Таким образом, супруги Лосевы оказались одновременно в одном узилище, совсем рядом, Валентина Михайловна в 1-й камере.
Каждый день ходит она «на капли» (процедура глазная), дважды в неделю – в лавочку и смотрит в окно, вдруг увидит родного человека. Записками обменялись с разрешения следователя еще 12 марта (после чего перевели А. Ф. в общую камеру). Однако разрешили записки не по доброте. Валентина Михайловна объявила голодовку, и после пяти дней «вытяжки» (по ее словам) разрешение дали. Тогда еще иной раз обращали внимание на протест. И политические были, и Красный Крест политический во главе с женой Горького Е. П. Пешковой работал и помогал, всего-то два человека под ее началом на Кузнецком Мосту, 24, на первом этаже, а на втором – справочная ОГПУ, куда я когда-то ходила. (Теперь этот дом снесен. А жаль, как напоминание.)
Видеть мужа – ни разу случай не представлялся. И вдруг 20 сентября за два часа до объявления приговора увидела Валентина Михайловна в окно А. Ф., когда вывели арестантов на прогулку, открыв калитку. Не буду пересказывать, а передам слово очевидцу, а именно известной узнице ГУЛАГа 3. Д. Марченко, которая по воле случая оказалась в Бутырках в одной камере с Валентиной Михайловной.[182]
«Камера невелика, вдоль стен широкие нары. На них сидят и лежат женщины. Мой приход встретили молча, дали осмотреться, староста показала место. Порядок был такой: новенькая ложится на худшее, ближе к краю, к параше. Если кто уходит из камеры, соответственно идет передвижка ближе к окну, где светлее и чище. Окна, насколько помню, были наполовину закрашены. Козырьки на окна навесили позже, в камере стало намного темнее, и нельзя было ничего увидеть во дворе. А пока редкая возможность выглянуть из окна для нас большое событие, и это долго потом обсуждалось.
Уголовниц в камере не было. Поэтому порядок, чистота, тишина легко поддерживались. Но что за разные люди вынуждены были здесь жить в тесном соседстве друг с другом, спать бок о бок, слушать общие разговоры, дышать одним воздухом…
Первой мне бросилась в глаза молодая высокая, стройная женщина с одухотворенным лицом: большие серые глаза, длинная коса, разделенные прямым пробором темные волосы. Ум, энергия, воля и спокойствие… Это Валентина Лосева – астроном, глубоко религиозный человек, жена бывшего преподавателя Московской консерватории. Как я поняла из ее рассказов, он был гегельянец, метафизик и соответственно наставлял своих студентов. Мало того, жена смогла добиться в каких-то «сферах» издания его статей. Теперь ее обвиняли в этом… Муж тоже сидел. Оба были раньше на Лубянке. Но ее увезли оттуда. Где он?
В передаче она получила гребень, где между узоров было выцарапано: «В ГПУ». И вдруг…
Была жара, мы упросили разрешить приоткрыть окно, была видна часть двора и ворота в соседний двор, куда выводили на прогулку мужчин. Кого-то вели из соседнего двора, ворота приоткрылись, вереница гулявших там мужчин попала в поле нашего зрения, и Лосева узнала рыжую бороду своего мужа… Миг – ворота закрылись. Все! Но как много значит такая секунда для любящей женщины. Лосева вся засветилась. Значит – жив, значит – здесь» (с. 312–313).
Мимолетно увидела Валентина Михайловна мужа, но какая радость, и записочку передать сумела 24 сентября. А в ней слова: «И великая милость Божия к нам, что и мы за грехи наши идем в ссылку на этом свете». Книги же «страданием получают силу». Откуда взялись у заключенной сведения с воли, но сообщает она в этой записочке, что книги после ареста А. Ф. «страшно стали расходиться».
Следствие завершалось к сентябрю, и все ждали вынесения приговора. После приговора (5 лет лагерей) разрешили 22 сентября свидание со стариками-родителями. А с мужем не дали, хотя писала Валентина Михайловна заявление в Секретный отдел О ГПУ некоему Горожанину 21 сентября 1930 года. Безрезультатно.
Приговор Лосеву вынесли 3 сентября 1931 года – 10 лет лагерей. После приговора перевели в Бутырки, на пересылку. Там 20 сентября объявили приговор осужденному. Коллегия ОГПУ вынесла свое решение по всем участникам монархической организации церковников «Истинно-православная церковь». Если в начале дела этих участников было 42 человека (из них 10 привлекались как свидетели), то при завершении дела приговор вынесли 33, так как ряд лиц исключили из процесса.[183]
Постановление гласило: приговорить к расстрелу с заменой на 10 лет лагерей еп. А. Буя, свящ. А. Жураковского; к 10 годам лагерей А. Ф. Лосева; Н. В. Петровского, И. А. Сверчкова, И. И. Ульянова, В. Н. Воробьева. М. А. Новоселова к тюремному заключению на 8 лет, Д. Любимова – еп. Димитрия Гдовского – к 10 годам тюрьмы, М. М. Попова – 8 лет лагерей. Остальные получили менее значительные сроки: В. М. Лосева-Соколова, А. В. Сузин, А. Б. Салтыков, А. А. Никитин, Е. С. Добряков, Д. П. Дроздов, Б. А. Туголесов – 5 лет лагерей; Д. Ф. Егорову 5 лет лагерей заменили высылкой в Казань на 5 лет. И. Петровых – митрополиту Ленинградскому – заменили 5 лет лагерей на высылку в Казахстан;[184] Н. Н. Андреевой заменили 3 года лагерей на высылку в Казахстан; Б. В. Зевалин, В. Н. Щелкачев, Н. С. Жураковская, жена о. Анатолия – 3 года лагерей, причем Щелкачеву лагерь заменили высылкой в Казахстан. М. Н. Хитрово-Крамской получил 3 года лагерей с заменой высылкой в Восточную Сибирь; Е. Ф. Ушакова, П. А Черемухин, Ф. С. Булгаков приговорены к высылке в Казахстан на 3 года. С. Н. Соловьев – 3 года лагерей, И. Н. Хибарину зачесть предварительное заключение. Н. Н. Дулову заменили 5 лет лагерей на условный срок и освободили из-под стражи. Освободили также М. А. Коробкова, В. А. Баскарева, профессора Н. Н. Бухгольца (дело прекратили). М. Т. Тихонова (о. Митрофана) досрочно освободили и разрешили свободное проживание (вначале ему была назначена высылка в Северный Край на 3 года).[185]
Дело бедного М. А. Новоселова пересмотрели 7 февраля 1937 года, но приговорили дополнительно еще к трем годам тюремного заключения. Как видим, приговоры по делу «Истинно-православной церкви» были разнообразны и за редким исключением не столь тяжелы, если учесть судьбу будущих узников ГУЛАГа.[186] Видимо, ОГПУ, сфабриковавшее это дело, участники которого больше рассуждали на религиозные темы, чем практически и по существу действовали, само не верило своим выводам и решениям. И хотя было потрачено много времени на следствие и на злобную демагогию во всякого рода справках и обвинениях – все это дело оказалось дутым.[187] Недаром в посмертной реабилитации Лосева в 1994 году (а я думаю, что все остальные участники дела тоже реабилитированы в связи с указом 1991 года) отмечались «политические мотивы», а не существо дела, которые и привели к репрессиям.
Герасимова, которая участвовала в следствии по делу «Истинно-православной церкви», составила для начальства «Справку о роли профессора Лосева А. Ф. в антисоветском движении». Под этим документом сия Герасимова, которую А. Ф. в письмах называл «ласковою коброй», значится как помощник начальника ИНФО ОГПУ (информационный отдел, а это и есть следственный).
Лосев А. Ф., 37-летний профессор, по ее словам, идеолог наиболее реакционной (православно-монархической) и активно антисоветской части церковников и интеллигенции.[188]
В этом замечательном документе во главу угла ставятся «Диалектика мифа» и «Дополнение к диалектике мифа» – идейно-теоретическое обоснование правомонархической контрреволюции. Оказался Лосев также «теоретиком и идейным вождем контрреволюционного движения имяславцев», которые готовили выступления против советской власти, оказывали вооруженное сопротивление (это монахи-то!) и в 1929—1930-х годах на Северном Кавказе и в Закавказье были ликвидированы ОГПУ.
Актив контрреволюционного движения получал у Лосева идейное оформление и теоретическое обоснование для своей практической деятельности. Лосев, таким образом, становился теоретиком и идеологом не только имяславцев, но и целой группы научных работников, верующих и монархистов, среди которых много молодежи, окончившей советские вузы. Кроме того, опасный Лосев был связан с отдельными «марксистами», сотрудниками «крупнейших научных объединений», которые в Лосеве находили «отдушину для своих тщательно скрываемых реакционных настроений».
В итоге Герасимова видит в Лосеве «идейный центр для церковно-монархических активно-антисоветских формирований», являющийся «поставщиком оформленной реакционной идеологии для антисоветских интеллигентских кругов».
Помимо всего, обвиняемому вменяется еще важный грех – отчетливая ориентация на капиталистическую Европу, где, по словам Лосева, идет «могучая работа» по очищению философии от «скверны материализма» и совершается поворот «от Сатаны к Богу». «Непримиримая борьба с Соввластью» – основа философско-исторической концепции Лосева.
Составитель справки излагает в общих чертах «основные положения» «Дополнений к Диалектике мифа», где рассматривается история человечества как борьба Христа и Антихриста, Бога и Сатаны. Ступени же этого развития после погибшего под ударами Сатаны феодализма – капитализм, социализм, анархизм. Последний этап воплощения Сатаны (а это марксизм и коммунизм) – анархия. Спасение только в сильной, непримиримой, активной Церкви, победительнице социализма.
К сожалению, пока проверить изложение мыслей и цитат Лосева не представляется возможным (об этом выше), никто из обычных людей (ОГПУ не в счет, как и М. Горький) не читал «Дополнения». Странно, что М. Горький, получивший от ГПУ это «Дополнение», не ополчился на концепцию Лосева о борьбе Христа и Антихриста. Видимо, он не нашел в ней ничего оригинального, так как, думаю, читал в свое время трилогию Мережковского, его публицистику и знал распространенность подобных идей в предреволюционной России (и не только в ней), ставших для многих философов и публицистов общим местом. На Герасимову, однако, антитеза Христос – Антихрист произвела неизгладимое впечатление.[189]
Несмотря на брызжущий пролетарской ненавистью стиль справки, в ней есть ряд полезных сведений. Так, выясняется, конечно, на основе допросов Лосева, что «Диалектика мифа» была завершена в 1927 году. Осенью 1929 года написано «Дополнение», так как «Диалектику» надо было обязательно обновить. Есть указание на конфискацию «Диалектики мифа» – значит, она была уже напечатана. Известно, по косвенным данным, что она продавалась и в тюрьме с Лосевым был человек, купивший книгу, – письмо А. Ф. от 25 ноября 1932 года. Ведь активность книгопродавцев всегда превосходит активность запретителей книг.[190] Узнаем о запрете Главлитом «Дополнения» – значит, не было напечатано. Встает вопрос: какую же «брошюру» получил Горький (см. выше) и что изъяли при аресте Лосева – рукопись, машинопись, а может быть, и верстку? Типография вполне могла набрать текст, который и был послан в Главлит. У нас же цензура предварительная. Главлит не разрешил, и все бы кончилось мирно, но Лосев вставил некоторые пассажи из «Дополнения» в уже разрешенную к печати «Диалектику», а уже это одно нарушало закон и являлось преступлением. Предлог для ареста был найден. Вспоминаю при этом какой-то странный, тогда не очень мне понятный рассказ о том, как Валентина Михайловна на всякий случай ловко спрятала верстку «Мифа» («Диалектики» или «Дополнения»?), зашив ее в кожаный валик дивана, где эта верстка и оставалась мирно лежать до бомбежки. А уж после фугасной бомбы и пожара не то что верстки, но и дивана было не сыскать. Однако Валентине Михайловне все мерещилось, что где-то этот диванный валик нашелся среди развалин. Я его никогда не видела.
В Деле Алексея Федоровича за № 100256, которое я обозрела в июне 1995 года, находится справка о «Диалектике мифа», составленная начальником IV Отделения ИНФО ОГПУ Соловьевым (л. 193–196). Там указано, что в книгу размером в 153 страницы[191] (7 1/2 п. л.) автор «без согласования с Главлитом внес ряд принципиальных исправлений и дополнений (на с. 7, 8, 11, 17, 18, 19, 22, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 84, 87, 90, 92 и 95)». Кроме того, он вставил страницы с 98 по 134, с 241 по 263 (гл. XIV). В справке приводятся замечательные по остроте и всем теперь известные примеры в напечатанной книге. Рецензент рукописи, политредактор Главлита[192] Басов-Верхоянцев, как мы уже знаем (см. выше), оказался недальновидным (а может быть, и сочувствующим?) и разрешил книгу «в интересах собирания и сбережения оттенков философской мысли» (л. 195 ИНФО ОГПУ, сов. секретно «О книге А. Ф. Лосева „Диалектика мифа «“, изд. автора, Москва, 1930 года. Тлавлит № А 45070).[193] А. Ф., который признался, что относится к Главлиту «враждебно», так как там сидят «полуграмотные цензоры, которые в науке ничего не понимают» (л. 184), должен был бы оценить такую резолюцию поэта-баснописца, разрешившего его «Диалектику мифа».
Судя по приведенным материалам в справке, именно они легли в основу выступления Кагановича – та же лексика и стилистика речи (поповщина, черносотенство, мракобесие, изуверство).
Начальник IV Отделения ИНФО ОГПУ Соловьев не ограничился констатацией дела, а счел нужным привлечь к судебной ответственности Лосева за «контрреволюционные мистические выступления в печати и за подлог», а владельца типографии Иванова за напечатание книги с неразрешенными дополнениями, «имеющими контрреволюционный характер». Среди «установочных данных» было указано, что Лосев «религиозен, б. профессор гос. Консерватории, из ГАХНа вычищен как явный реакционер». Здесь гражданин Соловьев впал в преувеличение. ГАХН закрыли в 1929 году и «вычистили» его членов всех сразу.
Эта замечательная справка была подписана 18 апреля 1930 года. Власти действовали мгновенно. Лосева арестовали в ту же ночь.
После возвращения из лагеря Лосев посылал запросы в ОГПУ о нахождении его рукописей. Но ответа не получил. Тогда он направил запрос через Институт философии (7УXII—1933) и получил письмо ответственного секретаря института Гинзбурга. Оказалось, что требуется указать дату обыска, кто его производил, московское, областное или союзное ОГПУ, а также фамилию лица, ведшего дело.
Вряд ли А. Ф. стал заниматься такими воспоминаниями и розысками. Он просил академика М. Б. Митина узнать о судьбе рукописей. Тот ответил, что никто в органах этого не знает.[194]
В справке Герасимовой указано (на основании свидетельств Лосева), что «основные печатные и рукописные работы» его посвящаются теоретическому обоснованию имяславия. Мы бы сказали философскому обоснованию. А вот что труды Лосева есть политическое обоснование имяславия – чистейшая ложь гэпэушников, аргументация, необходимая для ареста. Среди этих трудов указаны уже известные «Диалектика мифа» и «Дополнение», а также «Философия имени» (1927) и рукопись «Вещь и имя».
Судя по справке, ни Лосев, ни Лосева своих религиозных, имяславских взглядов не скрывали, говорили на эту тему открыто.
А. Ф. признавался, что его как ученого и теоретика в сфере логических категорий «не пугают самые крайние выводы, если они логически необходимы». Но «жизнь сложнее логики», и решительные выводы теоретика «реализуются историей, зачастую в логически не предвиденных формах». В этих словах ощущаются голос и стиль А. Ф., который не раз говорил о бесстрашии и смелости выводов диалектической логики. А вот что касается пассажей о политических идеалах имяславия, неограниченной монархии, вооруженной борьбы для свержения советской власти и евреев как носителей сатанинского духа коммунизма и марксизма – весь этот образцовый набор, необходимый для создания образа врага народа, – плод гэпэушной фантастической логики Герасимовой.
Удивительно одно. Почему Лосеву, которому инкриминировали столь тяжкие преступления, дали всего лишь десять лет лагерей? Может быть, в начале 30-х это было много? И как сумел закоренелый враг перековаться на великой стройке? Но ведь перековывались же уголовники. Почему бы не перековаться политическому, свидетельствуя о благотворности физического принудительного труда и энтузиазме духа в эпоху великих свершений передового человечества.
Все, оказывается, можно объяснить.
«Жизнь сложнее логики», – сказал на допросе философ. Поэтому, сидя в одиночке, мучился, много молился и плакал. Плакал ежедневно 47 дней и потерял сон. Взял себя в руки и через две недели очнулся. Боролись стихия чувств и свет ума. «Беспомощность», «покинутость Богом», «метание во тьме и буре по бездонному и безбрежному морю» не оставляли заключенного. Но ум «вел себя образцово», старался внести «мир и покой», «все время успокаивал». Душа мало подчинялась уму и даже «роптала на небо», бунтовала «против высших сил». Пока сидел во внутренней тюрьме, одолевали страшные сны. То не может никак войти в дверь своей квартиры; то не может сесть в вагон – и поезд уходит; то никак не может найти место в книге, где обрисована вся его жизнь; то не может во время богослужения вставить особую стихиру – и служба останавливается (письмо из лагеря от 31/XII—1931). Тяжко в тюрьме, в одиночке. А когда перевели в общую камеру, стал читать соузникам лекции, несколько отдельных курсов по истории философии, эстетике, логике, диалектике. Десятки лекций читал с увлечением и с огромным успехом. Когда же в лагере будет вести ликбез по арифметике, вызовет озлобление «интеллигентов» (23/II—1932).
Но вот следствие окончено, приговор известен. Ни угрозы, ни мысли о смерти и мучениях не могли заставить идти на позор, и Лосев открыто, как мы уже знаем, исповедовал свои взгляды.
Держаться на допросах было трудно. Товарищи по несчастью, даже близкие друзья вели себя по-разному, часто стремились свалить вину на Лосева как главного идейного руководителя, выгораживая себя.[195]
Университетский друг Н. В. Петровский (его Лосевы всегда вспоминали с любовью, шутя называли «комодом») отрицал даже свое знакомство с М. А. Новоселовым, отрицал свои беседы по церковным вопросам со своим другом Лосевым и удивлялся на следствии своему аресту. Этот «пентюх и мямля», по словам А. Ф., только раздражал следователей и получил совершенно то же самое наказание, что и «главари» дела, то есть десять лет, а Н. Н. Андреева, ничего не отрицавшая, – высылку в Казахстан.
Д. Ф. Егоров, старый имяславец и друг Лосевых, собственноручно писал, что «мы хотели использовать Церковь для борьбы с советской властью». Новоселов тоже собственноручно написал:
«Лосев занимал самую крайнюю и непримиримую позицию, желая превратить Церковь в политическую партию», и к тому же рисовал Лосева как авторитета в делах Церкви для светских и духовных лиц, даже ссылался на него, привлекая на сторону отложенцев епископа Димитрия Гдовского.
В. А. Баскарев «донес все мельчайшие разговоры» на встречах у Д. Ф. Егорова[196] и написал: «Лосев давал сведения о готовящейся интервенции». Даже Н. Н. Андреева написала при допросе, что приезжала к Лосеву из Ленинграда в Москву, чтобы получить инструкции, как быть в Питере с димитриевскими приходами после смерти о. Ф. Андреева и ареста самого епископа Димитрия. Сын Н. М. Соловьева, С. Н. Соловьев, сообщил письменно, что у Лосевых в доме постоянно «заставал заседания по церковно-политическим вопросам», то есть невольно придавал делу политическую окраску. Лосев же на самом деле «испытывал всю жизнь отвращение к политике». А. В. Сузин, давний друг, собственноручно написал: «Когда я сказал однажды Лосеву, что если даже изменит Димитрий, то останется еще зарубежный епископат, то Лосев вполне с этим согласился и сказал, что наша опора – эмигрантские архиереи». Даже покойники не оставили в покое Лосева. Были использованы «показания» покойного В. Н. Муравьева, где было рассуждение о том, что «Лосев всегда стоял на точке зрения патриарха Гермогена, призывавшего к восстанию против врагов веры, царя и родины». Никто, «кроме тебя», меня не пощадил в своих протоколах, «граничащих с полным осведомительством и доносом», писал Алексей Федорович Валентине Михайловне (23/II—1932). Друзья и приятели, для которых в науке А. Ф. был действительно авторитетом, много у него заимствовавшие идей и учившиеся у него, «набросились» на него и «забросали то ложными, то просто неуместными показаниями». «Я вел себя, – пишет Лосев, – просто честнее всех тех, о которых я выше упомянул». Написать и проанализировать все это – «значит написать огромный том».
«Бог не пощадил моего наивного уединения и призвал на чуждый и неприятный для меня путь политики – пришлось заниматься политикой», – писал Лосев. «Есть для меня более высшие ценности, чем политика, и приходилось иной раз политику приносить в жертву этим ценностям». Приходилось прибегать к уступкам ради спасения этих более высоких ценностей. Когда корабль попадает в бурю, капитан сбрасывает в море иной раз ценные грузы, чтобы спасти корабль. Так и Лосеву «пришлось сбросить ряд грузов» и оставить в протоколах допроса «насильственные, путаные и мало отвечающие действительности формулировки». Их, конечно, можно было бы не подписывать, но «выдерживать неимоверный штурм по поводу каждой строки» нецелесообразно, да и отнимает много сил, а результат не достигается. Но некоторые «нелепости и унижения» он уничтожил в протоколах допросов, то есть исправил с согласия следователя. За многие формулировки Лосев даже и не отвечает, так как написаны они не им; а бессмыслицы было много, но не хотелось ломать копий из-за путаницы и глупостей, «надо было беречь силы на более важное».
В результате Лосев поставил следователей перед единственно приемлемой для него антиномией «отрицание Сергия и советская лояльность». «Что же, – значит, диалектика», – сказал однажды на это следователь Казанский. «Да, – сказал я, – и притом выгодная и для вас, и для меня». Это, видимо, удовлетворило следователей, и разговоры на эту тему кончились сразу.
Откровенное описание своего поведения до ареста Лосев считал особенно необходимым после того, как весь церковный архив, и его собственный, и Н. Соловьева, и М. Новоселова, попал в ОГПУ.
Отношение к Сергиевской церкви среди арестованных было достаточно смутное. Тот же М. А. Новоселов с иронией говорил: «В 1913-м не отложились (это когда Св. Синод бесчинствовал на Афоне, изгоняя оттуда имяславцев. – А. Т.-Г.), а в 1927 году отложились». О. Анатолий Жураковский то подходил к знаменитому епископу Феодору (Поздеевскому) за благословением, то не брал благословения. Сам же епископ Феодор фактически разорвал с Сергием только в 1930 году.
Вся эта путаница, нетвердость, колебания, бросания в крайности были чужды Лосеву. «Я старый имяславец, – писал он Валентине Михайловне, – для которого Иосиф (митрополит Ленинградский, в миру Петровых. – А. Т.-Г.) в сущности так же неприемлем, как и Сергий». Лосев прямо заявил, что его «объединение с иосифлянством вызвано ненавистью и оппозицией к советскому правительству».
Вместе с тем А. Ф. не осуждал тех, кто наговаривал на него в ОГПУ («кушал», по выражению Лосева). Но одного человека «не может простить» – Н. Н. Дулова, которого Лосев прямо называет «провокатором» и который «блестяще выполнил свое обещание» («вы меня попомните»), когда его «позорно выгнали из храма» Воздвижения Креста Господня – прихода Лосевых. Это Дулов «связал иосифлянство и, в частности, Воздвиженский храм с повстанческим имяславием». Именно ему было поручено ОГПУ дать отзыв о лосевской «Философии имени», «что он и сделал в виде невежественного, гнусного и отвратительного пасквиля и доноса». Неудивительно, что Дулов «в настоящее время свободно разгуливает по Москве». Интересные сведения дает уже упомянутый М. В. Шкаровский (см. выше) о показаниях Дулова. Этот последний обвиняет московских имяславцев-священников в монархизме, считая имяславцев «своего рода иезуитской организацией с девизом – „цель оправдывает средства“ и приписывая им не только церковную, но и политическую деятельность (с. 343–344, указ. изд.).[197]
С огромным уважением писал Лосев Валентине Михайловне (22/III—1932) об епископе Феодоре, с которым в Бутырках спал на нарах и в лагере был вместе, в одной промерзшей палатке. «Строгость и чеканность, отсутствие расхлябанности, сентиментальности, сопливости», то есть все то, что всегда нравилось Лосевым, притягивало А. Ф. к нему. Это натура «внутренне собранная, величаво уравновешенная и абсолютно неувлекающаяся». Это «объективная натура» и даже излишне объективная. Он, «несмотря ни на что», прощает своих близких друзей, не вполне с ним единомысленных. Благоговейно поминает покойного Н. М. Соловьева, чтит М. А. Новоселова, приемлет как «любимого брата» А. Ф. Лосева. Лосева, привыкшего мыслить логически, епископ Феодор «чарует» строгостью своей мысли «среди всеобщего растления и разложения в Церкви и вне Церкви». А. Ф. не раз говорил мне, что в Московской духовной академии среди всех профессоров-позитивистов и даже неверующих был единственный верующий человек – ректор академии, епископ Феодор, которого либеральное общество считало реакционером.
Вспоминая последние годы перед арестом, все это тюремное общение на допросах, А. Ф. даже задумал написать, как говорилось выше, огромный том о церковных делах того времени. «Я сделаю обязательно»… «если Бог благословит и ты поможешь», – обращался он к Валентине Михайловне. Не суждено было Алексею Федоровичу ни тома написать, ни даже кратких заметок сделать. К счастью, Лосев не вспоминал никогда о тюремных днях. Его ждали огромная умственная работа, книги, от которых его оторвали, и он безоглядно ушел в науку. А если что и записал, то погибло при уничтожении дома на Воздвиженке в 1941 году. Значит, не судьба.
Но вот наконец 28 сентября собрали этап в Кемь, в архипелаг ГУЛАГ. Ехали целой группой вместе с о. Владимиром Воробьевым, Н. В. Петровским, епископом Алексием (Буем), И. Сверчковым, о. А. Жураковским, профессором Бриллиантовым, вместе с профессорами Военной академии, видимо, Генерального штаба.
В это время начали арестовывать и отправлять в лагеря старых «спецов», офицеров царской армии. Вырастали свои, советские, молодые, те пойдут не только в лагеря, а под расстрел, но попозже. Всему свое время.
А. Ф. рассказывал, что еще в тюрьме (а затем в Свирлаге) сблизился со штабньм генералом А. Е. Снесаревым, автором книги «Северо-индийский театр» (1903) (имеется в виду русско-индийская граница). Граница по протяженности маленькая, но очень важная, всегда вызывала пристальное внимание английской разведки. Великобритания не терпела никаких конкурентов в Индии, опасалась на всякий случай и России с ее владениями в Туркестане.[198]
Через несколько десятков лет мы с А Ф. встречали дочь генерала Снесарева в гостях у наших друзей профессора А. М. Ладыженского и его жены Натальи Дмитриевны на Конюшковской улице.
Поезд прибыл в Питер 29 сентября. На следующий день отправились дальше и 3 октября прибыли на станцию Свирь, приблизительно в 250 километрах от Ленинграда. Со станции Свирь этап шел пешком 40 верст (Лосев вместе с Н. В. Петровским и И. А. Сверчковым – на общие работы в лесной лагерь).
Там в течение двух недель Лосев и его спутники трудились на сплаве леса. Однако через две недели А. Ф. стало совсем плохо, особенно ревматизм и глаза. Тогда решили на комиссии перевести его назад, в поселок Важины вблизи Свири. Сыграло ли здесь роль здоровье Лосева или что другое, не очень ясно. Мне в свое время говорила Валентина Михайловна, что в английских газетах были публикации о последнем русском философе на сплаве леса и что это сыграло тоже свою роль. Не знаю, не могу утверждать, хотя в 1931 году, может быть, еще оглядывались на иностранцев.[199]
Там, в Важинах, устроились вместе Лосев, о. Вл. Воробьев, о. А. Жураковский и А. И. Бриллиантов.[200] Лосеву дали сначала «вторую общую категорию» (несмотря на инвалидность), но комиссия перевела во «вторую отдельную категорию». Другая комиссия актировала его по состоянию глаз. Назначили на хорошую работу – сторожем складов лесной биржи.
Самая хорошая работа для человека, привыкшего размышлять в уединении, – восемь часов в сутки сторожить дрова, да еще на воздухе, да еще хорошо, если смена ночная и можно смотреть на звездное небо, а в уме складывать книги, видеть их внутренним зрением.
Так становится понятной привычка А. Ф., рожденная необходимостью, в последующие годы, когда я уже была рядом с ним (начиная с сороковых), умственно обдумывать и формировать готовые страницы книги. Недаром они диктовались без поправок, и память его была необычная. Лагерная тренировка помогла, когда с глазами стало совсем плохо.
Живут столь трудно, что, вспоминая о Бутырках, он испытывает чувство сожаления. Мокрые, холодные палатки битком набиты людьми. Если ночью поворачиваешься с боку на бок, то с тобой должны повернуться еще человека четыре-пять (7/III—1932). Темно, сыро, сплошные нары. Для профессора – лагерные нары сразу и кровать, и столовая, и письменный стол (25/II—1932). Там он карандашом (чернил нет) пишет длинные письма Валентине Михайловне, сберегая бумагу, убористым почерком. Хорошо, что карандашом – сохранился более чем за полвека и даже вода не повредила, а вот чернила в письмах Валентины Михайловны расплылись, и уже не все прочтешь.
Вместе с тем «тут легко зубрится всякая наука». Просит прислать книги по математике. Пока ходит и сторожит сараи, «раздумывает на темы по философии числа» (27/I—1932). «Звездное небо над головой» освящено связью с Валентиной Михайловной, с астрономией, с общей наукой, «которая есть и астрономия, и философия, и математика» (31/XII—1931). Приходит желание написать вместе с Валентиной Михайловной книгу «Звездное небо и его чудеса», чтобы «было увлекательно, красиво, углубленно, математично и музыкально-увлекательно» (27/I—1932).
Человек в лагере «с затаенной надеждой» изучает теорию функций комплексного переменного. И сама-то математика звучит, как «это небо, как эта музыка, как ты» (там же), – пишет он в лагерь на Алтае, где находится Валентина Михайловна.
В уме обдумывается диалектика математического анализа, куда «в строгом порядке и системе входят такие вещи, как ряды Тейлора, Маклорена и Коши, формулы Эйлера с величиной – е, уравнения Клеро, Бернулли и Риккатти, интегрирование по контуру и т. д.» (12/XII—1931). В тюрьме он прошел «подробный курс дифференциальных и интегральных исчислений» и особенно подчеркивал – «под хорошим руководством» (там же). Польза тюрьмы очевидна.
«Диалектическая разработка математики» (там же) – новая задача Лосева. Он ее осуществит позже, вернувшись из лагеря сочинит книгу «Диалектические основы математики». Валентина Михайловна напишет к ней интереснейшее предисловие.[201] В катастрофе 1941 года от книги останется половина. Он будет ее дополнять отдельными статьями. Мы, к счастью, дождались выхода в свет этой работы, начатой в лагере на канале.[202]
Стережет Лосев сараи, и вдруг находит на него лирическое музыкальное настроение. И тогда поет «из большой симфонической музыки и из мелких романсов, арий» (29/II—1932).
Приходят воспоминания, как Валентина Михайловна обратила внимание на философский аспект теории аналитических функций. Теперь сумел привести все эти давние мысли «в стройную диалектическую систему» (22/I—1932). Опять наука, общая для двоих, «которая есть сразу и математика, и астрономия, и философия», а главное, «общение с „вселенским и родным“ (как сказал бы и Вяч. Иванов)» (там же). В уме уже написана книга «О диалектике аналитических функций» и посвящена Ей, единственному другу. Да, признается сторож лесной биржи, «Имя, Число, Миф – стихия нашей с тобой жизни». Подбадривая себя и своего далекого друга, уверенно восклицает: «Еще мы покажем с тобою, где раки зимуют!» (там же). И действительно покажет, только Валентины Михайловны не будет на белом свете. Но в вечности-то все равно вместе.
Философ Лосев – принципиальный враг всякого хаоса, всего неясного, размытого, колеблющегося. Им руководит светоносный Ум и, надо думать, не только Нус античный вообще и неоплатонический в частности (в письмах ссылки как раз на этот Нус – осторожность следует соблюдать).
С полной уверенностью можно сказать, что философ взирает на умный мир, произносит умную Иисусову молитву, в которой наставлял архимандрит Давид, живет и держится логосом, разумным Словом, что было в начале всего, что было у Бога и что было Богом. Оба, Алексей Федорович и Валентина Михайловна, «служители этого ума, чистого ума», которые хотели «восславлять Бога в разуме, в живом уме» (19/II—1932). Поэтому вместо проклятий и стенаний – сострадание и понимание к ближнему. «Старайся на злобу отвечать любовью и лаской, – наставляет он Валентину Михайловну. – Недаром мы жили с тобой… есть на земле и красота, и мир, и светлая глубина любви, и чистая нетронутость дружбы» (31/XII—1931).
Несмотря на страдания лагерного жития, оторванность от науки, от книг, А. Ф. «придерживается оптимизма» (хотя многие смеются над ним), и живет у него в душе «настойчивая надежда» вернуться к письменному столу. Утешая Валентину Михайловну, просит не уподобляться тем, кто охвачен мраком. Напоминает ей с уверенностью, что «видный писатель» не будет сторожить сарай десять лет, что он «только подошел к большим философским работам», по отношению к которым всё предыдущее – «только предисловие» (12/ХII—1931). И вообще «нам предстоит еще большой путь» (там же).
Откуда такая уверенность и прозорливость у человека, к декабрю 1931-го уже отбывшего два арестантских года? Откуда такая твердость мысли среди безбрежного моря слухов, неясности, хаотичной лагерной трясины? Ведь даже книг необходимых нет, а вся библиотека в доме на Воздвиженке выброшена с «верхушки» и растаскивается. Ученый без книг – все равно что Шаляпин без голоса, Рахманинов без рояля. Здесь же не только ученый, но мыслитель и писатель. «Не могу жить без мысли и без умственного творчества. Это мой путь, мое послушание и призвание» (19/II—1932). Не случайно Лосев утверждает здесь не только «призвание», но и «послушание». Он вспоминает, какие необычные формы жизни выработали они оба, те, кого называют супругами. Здесь «соединение наук, философии, духовного брака и монастыря», а это ни мещанам, ни ученым, ни философам, ни людям брачным, ни тем более монахам не представимо.
Эти формы жизни вылились мировоззренчески в синтез всех типов культур, всего полезного, что есть во всех формациях, даже в идеях пролетариата.
«Античный космос с его конечным пространством и Эйнштейн, схоластика и неокантианство, монастырь и брак, утонченный западный субъективизм с его математикой и музыкальная стихия и восточный паламитский онтологизм» – вот стиль бытия Лосевых.
Поэтому они «выше отдельных типов культуры „и внутренне не связывают себя“ ни с одной из них, ибо разве есть на земле такое, что могло бы удовлетворить философа целиком» (23/II—1932). Это ощущение единства всех форм науки и жизни чрезвычайно характерно для философа Лосева с его учением о целостности бытия, не механической связи, а органическом живом единении, осиянном личностью Бога-Слова, держащего в своей длани сотворенный Им из ничего мир.
Трудно при всем молитвенном усердии сохранять покой. Душа живая, рвется, плачет, видит «черную бездну», вот-вот сама станет «трупом», да и мысли о смерти под забором, что и могилы не удостоится, не раз приходят. Человек «закован в цепь», а «бурлят непочатые и неистощимые силы и творческие порывы», «в уме кипят новые… мысли», и сердце бьется в унисон с «мировыми, вселенскими пульсами». Человек ощущает «кипение духовных и душевных сил», «напор к работе, творчеству». А кто он, сей человек? Профессор? Но Советы отвергли этого советского профессора. Ученый? Но он гоним и не признан. Арестант? «Но какая же сволочь имеет право считать меня арестантом». И тут гонимый «не хуже шпаны и бандитов» профессор, ученый, арестант, чье сердце бьется в унисон с вселенскими пульсами, успокаивается и твердо говорит: «Да, я русский философ и монах» (19/II—1932). Здесь он непреклонен, в этом его сила. Но в отличие от «монашеского и философского равнодушия к жизненной текучести» (29/II—1932) влекут его родные мелочи и воспоминания, то романс Чайковского «Ни слова, о друг мой, ни звука…», то лермонтовская «Колыбельная», то картина праздничного масленичного стола с блинами, то «вкусненькое» из посылки Валентины Михайловны и ее родителей, а главное, «небушко» «синее-синее», «глубокое-глубокое», «ясное-ясное», «простое-простое» (27/I—1932). И небушко это она, Ясочка, верный друг, жена, мать и сестра, чьими молитвами он жив.
Так и мечется живая душа – от неприступного светлого и все понимающего ума к «оцепенению» и «помрачению» сознания, от молитвы «Боже, очисти мя, грешного! Боже, спаси мя недостойного, Боже, возвыси мя падшего» (20/II– 1932) к безмолвию в молитве, слезам, чувству покинутости Богом. Только память о ней, разлученной тысячами пространств, «ясный, усталый и светлый образ ее» возвращают веру «в свет, в ласку, в мир и любовь, в благость и промысел Божий» (19/II—1932).
Тяготит сознание прерванности своей работы, своего предназначения. Но что поделать. На воле «задыхался от невозможности выразиться и высказаться». Потому и делал контрабандные вставки в свои сочинения, а особенно в «Миф». Знал, что опасно, но «желание выразить свою расцветающую индивидуальность для философа и писателя превозмогает всякие соображения об опасности». В те годы Лосев «стихийно рос как философ, и трудно было (да и нужно ли?) держать себя в железных обручах советской цензуры» (11/III—1932).
А может быть, и в этой сломанной творческой жизни есть высший смысл. Да, смысл. Его Лосев искал всегда. «В поисках смысла» назвал свою первую откровенную беседу с Виктором Ерофеевым (Вопросы литературы. 1985. № 10), а хотел назвать «В борьбе за смысл», едва отговорили. Было тогда Лосеву 92 года. Так всю жизнь смысл и искал, вот почему бессмыслица пребывания в лагере на великой стройке канала им. Сталина угнетала. Кто его знает, может, и здесь был высший смысл, человеку, даже глубокому философу, не понятный. Видимо, Лосев все-таки подозревал его наличие. «Когда-нибудь, – писал он, – я увижу смысл в этой бешеной бессмыслице» и «улыбнусь своим былым страданиям» (19/II—1932). Более того, в письме от 6 марта 1932 года он прямо признается: «страдания мои нужны миру и мировой истории»… «все это осмысленно». Хочется жить «все равно как, но лишь бы с каким-нибудь маленьким смыслом». Когда-нибудь все равно придет время, чтобы расстаться «не только со смыслом жизни, но и с самой жизнью». «Как осмыслить явную бессмыслицу» лагерного существования?» (14/IX—1933). Выход один: «быть только послушным и смиренным» (6/III—1932). Быть послушным – значит нести послушание, а ведь Лосев – философ и монах в послушании. Во всей лагерной бессмыслице монах сохраняет спокойствие молитвой, а философ памятует платоновского «Парменида» с учением об «одном» и «ином»: «Если есть что-нибудь одно, то все иное (слышишь? Именно все иное) тоже есть (или возможно)» (14/IX—1933).
Несмотря ни на что, вопреки всему, «жить хочется», «мыслить, чувствовать, творить вместе с людьми, с народом, создавать жизнь для себя и других, жизнь хорошую, глубокую, веселую и богатую, жизнь и мысль чистую, уходящую в таинственность глубины, но и ярко плещущую здесь снаружи, красивую, радостную, духовно-сладкую, сильную! И страдать хочется, но так, чтобы от этого расцветала душа» (14/IX—1933). А ведь уже 40. «И все собираюсь жить». Не знал Лосев, что ему предстоит путь в 95 лет.
В. М. Лосева, как уже говорилось, мимолетно видела Алексея Федоровича в Бутырках. Сведения о нем она получила от своих родителей, с которыми трижды встретилась 22 сентября, 2 и 5 октября. Они же передали А. Ф. вещи и деньги. Старики-родители трогательно заботились о своих арестантиках. Отправляют посылки то Валентине Михайловне, то Алексею Федоровичу. Нужен лук, чеснок, да и варенья хочется – сладкое любит А. Ф. А то и сапоги пришлют, ходить по болотам да воде, по дождям и слякоти. Без очков тоже нельзя, одни разбиты, другие украли уголовники, и А. Ф. просит сразу две пары, про запас.
Родители посылают продукты дочери, а она отрывает от себя и пересылает мужу. Кроме того, хлопотать надо, документы передавать в Красный Крест Пешковой, через друзей, знающих ее близко, и начальству в управление лагерями.
Как бы ни утешала Валентина Михайловна, что разлука необходима, «надо нам врозь пожить», – тоже испытание, «сколько людей страдает», «за грехи наши идем в ссылку», – но и ей тяжело.
Живет она на Алтае, прекрасной цветущей земле,[203] в Боровлянке, вблизи станции Соколинская, по Бийской железнодорожной ветке. Здесь смыкаются Сибирь и Алтай, суровые морозы и жаркое короткое лето, роскошные голубые ели, пихты, кедры, горные быстрые речушки, буйное цветение трав, кустов, деревьев с неслыханным ароматом и невиданных размеров. Горы мягкие, складками, холмами уходят вдаль, все в синеве, бесснежные, в лесах, и только гордая Белуха возвышается в ледяном шлеме.
И я видела эти чудеса и вдыхала красоту странных ирисов с ароматом персиков, и с жадностью срывала крупные гроздья черемухи со вкусом хорошей вишни, и ломала красные ветки обильной калины. Разве забудешь жаркий июль и мы, девчонки, будто без роду без племени, стираем нехитрое наше бельишко в быстрой Улалашке (а она стремительно падает в безумную дымящуюся от бега, пены и брызг Катунь) и раскладываем его на бережку, на траве, под горячими лучами, ну совсем как гомеровская царевна Навзикая и ее юные рабыни тоже, не хуже нас, стирали и выбеливали под солнцем юга тонкое полотно. А зимой, когда мороз 40 градусов, но ветра нет и столбы дыма из труб упираются в самое небо, а ты идешь в старенькой шубке и валенках – и совсем не мерзнешь – по льду уснувшей реки меж рядами роскошных голубых елей, а голова полна мечтаний, коим в жизни нет места, и снег чистейший под холодным солнцем переливается алмазной россыпью, совсем как на новогодней хвое когда-то в твоем детстве, в твоем московском радостном бытии. И летом никто не мешает мне, лежа в тени деревьев, открывать для себя впервые Dichtung unci Wahrheit старого Гёте (редкостное издание, вывезенное из Москвы с другими ценными книгами библиотекой нашего института) или нараспев повторять без конца пушкинские строки о том далеком крае, «где пел Торквато величавый и где теперь во мгле ночной адриатической волной повторены его октавы».[204]
Мы голодны и беспечны в этом приютившем нас городишке на краю света, но мы – свободны. Или это нам только кажется? А лишенная свободы Валентина Михайловна удивляется: в этакой красоте – лагерь.
А чего же удивительного. И моя мать томилась в Темниковских лагерях, что в благословенных Саровских лесах святого батюшки Серафима. Вышла она из ворот в новогоднюю ночь 1942 года (а взяли ее от маленькой Миночки в новогоднюю ночь 1938-го – какая удивительная пунктуальность начальства ГУЛАГа – но для этого надо еще превратиться в никому не нужную старую развалину в 45 лет). И шла она по ледяной январской ночи, а вокруг ни души, только волчий вой… Так выходила на свободу, чтобы через тысячи верст добраться до края земли, до Алтая – к дочери. Зато у Валентины Михайловны Лосевой рядом с лагерем отроги алтайских гор, кругом вековые сосны, «чудные, родные, ласковые краски на небе, какие горизонты» (13/XII—1931). А ночи – какие звездные! Только здесь понимает лагерная насельница, что значит «настоящая звездная ночь». А уж восходы и закаты солнца! Сама-то худенькая, малокровная, изможденная, «листик, от родного дерева оторванный». «Кружит ветром, а куда прибьет?» Тяжела неизвестность.
«Я – глубоко одна сейчас», – пишет Валентина Михайловна, но душой с родными среди чужих людей. И не жалуется. Это вообще главная черта Валентины Михайловны. Она никогда не жаловалась. Она выслушивала жалобы и тоску и призывы о помощи, всегда рвалась помогать, чем могла, молитвами, ободряющими словами, книгами, продуктами, деньгами. О себе пишет в тонах бодрых – все хорошо.
В комнате пять женщин административно-технического персонала, просторно, сухо, тепло. Работа статистическая. До службы идти всего километр. Хорошо и это, для прогулки, быть на воздухе. Главное – постоянное место и постоянная работа.
Многое вокруг напоминает, как ни странно, о прошлом. Высокие, гладкие, тонкие, стройные сосны. А вершины их «одеты скуфеечками», и краски на небе и земле иконописные. Осторожная Валентина Михайловна пишет: краски «русская живопись 15–16 века» (6/I—1932), но адресат поймет. Об иконах вспомнила, родная.
И вдруг получила письма, сразу два от 12 декабря 1931 года и открытку от 6 января. Вся прошлая совместная жизнь стала неожиданно настоящим. «Не хочет быть прошлым». Удивляется ученый-астроном, «как наивно-бессильно астрономическое время». Тут же вспоминает знаменитый платоновский миф об андрогинах, разделенных половинках, в поисках друг друга. «Какой живой и реальный опыт» (25/I—1932).
Затворница лагерная думает о воле, строит планы, как жить, где жить потом, может быть, Казань или Ташкент. Там есть обсерватории. Значит, думает о будущей работе. Неистребима тяга к свободе.
После получения писем от А. Ф. делится всеми своими «новостями». Какие уж новости – два года прошло, как расстались. Вспоминает, что делала после ареста мужа, как читала лекции в Горной академии, как собиралась взять лекции в Московском университете с осени. Но судьба судила иначе. Умер о. Давид, через год после ареста в Казани умер Д. Ф. Егоров (пишется, конечно, до наивности конспиративно: скончался «родной старик Дм. Ив.», «его сын Митя» и т. д.), а сама в день свадьбы оказалась вместе с А. Ф., то есть арестовали. И что видела мимолетно в Бутырках, сообщила. Вспоминает, как разрешили обменяться записками 12 марта (этого добилась голодовкой). С гордостью сообщает, как была старостой в камере на 40–50 женщин и как это тяжко при ее строгом характере. Однако характер «не обломался». «А уж надо бы» (5/II—1932). Думает о том, как А. Ф. бродит беспомощный в темноте возле своих складов. «Ночь, гора, грязь, дождь, холод, тьма» (6/П—1932), а она как споткнется, так сразу и вспоминает родного человека с глазами плохими.
Думает о хозяйственных необходимых мелочах: кто стирает, белье чинит, носки штопает? Свою жизнь изображает в красках оптимистических. Живет вольно, только квартира казенная, даже деревянный топчан есть, мечтает о маленькой печке. Работа хорошая, правда, электричества нет, керосиновые лампы, но и это ничего, хочется «провернуть» книги, из Москвы присланные. Трудно. Всегда на людях, никогда не бывает одна. Утром на рассвете, при восходе солнца или вечером в звездные ночи уходит на простор. Восторгается закатами и красотой перед восходом солнца и, глядя на небо поутру, чувствует: «будет, будет нам радость и здесь, скоро увидимся», вспоминает как наяву «родную верхушку», где стояли рядом два письменных стола (6/II—1932).
Время идет. Даже в феврале солнце светит по-весеннему, а «душа просится на зелененькое да на голубенькое». Жить хочется на даче, одним, в скромном Подмосковье без этих сказочных восходов и закатов, зато вдвоем. Память об о. Давиде, опекавшем своих «ребятишек», вся в настоящем. Трудно этим «ребятишкам» жить врозь. Хоть на какой-нибудь верхушке, голубятне поселиться, но вдвоем. И работать, наукой заниматься, а не учетом валки леса. По-особенному ощущает она разлуку и запрет «Диалектики мифа» – «не надо миру знать всю сокровенную глубину нашей жизни» (13/II—1932). Вспомним, что А. Ф. со своей стороны думал иначе – не мог не выразить свою индивидуальность, даже сознавая угрозу ареста. Настоящий философ – тот же художник – внутренний смысл предмета требует своего выражения, сущность должна стать явленной в максимально ощутимой форме, стать исповедью. Валентина Михайловна чувствует в этой отваге и дерзости нечто греховное – отсюда и наказание. А. Ф. признает здесь Промысел Божий. От него не уйдешь.
В 20-х числах февраля (а 23-го именины Валентины Михайловны) заключенная Лосева отправилась в редкостную командировку в город Бийск посетить обсерваторию и выверить метеорологические инструменты. Она теперь не только статистик, но и метеоролог.
Странным показалось ей это как бы свободное пребывание в городе. Пусть маленький, пусть глушь, но есть гостиница, кино, театр и есть еще не закрытый храм. В театре не была, но «музыку послушала». А как хорошо бы 23 февраля, в день именин, послушать вместе «любимую музыку». А. Ф. поймет, о какой музыке пишет друг с Алтая. Пение это церковное. В храме была на службе заключенная Лосева. Нищих видела, слепцов, поют старые стихи. Ходила и подавала нищим. Вспоминает: «Дай Бог подать, не дай Бог просить». И туг же мысль: «Они думают, я человек, а я такая же нищая, да еще арестантка». «А может, и я человек» (23/II—1932), задумывается арестантка. Она всюду видела в первую очередь человека, «горе людское», даже «преступный мир» жалела, «несчастные» «живые люди», утешения нет, а «душа просит любви, утешения» (2/IV– 1932).
И вот это ощущение себя свободным человеком, родившееся в Бийске, натолкнуло ее на мысль соединиться с Алексеем Федоровичем во что бы то ни стало, взбунтоваться, писать в Красный Крест, теребить Пешкову, Винавера, Фельдштейна (если они еще там), друзей, родителей, писать заявления в Новосибирск, прокурору по надзору за ОГПУ, в Москву одному важному лицу во ВЦИК. Просит А. Ф. тоже писать заявление в прокуратуру.
Началась совершенно безумная история, где все перепуталось и смешалось. Приезжали родители Валентины Михайловны навестить своего зятя, привезли продукты, позаботились. Татьяна Егоровна обшила, обштопала, обстирала. Вдруг пришла телефонограмма из 2-го отделения Свирлага об обязательной явке. Заключенному Лосеву заявили, что его переводят на пересылочный пункт для следования в Сибирские лагеря, причем это сообщили накануне этапа.
За два месяца до этого Валентина Михайловна после всех хлопот отправилась с Алтая в Белбалтлаг. 24 апреля она проезжала Свирь. Ехала хорошо, в санитарном вагоне, как медсестра, и 28 апреля сообщила свой адрес: поселок Медвежья Гора Мурманской ж. д., 2-е Водораздельное отделение.[205]
Супруги Лосевы были как будто рядом. «Счастье было так возможно, так близко», говоря словами из пушкинского «Евгения Онегина». Но, как всегда, вредная путаница. Лосев направляет заявление в Управление Свирских лагерей, требует запросить Москву, Тройку ОГПУ, которая ничего не имела против объединения Лосевых.
В результате несчастный Лосев сидит на пересылочном пункте за проволокой, «висит в воздухе», каждую минуту ждет этапа в Сибирь. Есть нечего, купить негде, посылку не получишь, вещи брошены в Важинах у друзей, с собой только самое необходимое. Шпана выхватывает мешки и чемоданы, еще хуже, чем в Важинах, ни одного знакомого человека.
Наконец через неделю, 20–21 июня, пришел приказ «оставить на месте вплоть до распоряжения». Слава Богу, хоть в Сибирь не отправят. А. Ф. боится неопределенности, главное, того, что Валентину Михайловну могут отправить на Свирстрой – «тут жить невозможно», сообщает он (27/IV– 1932). В Медвежку Лосева пока не пускают. Жить можно было бы в городе Лодейное Поле, на частной квартире. На лагпунктах жить вдвоем немыслимо. «Голод, мокрые темные палатки и больше ничего. Изнурительная работа» (там же). На пересылке посадили Лосева в отделение разбирать и приводить в порядок бумаги по 10–12 часов при плохом освещении да без очков – «непосильно для глаз». Делать нечего, иначе «потянут на общие работы – грузить баржи». «Помолись, чтобы я не ослеп», – просит он друга. И еще сам над собой посмеивается: «Я весь, слава Богу, обворован, и теперь почти нет ничего». При этом охватывает чувство чего-то в будущем «великого, лучезарного». Благословляет жизнь, все свои страдания и – благодарит за всё (там же).
Так и живут они как будто рядом, но разделены. Пространство немалое – 300 километров и всё – лагерь, всё – Архипелаг. Он на Свирстрое, она на Медвежьей Горе.
Валентина Михайловна отправляет телеграммы в Москву, к родным, чтобы добились направить мужа из Свирстроя на Медвежку. Наконец, 27 июля из ОГПУ в Москве послана телеграмма о направлении Лосева на Медвежку. Валентина Михайловна, как всегда, бодрится: устроена хорошо, работа легкая, живет в отдельной комнате вдвоем с машинисткой, разрешили каждый день покупать молоко, столовая для теXIIерсонала хорошая, в ларьке полная чаша. Есть библиотека, читальня, даже ученый библиотекарь Г. И. Поршнев (будущий профессор). Можно выписать журналы, кое-что присылают из Москвы, в том числе профессор, астроном Н. Д. Моисеев, научный руководитель Валентины Михайловны, безответно ее любящий. Обидно, что в «Астрофизических трудах» ее родного института напечатана работа с участием Валентины Михайловны, а имени ее нет. Готовится к печати работа, над которой она страдала три года, – и опять не будет имени. Как же тогда диссертация, где бумаги, фотографии из Пулковской обсерватории – ничего не найдешь.
Наука и здесь, в лагере, притягивает. Хочется поближе познакомиться с теорией квант, «прерывность там сливается с непрерывностью», «ведь это все твои темы!» – восклицает она (19/V—1932). Хочет знать, что делается в естественных науках. А потом рассказать А. Ф.: «Ты выберешь, что тебе нужно, изучишь, напишешь книжечку, а я буду с издателями и типографиями говорить» (там же). Живет надеждой на освобождение в октябре—ноябре. Твердо верит, «не бывает же тяжесть не по силам» (там же). И уже фантазирует о встрече. Своей бодростью и радостью покрыть всю горечь, лишь бы увидеть радостную родную улыбку. Солнца нет, листвы нет, цветов нет, сухой вереск, камни, мох, тучи и еще холод. Но все это пустяки.
Любовь «в муке, в страдании, во всей этой полной непонятности» (26–27/V—1932).
Она утешает друга. А тот в свою очередь благословляет путь, по которому они шли и идут. Философия, наука и мудрость о. Давида, афонского старца и о. Досифея из Зосимовой пустыни – «стиль жизни, не понятный, может быть, никому из нашей современности, и русской, и западной» (30/VI—1932). Между делом ждет каждый день из Москвы «писем и жратвы». Пока ничего нет. «Впрочем, все очень хорошо, очень хорошо» (там же).
А вот одни очки разбились, после скитаний по палаткам и баракам, а другие – украли. Без очков работать 12 часов с бумагами немыслимо. Однако настроение «продолжает быть светлым и бодрым» (10/VII—1932), и посылочку старики прислали, «с голодухи съел в 3–4 дня» (там же).
Лосев арестован, а к г-ну профессору А Ф. Лосеву идут письма от известной книготорговой фирмы Карла Хирземана в Лейпциге (Karl W. Hiersemanri) с благодарностью за уплату необходимых сумм в 1929 году (19 июня 1930 г.) и с настоятельной просьбой перевести денежный долг (2 марта 1932 г.), который в течение двух лет пытается получить книготорговец. Как вежливый немец, он просит профессора «не отказать в любезности и принять самые энергичные меры» к переводу следуемой суммы. Господин К. Хирземан остается «с совершенным почтением» «в ожидании любезного ответа». Ответа не могло последовать. Господин профессор зарабатывал себе свободу в лагере на стройке Беломорского канала. Наивный иностранец не мог предполагать таких событий.[206]
Не менее наивен оказался известный профессор философии Артур Либерт, отправив также исправно прибывшее письмо (31 декабря 1935 г.) из Белграда в Москву на Воздвиженку – профессору Лосеву.[207] А. Либерт – профессор Берлинского университета и глава «Кантовского Общества», членом которого был избран Лосев. После прихода к власти Гитлера А. Либерт обосновался в Белграде, но не прекратил своей деятельности. Он создает международную философскую организацию и философский журнал, обращаясь с просьбой к своему русскому коллеге войти в совет, состоящий «из ведущих философов всех культурных стран». А. Либерт ждет согласия от профессора Лосева о сотрудничестве и поддержке важного начинания.
Однако профессор Лосев в это время обивает пороги издательств и вузов, чтобы получить работу. Он вернулся из лагеря отщепенцем, и заграничное письмо принесет ему только непоправимый вред. О каком сотрудничестве с иностранцами можно говорить, если за тобой неусыпно следит ОГПУ.
В 1932 году А. Ф. пишет Пешковой с просьбой ходатайствовать перед Коллегией ОГПУ о поселении вместе с женой в одном месте лагеря, на частной квартире или там, где жить можно вместе, а не бегать украдкой на свидания. Работа тоже требуется устойчивая, без переводов с места на место.
Права была Валентина Михайловна. Не в октябре, а раньше, 7 сентября 1932 года вышел документ, постановление Коллегии ОГПУ об освобождении заключенного Лосева. Через месяц, 8 октября 1932 года, Лосев перестал быть лагерником.
Но куда деваться? Валентина Михайловна еще заключенная. Он принимает решение остаться в лагере вольнонаемным. В Трудовом списке А. Ф. Лосева есть приказ № 104 от 22 октября 1932 года о зачислении на службу в Белбалтлаг старшим корректором проектного отдела, затем ему положили оклад – 180 рублей в месяц и назначили старшим корректором линейного бюро проектного отдела. Продвижение по службе завершилось должностью технического корректора линейного бюро проектного отдела в августе 1933 года.
Оба, Алексей Федорович и Валентина Михайловна, находились в пределах огромного лагерного пространства, но каждый сам по себе. Он работал на Свирстрое вольнонаемным. Она на Медвежьей Горе – заключенной. Уже стали сомневаться – увидятся ли. Виделись изредка, давали разрешение на свидание. Сохранилось одно такое, от 12 мая 1933 года за № 312. Гражданин Лосев (значит, свободный) едет на свидание к заключенной Лосевой. Дают семь суток – и то хорошо. Алексей Федорович 21 июля 1932 года прибыл на Медвежку из Свирстроя. Начал хлопотать о соединении с Валентиной Михайловной; пока разрешали только свидание, правда, недели на две. Во всяком случае, обещают как-то устроить и работу. Через некоторое время освобождают Валентину Михайловну и, наконец, можно пожить вместе, на квартире, а не перебиваться в старой сырой бане. Поселились на Медвежке в Арнольдовом поселке, ул. Фрунзе, д. 10 (квартира Антоновой).
Теперь, когда оба свободны, на длительное житье здесь, на севере, рассчитывать нечего. Стройку канала завершают и начинают переезжать на новое лагерное место, обживать, строить, губить тысячи заключенных уже под Дмитровом. Там опять канал, новый: Москва—Волга, и начальником лагеря тот же С. Г. Фирин, что возглавлял Белбалтлаг. Он потом сам погибнет в заключении в 1938 году.
Ох, уж эти начальники в лагерях. Сохранилась чудом у нас дома фотография, где за столом сидят как раз начальники на фоне лозунга, призывающего бороться за канал. Какие лица, типично лагерные, но не интеллигенты, политические, а настоящие уголовники.
Неясность положения очень беспокоит Лосева, оставаться на канале зимой – значит опять тупая безвыходная работа. Ехать в Дмитров – тот же лагерь, и Москвы не видать. В конце августа 1933-го Валентина Михайловна едет в Москву подготавливать новую совместную жизнь, хлопотать о документах. А. Ф. опять один, с глазами совсем плохо, надеется, что «по вере» Валентины Михайловны все пройдет, но слепота уже грозит. В лагере, как пишет Лосев, содом, идет переезд, собирают ящики, документы, готовят к отправке, потом снова разгружают, разбирают, на службу не ходят, никто не знает, что делать и чем толково заниматься.
Прощается и Лосев с Медвежкой, где все напоминает Валентину Михайловну и прошлый год, когда Медвежка встретила его после свирских мучений тихим, ясным и теплым летом. «Куда ни пойду, – пишет он в Москву, – везде ощущаю какую-то тайную надежду на что-то большое и чудное и везде вижу тебя, твой тонкий и высокий стан, твою измученную чуткую душу» (12/IX—1933). Все дорого – и мост с дырками, и неуклюжее бревно, которое так и не перепилили, и озеро, и зеленые тона лесных ландшафтов, и бутылки керосина, и гудки паровозов – все наполнено Валентиной Михайловной. Даже именины Александра и Ксении празднуют по ее благословению. А ведь это Александр Александрович Мейер и Ксения Анатольевна Половцева, его верный друг. Здесь, на Медвежке, познакомились, духовно сблизились с Лосевыми.[208] Так же, как и началась там дружба с Н. П. Анциферовым. Связи эти сохранили и после лагеря. Помню хорошо приезды к нам на Арбат Ксении Анатольевны из Твери (тогда это был Калинин), где ей пришлось жить (скончалась она в 1949 году), а Н. П. Анциферов имел обыкновение дважды в неделю посещать наш дом – жил рядом, в Афанасьевском. Н. П. однажды рассказал, как он и его сотоварищи заключенные вышли встречать жену Лосева, когда она только что появилась на Медвежке, и как она всех поразила своей необычной красотой не только внешней, но духовной, внутренней.
Чем ближе надежда на единение в Москве, тем больше грусти, вдруг что-то сорвется. Пишет каждый день в Москву, думает о смерти и любви: «Хочется умереть вместе с тобой. А любовь сильнее смерти. Смерть – что? Один момент, вот тебе и смерть. А любовь – вечность» (12/IX—1933). Может быть, это сентиментально, но «единственное утешение» – пес Рыжий, тоже спутник по Медвежке. Он под этой кличкой так и попал в повести Лосева.
Да, срочно уезжать, и ни в какой не Дмитров, а в Москву. Совсем по-зэковски Лосев требует «Пенсию и паек! Давай сюда пенсию и паек! Пенсию и паек давай!» (12/IX– 1933). Чувствует, что одичал за последние годы, привык думать, что умирать надо «все равно на этой навозной куче». Плохо. Только Рыжий – закадычный приятель, с ним не скучно. «Одна ведь приблизительно жизнь и судьба». Только пес с миром переносит собачью долю, а русский философ никак не может привыкнуть к собачьему режиму, хотя – «ко всему можно привыкнуть» (19/IX—1933).
Наконец решается уезжать 23 сентября, навсегда покинуть Медвежку. Но еще задержался. На это есть основания, и серьезные. В трудовом листе указано – уволен по собственному желанию 3 октября 1933 года.
Как ни мучительно ожидание свободы, приходится немного потерпеть, чтобы профессор Лосев по праву вернулся в Москву. Лосевым выданы «красные литеры» – значит, путь свободен без всяких ограничений. Ударники-строители Беломорско-Балтийского водного пути им. Сталина получили награды. Более того, на руках важный документ. Привожу его полностью:
«Управление лагерями, 1-ое отд. 19/IX—1933 г. № 81.
Согласно постановлению ЦИК от 4/VIII-1933 за самоотверженную работу на строительстве Беломорско-Балтийского канала им. т. Сталина с Вас снята судимость и Вы восстановлены в гражданских правах.
Основание: Постановление ЦИК СССР 4/VIII—1933 г. п. 2
За начальника 1 отд. ГУЛАГ ОГПУ
Роспись (Шедвид)
Печать ГУЛАГ
ОГПУ»
Въезд в Москву, в дом на Воздвиженке свободен. Пусть разорена «верхушка» и там поселился энкавэдэшник, пусть утеснили стариков Соколовых, пусть много книг погибло. Зато снова вместе с вечным другом, а книги, они не только будут покупаться вновь, но главное, свои будут написаны. А изданы ли будут? Не скоро, лет этак через 20, а то и больше. Но об этом сейчас не думается. В Москву!
Пусть не думает читатель, что профессор Лосев забыл о своем призвании ученого и писателя, находясь в лагере. Как и в тюрьме, он занимался ликбезом с заключенными, обучал их арифметике, читал лекции, и не только для заключенных, но и для сотрудников ГПУ. Свидетелем одной из таких лекций стал известный историк Н. П. Анциферов.[209] Клуб был полон, многие стояли, допущены были все желающие. Лекция о принципе относительности Эйнштейна с философской точки зрения. Надо иметь в виду, что советская наука была непримирима к Эйнштейну. Этого требовала высшая власть. В лагере читать такую лекцию – дерзость. Может быть, сотрудники ГПУ не очень это сознавали. А впрочем, кто его знает. Закончил Лосев так: «В „Интернационале“ поют: „Мы свой, мы новый мир построим“. Теперь наука строит совершенно новые представления о космосе, представления, которые дают мощный толчок философской мысли». Лектору устроили овацию.
Читал Лосев курс лекций по истории материализма, показав в заключение, что представление о материи сливается с представлением об энергии.
Все это были любимые темы А. Ф. И в «Античном космосе», и в «Диалектике мифа» новая картина мира вытесняет старые научные мифы, владеющие умами. Что же касается материи, то Лосев никогда не делил философию на материалистическую и идеалистическую. Материя и идея у него пронизывают друг друга, составляют целостное единство, дух имеет свою плоть, идея Платона телесна, а материя пронизана духом и только тогда она жива и дееспособна, она – телесное воплощение идей.[210]
Конечно, в лагере нельзя было читать курс по истории идеализма. Думаю, что читал Лосев курс истории философских идей, а назвал его, сообразуясь с обстановкой.
Участвовал он и в кружке «друзей книги», в диспутах по докладам. Анциферов присутствовал на докладе В. С. Раздольского по поводу книги М. М. Бахтина о Достоевском. Лосев сказал во время обсуждения: «Разве можно говорить и писать о Достоевском, исключив Христа!» Н. П. Анциферов даже попросил Валентину Михайловну, чтобы она удержала мужа от таких заявлений. «Всего не перемолчишь», – ответила она грустно.[211]
Н. П. Анциферов вспоминает об освобождении Лосева, его работе вольнонаемным, так как Валентина Михайловна не была еще освобождена. Анциферов рисует замечательный портрет этой женщины с «особой духовной грацией, одухотворяющей все ее движения». Он видит ее, «блестяще образованную, умную, талантливую», но и самоотверженную. Она оставила свою астрономию и посвятила мужу «всю свою жизнь, все силы своей богато одаренной души», «безгранично веря в его великое призвание философа». «Каждая встреча с ними была для меня большой радостью», – заключает Анциферов.
Могу добавить, что Валентина Михайловна астрономию старалась не бросать. В 1935 году она защитила кандидатскую диссертацию, которая была напечатана, об эксцентриситете двойных звезд, работала в Астрономическом институте им. Штернберга при Московском университете, где была аспиранткой, и читала теоретическую механику в Московском авиационном институте с 1937-го до своей смерти в 1954 году. Правда, ее специальность «небесная механика» нашла там частичное применение.
Конечно, А. Ф., его книги, его судьба целиком поглотили Валентину Михайловну, но зато мы обязаны В. М. Лосевой «восьмикнижием» 20-х годов, спасением его в годы лагерного жития и в катастрофе 1941 года.
Уже после кончины А. Ф. Лосева выяснилось, что в лагере, став вольнонаемным и соединившись вместе с Валентиной Михайловной на частной квартире, он получил возможность писать. Философская беллетристика – так можно назвать его произведения, где нашли свое воплощение важнейшие мировоззренческие идеи автора и его лагерный опыт. Думаю, что не так-то просто за короткий срок – с ноября 1932-го до осени 1933 года – создать художественную прозу, достойную большого писателя.[212]
Художественную прозу Лосев начал писать, находясь в лагере. Из письма его жене (30/VI—1932) мы узнаем, что душа его не может мириться с тьмой и хаосом лагерного текучего бытия. Его охватывает «неимоверная потребность писать беллетристику в стиле Гофмана, Эдгара По, Уэллса», и он разрабатывает ряд сюжетов, по его словам, «кошмарного содержания», чувствует «наплыв каких-то густых и сочных художественных образов». Его охватывают «спазмы мыслей и чувств, целой тучи мыслей и чувств» (14/IX—1933). Не поздно ли он, на пороге сорокалетия, мечтает писать? Его увлекает пример Вяч. Иванова, который был ученым, а в 38 лет опубликовал свой первый сборник стихов. Но ведь и Лосеву – 38 лет. «Непреодолимая потребность писать» вначале никак не осуществляется, поскольку даже записать «простую схему рассказа (чтобы не забыть)» нет возможности (30/VI– 1932). Он пишет после объединения с В. М. Лосевой в сентябре—октябре 1932 года, то есть когда оказалось возможным в Арнольдовом поселке на Медвежьей горе снять комнату в частном доме. Самое раннее произведение Лосева «Театрал» (оно-то как раз в гофмановском стиле) завершено в ноябре 1932 года. Литературная работа продолжалась в лагере и дальше. Там же в мае 1933 года начат философско-музыкальный роман «Трио Чайковского». Сразу же после освобождения в ноябре 1933 года пишутся другие, в том числе та, что мною условно названа «Встреча». Видимо, потребность выразить напор мыслей и чувств, главным образом философско-музыкальных и онтологически-жизненных, была настолько сильной, что А. Ф. Лосев, вернувшись в Москву, в 1933–1934 годах работал с особенным творческим подъемом (в это время написан роман «Женщина-мыслитель»). Сюда же относятся повести «Метеор», «Из разговоров на Беломорстрое». Рукописи хранились (они без поправок, набело в толстых тетрадях, никакой машинописи) в ящике письменного стола (издать их было немыслимо), где мирно пролежали до 1989 года.[213]
Алексей Федорович никогда о них не вспоминал, погруженный в науку, и полагал, что прошлое ушло навеки. Издавал после смерти Сталина, с 1953 года, свои работы, наверстывая двадцатитрехлетнее вынужденное молчание.
Тем, кто знает, как А. Ф. Лосев всю жизнь изучал Платона и любил платоновские диалоги, понятны станут в его прозе размышления философа с самим собой, со своими друзьями и оппонентами. Вообще беседа – излюбленная и доступнейшая лосевская форма при изложении самых трудных проблем. Недаром на склоне лет он не раз беседовал, затрагивая философию жизни, и с журналистами, и с учеными, и с молодым читателем (см. журнал «Студенческий меридиан» начиная с 1981 г.). В его диалогах, опубликованных в этом журнале (см. также «Дерзание духа». М., 1988), даже фигурировал вымышленный персонаж, студент-вечерник философского факультета Иван Чаликов, которого многие воспринимали как вполне реальное лицо.
Ряд лосевских повестей связан с музыкальной стихией, с ее колдовским наваждением, с артистизмом, искусством, театром. И это вполне понятно, если мы вспомним музыкальные и театральные пристрастия А. Ф., начиная с юности.
Музыкальные повести написаны в излюбленной Лосевым форме беседы, дружеского диалога, напоминающего нам платоновские диалоги. Как часто бывает у Платона, это диалоги-воспоминания, рассказанные участником беседы спустя какое-то время после давних событий.
Беседы за скудным пайковым чаем («Встреча») или изысканным ужином в помещичьем доме («Трио»), а то и в шикарном ресторане («Женщина-мыслитель») или в номере гостиницы («Метеор») – настоящие застольные беседы, жанр, известный не только у Платона, но у Плутарха, Атенея и других поздних авторов. Иной раз собеседники выступают с монологами, умно и логически изощренно построенными, вызывающими бурные споры и доходящими до абсурдных выводов («Встреча», «Женщина-мыслитель», «Из разговоров на Беломорстрое»). Монологи героев часто имеют исповедальный, автобиографический характер.
Да и повести Лосева объединены одним героем – Николаем Владимировичем Вершининым, музыкальным критиком и эстетиком. Несомненны явные автобиографические мотивы, заметные в личных пристрастиях Вершинина, в его определениях музыкальных форм, в его страсти к точным формулировкам, резюмированным и логически обоснованным.
Герой неожиданно наталкивается на удивительную встречу то ли с певицей («Мне было 19 лет»), то ли со знаменитой пианисткой («Метеор», «Трио Чайковского», «Женщина-мыслитель», «Встреча»), то ли с другом юности, заядлым театралом, каким был и сам автор («Театрал»). Перед читателем разыгрывается настоящее театральное представление, где каждый актер на жизненных подмостках (как не вспомнить значение театральной игры в античной философии, которую продемонстрирует Лосев через много лет во второй части VIII тома своей «Истории античной эстетики»). Неожиданность встречи обрывается такой же внезапной развязкой, всегда драматически-эффектной, но психологически оправданной: убийство героини («Мне было 19 лет», «Женщина-мыслитель»), расставание навеки («Метеор»), гибель всех участников музыкальных вечеров, кроме главного героя («Трио Чайковского»), пожар, как символ сгоревшей жизни («Театрал»), предательство друзей и насильственная разлука в лагере («Встреча»). Здесь же символ случайностей жизни – встреча и разлука на вокзале («Театрал»). Символично и столкновение реальности и фантастики в обыденной, часто неприметной действительности. Символическое колдовство музыкальной стихии оборачивается пошлым бытом («Женщина-мыслитель»), в серое мещанское прозябание входит таинственная женщина в черном, сама судьба, в заурядном домишке в Сокольниках пирует среди сказочной роскоши страшное сборище диких харей («Мне было 19 лет»). Автор создает небывалые мифы об Абсолюте, управляющем миром, о великом артисте, великой любви («Трио Чайковского», «Женщина-мыслитель», «Метеор»), являясь в своей прозе истинным символистом, мифологом и вместе с тем реалистом.
В каждой из «музыкальных» повестей в центре стоит образ знаменитой пианистки, который независимо от ее фамилии – Томилина, Тарханова, Радина – в разной степени является живой персонификацией музыкальной стихии, высшего откровения, опасного колдовства, роковой тайны. И здесь мы наталкиваемся на черты автобиографизма. В этой персонификации загадочных глубин музыки несомненны отблески возвышенных отношений четы Лосевых и М. В. Юдиной, духовная дружба с которой оказалась разрушенной после того, как М. В. Юдина, к удивлению автора, отождествила себя полностью с героиней романа «Женщина-мыслитель»,[214] где автор создал образ сложной, запутавшейся в обыденной серости творческой личности, в которой «земное» и «небесное», «божественное» и «демоническое» оказались в раздирающем противоречии и привели героиню романа к гибели.
Любопытна композиция «Трио» и «Встречи». Она трехчастна. Сначала беседы нескольких друзей на музыкальные темы, затем неожиданное для героя появление знаменитой пианистки, нарастание взаимного притяжения и его крах. Существенную роль играет в повестях соотношение действия и времени. Длительность времени только кажущаяся. Течение времени сгущается, уплотняется. Так, в «Трио» главные драматические события умещаются в три дня – 19, 20 и 21 июля 1914 года, то есть в последние дни мирного времени. События в повести «Встреча» тоже происходят в течение трех летних дней: вечером с семи до часу ночи беседа о музыке; вечером следующего дня с девяти до двенадцати часов встреча у Тархановой, и утро третьего дня – на подрывных работах. Беседы о технике и прогрессе ведутся 1 мая 1933 года в шесть часов вечера в Арнольдовом поселке Медвежьей Горы («Из разговоров на Беломорстрое»). Обе повести заканчиваются внезапно и драматически. Идиллическая жизнь имения Запольских разрушена начавшейся войной. Все участники музыкальных вечеров погибли. Вершинин остается один, едва живой, в походном военном госпитале среди таких же страдальцев. Неразрешимый конфликт Томилиной и Вершинина жестоко разрешает война, события, совсем не зависящие от героев. В повести «Встреча» роковую судьбу подталкивает своенравная героиня, забывая о том, что оба – Вершинин и она сама – лагерники и находятся в крепких руках ГУЛАГа. Подтверждается неизбежность конца и тем, что недавние друзья, Бабаев и Кузнецов, первые подписываются под заявлением, осуждающим их же товарища, собственно говоря, предают его.
Диалог в повести нервный и острый. Участники повестей и рассказов, как и в диалогах Платона, ищут истину, выясняют, что такое судьба, жизнь, любовь, родина, жертва, абсолют, личность, наука, философия, знание, музыка, техника, культура, прогресс, диктатура пролетариата, партия большевиков, социализм – вообще все проклятые вопросы, которые ставит человек, «сосланный в XX век». Правда, диалог умеряется в «Трио» большими речами о сущности музыки, размышлениями героя над игрой Томилиной и мастерством ее интерпретации. Но «Встреча» не имеет таких передышек, и мирный по видимости диалог превращается в нервный спор, а лихорадочный разговор с Тархановой вскрывает бесконечную подозрительность и страх перед провокациями у каналармейцев и героев Белбалтлага, ибо они – заключенные, каторжники, чьи истинные чувства подавлены и закопаны глубоко внутри.
Несмотря на мирную беседу и сельскую идиллию «Трио», в одной из речей о сущности музыки присутствует тот же Абсолют, который повелевает всей человеческой жизнью, не оставляет ни одного ее уголка свободным, связывает волю, обуздывает чувства, воспитывает, исправляет без спуска и без сожаления. У этого Абсолюта все опутано законами, повелениями, заповедями, клятвами, покорностью, отказом от мысли, чувств и себя самого. Этот Абсолют стремится подчинить себе все человеческое и нечеловеческое, и любая точка в мире разлетается в прах при одном его прикосновении. Так возникает перед читателем образ тоталитарной абсолютизации – одной, высшей личности и ее страшной власти. И вдруг мы слышим: «А как хочется жить… чувствуются какие-то огромные силы, неистощимые запасы живой энергии…» И вспоминается «„овитая сумеречными печалями“ любовь». Да ведь это звучит голос автора. Стоит лишь раскрыть письма из лагеря, как мы в них услышим его (ср. у 3. Гиппиус: «овитая радостями тающими»). Этот голос знаком и в словах: «Любовь рождает знание, а познавать значит любить», «любовь всегда талантлива и любящий всегда гениален».
Но если в «Трио» раскрывается сущность музыки сама по себе, то «Встреча» вся построена на анализе взаимоотношений музыки и общества. Более того, общество вполне конкретное – это строящийся социализм. Проблемы, затронутые здесь, были предметом споров в Московской консерватории 20-х годов и в печати.[215]
Служебная роль музыки в обществе – идея, коренящаяся в «Государстве» Платона, – здесь доведена до гротеска. В развитии упрощенных музыкальных форм заинтересованы рабочий класс, коллектив трудящихся, диктатура пролетариата и сам ЦК.
Ирония пронизывает речи собеседников, затрагивающих самые злободневные в те времена темы о классовости науки (таблица умножения для рабочих и буржуазии), о переходной эпохе, политике партии, отсутствии логики и теории (пусть теоретизируют вожди), но зато о верном «классовом чутье» у строителей коммунизма, о социальной утопии, когда мыслят по карточкам, чистом идеализме строителей коммунизма с их верой в «невидимое»; о политике сталинизма с ее придушением личности. Да, все это говорится как будто серьезно, обоснованно, беседу ведут сознательные советские люди, каналармейцы, герои строительства канала. Но эта серьезность оказывается чистейшей иронией, издевательством, тем, что немцы называют «юмор висельников», каторжникам нечего терять, хотя и они имеют в перспективе общие работы. Именно туда и угодил Вершинин, преступивший границы лагерных законов. Друзья его осудили, и верным остался только пес по кличке Рыжий (ср. в письмах Лосева об его друге – Рыжем).
Если в «Трио» вы ощущаете акварельный рисунок нежной природы, пение птиц, «ажурность», «талантливость» и «матовость» жизни (узнаются любимые словечки Лосева), то в повести «Встреча» – грубая, жестокая реальность лагерного быта, хорошо знакомого заключенному каналармейцу Лосеву, который ночевал в темной и сырой бане, а потом снимал комнату в Арнольдовом поселке на Медвежьей Горе, там же, где его героиня Тарханова.
В повести «Трио» не редкость музыкальная ритмичность изысканных эпитетов в сочетании с богатейшей синонимикой (например: «все – мнимо, иррационально, невесомо, бесстрастно, все – тонко, ажурно, извивно, несуще, все – идеально-беспочвенно, фиктивно, все занятно, глубинно, ненадежно, все коварно, любовно, интимно, капризно, все нервно, взрывно и безнадежно, все сладко, умильно, сладострастно, все бесполезно, беззаконно и судорожно»).
В повести «Встреча» рассуждения о музыке, наоборот, пересыпаны лагерным жаргоном (этих словечек множество: «задымачивать на гармошке», «зажаривать» «Аппассионату»; джаз – «музыкальная смычка с капитализмом», «ну-ка, спец, гони ответ», «значит, сударыня, перегиб», «бузотерство» и многое другое). В диалог вкраплены анекдоты, присловия («трамвай не нравится, советская власть надоела, царя захотели»), поговорки («Ехать, так ехать! – сказал воробей, которого кошка потянула из клетки»; «Недурно для начала, – сказал турок, которого посадили на кол»), которые сам Лосев частенько повторял в жизни. Здесь же – пародирование газетных статей, официальных выступлений, приказов, политической и общественной терминологии, знаменитых выражений из классической литературы (например, «исходя из основ марксизма и коммунизма прихожу к упразднению музыки», ср. с формулой Шигалева из «Бесов» Достоевского – «исходя из безграничной свободы…») и даже собственных слов автора (ср. мысль о том, что всю жизнь «мешают разные обстоятельства», и слова в книге Лосева «Очерки античного символизма и мифологии», 1-е изд., с. 3).
Самое же главное, что открывает нам трагедию философа, брошенного в лагерь, это знаменитые слова Вершинина: «Никакой режим не терпит, чтобы его до конца понимали и продумывали. Да и вообще никто и ничто на свете этого не любит. А философ как раз хочет все понимать». Сам Лосев в своей книге «Диалектика мифа» до конца понял и продумал мировоззрение того режима, в котором ему суждено было жить. Заплатил он за понимание – лагерем. Надо только удивляться, что и у Лосева, и у его героя Вершинина еще оставались силы. Им было по 36 лет, они так хотели жить, а значит, продолжать мыслить и писать.
Трагическое и комическое сопутствуют друг другу. Похвала революции с риторикой, переходящей в пародирование сталинской речи, замечательно представлены в страстном монологе марксиста Абрамова («Из разговоров на Беломорстрое»). В «Театрале» сон героя дорастает до патетической пародии. Поиски счастливой жизни косноязычным мещанином в косоворотке и кепке оборачиваются царством хохочущих обезьян, господствующих над миром во главе с универсально-мировым орангутангом, издевающимся над всеми сферами бытия, небесного, земного и преисподней.
Как не вспомнить Платона. Платона, который устами Сократа («Пир» 223 а) утверждал, что «один и тот же человек должен уметь сочинить и комедию и трагедию и что искусный трагический поэт является также и поэтом комическим».
Особенно характерна для понимания идей Лосева никак не связанная с музыкой повесть «Из разговоров на Беломорстрое» (1941). Это размышления о философии техники, которые переходят в мысли о прогрессе и наконец забираются еще глубже в философию жизни. Перед нами опять развернутый диалог, действие которого твердо фиксировано 1 мая 1933 года, первым праздничным днем после напряженной двухмесячной работы. Собеседники-каналармейцы собираются в Арнольдовом поселке на квартире все того же Николая Владимировича, где за столом с извечным самоваром и скудным, хоть и праздничным пайком начинается примечательный разговор.
Николай Владимирович – alter ego Лосева, ударник, каналармеец, энтузиаст стройки, мастер в диалектике, вступает в спор с Абрамовым. Вместе с тем любимые лосевские идеи выражают еще некоторые собеседники. Так, Борис Николаевич рассуждает о целостности космоса, Канте, Гуссерле, о созерцании идей, об идее как модели бытия и фигурном символе вещи, будучи завзятым «советским платоником». Харитонов оказывается филологом с писательскими замашками. Это он считает, что «мысль судить нельзя», высказывает замечательные суждения Лосева об организме в его живой целостности и механизме, о неразрывности слова и дела, а также о своей собственной мистике у большевиков. Знакомые лосевские суждения о непознаваемости судьбы и Боге, о целостности мира, который существует целиком в каждой своей отдельной части, – что тотчас же клеймится Абрамовым, ортодоксальным марксистом, как «поповство», – мы слышим в речи Елисеева.[216] Слова Николая Владимировича об идеализме большевиков в СССР и Михайлова о действительности, превосходящей всякую фантастику, напоминают мысли из «Философии имени» и «Диалектики мифа». Слова того же Николая Владимировича о том, что у нас каждый мещанин мудрее Канта и Гегеля, или слова Харитонова, что Гёте ближе нам, чем Деборин, Луппол и Варьяш, вспоминаются, когда читаешь у А. Ф. Лосева в «Предисловии к истории эстетических учений» 1934 года[217] о каждом мелком чекисте и деревенском комиссаре, которые «одареннее и глубже целых тысяч скучных Дебориных и Аксельрод».
В повести множество реальных примет времени, когда герои боятся, с одной стороны, забрести в философский спор, а с другой – опасаются, не будет ли разговор о канале более конкретен, чем надо. Они все время сбиваются со своего пути, хотя слушатели уже напоминают о грозящей им статье УК 58–10. Здесь же произносятся расхожие клише 30-х годов об исторической необходимости канала, революции, социализма, о роли и величии Сталина. В этот патетический момент все разражаются аплодисментами, вызывая в памяти знаменитую газетную ремарку: «бурные аплодисменты, все встают и приветствуют вождя». Упоминания о жалких теоретиках диалектики и механистах – несомненный отзвук известной философской дискуссии конца 20-х годов между последователями Деборина – так называемыми диалектиками, и механистами – Аксельрод, Скворцовым-Степановым, Варьяшем и др. Рассуждения о большевистском гуманизме («наш гуманизм построен не только на любви, но и на ненависти») невольно напоминают декларацию о социалистическом гуманизме Горького. Страшная реальность в словах о том, что один звук, произнесенный Сталиным, гениальнее и действеннее всего этого писка «теоретиков», каждый камень канала, каждый синус и косинус проектов гениальнее, нужнее, историчнее, мистичнее сотен книг теоретиков.
Стоит обратить внимание на всю эту расхожую вульгарную фразеологию Абрамова и наклеивание ярлыков, характерные для жизни социалистического человека. Здесь лево-буржуазный материализм, метафизика и контрреволюция, либерально-интеллигентский метод, гнилой либерализм, фашистский неофеодализм, мелкобуржуазное бунтарство, эстетствующее рантьерство и т. д. и т. п.
Эта фразеология достигает в повести А. Ф. Лосева афористической четкости. «Единственно, чем можно убедить утонченного интеллигента, – поркой», «жизнь сурова, а техника – весела»; «социализм, когда сильнейший ест, сколько хочет, а слабейший тоже ест, сколько хочет», «суровый коммунизм великолепно уживается с негритянским лупанарием»; «нельзя быть таким здоровым… надо побольше нервов… мы – нервные люди», «мера нужна там, где есть порка… Если нет порки, то что же именно умерять… где нет порки, там нет творчества, не говоря уже о воспитании… Наш гуманизм построен не только на любви, но и на ненависти. И мы порем тех, кого любим…»
Выразительна газетная риторика ортодоксального марксиста Абрамова, иной раз переходящая в пародирование сталинской речевой манеры, когда каждая фраза начинается с ударной анафоры. Например, «мы отвергаем» повторяется четырежды, вслед за этим задается риторический вопрос: «Где же наш коллектив как живая индивидуальность? Где тот мозг, то сердце, тот живой организм, который ориентирует нас в мире, в жизни…» И, наконец, заключительный ответ: «Эта живая действительность есть наш вождь, и мудрость вождя и есть мудрость диктатуры пролетариата». В последней речи Абрамова настоящая похвала мировой революции: «Клубится, клокочет и бушует революционная лава… перед нами рушатся миры в сплошную туманность… Рождение и смерть слились до полной неразличимости… Мы гибнем в этом огненном хаосе, чтобы воскреснуть… имя этому огню мировая революция…» Страшно звучат слова о том, что в новое небывалое царство солнца, света и радости ведет одно из счастливых преддверий – Беломорстрой. «Вылезайте все, – уже истерически кричит Абрамов. – Если надо умереть, умирайте все! Верьте в чудо истории, вас воскрешающее».
Что делать человеку, если он «сослан в XX век, в определенную социально-историческую эпоху», если ему навязана борьба, чуждая и непонятная? Что делать человеку, если еще значительнее «бессрочная ссылка в жизнь вообще», где царит «мстительное и беспомощное безумие»? Остается апеллировать к абсолютному разуму, но для большевиков на канале – это хлам, и никакого абсолютного разума нет, а все рассуждения на подобную тему они считают поповством.
Собеседники на канале в своих первомайских речах, в день праздника трудящихся всего мира так и не соблюли меру. Рассуждения о технике привели их на опасную стезю философствования и в конце концов вылились в понимание советской действительности как трагедии и трагического дифирамба.
Пролог «Душевный мой град»
Теперь подошло время наконец вспомнить, как началась моя новая жизнь в доме на Арбате вместе с дорогими мне людьми. Здесь уже не документы давних времен, которые я сама не переживала. Здесь я живой свидетель, сострадающий друг, горячий участник общего нашего бытия.
Но хотя мой совместный путь с Алексеем Федоровичем и Валентиной Михайловной начался с 1944 года, а в 1988 году я осталась одна, мне трудно и как-то неудобно вспоминать. Может быть, потому, что книга, которую осмелилась писать, не обо мне, о нем, об Алексее Федоровиче Лосеве, а я только спутник этого замечательного человека, хотя и занимаю, как он говорил, особое место «в иконостасе его души». Может быть, потому, что пришла я девочкой в этот дом, а сейчас мне далеко за семьдесят и жизнь промелькнула так быстро, как будто ее и не было вовсе, а остался лишь один факт «Алексей Федорович Лосев». Все десятки лет в каком-то свернутом виде, свиток, который не развернуть. Душевный мой град.
И браню себя, почему не вела дневник, почему не записывала день за днем. Ведь есть у меня сейчас Diarium, где все, что связано с делами А. Ф., фиксируется. А может быть, потому, что рядом со мной, в этой жизни, нет А. Ф. и дела его как бы замещают его присутствие и, записывая их, я непрестанно с ним общаюсь, не только мысленно, не только в сновидениях (вижу его часто и даже записываю эти сны), но именно в деле. Ведь наша с ним жизнь была одним общим делом. Он думал, диктовал, записывал, создавал свои книги, а я их выводила в свет.
Вот также поступала бедная, любимая моя (не могу вспоминать о ней без слез) Валентина Михайловна, моя Мусенька (матерью не могла ее назвать, не изменив своей родной по крови, но вот это ласковое и детское «Мусенька» тоже было неким замещением глубочайшей материнской по духу связи).
В далекие 20-е годы, силой своей молитвы и любви, через все препятствия печатала она те книги, теперь торжественно называемые «восьмикнижием». Да, она знала, что такое чудо, и, помолясь горячо и с твердой верой, шла к высоким чиновникам, добиваясь разрешения на печатание. Мне же, малой и грешной, не обладавшей ни такой неистовой верой, ни такой неистовой силой любви и молитвы (но ведь, как писала Мусенька в одном из лагерных писем, «не бывает тяжести не по силам»), тоже приходилось, будучи совсем юной и неопытной, еще при жизни Мусеньки (сил у нее уже не хватало) хлопотать о судьбе А. Ф., об его книгах, о работе.
После ее кончины в 1954 году уже все легло только на мои плечи, и я продолжала, как положено, ходить по издателям и высоким чинам ЦК ВКП(б), по министерствам и Академии наук. Не знаю, как, чем убеждала я их. Может быть, молодой уверенностью в правом деле, может быть, и красотой (говорят, я была красива), может быть, странным парадоксом – дочь многим памятного в Москве Алибека Тахо-Годи, памятного как человека хорошего, но почему-то врага народа, в те страшные времена не боится защищать опального профессора Лосева.
Я, видимо, и сама не сознавала всех опасностей, подстерегавших меня, когда приходилось непрестанно защищать А. Ф. от людей, имеющих силу уничтожать. Но на эту страшную силу находилась всегда другая, и, как ни странно для 40—50-х годов, сила добрая, отводившая беду и восстанавливающая справедливость. Очень часто эта сила исходила от больших людей, для многих вредных и злых, но ко мне оборачивающихся каким-то скрытым в глубине расположением.
Сколько раз помощь оказывали люди небольшие, тайные сочувственники, потаенные, читатели Лосева, сами удивлявшиеся своей хитроумной смелости.
Господу Богу или, если хотите, Судьбе было угодно послать меня, девочку из совсем чуждой Лосевым среды, но уже подготовленную к другой жизни. Ведь недаром в маленьком шелковом голубом мешочке у меня зашит был самодельный крестик.[218] Так мне уготован был свой крест, счастливый, своя ноша, радостная, несмотря ни на что.
Все бесчисленные факты нашей с А. Ф. жизни – 44 года, включая и десять лет с Мусенькой (1944–1954), сливаются в какую-то предельно насыщенную, плотную, тугую, пульсирующую точку, в одно-единственное мгновение, не членимое на какие-то механические отрезки.
Так и вижу А. Ф., Мусеньку и себя в вечности, в «неподвижном солнце любви», той любви, что движет светилами.
Мы сидим в саду, на даче, в деревне Опарихе (вблизи Быкова по Казанской дороге), где жарко зреют бескрайние овсы, где бабка Татьяна смиренно кланяется, низко, чуть ли не до земли А, Ф. и почему-то считает его чуть ли не митрополитом. Действительно, почему? Лосевы живут летом 1945 года там, куда увлекла их чета Тарабукиных. Вижу их – великолепный, медлительный, со взглядом зорким Николай Михайлович, как будто и забывший о том, что советская власть погубила его мощный талант прозорливца в мире искусства. Всегда оживленная, изящная и прекрасная до последних лет жизни Любовь Ивановна (сестра поэта Георгия Чулкова), красотой которой восхищался Бальмонт. Он, правда, многими дамами восхищался.
Тарабукины всегда строили летние планы – быть рядом с Лосевыми. Иной раз удавалось, а иной – и нет. Часто предпочитали отменный санаторий дачному приволью.
Но этим летом все рядом, по соседству, Любовь Ивановна – художник и пишет преимущественно цветы. Вот и сейчас ее пестрый букет, подаренный Алексею Федоровичу к его дню рождения, уже в годы 70-е – висит в нашей арбатской столовой, а еще есть где-то припрятанные одуванчики. Николай Михайлович – суровый, изощренный судья художников мирового масштаба – к цветам Любови Ивановны снисходительно добр. А на меня, однажды одобрительно упомянувшую прерафаэлитов, посмотрел как-то подозрительно – откуда, мол, у этой девочки мнение, совпадающее с моим, личным. Зато Рериха он нам с Валентиной Михайловной так основательно раскритиковал, что отбил всякую охоту восхищаться предметом всеобщего поклонения. И скатерти любил чистые. «Нет, уж лучше клеенка, чем эта ваша с кофейными пятнами», – брезгливо говорил он Валентине Михайловне, и та покорно убирала некогда белую скатерть – сил не было содержать все в порядке, особенно после той фугасной бомбы, которая уничтожила дом, где жили Лосевы.
Да, Николай Михайлович был истинный джентльмен: и лицей окончил, и каждый день надевал свежую крахмальную сорочку, и брился дважды в день, и носил черную бабочку. Но А. Ф. называл Тарабукина попросту «Николай» и на «ты», а тот почтительно и очень внятно (он очень внятно и как-то вкусно выговаривал слова) произносил: «Алексей Федорович, Вы». Может быть, поэтому он, хотя и с опаской, но все-таки достаточно снисходительно встретил у Лосевых появление ученицы (сам всегда был окружен поклонницами из ГИТИСа, где преподавал), не считая меня серьезным соперником в привязанности к Лосевым. Не то, что, по его словам, предательский шаг ближайшего друга, своего и Лосевых, Николая Матвеевича Гайденкова, который взял да и женился вторым браком на молодой и милой Ирине.[219] Никак не мог примириться, хотя Ирина была верным и надежным спутником безвременно ушедшего Николая Матвеевича.
Спасибо Тарабукиным, что устроили на лето для Лосевых эту непритязательную Опариху среди бескрайних овсов. Туда приезжала я из Москвы, иной раз дважды в день (надо было что-то прихватить из книг для А. Ф. или сбегать по его поручению к какой-нибудь старушке[220] и отнести ей от Лосевых так называемую пенсию – ежемесячная помощь не должна опаздывать).
Бывало, такая радость охватывает – разрешено приехать к своим, родным людям. Забежишь из общежития на Усачевке на соседний рынок, накупишь охапку ландышей («На свадьбу или на похороны?» – спрашивали бабки) и едешь с цветами и книгами до Быкова, а оттуда минут 35–40 пешком до Опарихи. Вот счастье-то.
И сидим мы в садике на зеленой травке, под легкой тенью берез, на старых одеяльцах байковых, тоже зеленых. Валентина Михайловна прозвала их, памятуя Блока, «зелеными попиками». А. Ф. называл их смешно «хоботьями».[221] Сидим, теплый день пригревает. Так бы и сидела всю вечность. Читаем «Кормчие звезды» Вяч. Иванова, «Прозрачность» и «Cor ardens».[222] Чувство такое, что «земные плены» уже оставлены и мы воссели «среди царей». А то Валентина Михайловна начнет в который раз удивляться: «И откуда этот кикиндель к нам пришел? И как же он появился?» Смеясь, называли меня каким-то детским именем, нарочито испорченным, от kind – дитя.
Валентина Михайловна любила побаловаться со мной как с маленьким ребенком, и сладко было, лежа на этих жалких зеленых одеяльцах, щекотать Мусенькину щеку сухой былинкой, приласкаться к ней и вместе с ней посмеяться над строгим Алексеем Федоровичем, которого мы шутя называли в обиходе Ханом.
Он был у нас самовластный грозный владыка, больше всего не мог терпеть женских слез. Мы обе это знали – Валентина Михайловна издавна, а я на опыте очень скоро – и потому никогда не плакали и не жаловались.
Да, счастливое было время – и это конец войны, моя встреча с мамой, Ниной Петровной, приехавшей во Владикавказ (тогда он назывался Дзауджикау) с Алтая, из города Ойрот-Тура, куда она явилась из мордовского Темниковского лагеря (была там пять лет) ко мне, своей дочери, через тысячи километров пути в снежные январские сумерки.
Я вернулась с пединститутом из эвакуации в Москву в 1943 году, а маме въезд в Москву закрыт, и она после многотрудных хлопот своего брата профессора Л. П. Семенова получила разрешение соединиться с ним в доме своего детства во Владикавказе. Мне же пришлось увидеть ее там летом, когда еще шла война, но уже далеко на Западе.
Весь путь на Кавказ был усеян разбитой военной техникой, и пассажиров встречали разрушенные вокзалы, сожженные дома и села.
Чтобы повидать маму, побыть с ней, я покидала Лосевых, и так было ежегодно до 1954 года. Сердце рвалось к многострадальной маме, в город у подножия Столовой горы, в город, над которым величественно царствует Казбек, где на жарком солнце сладостен аромат роз, к вечеру резеды, а ночью дышит душистый табак, белый и розовый. Да, сердце разрывалось, раскалывалось надвое – хотелось к маме. Хотелось и под сень березок, на «зеленые попики» (они до сих пор у меня в дачных вещах и служат мне летом), быть рядом с Мусенькой и Ханом. Но они, эти «взросленькие» (так я их называла), были мудры и всегда в конце концов отсылали меня на Кавказ, глубоко почитая мою бедную мать не только из-за нашего с ней кровного родства, но, как я теперь понимаю, и как со-узницу, со-участницу в общей судьбе. И Лосевы, и мама – бывшие лагерники. Только тогда лагерное прошлое Лосевых оставалось для меня тайной.
Тяжело жить с раздвоенным сердцем. Тем более тяжко родной маме выслушивать наивные восторги о каких-то загадочных взрослых друзьях ее юной дочери. И, видимо, этот внутренний трепет моей души был столь явен для проницательной Валентины Михайловны, что, прощаясь со мной на лето 45-го, она сказала: «Ничего. Поезжай. Еще там замуж выйдешь. Ты ведь красивая». Мы стояли в дверях арбатской квартиры, в сумерках расставания, и здесь я произнесла слова, памятные по сей день: «Я буду с вами всю жизнь. Я вас никогда не покину». Я родилась в 1922 году. В этом же году Валентина Михайловна и А. Ф. были обвенчаны в Сергиевом Посаде о. Павлом Флоренским. Я уже знала об этом и втайне считала себя духовной дочерью Лосевых. Это была, может быть, мистика, наивная, но исполненная веры, которая отметала всякие сомнения в правильности принятого решения и в том, что именно такая судьба меня ждет, что она уже стоит при дверях, рядом с нами. Только мы прощаемся до осени, а судьба нас уже встретила и не думает расставаться.
Как трепетало сердце, когда осенью я звонила в дверь московской квартиры. Я-то на месте, я знаю свой путь, а вот как они, и первая мысль: живы ли? Почему-то эта мысль меня страшила по приезде каждый год, и я всякий раз прислушивалась к издалека идущим шагам. Она ли? Оба ли на месте?
И также, помню, в зимние снежные сумерки колотилось мое сердце в алтайском городишке, когда кто-то из девочек крикнул: «К Тахо-Годи приехала мать!» Я бросилась бежать по шаткой деревянной лестнице общежития во двор. И там, под серым платком узнала родные глаза. Мы обнялись у ворот. На месте. Жива. Со мной.
Часть четвертая
Вот и обступили меня со всех сторон воспоминания. Стоит только начать, а покоя уже нет. Я человек прошлого. Будущее всегда неясное и чревато опасностями, а прошлое, оно всегда с тобой, отнять его нельзя, и даже Господь Бог не может бывшее сделать небывшим.
Да, я живу памятью, но памятью в себе, не для всех. Наверное, поэтому так трудно писать воспоминания – их обязательно кто-нибудь прочтет (да их для того и пишут). Неважно, что прочтут, Бог с ними. Мне важно сказать, произнести хотя бы мысленно то, что хранится глубоко в памяти и живет с тобой ежедневно, еженощно и становится настоящим, заслоняет настоящее, часто грустное и тяжелое. Я не жизнерадостный человек, не ловлю счастливого мгновенья, не наслаждаюсь каждым днем. Говорю спасибо Господу, что день этот и ночь эту даровал мне, пусть и не беспечальную, но даровал. Может быть, эта страсть к прошлому, становящемуся настоящим, служит защитой от мирских треволнений, которых столько пришлось пережить. Но думаешь иной раз: нет, мало пережила, Господь миловал, стыдно жаловаться, если вспомнить великое счастье, дарованное мне, – встречу с Алексеем Федоровичем и Валентиной Михайловной.
Предчувствие неясное будущей встречи заложено было во мне с детства. Встречи таинственной, ни на что не похожей, ну совсем как в балладах Жуковского, столь любимых. Переписывала их в альбом, хотя книга была всегда под рукой. Но так – ближе, всегда с тобой. И еще Вальтер Скотт! Ну как же, неведомый рыцарь, в черных латах, в черном забрале с черными перьями, и глаза – голубые или зеленые (так романтичнее). С удивлением потом увидела – у Алексея Федоровича зеленые глаза с голубизной. А почему не Лермонтов, у которого есть и рыцарь, и загадочный оруженосец, Смерть, что поддерживает стремя усталому воину, коему тяжко под черным забралом? Или Байрон – с его мятежными героями, или ранний Блок – Прекрасная Дама, высокий замок, роза и крест, черный рыцарь, что мчится в бой, не подняв забрала, и дева, посылающая его на смерть белоснежною рукой. Блока эти стихи даже на немецкий (почему именно на этот язык – не пойму) переводила.
Жизнь фантастическая, нереальная – скажете. Но жизнь, которая с десятилетнего возраста и до 21 года цепко держала меня в плену. Рисовались рисунки, писались повести и стихи, то наивные, детские, то в загадочных символах (а символистов еще и не читала), то подражания английской Озерной школе, очень любимой; а то «Тристан и Изольда» или «Песнь о Роланде», которую читала по-старофранцузски и с упоением разбирала оксфордскую редакцию текста, а то и Данте в прекрасном итальянском издании под взыскательным взглядом загадочного Б. А. Грифцова.
Прямо как пушкинская Татьяна с ее снами в ожидании героя. Недаром с детства Пушкин был читан-перечитан, а особенно в «Евгении Онегине» все, что связано с Татьяной – на мой лад романтической героиней.
Жить не хотелось. Недаром в свой день рождения 26 октября 1941 года написала о тоненькой нити, которую обрывает неумолимый Рок.
Одиночество давило, настоящее ощущение одиночества. Дом с детства разорен, отец скорее всего погиб[223] (живет только в мечтах), мать в лагере, младший брат погиб, другой где-то воюет. Одиночество заставило в двадцать лет сравнить свой никчемный возраст с половиной земного жизненного пути у Данте и с вызовом заявить: «Я ставлю точку – и не боле», а в двадцать один год и того лучше: «О, как горек отечества дым. Смерти хочется».
В памяти вставали картины прежней, счастливой жизни, с которой я рассталась в ночь на 22 июня 1937 года. Заботы любящих родителей, подарки к праздникам, прекрасные книги (вопреки нелюбимой школе), русские классики, французские, немецкие, английские – красные с золотом, с замысловатыми орнаментами, Большой театр и первая опера «Сказка о царе Салтане», и мы, дети, радостные, в «царской», главной ложе, погруженные в феерию Римского-Корсакова. Старинный парк моего детства на берегу Москвы-реки, где прохладные липовые аллеи, пруды, мостики, обилие цветов и плодовых деревьев. Все дорого – и даже наказание за детские шалости, когда отец усаживал рядом со своим письменным столом и надо было, ничем не занимаясь (вот это-то ужасно!), спокойно сидеть, наблюдая за работой отца, и за геройскую выдержку получить ожидаемое прощение.
Вспоминались из прежней жизни друзья нашей семьи – зеленоглазая тетя Нафисат, внучка Шамиля, и особенно любимая мной тетя Ксеня Самурская, настоящая московская красавица.
А Кавказ, а Дагестан – родина отца и аул Гуниб – крепость, вознесшаяся над бездной, где в спускающихся террасами садах виноград обвивает мощные стволы деревьев, журчит вода и зреют лучшие на свете персики. Так и стоит перед мысленным взором белая ротонда над камнем, где князь Барятинский принял сдачу в плен гордого имама. Целые поля огромных ромашек – розовых, синих, лиловых, заросли черники и костяники, упоительный горный воздух – все сияет под жгучим солнцем и зовет в прохладную тень орешников.
Какое наслаждение лазить по горячим сланцевым скалам (там шуршат серые ящерки), бегать босиком, не боясь острых камней, забираться в каменные ванны с их теплой, нагретой солнцем водой. Как ощущалась нами свобода среди этих невиданных просторов и как печально смотрели мы на раненого орла, узника с желтыми мрачными глазами, тяжелым клювом, когтями, вцепившимися в корни старого ореха.
Надежда на счастье жила в наших сердцах, когда мы всматривались в непроглядный мрак южной ночи, а сверху падали одна за другой звезды, целый звездный дождь, и мы успевали загадать заветное желание. У меня теперь было только одно – встретить моих родителей, обрести снова нашу распавшуюся семью. Или обречена я на одиночество и воспоминания, от которых щемит сердце.
Да, кончалась жизнь. Я и не подозревала, что она вот-вот только начнется. Все томление духа, и тоска, и одиночество, когда свет под желтым абажуром в чужом окне кажется тебе пределом счастья и уюта, – все это мгновенно рухнуло, ушло в небытие со всеми черными рыцарями, прекрасными девами и высокими замками. Все рухнуло, чтобы не возвращаться. Это было чудо. А люди еще сомневаются в чудесах. Кто же сказал, что чудес не бывает?
Начиналось же все очень прозаично. Я кончала институт. Педагогический им. Ленина. Слава Богу, что я кончала именно его. Спасибо профессору Металлову, который столь пренебрежительно вел себя со мной на собеседовании в ИФЛИ. Ну, как же, дочь врага народа. В моей автобиографии с 1937 года я честно всюду писала об аресте отца и матери. Отца в Москве все знали, кто был связан со школами и вузами. Ведь он работал в Отделе школ ЦК ВКП(б). Скрывать при всем желании нельзя, да и как-то стыдно было прятаться. В общем, в ИФЛИ меня не приняли.
Через много лет этот же профессор Металлов приглашал меня читать античную литературу в Литинститут имени Горького Союза писателей СССР, где он недолго заведовал кафедрой зарубежной литературы. В большие вузы ему к этому времени доступа не было. Я была молодым кандидатом наук, имела ставку в Московском областном педагогическом институте, и хотя было лестно приглашение в писательский вуз, но я отказалась. Противно было. Вот и все. Уже потом, с 1957 года, я с удовольствием стала читать античную литературу в Литинституте и на Высших литкурсах (Новелла Матвеева и Римма Казакова в это время там учились) и проработала в этом доме на Тверском бульваре (ходила туда с Арбата пешком) тридцать лет – при В. А. Дынник, при С. Д. Артамонове. Ушла, когда заболел Алексей Федорович и стало трудно соединять Литинститут с кафедрой классической филологии МГУ имени Ломоносова, где я в 1958 году начала работать и где мне выпала доля заведовать кафедрой целых 33 года. Господи, как идет время!
Да, так вот спасибо профессору Металлову и бдительности приемной комиссии ИФЛИ. Поступи я туда, и встреча с Алексеем Федоровичем не состоялась бы.
Судьба медленно, но верно вела меня к этой встрече. Никуда меня не брали после окончания десятилетки во Владикавказе (тогда Орджоникидзе), где меня и мою младшую сестренку Миночку приютил мамин брат профессор Л. П. Семенов, выдающийся ученый-лермонтовед и археолог. Мой диплом с отличием не имел никакой цены – дочь врага народа, и тут уж действительно точка. Даже не приняли в пединститут имени Ленина. Но он от меня все равно не уйдет. Ибо там – моя судьба.
Поступила я в скромный «педин» (так эти институты называл Алексей Федорович) имени К. Либкнехта. Славился он тем, что его дом с колоннами когда-то принадлежал графу Мусину-Пушкину и якобы рукопись «Слова о полку Игореве» сгорела именно в этом доме.
В этом доме встречала я войну 22 июня 1941 года (печаль особая – 22 июня 37-го арестовали отца). Именно там, дежуря высоко-высоко над крышей, на узенькой, как насест, вышке, видела я ночное звездное военное небо (зажигалки в эту ночь не падали). Там мы, молодежь, с фонарями, распугивая крыс, бродили по путанице глубоких подвалов (тоже дежурство). Там пережили знаменитую панику 16 октября (немцы были уже в Крюкове), видели толпы, громившие продуктовые магазины и склады, слышали нескончаемые военные марши и песни из радиорупоров (все в порядке, бодритесь граждане!), хлюпали по грязным осенним лужам с опавшей мертвой листвой (а мне ведь 19 – вдруг вспомнила я), встречали с восторгом наших защитников-сибиряков. Наконец, помощь пришла, Господи, плачем от радости… А потом покидали этот странный огромный дом с колоннами на Разгуляе и в путь, на Алтай.[224] За плечами самодельный мешок (из лагерной марли – мамин дар на нашем кратком свидании) с продуктами на месяц (выдали в институте), ровно 16 килограммов. Едем в Муром на открытых платформах с глыбами мексиканского свинца (военная помощь!), сидим на нем неделю и даже не простудились. Из тихого городка на Оке (в музее местная достопримечательность – мощи святых Петра и Февронии), где прожили месяц, снова в дорогу, в теплушках с нарами (я наверху у окошечка) и железной печуркой на полу. Едем через бескрайние заснеженные просторы, пересаживаемся на открытые грузовики по Чуйскому тракту, через Бийск, в маленький городок, трижды менявший свое имя (национальная советская политика!).
Помню, как весело, поздним вечером, несмотря ни на что (мы, трое девчат, под Свердловском отстали от поезда, догоняли его – благо он больше стоял, чем двигался), ввалились в белое здание, где разместился наш институт (выселили педтехникум и забрали его помещения для наших общежитий и для квартир преподавателей – москвичей сразу возненавидели). А откуда-то сверху громкий и тоже радостный голос: «Мальчишки, девчонки, идите скорее греться!» Это приветствовал нас, устремившихся к жарким печам, профессор-физик Александр Зильберман. И я не знала тогда, что он старый знакомец Алексея Федоровича Лосева. Зам. директора института по науке профессор А. 3. Ионисиани работал раньше у моего отца (был его замом в Центральном НИИ национальностей СССР, основанном отцом), но не устрашился, содействовал моему зачислению, предоставил общежитие, что тоже было тогда непросто.
Потеряв родительский кров, я находила ночной приют (дневной – в библиотеках, особенно «историчка» или «иностранка», тогда напротив Дома ученых) у немногих оставшихся друзей, боялась обременять их, прятала где-нибудь в уголке мои жалкие пожитки, спала в проходных комнатах, притулившись на случайных старых диванах или на полу под окном, между столом и шкафом – узенький закуточек, но уютный. Для меня общежитие (Стромынка – в комнате 15 кроватей; Усачевка, о благо, всего пять) – великое счастье.
И в дальнейшем неизменно помогал А. 3. мне в эвакуации и моей матери,[225] даже склонив к помощи директора института грозного Пилыцикова, человека в неизменном кожаном пальто и всегда в командировках, так что руководил всем фактически профессор Ионисиани, полный, задыхающийся от астмы, с острыми, внимательными черными глазами, тихим голосом, но решительными, если надо, действиями.
В эвакуации[226] на благословенном Алтае он собрал в институте первоклассных профессоров, не знавших, куда деться в военное время (например, профессор А. Зильберман – физик, профессор А. М. Лопшиц – математик, профессор В. Ф. Семенов, профессор С. Б. Кан – историки, профессор Б. А. Грифцов – литературовед, профессор И. Г. Голанов (бывший лагерник) – русист, профессор В. М. Спицын – химик, в будущем академик, молодой тогда Н. А. Баскаков – известный тюрколог, неразлучные Л. В. Крестова и В. Д. Кузьмина – литературоведы, профессор Кабо, географ, чья дочь Люба стала известной писательницей, и многие, многие другие). А. 3. Ионисиани содействовал слиянию этого института с тем самым МГПИ имени Ленина (прежде – имени Бубнова, до ареста этого наркома), куда меня в свое время не приняли. Так что после возвращения с Алтая в 1943 году я кончала именно этот институт в 1944 году.
А пока мы все, студенты и преподаватели, около двух лет жили друг с другом бок о бок, и я с иными из профессоров стала близка (и сама по себе, и благодаря маме и помнившим отца). Когда после нашествия эвакуированных в городке стало голодновато (от телесных немощей спасались пивом. Удивительно, но еще был хороший пивзавод), мы в полном безразличии смотрели на вывешенные ежедневные меню в столовой: «суп лоп.» (лапша) или «суп рас.» (рассольник с кислыми огурцами). Все дружно подделывали талоны (вместо двух обедов – 12 или 20), на что никто из обслуги не обращал внимания. И у раздаточного окна также все дружно выливали воду из мисок в специально поставленный для этого огромный бак, собирая хоть какую-то жалкую гущу. Особенно запомнился мне профессор Иван Григорьевич Голанов, очень осторожно сливавший воду (он имел опыт лагерного жития). Никогда не забуду, как вошел в наш деканат небольшого роста мужичок в выцветшей розоватой рубахе, подпоясанный веревкой, на которой висел чайник (сразу видно, откуда сей пришелец), и отрекомендовался, скромно поклонившись: «Профессор Голанов».[227]
Но мы уже в Москве, институт окончен и я собираюсь в аспирантуру.
Спасибо профессору И. М. Нусинову, который отказал мне в аспирантуре по кафедре зарубежных литератур. Я в это время металась между Античностью и Средними веками. Еще на 1-м курсе профессор М. М. Морозов основательно увлек своих слушателей Западом. Морозова я знала и приватно (помните картину Серова в Третьяковке «Мика Морозов» – сын знаменитой меценатки М. К. Морозовой?). Новые европейские языки и латынь мне с детства были ведомы, греческим занималась у профессора М. Н. Петерсона, читавшего нам языкознание на 1-м курсе (потом через Алексея Федоровича познакомилась с этим замечательным человеком близко).
Я просила советов у своего дядюшки Л. П. Семенова, у профессора В. И. Чичерова – известного фольклориста (у нас были доверительные отношения, он хорошо знал отца и жалел меня), у искусствоведа Н. М. Черемухиной (она работала под началом отца в музее народов СССР, основанном А. А. Тахо-Годи), трогательно ко мне относившейся в то время. Н. М. Черемухина была доцентом отделения и кафедры классической филологии, которые возглавлял профессор Н. Ф. Дератани.
Решив испытать судьбу, отправилась я к профессору И. М. Нусинову и получила отказ без всяких отговорок и уверток. Уже в этом были определенность и непонятое тогда мною благо.
Судя по всему, классическая филология оказалась настолько прочно забыта властями, что даже единственный партийный среди всех профессоров-классиков Н. Ф. Дератани не побоялся меня принять. Наоборот, стал научным руководителем и гордился своим приобретением чрезвычайно, так же, как потом неистово ненавидел, уяснив, что я – ученица не его, а опального Лосева и душу готова за этого гонимого профессора положить. Вот еще ирония судьбы – Дератани жаждал провалить мою кандидатскую диссертацию на защите в Московском университете в 1949 году, пытался выслать меня из Москвы еще в 1947 году, включив в «проскрипционные» списки. Но судьба была за нас, опальных и гонимых. Лосев взращивал и воспитывал меня. И меня же, как варяга, призвали с согласия декана Р. М. Самарина профессор С. И. Радциг и А. Н. Попов (разговор состоялся в кабинете А. Ф. Лосева) заведовать кафедрой классической филологии в МГУ после кончины ее заведующего Н. Ф. Дератани в 1958-м (он ушел из МГПИ, передав кафедру своей ближайшей соратнице, тоже члену ВКП(б) доценту Н. А. Тимофеевой, по наследству питавшей ненависть и к Лосеву, и ко мне, но смирившейся под тяжестью обстоятельств в последние годы).
Вот так, окольными путями, преодолевая людское безразличие, отталкивание, неприязнь, страх и прямое стремление убрать человека только за то, что он есть и мешает чьему-то благополучию, судьба вела меня к встрече с А. Ф. Лосевым.
Впервые увидела я человека в черной шапочке на экзамене в аспирантуру кафедры классической филологии. Заведующий, профессор Н. Ф. Дератани, на свою голову определил меня заниматься греческими авторами к профессору Лосеву, а латинскими – к профессору М. Е. Грабарь-Пассек, с которой мы быстро сблизились, и я всегда, по ее словам, была ее любимой «кавказской княжной» или «татарской царевной».
Если не ошибаюсь, экзамены были где-то в июне, а затем счастливые месяцы отдыха в новом качестве аспиранта. Подумать только, как важно звучит. Но на отделении классической филологии, только что открытом в МГПИ имени Ленина (ожидалось повсеместное преподавание латинского языка в школах по желанию Сталина), быть аспирантом среди известных ученых было приятно и солидно. На отделении работали превосходные латинисты и эллинисты, такие, например, как тот же Н. Ф. Дератани, М. Е. Грабарь-Пассек, Д. Н. Коновалов, Б. В. Горнунг, В. О. Нилендер, С. П. Кондратьев, не считая целого ряда давних гимназических преподавателей латыни и греческого, а также учениц Н. Ф. Дератани – Н. А. Тимофеевой (парторг кафедры) и Г. А. Сонкиной.
А. Ф. Лосев попал на эту кафедру совсем недавно, весной 1944 года.
Теперь о предыстории его появления в МГПИ.
А. Ф. Лосеву трудно пришлось, когда он вернулся из лагеря в 1933 году. Надо было иметь какое-то постоянное место и вместе с тем работать научно, а это значит – печататься. Старый учитель А. Ф. по университету, член-корреспондент АН СССР Н. И. Новосадский, дал даже отзыв о трудах своего ученика (29/V1—1934) на случай обращения в органы печати.
Власти как будто бы проявляли заботу об устройстве бывшего каналармейца, восстановленного в гражданских правах (см. часть третью). Уже в Москве Трудовая экспертная комиссия Моск. Гор. Союза профсоюзов признала в Лосеве инвалида III категории (11/Х—1933). Но профессору – строителю канала и инвалиду – работа необходима. Мы знаем, как интенсивна была его деятельность в ГАХНе, в ГИМНе, в Московской консерватории.
Лосев не мыслил себя без науки и без преподавания. Он, естественно, обратился в ЦК ВКП(б) за помощью о трудоустройстве,[228] одновременно готовя лекции по «Истории эстетических учений».
Из Секретариата ЦК ВКП(б) со Старой площади с нарочным (так помечено на конверте) была прислана вежливая записка от П. Ф. Юдина (он провел установку высшей власти – заниматься Лосеву античной эстетикой и мифологией, не вступая в пределы философии). П. Ф. Юдин предлагал обратиться к т. Новицкому в Наркомпрос. Однако Новицкий отправил Лосева как будто специально туда, где заведомо не было ставок и где А. Ф. боялись как огня. Послал в консерваторию, к Н. А. Гарбузову, известному акустику, с которым А. Ф. был близко знаком по своей прежней работе в ГИМНе и в той же консерватории.
Направляли А. Ф. и в издательства, в том числе и в «Искусство», но никто не собирался печатать там в данное время опасного профессора. Оставалось только выразить свое недоумение в письме, отправленном тому же Юдину (З/Х—1935). В общем, начались бесплодные хождения в Наркомпрос, переговоры с московскими вузами, где, конечно, ставок для Лосева не было и брали его только на жалкие почасовые.
Более реальны были поездки в провинцию, все-таки профессор, из Москвы. И он с 1938 по 1941 год ездит на заработки в пединституты Куйбышева, Чебоксар, Полтавы, где читает с большим успехом античную литературу. Все эти поездки и обстановка провинциальных вузов живописно отражены в письмах Алексея Федоровича Валентине Михайловне.[229]
В письмах А. Ф. рисуется холостяцкий быт заезжего профессора. Как любил говорить А. Ф.: «Уют казармы. Без женщин и детей». Уезжать приходилось иной раз на несколько недель, а то и месяцев.
Даже, казалось бы, в большом городе, в Куйбышеве, жить непросто. Дали комнату в общежитии, наскоро вычистили, побелили, получилось «нечто среднее между больничной палатой и одиночным заключением» (30/X—1938). Печи не топят, хотя завернули холода, обслуга – баба с вечно орущим ребенком («как будто мухомора объелся») – занята сама собой. Ее бросил муж. Какая же тут печь! Еда неплохая, но сплошь мясо. Лосев отнюдь не принципиальный вегетарианец, но как держать пост – неизвестно. Чаю вечером не выпьешь. Да что там чай. Главное горе – тухнет по вечерам электричество, и картина рисуется совсем по Достоевскому: «Целый вечер не было свету, шел проливной дождь и было нечего есть». Неизвестно, где баня, прачки, где взять постельное белье. Выпросил у коменданта тюфячишко, простыни и маленькую подушку. Принесли одеяло – летнее. Студенты привозят все свое, а профессор – на тюфячишке под летним одеялом, в самый раз к зиме.
Однако в городе хороший театр. Смотрел там Лосев чеховского «Иванова». Главное же – начались лекции. «Сразу вошел в работу», и на литфаке, и на истфаке, и у вечерников, даже хотят античную философию. Наплыв на философию такой, что дробят слушателей на два потока. «Пока лойяльничаем», а вообще-то «жизнь моя и занятия мои – в 3оде пышного цветка в поле: пришел козел и – нет цветка!» (ЗО/X—1938). Студенты слушают с восторгом. «Муравейник мой бурлит, кипит, как паровоз» (13/XII—1938).
Перевели в другую комнату, где получше. Там брошенная мужем Маруся начала топить печь, но жар из печи регулярно куда-то уносит, а «морозы стоят адовы». «Везде отчаянный холод, в столовке, в аудиториях». «В общежитии спят, не раздеваясь, в валенках и шубах». Комендант ничего не может поделать ни с пьяницей-дворником, выдающим дрова, ни с вороватыми бабами, ни с голыми орущими ребятишками.
Зато лекции, «работенка» – «дельная», «жизненная». Народ хоть и «сырой», но прямодушный, «хочет учиться и любит знание» (16/XII—1938). Слушают с увлечением, с любовью и сдают «просто, легко, улыбчиво, весело, мудро», «заражаются на всю жизнь красотой и искусством». А что же профессор?
А он «пошел в свою пустую комнату с сознанием, что и для чего-то нужен людям, что и я человек, а не сволочь, не падаль подзаборная».
А. Ф. нравится пробуждать в студентах внутреннее горение. Он чувствует в себе «загубленного оратора, даже загубленного актера». Он связан незримо с аудиторией, которая «вся превращается в слух, наполняется какими-то флюидами, трепетно проникающими от одной души к другой». Кажется, что слышен стук сердца, и увлеченные Лосевым студенты уже не записывают, а впитывают, вдыхают слова. «Жалко бросить этих людишек», – заключает Лосев. Под конец даже прочел в парткабинете доклад на тему «Логика Гегеля» (в помощь изучающим Краткий курс ВКП(б) – все прошло гладко, с аплодисментами, «переходящими в овацию», главное – начальства не было. Кто-то прислал записку с благодарностью за лекции: «Они пластичны, как поэмы Гомера». Шутники (16/XII—1938).
Лосев вернулся в Москву и не забыл своих студентов. По их просьбе он сфотографировался у знаменитого М. Наппельбаума (четыре портрета, теперь всем хорошо известные), сделал в Музее изобразительных искусств снимки греческих скульптур и послал в институт, где каждый из слушателей получил на память подарок из Москвы.
Когда А. Ф. праздновал свое 90-летие в 1983 году, из Куйбышева пришли письма от бывших студентов, помнивших своего профессора. Было особенно трогательное одно (по-моему, от Ахчиной), где предлагалась помощь старому и, наверное, одинокому человеку. Какое счастье, что он молод душой и не одинок!
Любил А. Ф. студентов. Не только из-за заработка ездил в провинцию. Чтение лекций, общение с молодежью – отдушина для человека, лишенного педагогической работы в Москве. Не одной наукой жил Лосев. Он был истинным Учителем, сердце которого радовалось от блеска в глазах студентов, от их воодушевления от радости познания.
В совсем уж неизвестные Чебоксары (это вам не Куйбышев) Лосев отправился в 1939 году. Как всегда с приключениями, с очередями за билетами, с полной неразберихой на пересадке – надо пересаживаться на автобус (нет прямой дороги до Чебоксар). Автобусы берут силой, на них не попасть. Зато есть открытый грузовик, за 11 рублей место (в автобусе – 14 рублей). На ветру и весеннем морозе (слава Богу, была шуба) мчались 83 километра. Настоящий, по Северянину, «ветропросвист экспрессов, бег автомобилей». До автостанции не доехали, на себе тащил профессор «весь потрох» и «покуролесил» на станции по невылазной грязи (18/IV—1939). Помог лагерный опыт.
Да, Чебоксары – это «грязь, отсутствие водопровода и канализации, отсутствие всяких культурных учреждений, сплошь интеллигентная публика». Уборная – деревянная будка во дворе, а там «океан грязи»! Невольно вспоминаются Лосеву незабвенный канал, «дождь, гора, грязь, ночь, холод, темь». Чебоксары – это ледник Цей, лагерная Свирь. И, с юмором пишет Лосев, «вспоминается по контрасту Тарабукин. Его бы сюда! В клозете – ветропросвист…». Ночью – холод, шубу приходится класть под голову. Да, действительно сюда бы эстета Н. М. Тарабукина, вот была бы потеха. Где бритье дважды в день, и крахмальные свежие рубашки ежедневно, и теплая ванна? Задумаешься, прежде чем поехать.
«Говорят, что все отсюда бегут», «классическая дыра» (20/W—1939). А Лосев поехал. Расшевелил мрачных, испуганных московским профессором студентов. На четвертой лекции стал замечать улыбки, смешки, оживление. «Темные физиономии впервые заулыбались как-то по-новому». И опять – столовка плохая, в комнате холодно, умывальника нет, хотя Лосеву «не привыкать жить в сарае и без умывальника». Какая-то преподавательница-чувашка пожертвовала подушку, пальто можно теперь класть не под голову, а на себя. Угнетает угрюмость людей. Лосев задумывается. Может быть, это – в связи с разными «условиями»? Но студенты все-таки кое-что соображают, подняли скандал против диаматчика. Лосев ехидно пишет: «Значит, диаматерность даже их довела».
Студенты здесь – «очень матерый инструмент», сначала надо поднять общий уровень культуры, заставить думать, читать, а потом ожидать восторга или счастливой улыбки. Трудно за краткий срок – всего месяц – привести людей в божеский вид. Но все-таки «расколыхал» аудиторию, произносили благодарственную речь в конце курса, говорили о «красоте колонн», о «живом мраморе». И то чудо.
В 1940–1941 годах ездил А. Ф. на штатную должность профессора в Полтавский пединститут. Это дело уже было важнее, чем наезды в Куйбышев и Чебоксары. Поселили тоже в общежитии, но в отдельной комнате. Правда, электричества нет вообще, а есть керосиновая лампа – заниматься нельзя. Водопровода нет, канализации нет, но зато одеял – два. «Ничего, особенно тяжести нисколько не чувствую» (9/II—1940). Кроме того, очень симпатичная Ксения Петровна наблюдает за хозяйством пединститутских жильцов. Правда, с продуктами очень плохо, хлеба нет, очередь занимают с вечера. Валентина Михайловна присылает регулярно посылки с продуктами из Москвы и сама приезжает навестить мужа, везет с собой неподъемные корзины, уверяя, что всегда помогают добрые люди и все это ей легко дается. В городе купить «абсолютно ничего нельзя», и Валентина Михайловна снабжает заодно Ксению Петровну и даже зав. кафедрой Судейкина. Отношения с зав. кафедрой Судейкиным (в письмах А. Ф. он фигурирует под именами Кутейкина, Тюбитейкина, Кутюшкина, Кутькова) налаживаются. А. Ф. бывает иной раз у него дома, но больше по делам, познакомился с профессором филологии Оголевцом, а вообще живет замкнуто (8/II—1940).
Москва утвердила Лосева председателем государственной экзаменационной комиссии, а это для его положения очень важно. Но главное не в этом.
А. Ф. задумал, если уж так ничего не удается с изданиями трудов, хотя бы оформить докторскую степень, не философскую, куда там, а филологическую, и без защиты диссертации, а по докладу и отзывам о печатных и рукописных работах. Для этого важно, чтобы Лосев был представлен каким-то вузом, где он является штатным работником. Именно таков Полтавский пединститут. Зав. кафедрой литературы Судейкин советует обратиться в Харьковский университет, но отзывы необходимо представить сначала в Полтаву, чтобы начальство имело основания поддержать своего профессора. Однако, как признается А. Ф.: «Тут такая тьма всяких вопросиков, проблемок, неопределенных личностей, и сморчков, и командиров, что надеяться на успех, можно сказать, трудно» (9/II—1940).
Институтское начальство в один голос требует в первую очередь отзыва от главного авторитета, выдающегося литературоведа, академика Украинской АН, члена-корреспондента АН СССР А. И. Белецкого. Такой отзыв для Полтавы, пишет А. Ф. жене, «равносилен явлению архангела Гавриила с повелением свыше» (10/V—1940). Итак, в Харькове намечается важное дело. Кроме того, заочно А. И. Белецкий и А. Ф. Лосев знают друг друга по книгам. Но теперь предстоит личное знакомство с маститым, всеми почитаемым ученым.
Делая пересадку в Харькове, Лосев майским днем 1940 года прибыл в квартиру (Каразинская улица), на парадном которой висела медная табличка, поразившая посетителя. На табличке было начертано «Александръ Ивановичъ Белецкий» – с твердыми знаками и через «ять». «За 23 года не успел снять», – удивлялся А. Ф. (17/V—1940 к Валентине Михайловне). Повеяло стариной.
Радушная встреча, любезность, симпатичные люди, внимательная хозяйка Мария Ростиславовна, сын Андрей (уже заведовал кафедрой), вся эта «европейская воспитанность» – от нее давно отвыкли Лосевы – создавала атмосферу чего-то близкого, «как к родным попал».[230]
Александр Иванович охотно дал согласие на отзыв, а Мария Ростиславовна звонила к «Танюше», супруге академика Л. А. Булаховского, узнать, когда к ней прибудет на завтрак профессор Е. Г. Кагаров, приехавший по делам из Ленинграда. А. Ф. была назначена и с ним встреча. Е. Г. Кагаров успел познакомиться с трудами Лосева еще в Ленинграде и по договоренности тоже готовил свой отзыв.
Затем А. Ф. завтракал с Татьяной Даниловной Булаховской (она его очаровала),[231] с Кагаровым и его супругой. Сам Л. А. Булаховский находился в Москве.
«Тут два кита, – писал Лосев. – Один по литературе – Белецкий, и второй по языку – Булаховский». Обе семьи совершенно обворожили не избалованного вниманием профессора. Он писал жене: «Сбитый с толку нерусской атмосферой… вышел, почти уже не думая о своем деле, а мечтая о том человеческом общежитии, которое так легко могло бы быть и которое сами люди так дико и злобно не хотят». «Какие бывают обходительные и обворожительные люди». И вдруг привычная мысль: «Пусть даже это моя иллюзия». Но Лосевы тем не менее привыкли жить иллюзиями чаще, чем самой жизнью. «Пусть нас травят, – пишет А. Ф., – пусть мы умрем среди зверья, но с этой иллюзией мы не расстанемся».
В Полтаве же «не будет недостатка в „прозе жизни“». Но нас не обманешь «прозой жизни». Заключает Лосев письмо такими словами: «Кто знает красоту, тот уже владеет ею».
А. И. Белецкий охотно согласился помочь А. Ф. в получении докторской степени в Харьковском университете, где, как и на всей Украине, авторитет академика Белецкого был непоколебим. Судьба поманила Лосева.
Завязалась деятельная переписка. Думаю, в архиве Александра Ивановича и Марии Ростиславовны Белецких сохранились письма Лосева, как сохранились письма Белецких и в нашем семейном. Хотя потом была война. Белецкие уехали в Томск, откуда – Москва, затем Киев. У Лосева, как известно, военное разорение. Но действительно чудо – сохранилось достаточно много писем того времени.
Насколько можно судить, исходя из этого обмена письмами, Александр Иванович оказался главным экспертом. Привлекли, кроме Е. Г. Кагарова, с которым уже была договоренность, еще Н. И. Новосадского, учителя Лосева по университету, человека обязательного. Другие отпали сами собой – Б. Варнеке – латинист, а С. П. Шестаков из Казани вскоре умер.
Надо сказать, что предприятие задуманное грозило риском. Особенно если учесть, что представлена была книга 1927 года «Античный космос», как наиболее насыщенная греческими текстами, переводами, так сказать, более филологическая по своему оформлению, но – книга опасных для Лосева 20-х годов.
Вначале все шло как будто бы гладко. Мария Ростиславовна и Алексей Федорович оживленно переписывались. Он подарил Марии Ростиславовне полного Диккенса, о котором ей мечталось.[232]
У них, как писала Мария Ростиславовна, постепенно вырастала «большая и хорошая дружба в романтическом роде», и «дело» двигалось «неуклонно вперед» (24/IX—1940). Александр Иванович собирался писать заключение о трудах Лосева (28/V—1940), особенно заинтересовался эстетикой Гомера (вот уже когда эта эстетика была готова, а в дальнейшем дорабатывалась). Стал ее читать, заинтересовал ею одного молодого, по словам Марии Ростиславовны, «славного человека, безумно любящего Гомера» (2/XI—1940) и даже отдал эту «Эстетику» перепечатать на машинке для того любителя.[233]
Заседание Ученого совета намечено было на 27 ноября, но его перенесли на декабрь месяц, а потом – вообще на 1941 год. Затем в совете стали требовать защиты диссертации, а не присуждения степени по докладу ученого. Александр Иванович пытался как-то обойти это решение, и в конце концов на доклад согласились. Попутно в том же письме Мария Ростиславовна, сообщая новости, дает знать, что Александр Иванович согласился дать отзыв и об «Истории античной эстетики» в издательстве «Искусство» в Москве.[234] Однако ее угнетает «вся эта борьба, все это вмешательство злых и уродливых сил» (1/XII—1940).
«Злые и уродливые силы» не оставляли в покое ни Белецкого, ни Лосева. Дело с заседанием Ученого совета затянулось основательно. Обсуждение работ А. Ф. было, видимо, в начале марта уже 1941 года. Сохранилось в нашем архиве письмо А. И. Белецкого к академику Л. Н. Яснопольскому, другу Лосевых. В этом письме (7/III—1941) Александр Иванович разъясняет обстановку на совете в Харьковском университете. Сам Белецкий там не смог быть – находился по делам академии в Киеве, не присутствовал профессор по классической филологии Кацевалов. Вообще филологов, кроме Л. А. Булаховского, чистого лингвиста, не было. Главное место заняли диаматчики со ссылками на старый, 1929 года, номер журнала «Под знаменем марксизма» с «разоблачениями» Лосева. Для провинциальных диаматчиков это целая сенсация. Более того, по словам Александра Ивановича, диаматчики в кулуарах сообщали, что съезд «неогегельянцев» (какой? где?) превознес «Античный космос» (20/III—1941, из письма А. И. Белецкого Лосеву).[235]
Выступление А. Ф., судя по пересказам присутствовавших Белецкому, совету не понравилось. Он «не отмежевался», а надо было. Александр Иванович крайне огорчен. Лосев, как «мольеровский Альсест»,[236] «открыто заявил о правоте своего правого дела», а надо было, повторяет Белецкий, «отмежеваться» от «Античного космоса», «объявить грехом научной молодости, рассказать о тех откровениях, которые Вы получили от Вашего изучения классиков марксизма и т. д.» (это всегдашняя ирония Александра Ивановича). Да, сетует Белецкий: «Вы, обладая всяческой мудростью, не обладаете „мудростью змеиной“, учитывающей ситуации, людей и обстановку».
В общем, дело провалилось. Тяжко перенес это напоминание о неизгладимой «вине» перед властями несчастный Лосев. Не сдержался и свое отчаянье выразил в письме Александру Ивановичу от 31 марта 1941 года, письме сердитом и не совсем справедливом. Белецкий обиделся, решил с «этим Альсестом» дел не иметь и послал отказ в издательство «Искусство» (а это тоже сгоряча), даже упрекнул А. Ф. в гегельянстве и модернизации античности. Мнение его о редактировании лосевской «Эстетики» совпало неожиданно с мнением И. Верцмана. Оказывается, чтобы сделать изложение приемлемым, «пришлось бы писать едва ли не все заново». Прощаясь, Белецкий просит сообщить, куда выслать рукопись «Эстетики».
Лосев сознавал всю безвыходность своего положения. Недаром еще в письме Валентине Михайловне от 10 июля 1940 года вспоминает Алексей Федорович свой сон, который ему снится несколько раз ежегодно. «Руки у меня скручены сзади», а «какой-то человек много и часто бьет меня по лицу, по щекам, по уху, по голове, по горлу, и я ничего не могу поделать». Ничего не скажешь! Сон символический вообще для жизни А. Ф. Лосева. А. Ф. вполне ясна была «политическая сторона дела» (11/II—1940– В. М. Лосевой), хотя она давно улажена и НКВД «давно разрешило работать», но провинциальный университет, конечно, напуган и не пожелал участвовать в деле профессора сомнительной политической репутации.
Сознает Лосев, что остается в полном одиночестве. Харьков стал для него «символом погибшей научной деятельности», хотя и «мелким звеном в бесплодном мучительстве целой жизни» (24/III—1941).
Это пишет человек, которому еще нет 50 лет и который не знает, какая катастрофа ожидает его через несколько месяцев. Значит, тяжело было жить со связанными руками.
От «руководителей» науки помощи не ждать. М. Б. Митин, член ЦК, академик, пока «прячется», по словам А. Ф. (слава Богу, потом выйдет на свет и поможет с докторской степенью в Москве, скоро, в 1943 году), Г. Ф. Александров, глава Управления агитации и пропаганды ЦК, «поставил целью никуда не пускать»,[237] О. Ю. Шмидт (это вице-президент АН СССР) тоже не подпускает к Институту мировой литературы – научная работа в его стенах не для прошедшего лагерь профессора. Там место людям благонадежным, вполне устраивающим советскую власть. Они не занимаются «гипотезами» и «фантазиями», как добродушно укорял С. И. Соболевский неразумного Лосева.[238] Они, пользуясь фразеологией Белецкого, не «Альсесты» и обладают «змеиной мудростью».
Лосев пишет с сокрушением Валентине Михайловне (24/III—1941): «Остаюсь я один среди бушующего моря, на обломках разбитого корабля, и уже вижу кругом акул, подплывающих к моим обломкам и ждущих, когда я, обессиленный, свалюсь в воду». Здесь не преувеличение. Если читатель внимательно изучит весь путь лосевских хождений по мукам в 30-е годы (а еще ожидаются не меньшие «страсти» в годы 40-е), то понятно станет одиночество, охватившее Алексея Федоровича. Но он не собирается поднимать мятеж, бросать вызов небесам (людям – можно), и смиренно признается своей верной спутнице в этих странствиях по мукам (14/V—1941): «Путь свой я знаю, и страдания свои принимаю с теплотой и благодарностью». «Прими и от меня мое благословение», – завершает Лосев письмо. Значит, оба они, Андроник и Афанасия, в монашеском своем житии благословляли друг друга, принимая посланные им испытания.
Вся эта горячность, обиды, возмущение, отчаянье – все это было житейски преходящим. Правда, с того времени на всю жизнь осталась жестокая бессонница, осталась неким неусыпным напоминанием.
Тут вскоре пришла война, разлучила, разметала всех, принесла новые испытания, не сравнимые с прежними. Белецкие и Лосевы встретились в конце войны в Москве как бы заново и уже навеки дружески. Права была Мария Ростиславовна Белецкая, в канун войны писавшая А. Ф. Лосеву (12/VI—1941): «Вот и Вашу дружбу полюбила и не считаюсь с той шелухой, которая в будущем и с Вас, и с меня, и со всех нас спадет». «Пошла бы Вам навстречу, протянув Вам обе руки», – завершает свою мысль Мария Ростиславовна. Так оно и случилось.
Можно представить себе состояние А. Ф., когда неожиданно в 1942 году его приглашают на штатную должность профессора философского факультета МГУ.
Ведь это не шутка – через десятки лет снова очутиться в университете. Бедный Лосев не подозревал, какие опасности подстерегали его там. Но уж если несчастья и беды идут чередой, то от них не спасешься.
С изданиями одни неудачи, идеалиста не печатают, со старым гнездом на Воздвиженке – катастрофа, работы постоянной нет, пришла общая беда для всех – война, а с ней полная неустроенность и бездомность. Правда, Лосев возделывает свой сад – работает без устали, пишет «Историю античной эстетики», пытается издать «Античную мифологию», переводит Николая Кузанского и Секста Эмпирика, но возделывание этого духовного сада пока не приносит сладких плодов, пробиваются только горькие корни.
Зато приходится трудиться на огороде, сажать картошку на даче в Кратове (снятой у киноактрисы Эммы Цесарской, ул. Горького, 19), окучивать, таскать ведра воды, поливать, обустраивать в пустом доме на Арбате своими силами новое жилье. От перегрузок физических – кровоизлияния в глаза, и так слепые.
Осталось только терпеть и смириться. Но вот удивительно. Чем тяжелее жизненные обстоятельства, тем сильнее творческий порыв.
Пишет А. Ф. Лосев и в самое тяжелое время, после того как в начале войны, в ночь на 12 августа 1941 года, был уничтожен фугасной бомбой дом, где он жил многие годы. Снова полное разорение, гибель близких, имущества, библиотеки, архива, работы по спасению уцелевших книг и бумаг, засыпанных в огромной воронке. Именно зимой, на исходе 1941 года, рождаются стихи, воспевающие силу светлого ума, вечную юность и весну зримого умом высокого бытия.
Среди кратовских снегов и отзвука московских бомбежек приходят воспоминания о счастливом путешествии на родину, в Новочеркасск, на Кавказ в 1936 году. После лагеря и первых разочарований счастливого возвращения в Москву – великая радость – видеть горы Кавказа. Каждый день рождаются стихи, под каждым из них точная дата. Все в них – вечные снега, льдины на Клухорском озере, великое молчание смыкающихся с небом вершин. Тут же кратовская кукушка, скромная птичка, друг невольников, и образ вечного друга, ее, Валентины Михайловны, странницы и спутницы Лосева. И снова Кавказ в символике первозданного хаоса, мрачных бездн и горных вершин в радужных соцветиях льдов, пронизанных солнцем. И эта символика не случайна.[239] Ее мы найдем в богословском размышлении автора об ангельском мире под названием «Первозданная сущность»[240] (написано в конце 20-х годов), где автор объясняет символику света и цвета (почему небо синее, рай зеленый, но ад – красный).
Среди холода, при тусклом свете керосиновой коптилки полуслепой Лосев пишет замечательную повесть-размышление «Жизнь». Заметьте, пережив горе, гибель всего, чем жила и цвела душа, он обращается к самым основам жизни.
Завершается целый биографический период. Еще неизвестно, что ожидает впереди, но А. Ф. Лосев пишет с особым вдохновением на серой бумаге, на обороте объявлений о приеме в Московский авиационный институт, где жена его, Валентина Михайловна, многие годы была доцентом по кафедре теоретической механики. Через сорок лет в книге о Вл. Соловьеве Алексей Федорович сформулирует это состояние перелома, расставания с прошлым и перехода к другой жизни так: «Если конец дела означал его неудачу, то этот же конец означал и необходимость чего-то нового» (Вл. Соловьев. М., 1983, с. 199). Это утверждение удивительно напоминает диалектику «одного» и «иного», упомянутую выше.
Именно в размышлениях повести военных лет вновь буквально зазвучит тема, впервые выраженная в юности, тема «смысла и оправдания жизни».
В повести «Жизнь» герой напоминает платоновского Сократа, ищет «смысл» жизни и «оправдание» ее (вспомним «Оправдание добра» у Вл. Соловьева). В этом герое множество автобиографических черт. Героя зовут Алексей, и он бывший гимназист, а многие примеры из «Жизни» рисуют войну, бомбежку, гибель под бомбами, потерю зрения. Алексей обращается с вопросами о смысле жизни и к своему учителю, и к старику Панкратычу («идет в народ»), и к давнему другу Юрке. Он вступает в споры с каким-то инженером. Словом, как Сократ (читайте платоновскую речь Сократа на суде, так называемую «Апологию Сократа»), он обходит многих и, не найдя ответа, размышляет сам.
Оказывается, что голой жизни, «обнаженному процессу рождения и смертей», слепому, стихийному росту, питанию и размножению не хватает знания, великой силы, что стоит выше самой жизни. Знание дает возможность выйти за пределы «липкой, вязкой, цепкой, тягучей, тестообразной стихии жизни». Оно делает человека зрячим, активным, строителем, а не бесполезным объектом опасных жизненных экспериментов. В знании-то как раз и заключается «смысл и оправдание жизни». «Давайте знание, – призывает автор, – давайте смысл, давайте идею, давайте душу живую, ум живой… давайте науку. Давайте, наконец, человека!» Жизнь сама по себе не есть мудрость, но она есть назревание мудрости, восхождение к знанию. «Жизнь, – формулирует Лосев, – заряжена смыслом, она – вечная возможность мудрости; она – заряд, задаток, корень и семя мудрости, но не есть сама мудрость». Знание освобождает человека от власти «темноты, беспросветного рока». Но и оно еще не есть смысл жизни. Герой продолжает размышлять.
В этих размышлениях возникают параллели с лагерными письмами (например, символ пещеры Трофония в Греции, куда раз спустившись, человек навеки терял способность смеяться), с идеями, высказанными Алексеем Федоровичем в поздних лекциях и беседах (например, образ героя, идущего против судьбы; размышления о свободе воли и выбора – «Двенадцать тезисов об античной культуре»; знание и наука как вечная молодость), отголоски любимой автором теории всеединства Вл. Соловьева (рассуждения о целом и частях, каждая из которых содержит в себе все целое). Здесь и постоянный лосевский метод определения любого предмета или проблемы через разделение, отделение, разграничение. Сначала надо знать, что не есть данный предмет, а затем уже вырисовывается и он сам. Здесь и постепенное восхождение к познанию, к «тайне познаваемого» (сравните диалог Платона «Пир» о познании высшего Блага или «размышление о „реальности общего“» – «реальности Родины», которое стало через десятки лет темой написанного Лосевым «Слова о Кирилле и Мефодии» к тысячелетию Крещения Руси (напечатано в «Литературной газете» от 8 июня 1988 года после кончины Алексея Федоровича 24 мая 1988 года, совпавшей с днем славянских просветителей святых Кирилла и Мефодия).
А как знакомы читателю слова автора: «Кто видел мало зла, тот ужасается и убивается. Но кто знает, что весь мир лежит во зле, тот спокоен». Они как парафраза мысли Ф. Бэкона, встречающейся в юношеской работе А. Ф. Лосева «Об атеизме», – «Малое знание естественных наук отдаляет человека от Бога, большое – приближает». Отзвук знаменитой мысли Вяч. Иванова о «родном и вселенском» слышится в словах автора о ликах «родного и всеобщего».
Стиль повести плотный, крупными мазками, изобилует удивительным разнообразием синонимов, как бы со всех сторон охватывающих мысль, подкрепляющих ее, дающих всестороннюю оценку.
А то вдруг раскрывается новый пласт языка с жаргонными словечками («заводиловка», «вола вертеть», «сволочь», «волынка» и т. д.), свидетелями печального лагерного опыта А. Ф. Лосева, жизни среди блатных, воров (ср. в письмах «я весь, слава Богу, обворован»), опустившихся интеллигентов и других «каналармейцев» великой сталинской стройки. И среди всей этой разноголосицы – ехидные замечания, ироническая усмешка («ты дурак, обскурант, некультурно интересоваться жизнью», «наука считает ненаучным знать», судьба «крутит машинку вселенной») или вдруг какой-то посторонний голос, выдаваемый за свой, о мальчишке, которого «драл портной», или после бесполезно задаваемого «почему» раздается сакраментальное «тьпфу» (ср. его «Диалектику мифа» или у В. В. Розанова).
А как своевремен и актуален спор о том, что же такое человек и его жизнь – механизм, винтик, который всегда можно выбросить и заменить, или исторически естественно сложившийся целостный организм (здесь надо вспомнить постоянную борьбу Лосева с позитивизмом и вульгарным механицизмом). Как возвышенны и нужны людям мысли о жертвенности и любви к Родине, любимой во всем своем несовершенстве, болезнях, неустроенности и даже в рубище. Какая твердость звучит в словах об идеях грядущего времени:
«Блажен, кто видел и уверовал, но трижды блажен тот, кто не видел и все же уверовал», ибо тут не логика, а человеческая жизнь, «тут кровь человеческая».
И, наконец, последняя глава, полностью автобиографичная, связанная с возвращением Лосева из Полтавы (он там преподавал, не имея возможности делать это в Москве) после начала войны. Ехать надо с пересадками, беженцы осаждают и так уже переполненные вагоны. С огромными трудностями, среди паники, плача и криков Лосев в начале июля добрался до Москвы. Здесь, в повести, потрясающая сцена в вагоне, где молодая женщина с детьми, жена лейтенанта, вспоминает свое прощание с мужем – скорее не разговор, а какое-то лихорадочное препирательство. Он гонит ее с детьми от себя, – ему погибать в бою, – а она жаждет остаться с ним, ибо помнит слова, сказанные в церкви: «Никто же больше сея любви не имеет, да кто душу положит за друга своя».
И в собственной жизни, и в философских повестях Лосева ощущается и звучит тема судьбы, от которой никуда не денешься. Ведь Лосев еще в «Диалектике мифа» понимал судьбу как «совершенно реальную, абсолютно жизненную категорию». Не выдумку, а «жестокий лик жизни», который ежедневно и ежечасно проявляется и действует, и никто еще не мог и не может поручиться ни за одну секунду своего бытия. «Судьба, – пишет Лосев, – самое реальное, что я вижу в своей и во всякой чужой жизни». Это – не выдумка, а «жесточайшие клещи, в которые зажата наша жизнь» («Диалектика мифа». М., 1930, с. 193). Однако судьба не исключает свободу.
В поздней беседе «Что дает античность» («Литературная учеба», 1986, № 6) Лосев прямо утверждает, что вся человеческая история есть стремление к свободе, «это – жизнь, стремящаяся к свободе», главное в которой не труд или творчество, а свобода в результате труда. Но это не значит, что все свободны. Нет, но к свободе стремятся все, и поэтому «каждое отдельное мгновение человеческой жизни уже невозможно без ощущения свободы». И та необходимость, которой подчиняется человек, не есть внешнее насилие, наоборот, эта необходимость «есть мое последнее и максимальное внутреннее желание».
Не эта ли свобода, рожденная в результате творческого труда, того «жизненного порыва» (бергсоновский élan vital), каким являлась жизнь Лосева, заставила вполне сознательно, обладая знанием, а не вопреки ему (мы читаем об этом в повести «Жизнь»), встать на путь героизма. Не побоимся этого слова.
Этот героизм проявился в одиноком подвиге философа по напечатанию восьми томов в 20-е годы, и особенно в издании «Диалектики мифа». А разве не героизм – стойко пережить уничтожение семейного гнезда в катастрофе 1941 года и активно восстанавливать разрушенное?
Столь же героичен был и последующий его путь – путь вынужденного молчания. На что мог надеяться опальный философ после проклятий Л. Кагановича и его присных на XVI съезде ВКП(б)? Но он работал для будущего (уже почти ослепнув после лагеря), двадцать три года не публикуя своих трудов. Какой надо было иметь героизм, чтобы в возрасте шестидесяти лет начать осуществление столь мощного замысла (и он завершен), как создание «Истории античной эстетики» в восьми томах.
Какое мужество надо было призвать – и не только «тайное», но вполне явное мужество, – чтобы впервые за десятки лет вернуть из небытия великого русского философа Вл. Соловьева, в свое девяностолетие подвергнуться гонениям за небольшую крамольную книжку[241] об этом с юности любимом философе и, несмотря ни на что, завершить большой труд «Вл. Соловьев и его время», вышедший в 1990 году,[242] то есть уже после кончины автора. И не так-то просто было сознавать Лосеву, что он, по его признанию, «уходит в бездну истории» (см. «Сокровище мыслящих»).[243]
Однако Лосев видел смысл «во всем на свете», а значит, видел во всем на свете идею, «данную в бесконечном проявлении своей структуры» (см. «Историю античной эстетики», т. VI, с. 731). И за осуществление этой высшей идеи в жизни он сознательно боролся, следуя замечательным словам Е. Н. Трубецкого: «Пока мир не совершился, человек должен всем своим существом содействовать его совершению; чтобы осуществилась в нас целостная жизнь, мы должны предвосхищать ее в мысли, вдохновляться ею и в подъеме творческого воображения и чувства и, наконец, готовить для нее себя самих и окружающий мир подвигом нашей воли» (Трубецкой К Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. М., 1913, т. II, с. 324).
Следует заметить, что этот «подвиг воли» не сопровождался никакой специальной активностью, неизбежной адаптацией к правилам «игры», принятым большей частью преуспевающей интеллигенции в советском обществе. Оправдывалась интереснейшая мысль М. М. Пришвина, писавшего в «Дневнике», только теперь начинающем получать известность. Я уже упоминала об этой замечательной записи. Повторю еще раз. «Чем дальше человек от действительности – вот удивительная черта, – тем прочнее держится он. Пример – я как писатель, Лосев как философ» (17/XI—1937). Действительность требовала постоянной смены масок и приспособлений к ней, а Лосев сохранил свой, подлинный, неизменный лик. Он был личностью.
И вдруг – философский факультет Московского университета. Есть о чем задуматься. Ведь А. Ф. представили к заведованию кафедрой логики,[244] которую по капризу Сталина решили всюду насаждать (в МГУ на логику отвели две тысячи часов).
Семинар по Гегелю, спецкурс Лосева по логике Канта, Гегеля, неокантианцев, Гуссерля пользовались огромным успехом, что вызвало негодование одного из главных партийных заправил факультета зав. кафедрой диамата и истмата 3. Я. Белецкого, имевшего, как говорили, ходы к самому Щербакову, секретарю ЦК. На этой кафедре Лосев заведовал секцией логики.
Успех Лосева вызывал скрытую зависть у некоторых бывших друзей, работников факультета, таких, например, как П. С. Попов, небезызвестный адресат М. А. Булгакова и супруг внучки Льва Толстого Анны Ильиничны. Он в свое время, как мы знаем, был арестован, как и многие другие, но благодаря хлопотам супруги быстро освобожден. Товарищ и даже приятель Лосева по университету, это был человек утонченно образованный. Да и сам А. Ф. всегда вспоминал с теплом и печалью родительскую семью П. С. Попова, дух живописи, музыки, философии и просто изящной, красивой жизни, там царившей. Но, как говорится, бес попутал.
Сохранились любопытные записочки П. С. Попова, которые он заносил на дачу в Кратове (были почти соседи, жили Поповы на 42-м километре) и в которых проскальзывала завязка некой интриги. Он сообщает (13/Х—1942, перед приглашением А. Ф. в МГУ), что якобы инициатор этого акта – сам Александров. Передает разговор декана профессора Б. С. Чернышева с Н. Таракановым (этот сотрудник аппарата ЦК благоволил Лосеву). Чернышев якобы ехидно говорил о «небезызвестном Лосеве»: «Что ему дать читать? Диалектический идеализм? Это на кафедре диалектического материализма?» Подтекст такой – декан не очень-то рад Лосеву. Однако Тараканов будто бы отвечает: «Ничего одиозного в его трудах нет, он большой специалист, крупный историк-античник, его надо вывести за пределы его кабинета, куда он вынужденно самозамкнулся». В ответ на эти слова Чернышев начинает держаться уже благоприятно, выспрашивает у Тараканова, что говорят в ЦК и т. д.
Попов элегически вздыхает о том, как «на заре туманной юности» читал вместе с А. Ф. лекции в Нижнем, уверяет о необходимости «соблюсти товарищескую связь». Все-таки ценят Лосева в аппарате ЦК, поэтому в заключение: «Очень рад за тебя и за себя».
В другой записке (23/XI—1943) попытка поссорить декана и Лосева, который якобы, по словам Чернышева, против чтения логики Поповым на истфаке, куда деканат его направил.
Вместе с тем П. С. Попов не прочь получить от Лосева отзыв о своих работах и сформулировать, что они достойны докторской (19/II—1943). Якобы декан Чернышев сообщил об этом в столовой, беседуя с ним и Н. К. Гудзием. Тут же не очень лестно о Гудзии, который «знает все дела и нюхом и формально и в этом отношении заткнет за пояс 10-ых Андреевых и Чернышевых».
Докторскую степень П. С. Попов так и не получил. Заведовать кафедрой логики начал в 1947/48 учебном году. Однако уже 23 марта 1948 года министр высшего образования СССР С. В. Кафтанов издал приказ № 361 специально о логике в МГУ. Там предлагалось Попову «решительно перестроить преподавание логики» и звучало предупреждение: «Если к концу текущего учебного года П. С. Попов не обеспечит перестройку работы кафедры и не ликвидирует формализм в преподавании логики, то он будет освобожден от заведования кафедрой». Так это и случилось. П. С. Попов был снят и с 1948 по 1964 год оставался только профессором.
В годы правления Хрущева, когда особенно остро боролись против церкви, П. С. Попов (по рассказам его университетских коллег) сам попал под донос. Он был человек верующий и в церковь ходил тайно, но застукали, донесли, пришлось оправдываться эстетическим интересом к старинным иконам. Печально, но факт.
Лосеву, как всегда, приходилось туго. Пережил запрет на философию, закрытые двери вузов Москвы, отказы в издательствах, всячески препятствовавших публикации его трудов. Но дух Лосева был крепок, работать он не переставал. И какая была радость, когда вдруг с соизволения ЦК пригласили в университет, который он окончил в 1915 году. На философский факультет, да еще любимая гегелевская диалектика, да еще любимая логика. Как же тут не проскользнуть скрытой зависти одних и не вылиться прямой ненависти других. Давний профессор с большими трудами и лекционным опытом, он скитался по провинциальным вузам и был рад, что туда приглашали. Еще хорошо – пригодилось окончание двух отделений – философского и классической филологии. Изгнали из философии – филология осталась. Да кому она нужна, эта античность. Так, держат понемногу из-за странного приличия. Самим непонятно почему. И степень доктора филологических наук (в 1943 году) дали из-за страха перед прошлым философа Лосева.
Тут, на философском, еще не взросли люди нового поколения, они еще молодежь, студенты; кадровые же философы – те, у кого за спиной Институт красной профессуры – не чета старой университетской выучке. А у кого она есть, как, например, у П. С. Попова, нет зато ни степеней, ни званий. Их надо завоевывать трудом, к которому не все привыкли, всё больше старались скрываться,[245] не быть особенно на виду в опасной области истмата и диамата, заниматься чем-то нейтральным. Ну как же тут, когда вдруг появились шансы на подъем логики и открытие кафедры, как же туг не захихикать мелкому бесу?
Объединились сразу все – и грубые партийные деятели, и профессор Б. С. Чернышев, боязливый, но бдительный декан,[246] и тонкий эстет П. С. Попов. Вот Лосева и спихнули, причем буквально прямо с кафедры, среди лекции, к безмолвному ужасу студентов. Как всегда, старая песня – идеализм, да еще активная пропаганда его в высшем учебном заведении, влияние на молодые незрелые умы. Сначала, правда, оставили на так называемой научной работе (испытанный прием перед изгнанием). Потом в связи с постановлением ЦК о III томе «Истории философии», к которому Лосев отношения не имел, стали «укреплять» ряды философского факультета и тут уже отчислили профессора. Хорошо, что не арестовали. Все-таки времена изменились и война шла.
Вынести популярности Лосева на факультете не могли. А студенты, особенно участники гегелевского семинара, обожали своего профессора. На его занятия приходили студенты разных курсов, аспиранты и студенты других факультетов.
Ученица А. Ф., участница гегелевского семинара А. А. Гарева, близкий наш друг, вспоминает: «Нам повезло общаться с Великим Философом. Мы были счастливы, нами владел философский эрос, мы становились любомудрами». Гегеля А. Ф. преподносил «легко и просто». «Там было все понятно, как в математике». Это сравнение употребила А. А. Гарева по праву, до философского она училась на мехмате и еще школьницей слушала Н. Н. Лузина. Приведу фрагменты из воспоминаний А. А. Гаревой.[247]
«На занятиях у А. Ф. Лосева мы „погружались“ (как теперь говорят) в Аристотеля, Николая Кузанского, Платона, Гегеля и т. д. Но мы не только учились мыслить. Мы становились эрудированными специалистами. Потому что Алексей Федорович преподносил каждую тему, каждый раздел четко, системно, с приложением обширного списка литературы. Алексей Федорович требовал, чтобы мы читали не только Аристотеля, Платона, Гегеля, Канта, но и Чичерина, Ильина, Гуссерля, Лосского, Шпета и т. д. Он считал, что учитель не должен ограничивать себя узкой специализацией. Требовал также, чтобы мы знакомились с математическими исследованиями. Например, рекомендовал «Курс математического анализа» Пуссена, «Теорию множеств» Хаусдорфа, «Трансфинитные числа» Жегалкина, «Неэвклидову геометрию» Клейна, работы Колмогорова и Александрова и т. д.
Очень интересные темы предлагались студентам для докладов. Например:
1) Гегелевская триада и ее типы.
2) Роль отрицания в «Логике» Гегеля.
3) Роль противоречия в «Логике» Гегеля.
4) Принцип непосредственности и опосредованности в «Логике» Гегеля.
5) Моменты «в себе», «для себя», «у себя», «внутри себя», «вне себя» у Гегеля.
Темы исторического характера:
1) Три изложения «Логики» у Гегеля.
2) «Логика» Гегеля и критицизм (Кант).
3) Критика «Логики» Гегеля у Адольфа Тренделенбурга.
4) «Логика» Гегеля и Чичерин Б. Н.
5) «Логика» Гегеля в понимании И. А. Ильина.
6) Кроче – «Мертвое и живое» в философии Гегеля.
7) Гегель и Фейербах и т. д.
По темам докладов, которые предлагались студентам, видно, насколько обширно, подробно, глубоко преподавался предмет.
Никогда не забуду потрясение, которое я испытала: я спешу на лекцию профессора Лосева, как всегда с радостным чувством. (Философский факультет во время войны располагался на Моховой, в помещении Института психологии на 3-м этаже.) Поднимаюсь по лестнице, а навстречу спускается Алексей Федорович с растерянным видом – его не допустили к занятиям со студентами, устранили! Для студентов это был шок. Такая несправедливость и по отношению к Алексею Федоровичу, и по отношению к студентам! Кроме этого, нас, студентов, решили наказать: заставили нас еще раз прослушать курс диамата и сдавать зачет по диамату, хотя мы все успешно сдали диамат еще раньше (это же был основной, профилирующий предмет!).
Мы протестовали (в то время это было смело с нашей стороны). Мы говорили: даже если Лосев идеалист, гегельянец и т. д. (в то время это считалось крамолой), за что же нас наказывать?! Мы-то не стали идеалистами. Мы материалисты, марксисты. Оттого, что мы читаем Канта, Гегеля и др. буржуазных философов – мы не становимся идеалистами; мы сдали уже около 40 зачетов и экзаменов преподавателям философского факультета – материалистам. И в один день стали идеалистами, потому что прослушали Лосева?! А нам отвечали: «Это же Лосев!» Тем самым признавалось его обаяние, сила его интеллекта и т. д.
Для студентов это была драма!»
И вот сам Г. Ф. Александров, начальник Отдела управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), решил Лосева трудоустроить.[248] Нет, теперь не на канал, а в Московский государственный пединститут им. Ленина – место ссылки не только для идеалистов по природе, но и для твердых материалистов, не выдержавших строгой марксистской линии (как, например, известный деятель Коминтерна Э. Кольман, профессор Н. Ф. Головченко, или А. М. Еголин, или профессор С. М. Петров – все люди, известные в верхах).
Лосева не просто выгнали на улицу. Поступили либерально, перевели из одного вуза в другой, даже позаботились о непрерывности стажа. Никто даже не спросил: а что ему делать в этом институте? Зав. кафедрой классической филологии Н. Ф. Дератани написал забавный документ – моление о переводе Лосева назад в Московский университет – делать ему-де здесь нечего, часов не хватает самим.
Но тут-то и открыли классическое отделение, как будто для того специально, чтобы и Лосеву – закоренелому идеалисту – была ставка профессора и чтобы аспирантура оказалась доступна дочери врага народа А. А. Тахо-Годи. Да, вот такими сложными путями, можно сказать драматическими путями, встретились эти две судьбы, чтобы потом всю жизнь не расставаться.
Итак, потом были каникулы – первые радостные за многие годы. Можно было поехать во Владикавказ, увидеть маму, которая через тысячи километров, через степи и Каспий снова пересекла всю страну от Алтая до Кавказа, чтобы поселиться в доме своего детства, но уже почти заброшенном, где жили только ее брат, профессор, старый холостяк, и сестра, да больной старик, муж сестры, приехавший из какого-то загадочного далека, да ее душевнобольной сын. Дом как будто ждал, чтобы добрая, хорошая, деятельная душа вернулась в него, вдохнула жизнь. И вот бывшая лагерница, потерявшая свое семейное гнездо в Москве, стала налаживать, как могла, новую жизнь в старом доме, некогда крепком, основательном особняке, целой усадьбе, полной милых, молодых и не очень молодых, но крепких телом и духом людей, красивых, талантливых, образованных, пишущих стихи, издающих свой семейный журнал, музицирующих по вечерам, влюбленных в своих кузенов и кузин и выброшенных гражданской войной из родных стен, с родной Терской казачьей земли.
Вот в этот дом, последнее пристанище для тех, кто бежал от военных невзгод и голода, от ссылок и специнтернатов для детей врагов народа, кто возвращался худ и сир из лагерного небытия, – в этот дом с сердцем, полным радостного томления, ехала я целую неделю по большой стране через пустыню разоренных городов, сел, станиц, станций (война завершалась на Западе), запасшись особым пропуском в московской милиции, с узелком нехитрых пожитков. Ехали весело – ребята-студенты, молодые, все впереди, войне конец. Ничего не сообщила о приезде. Хотелось неожиданной радости, внезапного счастья. Летним сумеречным рассветом пешком от вокзала до дома испытанной дорогой, и – стук в окно, закрытое ставнем по-старинному. Боже, вот негаданная встреча. Действительно – не ждали. Мама, маленькая сестренка, милый дядюшка – всем защита и помощник. Опять родные глаза, как и там, в заснеженном алтайском городишке. Быть всем вместе до осени. А может быть, и осень прихватить? Продлить пропуск помогала верная подруга детства Нина (теперь уже нет ее на свете, а была единственно преданная). Да еще маме хотелось что-то переделать, сшить, связать для своей дочери. В лагере научилась великолепной вязке и на воле зарабатывала, пока пальцы позволяли. Худенькая, стройная, седая, вся в движении, в работе, в заботах. Господи, что осталось от прелестной барышни «мирного» времени и достойно-изящной матери четырех детей. Слава Богу, хоть так.
Ей было всего сорок лет, когда она вернулась из лагеря ко мне, на Алтай. Пошли в баню, и дети пугались и плакали, видя ее изможденную худобу – действительно кожа да кости. А еще нас удивляли Освенцимом. Нет, я свидетель, что наш родной мордовский Темлаг не уступал европейскому собрату.
Здесь, в родном доме, мама стала отходить, оттаивать, забываться в заботах о хлебе насущном, о поле с картошкой – самой надо было сажать и собирать. На Алтае научилась. Лагерь же никогда не вспоминала. Ну как же не позаботиться о дочери, которую она любила горячо, но сознательно отослала от себя с институтом в Москву, помня о будущем, которое требовало жертв материнской любви.
Отца арестовали в ночь на 22 июня 1937 года в Москве, а расстреляли 9 октября. Но мы-то, наивные, верили в десять лет без права переписки и ждали, ждали. Я окончила семь классов и тут же была отправлена мамой в дом-убежище, к дяде Леониду Петровичу. Потом и младшую сестренку Миночку, спасая ее от детдома, тайно привезла наша кузина, юная Ольга Туганова.
И вот жарким летом 1944 года мы, оставшиеся от всей семьи, соединились вместе. Ну разве можно взять и уехать в конце лета, после дня Успения Божией Матери? Конечно, нет.
Так уж случилось, что возвращалась я в начале октября. Опять Москва, опять одиночество в шумном, но приветливом общежитии на Усачевке. Не чета огромной кошмарной Стромынке, где нас в комнате было 15 душ, а здесь-то всего – пять и первый этаж, зелень кустов, институт рядом на Пироговке, рядом Новодевичий монастырь, где готовились к экзаменам как раз возле открывшейся семинарии. Мы зубрили свое, лежа и сидя на траве под деревьями, а семинаристы – свое. Так и запомнилось.
В записной книжечке, сохранившейся до сих пор, крохотной, рядом со стихами любимой Людмилы Васильевны Крестовой[249] записан очень важный телефон. Ее и Веру Дмитриевну Кузьмину – двух неразлучных друзей, одну семью – очень любила в бытность на Алтае, и не только как моих учителей в литературе русской классической и древнерусской, но как-то по-детски, с обожанием. Потом, после встречи с человеком в черной шапочке, все как-то тихо отошли, стали милыми тенями прошлого, но незабываемыми.
Так вот рядом с романтическими стихами Людмилы Васильевны («Лоэнгрин, белый лебедь и даль») записаны были телефоны профессоров Лосева и Грабарь-Пассек. Надо было звонить, договариваться о встрече. Неудобно, все-таки опоздала, хотя тогда, как и теперь, никто особенно не обращал внимания на отсутствующих аспирантов.
Договорилась с Марией Евгеньевной, побывала у нее, приняли радушно, познакомилась с добрейшим супругом ее Владимиром Эммануиловичем. Хотя разница в возрасте у них, как потом выяснилось, лет в тридцать, но как-то она не бросалась в глаза, естественной была седина Марии Евгеньевны и Владимира Эммануиловича и хлопотливая заботливость Марии Евгеньевны, хотя Владимир Эммануилович был еще бодр, ежедневно ходил в Ленинку, где мы с ним часто встречались. С высоты его лет я была совсем младенцем, и он называл меня «девочкой».
А вот звонить профессору Лосеву было страшновато. По рассказам, очень строг и суров. «Что ж это вы, сударыня, так запаздываете, – услышала я в телефонную трубку насмешливый голос, – что-то вы загуляли».
Сумрачным осенним днем пришла я на Арбат, в дом 33, на второй этаж. Позвонила. Открыла мне дверь дама с ласковым взглядом глубоких серых глаз, седая, высокая, тонкая, с точеными чертами лица, с горделивой посадкой головы, но вместе с тем как-то душевно-простая и совсем своя. Ток какой-то пробежал между нами – доверие. Это была Валентина Михайловна Лосева. Она-то и провела меня мимо склада дров и картошки в передней через непонятную комнату, заваленную книгами, рукописями, вещами, с электрической плиткой и кастрюлькой на маленьком столике, с туманным большим зеркалом между окон, ободранным низким креслом, где сидел ясноглазый старец, с большой седой бородой, как в сказке, удивительно похожий и лицом, и улыбкой на Валентину Михайловну. Это был, как потом выяснилось, ее отец, Михаил Васильевич Соколов, 91 года. Он остался жив в страшную августовскую ночь бомбежки, когда погиб дом, где жили Лосевы.
Сидели два старика, супруги Соколовы, на диванчике – спускаться в убежище бесполезно. Так они там, на диванчике, и остались, когда спасательная команда раскапывала развалины дома. Она – мертвая, под грузом обрушенного дома (говорят, узнать было нельзя, столь изувеченная), а он – живой. И – рядом.
Дверь, обитая черным дерматином, вела в кабинет, где сидел за письменным столом, тоже заваленным книгами, и они были везде, в шкафах, над диваном, на стульях, сидел в черном кресле с прямой спинкой и львиными головами на подлокотниках, сидел на фоне белой кафельной голландской печки человек в черной шапочке, в очках, бритый, с лицом то ли римского консула, то ли папского кардинала (а по-настоящему – старинный русский родовитый облик – это потом пришло) в наброшенном на плечи темно-синем шотландском пледе (он и сейчас со мной).
Меня посадили напротив в низкое тяжелое официальное кресло – осталось от выехавшей из дома организации. Так мы и просидели с этой минуты всю жизнь. Он в своем кресле с высокой спинкой, раздумывая, близко поднося к глазам листочки блокнота, что-то записывая, диктуя, размышляя вслух, а я – напротив, с листами бумаги, текстами греков и римлян, словарями, справочниками. И уже кресло это страшно официальное я выбросила, уже сидела на простом крепком стуле. На него и встать было можно, чтобы дотянуться до книг, сразу лестницу не принесешь. Уже занимаясь, работая, прислушивалась, не кипит ли что на плитке, не булькает ли вода, не сгорело ли что, – а то и дров в печку надо подбросить, – как-то все эти обязанности, ученые, домашние, хозяйственные, скоро мы с Валентиной Михайловной поделили. Да и трудно ей, бедной, было. В Московском авиационном институте полная ставка на кафедре теоретической механики у важного Георгия Николаевича Свешникова. Старик-отец, как ребенок, муж – тоже большой ребенок – в хозяйство допускать нельзя.
Можно только писать записочки – разогреть то-то и то-то, вынуть из шкафа то-то и то-то, съесть то-то и то-то. Мы потом все втроем переписывались, когда уходили по делам и надо было память оставить. Записочки эти, и по сей день сохраненные, трогательные, спешные каракули с обращением к Азушке, Мусеньке и Хану. Еще надо было в Ленинке поработать и, бывало, до позднего вечера, успеть в общежитие, на улицах мрак, страшно. Трамваи ходят плохо, бежишь пешком. Утром тоже спешишь. Еще надо успеть обменять водку у рынка Усачевского на что-либо более полезное, а на Сивцевом Вражке, тишайшем, пустом, обменяться с молочницами с Киевского вокзала, я им – селедку, они мне – молоко; я им – спички или чай, они мне – молоко.
Михаил Васильевич умирал тяжело, мучительно и безропотно. Умирал от голода – рак пищевода, так сказали врачи. Слава Богу, что длилась болезнь недолго, ухаживала преданно Валентина Михайловна, любимица отца.
Валентина Михайловна похоронила погибшую мать. Всмотритесь в маленькую фотографию Валентины Михайловны, для паспорта, видимо. Лицо изможденной, старой женщины, взгляд отчаявшийся и вместе с тем в порыве безмолвной мольбы, а ей-то всего 43 года. Но за спиной родные смерти, близких по крови и по духу. Одна кончина архимандрита Давида, старца афонского, благословившего чету Лосевых на страдание, их духовного отца, учителя в Иисусовой молитве, наставника в жизни, совершившего над супругами тайный постриг за год до ареста, чего стоит.
Помнит Валентина Михайловна великое церковное разорение, лагерное житие, где одна только вера и молитва спасали. На своих плечах вынесла печальную славу своего супруга, закалилась в непреклонной воле, борясь за его жизнь, его идеи, его книги.
Будешь суровой и без улыбки, коли тебе сообщают ранним утром на мирной даче в Кратове (ул. Горького, 19) в отнюдь не мирное, а вовсе и военное лето, что дом твой погиб начисто, все разметало, искорежило, сгорело в огне, и вместо дома отчего огромная воронка, а что там, внутри, и подумать страшно. С такой вестью и гонцу страшно прибыть, слово молвить страшно. Одного взгляда достаточно – и сердце останавливается. Как это в шекспировском «Макбете», когда Макдуфу пытаются сообщить о гибели его семьи, он тотчас, еще ничего не зная, произносит: «Догадываюсь я». Какие уж тут слова.
Софья Александровна Анциферова, избранная для горестной вести, сама едва жива. А еще надо признаться Алексею Федоровичу. Еще надо погребать погибшую Татьяну Егоровну, обихаживать старика-отца, спасать рукописи и книги.
Да, предстоит великое спасение обломков былой жизни, и уже не в первый раз спасала их Валентина Михайловна, но такого разорения невиданного еще не было.
Будет она с несколькими близкими друзьями, в том числе и с супругами Анциферовыми, в сарае на Арбате сушить на веревках залитые водой, обгорелые, вымазанные песком и глиной рукописи и книги. Будет разглаживать осторожно каждую страничку старинными чугунными утюгами, будет собирать по крупицам то, что теперь мы называем архивом, а тогда называлось жизнью. Будет добывать дрова и керосин, сажать и собирать картошку и таскать ведра для ее полива вместе с А. Ф., у которого после работ на развалинах дома и на кратовском огороде совсем плохи дела со зрением.
И московскую квартиру, что любезно предоставили власти пострадавшему от немецких захватчиков профессору (таких в Москве были единицы), надо устраивать в пустом доме, совсем не приспособленном для жилья. Кто бы помог, приласкал, согрел. Находились для помощи люди добрые, они всюду есть, только поискать, а вот приласкать, согреть – это труднее. И ее надо, Валентину Михайловну, и его – Алексея Федоровича. Последняя ниточка – связь с прежней жизнью – оборвалась – похоронили Михаила Васильевича. Совсем остались одни. И вдруг оказалось – не одни. Есть живая душа, близкая, сама вроде как былинка, ни корней, ни опоры, а туда же – в помощники. Вот и хорошо, троим легче; а где трое во имя мое соберутся, сказал Христос, там и я посреди вас. Так мы и собрались.
Иной раз приходилось оставаться ночевать на Арбате, спать на том самом коротком диванчике, на котором скончался 92-летний Михаил Васильевич. Допоздна разбиралась с книгами и рукописями. Бывало самовольно, за что получала от Валентины Михайловны нагоняй. От Алексея Федоровича – никогда. Постепенно научилась все бумажечки, записочки, листочки беречь, не выбрасывать рваные обожженные листы. Потом из них складывались вполне связные страницы, осколки погибших работ, то, что называют фрагментарными текстами. А для нас троих это были не просто тексты, а сгустки мысли, насильственно оборванные на полуслове. Как будто по живому резали, как будто кто-то сильный и грубый затыкал рот, не допускал договорить до конца уже все продуманное, любовно выношенное, до последнего вздоха проверенное.
После такой работы уже не хотелось спать, все горело внутри, тянулась душа к истокам, к тому, что породило эти удивительные страницы. И начиналось ночное чтение. Книг – необозримое количество, расставляли в специально заказанные мастерам шкафы до потолка, обязательно с закрытыми стеклянными дверцами, такие, чтобы в три ряда можно было поместить. Лосев обновлял, пополнял, возобновлял погибшую наполовину библиотеку. Книги были странно дешевы. Люди уезжали, бежали из военной Москвы, книги иной раз даже не продавали, а просто оставляли лежать аккуратно сложенными на улице, как это было на Моховой, около университета. Приходи и бери. Букинисты процветали, библиотеки брошенные продавались за гроши. Мы с А. Ф. постоянно обходили два раза в неделю весь центр со всеми знакомыми книжниками, а иные приносили книги домой и просто приходили посмотреть, обменять книги и купить лишнее. Еще был у А. Ф. в те годы помощник в книжных делах Н. Н. Соболев, полуармянин, полуавстриец, бутафор и декоратор по профессии, страстный книжник. Уж если ходил с А. Ф. к букинистам, то ни одной малейшей интересной книжечки не пропускал, шел прямо к полкам, лез под прилавки. Много чего приносил, но, как потом выяснилось от его родных, много чего и уносил. Усмотреть было невозможно. Новый, неразрезанный «Столп» о. П. Флоренского принес (у А. Ф. сохранился бомбежный экземпляр), а потом тихо унес и продал нашим же знакомым. Несмотря на некоторые грехи, все-таки много помогал в спасении библиотеки и ее пополнении. Шкафов не хватало, покупали у знакомых, заказывали через друзей, чтобы повместительнее, о красоте речи не было, хотя, как ни странно, некоторые огромные шкафы были красного дерева, но никто внимания на это не обращал. Старинные разбитые Соколовские вещи умные знакомые мастера подбирали, собирали, чинили, приводили в божеский вид и тому же Лосеву потом продавали. Шкафы имели названия. Все хорошо знали, что рыдван – это страшилище на полкомнаты, трехтелый (буквально) Герион, он перегораживал комнату. А высоченный до потолка во всю стену шкафище – этот назывался Гайденковским – делал мастер от Николая Матвеевича. Изящный, резного ореха с разными завитушками назывался Ленькиным, по имени Алексея, в обиходе – Лени Постникова, математика, сына ближайшего покойного друга Лосевых Георгия Васильевича Постникова, погибшего в 30-е годы. Куплен был у матери Леньки Елены Семеновны Постниковой – у них он был лишний.
Вот я и читала ночи напролет, забираясь в разные шкафы. В первую очередь, конечно, – русские символисты – в стихах и прозе. Их научил меня любить и понимать А. Ф. Лосев. Уже через много лет я поняла, какое место занимал символ в иерархии лосевского миропонимания. И опять, как в детстве Жуковского, теперь переписывала стихи Вяч. Иванова, чтобы были всегда рядом, так же, как во время войны переписывала Анненского и Гумилева, теперь снова переписывала Тютчева, мельчайшим почерком, экономя бумагу. А тут целые россыпи несметных богатств. И не разбирала, кто символист, акмеист, футурист (были здесь на серой бумаге революционных лет с фантастическими шрифтами озорные манифесты разных авангардистов), или старые романтики, Гельдерлин и Клейст, или немецкий Рильке, а то и Гюисманс или Густав Мейринк, или видение святой Терезы Авильской, или «Цветочки» Франциска Ассизского – все было интересно, в том числе и «Тридцать три урода» Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, или «Алый меч» 3. Гиппиус. Все было интересно, все поглощалось еженощно, и поэзия, и философия. Это было настоящее пиршество духа. А главное, никто не мешает. А где же книги богословские, религиозные? Оказывается, они (вот судьба) погибли в первую очередь (потом греки, а затем и римляне – такая очередность). То, что осталось, глубоко припрятала Валентина Михайловна – не доберешься. О них даже не говорят вслух. Уже после 1961 года, когда делали большой ремонт, я своими руками все разбирала. Что – в кабинет, что – в Гайденковский шкаф, а основные – богослужебные и творения Отцов Церкви – в новый стенной шкаф с плотными, сплошными дверями – и на замок. В те же времена, при Валентине Михайловне, были книги, необходимые для обихода, когда вместе стояли на молитве. А. Ф. помнил службы наизусть, книг богослужебных у него под рукой не было.
Еженощно при мне, сидящей за книгами, появлялась Валентина Михайловна ставить чайник на плитку и давать бессонному Лосеву снотворный напиток с теплой сладкой водой. Сон был утерян А. Ф. перед самой войной после больших неприятностей и как бы в предчувствии многих будущих бед. А потом, жалея Валентину Михайловну, и я научилась подогревать этот чайник среди ночи и готовить бесполезный напиток – все равно не сплю. Затем процесс этот усовершенствовали, стали наливать в термос и ставили у кровати А. Ф. на стул вместе с порошками. Толку было мало. Человек думал ночью, чтобы работать бесперебойно днем, и снотворные не помогали, засыпал утром, уже изнемогая.
Наш общий интерес к стихам привел А. Ф. к мысли – а почему бы не почитать древнегреческих поэтов, сочетая их с античными мотивами в русской поэзии, конечно, у тех же символистов, хотя бы Вяч. Иванова и Брюсова, как ни различны эти последние, и может, даже и хорошо, что так непохожи. Этой идеей заразили даже коллег по кафедре. Тем более что там был такой тонкий ценитель и переводчик древней поэзии, как Владимир Оттонович Нилендер, друг Лосевых, или Сергей Петрович Кондратьев, блистательный переводчик «Дафниса и Хлои».
Начали мы с А. Ф. заниматься метрикой древних греков, остановились на Архилохе, Алкеевых стихах и Сапфо, на хоровой лирике Вакхилида и небольших одах Пиндара. Разучивали, разбирали, пели, репетировали самозабвенно. Голос, как говорили знатоки, у меня от природы поставлен, могу часами читать вслух и не устаю. А. Ф. сам прекрасный режиссер и актер еще с гимназических лет. Его лекции – целый спектакль. Да и я в ажиотаже невольно вхожу в роль. Валентина Михайловна – благодарный слушатель и строгий критик. И, наконец, выступление на заседании кафедры, нечто вроде маленького камерного вечера с одним исполнителем. Успех был полный. Все дивились, откуда вдруг такой энтузиазм и как это можно воспламенить слушателей классическими и столь каноническими греками, да еще умудриться присоединить к ним «Менаду» Вяч. Иванова и «Медею» Брюсова. Долго потом вспоминали это странное заседание кафедры и писали в разных отчетах о благотворной культурно-просветительской деятельности аспиранта Тахо-Годи.
Настолько увлеклись греческой поэзией и Вяч. Ивановым (десятки раз выкрикивали в разной тональности «все горит. Безмолвствуй!» или «Тишина… Тишина…»), что решено было в несколько варьированном виде повторить этот вечер уже в кабинете А. Ф., дома, пригласив некоторых знатоков.
Лосевы жили тогда, несмотря на отдельную трехкомнатную квартиру в 96 квадратных метров, очень стесненно. Отопления центрального не было, газа не было, но зато всюду лежали дрова, и не только в квартире, в подвале, очень хорошем и сухом, да еще баки с керосином для керосинок, плитки электрические вечно перегорали, их не хватало, да еще запасы картошки в передней, а между окнами зимой – сетки с продуктами – холодильников тогда не было, первый купила Валентина Михайловна в 50-м году вместе с «Книгой о вкусной и здоровой пище» – теперь реликтовой, не хуже знаменитой Елены Молоховец.
Кухня загромождена сундуками разбитыми с такими же разбитыми вещами – один на другом до потолка, старые, купеческие. Узенькая дорожка к окну, где какие-то коробки, за окном опять сетки, а сбоку стариннейший павловский красного дерева с бронзовыми головами громадный комод. Потом его забрала Елена Николаевна Флерова – наш друг, она понимала толк в мебели, а нам он мешал.
У Соколовых на Воздвиженке, 13 (хорошая цифра!) квартира была огромная, места достаточно, а у нас не квартира, а склад. В нашу кухню почти было невозможно войти из-за разбитых купеческих сундуков. Время требовалось, чтобы все разобрать и со многим проститься навеки. Особенно горько было смотреть на разбитые огромные иконы, иные старинные, иные письма Павлика Голубцова (их останки отдали тоже Е. Н. Флеровой, и она отвезла их в Троице-Сергиеву лавру), те, что стояли в келейке Алексея Федоровича и Валентины Михайловны на так называемой «верхушке», на антресолях, пока эти комнаты не захватил энкавэдэшник после ареста Лосевых, и старикам с Лосевыми по уплотнению многолетнему осталось только две комнаты, одна, правда, как громадный зал, да еще разные сарайчики во дворе.
Однажды открыла я дверь в кухню, и передо мной рухнул потолок вместе с креслами и столами начальника райздрава некоего Ларкина, рухнула и часть стены. Потом, правда, в несколько дней восстановили, не из-за профессора, нет, из-за начальника на третьем этаже.
И теперь иной раз боязно открывать дверь на кухню, но, говорят, дважды не рухнет.
Не это самое главное. Главное, что третья комната, хорошая, с двумя окнами, квадратная, удобная, налево из главной (направо – дверь в кабинет А. Ф.), была занята сыном Л. Н. Яснопольского, академика Украинской ССР, замечательного старика, но страшного либерала, одного из тех думцев, что подписали в свое время «Выборгское воззвание», а потом две недели со всеми удобствами отсидели в крепости под арестом. «Ваше благородие, когда соизволите отправиться на отсидку?» – спрашивал его жандармский чин, по рассказу Л. Н. Яснопольского.
Л. Н. Яснопольский очень помог Лосевым во время катастрофы с домом и добился через АН СССР рабочих, что вручную разбирали воронку от бомбы, и ящики достал для перевозки книг. Они до сих пор у меня, тоже с книгами и архивными папками. Лосевы, конечно, не могли отказать Л. Н. Яснопольскому в его просьбе приютить на два-три месяца его сына Сергея с женой Валентиной Николаевной. У них с Лосевыми – общие друзья – В. Д. Пришвина и семья А. Б. Салтыкова, из бывших лосевских друзей – М. В. Юдина, Н. Н. Андреева да еще А. Д. Артоболевская. Люди все верующие, тоже многие из них пострадали в 30-е годы. Как же тут откажешь. К тому же квартира еще только устраивалась. Было как-то страшновато среди полупустого дома (горздрав выехал, а райздрав еще не вселялся), рядом с разбитым и сгоревшим Театром Вахтангова, с мрачным огромным полупустым Филатовским домом (жильцы в эвакуации) в пустом с деревянными особнячками и булыжной мостовой Калошином переулке, где пленные немцы возводили импозантное здание с куполом и колоннадой портала – очередную Кремлевскую больницу, нечто чужеродное тихому, зараставшему летом травой переулку. Потом, чтобы выровнять с современностью сей переулок, сломали все особняки, возвели страшный восьмиэтажный дом и новые корпуса Кремлевки.
Большую комнату перегородили книжными шкафами, устроили как-то узенький коридорчик, и всякий входящий, свой или чужой, невольно взирал на тех, кто сидел в небольшом отгороженном шкафами квадрате за круглым столом.
Мрачно встретили мое появление Яснопольские и пугали Лосевых, что я обязательно всем их добром завладею в каких-то злых целях. Так мне пришлось жить рядом с этими чужими людьми в проходной комнате – на маленьком диванчике – многие годы, хотя я постаралась хотя бы декоративно создать обстановку изолированного помещения, но чужие голоса, глаза, шаги, разговоры, радио, музыка, кухня – все было похоже на какое-то странное общежитие. А. Ф., правда, сидел всегда в кабинете, где работал и спал. А мы с Валентиной Михайловной больше крутились здесь, в проходной и на кухне, и, конечно, с трудом это вмешательство в нашу жизнь выносили, но сдерживались. В основном – я, а Валентина Михайловна бывала резка и часто приструнивала слишком свободных соседей в своей собственной квартире, полученной ее и Алексея Федоровича трудами.[250]
К чему все это я рассказываю. К тому, чтобы не думали, как спокойно, благополучно и нестесненно жил Лосев после войны на Арбате целых 20 лет. Но он, как философ, не задумывался над всей этой бытовой стороной и всегда был благодушен и ровен, а мы, все-таки женщины, не могли иной раз не кипеть.
Зато истинные друзья Лосевых все очень тепло и как-то радостно меня приняли, даже недоверчивый Тарабукин, поняли нашу дружбу и родственность. Со всеми до конца их жизни я была тоже дружна и родственна, а с иными или с их детьми, внуками и даже правнуками близка до сих пор (например, с профессором В. Н. Щелкачевым, о. Владимиром Воробьевым, о. Александром Салтыковым, о. Валентином Асмусом, семьей внука Тарабукина, безвременно погибшего талантливейшего Юрия Дунаева).
Во всяком случае, принимать гостей в то время Лосевым было достаточно трудно. Считалось, и небезосновательно, что все разговоры подслушивают или через телефон, а то и под дверью. Сидеть следовало только в закрытом кабинете, особенно громко не говорить, а это не всегда удавалось. Даже группа аспирантов греческим и латинским языком занималась с А. Ф. в кабинете, а их бывало человек восемь– десять; в дальнейшем, после 1960 года, когда Яснопольские выехали в кооперативную квартиру и мы сделали большой ремонт в 1961 году, уже можно было освободить кабинет от дополнительных нагрузок.
Итак, большое затруднение мы испытали, устраивая вечер в кабинете А. Ф. Время надо выбрать, чтобы соседей не было, чтобы свободно, вдохновенно читать и греков, и Вяч. Иванова, чтобы стеснения никакого. У меня еще дополнительные сложности. Ехать надо мне из общежития, к вечеру, – обычно не раньше девяти часов собирались гости, – зима, мороз сильный. В чем ехать? Пальтишко зимнее очень уж непрезентабельное. Старое, английского сукна, которое носила еще в 6-м классе и до аспирантуры, переделали в летнее, а мама что-то перелицевала и соорудила новое, черное, с маленьким воротничком, какое-то, признаться, сиротское. Девочки в общежитии знали, что еду на вечер, и просто запретили надеть это пальтишко. Одна из них, по-моему, Вера Бабайцева (теперь она доктор наук, профессор-лингвист), а может быть, и не она, дала мне свое зимнее, более приличное, по всеобщему мнению, пальто, шапочка у меня была кротовая, почти не греет, но зато сверху пестрый шерстяной вязанный мамой красивый шарф – и вид, как на старинных грузинских портретах. Все 40-е годы так я любила ходить, а если на шапочку надеть темный платок, то совсем как монахиня и держишь себя сразу по-особенному, строго. Платье на мне было тоже еще с маминых времен, в мастерской ЦК шили, тончайшая шерсть, темно-зеленая с серой отделкой – красиво, просто, изящно. Я его очень берегла, а когда бывало холодно, надевала сверху тоже маминой вязки жилет. В общем, принарядилась.
Гостей собралось всего несколько человек, но люди серьезные: чета Анциферовых, из Киева приехал по делам Александр Иванович Белецкий, высокий, сухощавый, стройный, сереброволос, живые глаза, весь изысканность и порыв. Все знает, всю мировую литературу. Любит читать вслух Вяч. Иванова: «Не извечно, верь, из чаш сафирных боги неба пили нектар нег. Буен был разгул пиров премирных, первых волн слепой разбег…» Жутко становилось, когда представлялся именно в его чтении этот слепой разбег, этот накат волн страшных глубин еще пустого моря на пустынные берега. Людей еще нет, и боги еще не пируют. Замечательно читал.
А то вдруг начнет свои сатирические стихи под именем Петра Подводникова. Всеобщий хохот. Или какие-то свои вымышленные апокрифы и романы. Мы с ним были большие друзья, он учился с моим дядюшкой, Леонидом Петровичем Семеновым, Леонидом Арсеньевичем Булаховским, Николаем Каллиниковичем Гудзием в Харьковском университете. Много лет, до самой его кончины в 1961 году, переписывались, а в 1948/49 учебном году семья Белецких приютила меня в Киеве по просьбе Лосевых, когда Н. Ф. Дератани собирался меня выслать в Ашхабад для укрепления кадров классической филологии. Это в Ашхабад, с его знаменитыми землетрясениями! Там, в Киеве, я работала у Андрея Белецкого на кафедре классической филологии, жила на бывшей Фундуклеевской в маленьком деревянном домике и ежедневно бывала в радушной, ласковой семье Белецких во главе с Марией Ростиславовной.
Среди гостей был известный всей ученой Москве, и не только ей, профессор Николай Каллиникович Гудзий, закадычный друг Белецкого, человек горячего нрава, любитель живописи, чей торжественно-мрачный кабинет темного дерева и мягчайших кожаных кресел был увешан картинами знаменитых мастеров. Висели прямо на книжных полках, как доставал он книги – загадка. Злые языки говорили, что многие картины – подделки. Николай Каллиникович упрашивал Алексея Федоровича согласиться на предложение Федора Сергеевича Булгакова (сына о. Сергия) позировать ему для скульптурного портрета. Ф. С. Булгаков с Натальей Михайловной Нестеровой жили рядом с нами, на Сивцевом, и мы не раз на прогулках встречались с Федором Сергеевичем.[251] Алексей Федорович отказался. Тогда Булгаков отлил из бронзы гордую голову Гудзия, и она стояла у него в кабинете в переулке Грановского. Теперь же—в кабинете декана филфака Московского университета. Ведь Николай Каллиникович был одно время деканом филфака.
Вот и все гости. А я одна со своими стихами. Дебют мой прошел успешно, все как-то воодушевились, тоже стали читать стихи, вспоминали былое, хвалили, смеялись и от всеобщего веселья чуть не свалилась на Александра Ивановича и Николая Каллиниковича красная с золотом энциклопедия, что стояла на полке старого дивана, как раз над головами сидящих. «Ну и нашли место», – возопил Николай Каллиникович и потребовал немедленно убрать оттуда всю энциклопедическую премудрость 20—30-х годов, чем все радостно и занялись. Бедная Валентина Михайловна: то Тарабукин требует сменить скатерть со стола, то Гудзий требует убрать куда-то книги, а куда? Конечно, на пол. Уже через много лет они перекочевали в задние ряды одного из справочных шкафов, а на их место стали изящные фарфоровые вазочки веджвуд, статуэтки – севр, мраморные Аполлон с Артемидой и Европа на быке. Они уже не грозили никому, но на всякий случай привязала я их шелковыми лентами к резной спинке дивана.[252]
Надежды на издание рукописей никогда не покидали Алексея Федоровича, даже в самые отчаянные времена. Он не мог не мыслить и, если вдуматься, в творчестве своем – а он действительно был творец – неизменно воплощал свою идеальную тетрактиду А (см. «Античный космос и современная наука». М., 1927. М., 1993 в кн. «Бытие. Имя. Космос»), одно, сущее одно, становление, факт. Так от «одного» как абстрактной идеи к ее осуществлению в мысли, далее – к постепенному становлению и развертыванию этой осуществленности и, наконец, к фактически ставшему, к результату пути, к тому, что можно назвать готовой книгой.
Лосев проходил этот для него классический путь воплощения идеи в материю слова всю жизнь, а конкретнее, ежедневно, не проводя буквально ни одного дня без строчки, как говорил Марк Аврелий. В самые трудные моменты откуда-то бралась у него особо сгущенная энергия. И эта энергия рождала, казалось бы неожиданно, философские повести среди тягостного лагерного бытия, озаряла светом любви письма к Валентине Михайловне, в полном разорении холодной и голодной военной зимы создавала удивительное по вдохновению размышление о родине, жертве и судьбе.
Родина, родная гимназия, церковь домовая в ней, во имя просветителей славянских Кирилла и Мефодия – все это покоится в глубинах души, в тайниках сердца, надежно спрятано от самого себя – иначе жить невозможно. А жизнь каждый день начинается с письменного стола. Вернее, начинается она еще накануне, с позднего вечера. Кому как не мне, молодой и быстрой, самое время где-то часов в 12 ночи или к часу забраться по лестнице в глубокий и высокий шкаф и, сидя там, наверху лестницы, подбирать те книги и закладывать те страницы, которые он называл, поразительно точно указывая, где что лежит и стоит. Но ведь сам А. Ф. эти книги своими руками ставил и укладывал. Их нельзя сдвигать, в их расстановке есть своя логика, чужому непонятная. Десятки лет на прежних местах стоят книги, товарищи в работе, дорогие спутники жизни. А стоит только что-то передвинуть, убрать в другое место и – конец, никогда не найдешь. Так искала я латинского Арнобия и, совершенно отчаявшись, обнаружила его в греческом шкафу, видимо, переплет попутал, и если бы не случай, так бы этот Арнобий и канул в небытие. Очень радостно неожиданно находить пропавшие книги. Я и теперь опасаюсь менять их место, память сама помнит лучше всякого каталога и путеводителя. А что будет потом – не знаю.[253]
Еще перед войной было вернувшемуся из лагеря Лосеву указание из ЦК ВКП(б) философией не заниматься, можно эстетикой, а мифологией – только античной. Все помнили лосевскую «Диалектику мифа» и согласно решили: миф – он только в античности, современность ему чужда. Надо перековаться, как любили тогда говорить. Лосеву перековываться не надо – недаром окончил два отделения.
Для Лосева же философия, эстетика, мифология – плоды одного дерева. Эстетика – наука не столько о прекрасном, сколько о выразительных формах бытия и о разной степени совершенства этой выразительности, которая может быть и вполне безобразной (прекрасно выраженное безобразие), и смешной, и гротескной, и ужасной. Миф древний тоже имеет свою выразительность, философская мысль тех же древних – свою. И чем древнее эта философская мысль, тем выразительнее, то есть тем эстетичнее.
Вот почему Лосев, вернувшись из лагеря, окунулся в мифологическое пространство греков и римлян, в материю их мысли, в их вечное небо, в их космос, живой, телесный, дышащий, в многообразие выразительных форм, таящихся в этих космических глубинах.
О, эта красота небесного тела, созданного великим демиургом из смешения материальных стихий, где хаос преодолен, где царствуют мера, число и гармония, где нерушимы скрепы Эроса, неколебимого стража целостности и единства мира. Ей, этой предыстории нового, христианского мира, этой языческой древности, где среди бессмертных богов уже грезилось Нечто Единое, высший, самодовлеющий Ум, Отец всех вещей, блаженный в своем совершенстве, – ей, этой пока еще телесной красоте, решил посвятить Лосев свои новые труды, ничуть не кривя душой, не отрекаясь от прежних идей,[254] влекомый заботой раскрыть все пути, коими шла мысль человечества от мира как обожествленной материи к Богу, Создателю и Творцу мира.
И все сороковые и пятидесятые работал А. Ф. над мифологией, над Гомером, где собраны начала и концы древних времен. Работал без всякой перспективы печатания, никто не смел разрешить (любые предлоги: идеалист, война, послевоенное время, бумаги нет, отзывы плохие), но писал. Когда Юдифь спросила его: «Алексей Федорович, а на что же вы надеетесь?» – он ответил кратко: «На археологию». Сделают через много лет раскопки – рукописи найдут, а там, глядишь, и напечатают. С надеждой на археологию так и создавал свои книги.[255]
В предвоенные годы написал он два тома «Истории эстетики». Сначала издательство «Искусство» с благословения властей (указание от П. Ф. Юдина – члена ЦК) заказало автору историю эстетики в гораздо большем объеме, потом, передумав, остановилось на античной части – безопаснее. Но и тут шла борьба вокруг этого издания.
В 1936 году договор (№ 3626) на 30 п. л., т. 1 (античная эстетика) подписал директор издательства «Искусство» И. М. Бескин. Однако роковую роль сыграл здесь И. Е. Верцман, который должен был редактировать «Историю эстетики». Он отказался редактировать закоснелого идеалиста, о чем 7 октября и сообщило издательство:
«Рукопись в настоящем ее виде к производству принята быть не может». Тогда А. Ф. вынужден был срочно обратиться к Верцману с письмом от 8 октября 1936 года.
Лосев укорял Верцмана, оказавшегося в «нашу весьма мужественную эпоху – весьма немужественным (чтобы не сказать больше) человеком. Есть тут и прямая политическая ошибка». По словам Лосева, его оппонент хочет «задержать бурный рост просвещения», он не в состоянии «выйти за пределы карточной нормы военного коммунизма». Автор письма предупреждает провидчески Верцмана: «Завтра Вы уже не будете нужны стране. Ваше место займут более живые и гибкие умы». Правда, это «завтра» наступит через десятки лет, в годы 60-е, когда станут выходить лосевские тома «Истории античной эстетики» (ИАЭ).
А. Ф. обвиняет Верцмана в «удушении» труда, создатель которого руководствовался «только любовью к знанию и науке». Лосев проницательно подмечает в поведении Верцмана тонкую психологическую деталь – «расстройство собственных нервов» противника, которое вызвано внутренней его борьбой с совестью. «Людей, у которых есть совесть, я привык уважать», – пишет Лосев. Он прекрасно сознает роль Верцмана в удушении «эстетики», но какой ценой – больною совестью.
Лосев был прав, так как вся дальнейшая история «Эстетики» в издательстве «Искусство» все время втягивала Верцмана в свою орбиту, против его воли заставляя иметь дело с непокорным Лосевым, который попытался проникнуть в суть отношений редактора и автора, причем, как он полагал, не политическую, а какую-то достаточно смутную «внутреннюю».
Незадолго до этого события зам. ответственного редактора журнала «Литературный критик» известный М. Розенталь также отклонил (27/V—1936) статью А. Ф. «Эклектизм в античной эстетике», связанную с эстетическим томом. Образованный и неглупый, М. Розенталь руководствуется чисто политическими соображениями и нервов своих не расстраивает, как более тонкий Верцман. В письме Лосеву от 27 мая 1936 года он прямо называет концепцию Лосева «ложной», выводы «неразделяемыми марксистами» (это, думаю, к пользе автора). В статье присутствует весь традиционный набор обвинений: «релятивизм, философско-исторический агностицизм» (ему и невдомек, что Лосев – извечный критик таких взглядов) и, конечно, связь с «реакционной философией буржуазного Запада». Розенталь увидел в античном эклектизме «намеки» на «несовершенство» всех демократических и материалистических принципов. Рассуждения Лосева о либерализме и диктатуре в античности наталкивают проницательного литкритика на «затушевывание» автором «классовых различий между, скажем, диктатурой пролетариата и диктатурой фашизма – финансовой олигархии».
«Ложности» лосевской концепции противопоставляется здесь «философия пролетарской демократии, демократии трудящихся». В итоге редакция просит автора пересмотреть принципы своего исследования, стыдливо замечая, что приводимые материалы «интересны», но, к сожалению, «направление и толкование дается неправильное». Заметим, что все даже самые злостные отзывы 30-х – начала 50-х годов о трудах Лосева всегда признавали «интересные» материалы, собранные автором, но концепции его и метод работы считали вредными и неприемлемыми для философии победившего пролетариата. Лосев должен был, судя по всему, стать эдаким безликим собирателем и переводчиком античных философских текстов, а уж по-настоящему, по-марксистски обрабатывать их будут ортодоксальные философы, твердые диаматчики.
Удивительно, как хватало сил опальному Лосеву отвечать на такого рода письма-рецензии. Но он и Розенталю ответил (16/VII—1936): печатать хочется, и автор готов выбросить первые четыре страницы, дать новое введение. Что же касается вопроса о либерализме, то бедный автор удивлен, каким образом можно эту фразу отнести к советской действительности, «которая, как известно, и фактически и принципиально, никогда не была либерализмом».
Однако даже смиренное согласие переработать статью не помогло. Редакция журнала от имени М. Розенталя (но через секретаря) сурово уведомила: «Переработкой статьи редакция не удовлетворена. Вместе с письмом возвращаем Вам статью». Как это похоже на будущую историю с бесконечным переделыванием вступительной статьи об эстетике Возрождения к антологии В. Шестакова (все ее варианты хранятся у меня) уже в благие времена конца 70-х. Как это похоже на переделывания вступительной статьи к Сочинениям Вл. Соловьева в те же годы (варианты хранятся у меня), совсем непохожей на то, что задумал Лосев. Слава Богу, что все-таки история распорядилась по-своему. Издательство «Мысль» выпустило первое издание лосевской «Эстетики Возрождения», где он наконец высказал открыто свои идеи (1978), а издательство «Прогресс» – большую книгу А. Ф. «Вл. Соловьев и его время» (1990), где автор тоже вполне открыто проявил свои позиции. Да и вся огромная эпопея ИАЭ (1963–1994) – не есть ли это справедливое слово судьбы в ответ на разного рода удушения последнего русского философа?
На всем этом мрачном фоне сплошных отказов как-то обнадеживающе прозвучали предложения М. А. Лифшица (к Лосеву он всегда относился со вниманием) напечатать в «Литературном критике» «Эстетику Гомера», «Канон Поликлета», эстетические воззрения стоиков, скептиков, эпикурейцев, главы о теории цвета в античной эстетике. М. А. Лифшиц даже предлагал издать все эти отдельные части «Античной эстетики» в трудах ИФЛИ по теории и истории искусства, куда, конечно, Лосеву не было ходу. Но, судя по всему, А. Ф. не решился подвергнуться враждебной критике. Ведь один Лифшиц не делает весны. Был еще скромный запрос от ученого секретаря ИМЛИ имени Горького АН СССР Тамары Лазаревны Мотылевой (13/VI—1941) зайти для переговоров об участии в «Словаре античной мифологии». Лосеву, только что пережившему катастрофу, – не до словаря, который так никогда и не вышел в издании Академии наук. Настоящий мифологический словарь в двух томах «Мифы народов мира» (1980–1982) при активном участии Лосева выпустит издательство «Советская энциклопедия».
Роман с издательством «Искусство», как это ни странно, продолжается, правда, спустя несколько лет. Опять И. Е. Верцман пишет отзыв об «Истории античной эстетики». Судя по всему, ему предложено ее редактировать. Опять вначале идут похвалы интересным материалам, собранным Лосевым, даже отмечается «крупное, значительное по эрудиции явление» (в эрудиции даже враги не отказывали Лосеву). Но опять камнем преткновения являются «методология», неумение противопоставлять «материализм и идеализм» «на почве античной философии и эстетики». Снова одно и то же: «Труд к марксизму абсолютно никакого отношения не имеет», как и автор не имеет «никакого представления о марксистско-ленинской философии и эстетике», даже «не владеет ее текстами». Маркс цитируется только единожды в главе об Эпикуре, а «Философские тетради» Ленина «даже не упоминаются». «Все предисловие с цитатами из „Капитала“ носит внешне декларативный характер».
А мне, знаете, понравился отзыв Верцмана. Он действительно понял чуждость Лосева марксизму и оказался умнее и тоньше нынешних критиков, которые хотят, чтобы с 30-х годов (читайте также первую «Философскую энциклопедию», пятитомную) Лосев перешел на марксистские позиции. Верцман опровергает заявления самого Лосева о его освоении марксизма в 30-е годы. Да, изучал, читал, но не так, как требовалось, догматически и тупо. Все равно поворачивал по-своему и толковал по-своему, может быть, и вопреки замыслам основоположников. Верцман особо это прочувствовал (здесь даже не надо понимания, чутье главное), не наш Лосев, явно не наш.
К тому же Верцман нашел у Лосева «ницшеанскую окраску» и целый букет самых противоположных, исключающих друг друга принципов, эклектизм, элементы гегельянства, «декаденщина дурного толка», «дионисизм», «безвкусная модернизация», «мистификация» проблемы материализма и идеализма, которые Лосевым «ставятся на голову». Верцман намекает на «предрассудки определенного философского образования», делающего автора «беспомощным» в вопросах элементарных. К тому же Лосев враг «духа просвещения» и «интеллектуализма вообще» (здесь явно отзвуки лосевской травли 1930–1931 годов с обвинениями в мракобесии, бергсонианстве и т. п.). Критик находит опять-таки расхождение «фактического содержания» книги и «идеалистического вздора» ее автора. Можно, правда, выделить кое-какие «линии», которые «не слишком искажают материал книги», и тогда получится «ценное пособие» для «нашего учащегося». Но, поскольку «само собой разумеется, что вопрос о марксистском исследовании античной эстетики абсолютно не может быть решен, даже работой редактора-марксиста», И. Е. Верцман отказывается от редактирования.
Тем не менее 22 ноября 1940 года заключается новый договор (№ 3392) на «Историю античной эстетики» (25 л.) уже новым директором Г. П. Силкиным. Еще до заключения договора, по предложению А. Ф., ИАЭ посылают на редактуру академику А. И. Белецкому в Харьков (письмо главного редактора Гершензона от 16/XI—1940). Однако, как ни хорошо относился А. И. Белецкий к Лосеву и его трудам, но, получив 25 печатных листов ИАЭ, собственно говоря, философского труда, он в письме от 31 марта 1941 года принял решение – отказаться. «Не могу считать себя авторитетом в вопросах истории философии, это не моя специальность, – пишет Александр Иванович. – Я вынужден отказаться от взятой на себя задачи. Я очень сожалею…» Он предлагает в редакторы сотрудника Института философии АН СССР или, может быть, специалиста по классической филологии. Снова просит извинения.
Бедный Александр Иванович, конечно, в сложное он попал положение. Хочется помочь, а возможности нет, да еще в Харькове большие неприятности в связи с отказом в университете дать Лосеву докторскую степень (об этом печальном предприятии, когда ортодоксы сокрушили и Белецкого, и Лосева, – вы уже читали выше).
И вот опять в дело вступает редактура Верцмана. Зам. зав. редакцией изосектора Бандалин просит у Лосева вступительную статью для редактора (26/IV—1941), а также главу о драме. Лосев находится в это время в Полтаве, читает там лекции. Валентина Михайловна спешно посылает ему на проверку этот материал. Письмо Бандалина завершается товарищеским «жму руку».
Наконец рукопись в апреле месяце 1941 года – чувствуете, как дело близится к войне? – снова передана Верцману. Передали, но здесь же и забрали назад, согласно примечанию 2 к пункту 4 договора о «политико-идеологических соображениях». Рукопись передана на просмотр. Куда? Видимо, в Главлит. Возвращается она 30 июня 1941 года – в первую неделю войны – с пометкой о необходимости редакционной переработки вместе с автором. Одобрение состоится после завершения редактуры.
Можно себе представить, какая изнурительная работа ожидает Верцмана и Лосева. Но Бандалин, теперь уже зав. отделом изолитературы, в письме Лосеву (от 2/VII—1941, куда прилагает письма Гершензона и Белецкого), излагая все перипетии дела за последнее время, заключает, что пока издательство лишено возможности редактировать труд по истории античной эстетики. И действительно, какой безумец издает античную эстетику в годы войны? Таких нет.
Да и Лосеву тоже не до эстетики. Как мы знаем, рукописи ИАЭ постигла печальная судьба – превратиться в прах, сгореть, быть засыпанными в развалинах, на дне огромной фугасной воронки. Так сам собой разрешился вопрос об издании дорогого сердцу А. Ф. труда. Надо было начинать все сначала. А. Ф. Лосев заново приступил к работе как раз в дни моего появления в доме на Арбате. Издательству «Искусство» (как бы оно ни хотело этого) избежать Лосева не дано. Мы опять будем туда стучаться, сначала неудачно, и 1-й том ИАЭ выйдет как учебное пособие в «Высшей школе» (1963). А 2-й том все-таки появится в «Искусстве» (1969), знаменуя приход новых людей и новых веяний в стране. Тяжело, со скрипом, со своими драмами, но все-таки завершит «Искусство» эту беспримерную эпопею в 8 томах и 10 книгах в 1994 году (спустя шесть лет после кончины Лосева). От судьбы не уйдешь.[256]
Перед войной Лосев составлял двухтомную «Античную мифологию», собрание текстов, для которого он с разрешения издательства «Academia», а затем издательства «Художественная литература» привлек известных переводчиков, таких, например, как С. В. Шервинский, М. Е. Грабарь-Пассек, Д. С. Недович, С. И. Радциг и многих других (их работу оплачивало издательство), оставив за собой философские тексты, в том числе неоплатонические, никогда не переводившиеся.
Структура этого огромного собрания была обдумана Лосевым так, чтобы абсолютно ясно выделить в томе 1-м мифы космогонические и теогонические, а затем в строгой последовательности дать мифологию Олимпа.[257] Каждый раздел предварялся вступлением Лосева, в котором вырисовывались исторически сложившиеся биографии богов и их предыстория. А. Ф. глубоко вошел в античную мифологию. Это собрание текстов наметило главные линии освоения Лосевым мифологического наследия в его историческом развитии, от форм ранних, достаточно примитивных, фетишистских, анимистических, страшных, рожденных Матерью-Землей, так называемых хтонических (греч. chthon – земля), к чистому анимизму и далее к антропоморфной гармоничности и даже изысканности.
В истории Олимпийцев выделялись и подчеркивались рудименты их древнего генезиса, связь с ушедшей архаикой и демонизмом.
Лосев, подбирая тексты, руководствовался идеями, которые в дальнейшем отчетливо будут им проведены в «Олимпийской мифологии» (1953), во «Введении в античную мифологию» (1954), в капитальном труде «Античная мифология в ее историческом развитии» (1957), в книге «Гомер» (1960), в больших обобщающих статьях пятитомной «Философской энциклопедии» (1960–1970) и двухтомной энциклопедии «Мифы народов мира» (1980–1982), во множестве статей по частным проблемам (например, «Эфир», «Ночь», «Хаос» и др.).
Собрание текстов, задуманное Лосевым, создавало некую целостную картину мироощущения древних греков. В нем таился заряд огромной эстетической силы. Выразительность текстов должна была произвести на читателя чисто художественное воздействие, а помимо того сыграть образовательную, культурную роль.
Но не тут-то было. Несмотря на договоры (1936, 1937 годов) с издательствами,[258] опять выступают идеологические и даже политические аргументы, что особенно чревато последствиями в столь опасные годы. Находятся «философы-марксисты» на уровне Пролеткульта, отзывы которых граничат с доносами. Так, М. А. Наумова, окончившая МГПИ им. В. И. Ленина и даже аспирантуру ИФЛИ в 1935 году, стала главным авторитетом по «Мифологии» Лосева, тем более что в 1939 году она уже профессор Высшей партшколы при ЦК КПСС.
Эта партийная дама, правда, признается, что дать оценку переводов «не представляется возможным», но зато обвиняет Лосева в «объективистском буржуазном подходе», в «буржуазной методологии», выдвигающей «надклассовое, надпартийное творчество античных мыслителей» (интересно, надпартийность и классовость в родовом обществе!). Лосев, конечно, «сознательно игнорирует богатейшие высказывания Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина по поводу античных мыслителей», тем самым «неправильно ориентирует читателей». Явно запутавшись, Наумова почему-то упрекает Лосева в игнорировании «социальной, классовой направленности античной методологии». Видимо, ученая дама путает методологию с мифологией. Отзыв требует проверки правильного подбора текстов и их перевода. Судя по всему, в подборке и в переводах участвовали классовые враги, не только Лосев, но и переводчики.
Рецензент Севортян сознавался, что высказывает мнение, «не будучи специалистом». Однако подобное признание не помешало ему защищать «принципиальные требования», необходимые для советского читателя – ведь Лосев «известен своими идеалистическими взглядами и не способен на правильное освещение» античной мифологии. Здесь и «смесь из греческих философов и Гегеля» (опять бедный Гегель!), «идеализм и антиисторизм» и «спекулятивно-метафизические рассуждения». Обвиняются редактор, издательство. Как они могли проглядеть Лосева и не сумели «подыскать автора-марксиста». Да, действительно, почему марксисты не брошены на античную мифологию, почему не берут ее штурмом? Хотя бы та же Наумова? Почему? Нет ответа.
Не дремали и античники, увидевшие в Лосеве опасного конкурента. Ведь издание – дело хлебное, одним преподаванием не проживешь. Известный автор еще детской дореволюционной книжки «Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях», потом переиздававшейся под названием «Мифы и легенды Древней Греции» (легенд там, правда, никаких нет, а есть простое изложение мифов), в эти времена почитаемый профессор ИФЛИ Н. А. Кун оказался тоже борцом за «идеологическую выдержанность» (работа в единственном вузе Москвы, где есть классическая филология, обязывает). Вводные статьи, по его мнению, «не всегда строго марксистски» (зато, видимо, марксизм излучают его мифы для детского возраста). И вообще не надо давать в мифе о Прометее (его ведь особенно ценил Горький) тексты из неоплатоников (мистики!), а из Лукиана вообще все надо опустить (издевается он над Прометеем и богами!). Как же так не учел профессор, что Маркс назвал Лукиана «Вольтером классической древности»? Излишни мистические тексты к Гермесу – Трижды величайшему, излишен Апулей с его Амуром и Психеей. В отзыве то и дело встречаются слова «опустить», «излишне», «переработать», «все это сделать весьма просто» и «потребует немного времени».
Был и второй отзыв Куна (после ответа Лосева) с такими определениями: «ненаучно», «сумбур», «вред», «искажения», «не марксистски», «выкинуть» (это об источниках мифов в философии, литературе, искусстве), «изменить» (это о плане всей книги).
Почтенный профессор, наверное, был крайне оскорблен, что Лосев не привлек его к изданию столь обширного мифологического собрания. Самому издать такое – немыслимо (легче писать для детей), но видеть, что другой издает, – тоже невмоготу. Храбрый М. А. Лифшиц, несмотря ни на что, дал в свое время заключение печатать, но, увы, издательство «Academia» закрывается, а Гослит, или Худлит, с его директором П. И. Чагиным, куда перешел портфель «Академии», не желает потакать Лосеву. Оно как раз и организует отзыв ученого Куна и собственное решающее заключение.
Надо представить себе положение А. Ф. во второй половине 30-х годов. Есть указания от ЦК – дать работу Лосеву в издательствах. Но не дремлют стражи идеологии и науки – всем хочется иметь прочное место под солнцем, и новым неучам, и старому профессору, и директору издательства, и главному редактору. Все дружно объединяются и даже делают совместное заключение.
Чего только нет в этом заключении! Здесь и моменты, «прямо враждебные марксистско-ленинской идеологии», «низкий научный уровень всей работы», «тексты мистиков» (Прокл, Ямвлих, орфики), «сознательное затушевывание материалистического толкования мифов», «маскировка» под «мнимо-объективный» выбор источников, искажение образа Прометея, тексты «отцов церкви» с их «агитацией» (о, ужас) «за христианское единобожие». Критика принимает смешные формы, когда в этом заключении безобидный мифолог Палефат объявляется «материалистом» и т. д. и т. п. А все дело, оказывается, в той характеристике, что дал Лосеву Л. М. Каганович на XVI съезде ВКП(б). Вот где собака зарыта. Здесь не научные аргументы, а политика. Лосев-то, как выяснили, «нисколько не перестроился и стоит на прежних позициях», он – «воинствующий идеалист» и «антимарксист». Спасибо авторам заключения. Признали, что перестройка, которую требовали от Лосева, не удалась.
Но в 1937 году подобное заключение звучало грозно и было равносильно доносу в органы славного НКВД.[259]
Заключение Гослита подписали совместно первый – некогда могущественный глава Главлита (к нему когда-то ходила Валентина Михайловна) П. И. Лебедев-Полянский (его называли Лебедев-Подлянский), теперь, правда, всего-навсего зав. сектором классики в Худлите (но еще станет академиком в 1946 году). Второй – зам. главного редактора некто Ржанов (но подписывается он первым, по должности важнее Лебедева-Полянского). Третий – Б. В. Горнунг – старый знакомец и коллега Лосева, лингвист-ученый. Его-то особенно жаль, не удержался, втянули.[260]
Лосев вынужден отвечать, как всегда по пунктам, на все, даже самые глупые и нелепые обвинения. Отбивается, безуспешно пишет в Отдел печати издательств ЦК ВКП(б) (25/II—1938), по поручению которого издательство «Academia» взялось за «Античную мифологию», академику И. К. Лупполу (16/VI—1938) (директору ГИХЛа), даже подает в нарсуд – работа по договору выполнена, а денег не платят. Уж очень надо быть отчаянным, чтобы в 1938 году подать иск в суд. Дело длится до 1940 года, и, как ни странно, народный суд, куда с идеологическими обвинениями, с политическим доносом приходят представители издательства, на стороне Лосева. Истец выигрывает, но в конце концов обе стороны решают кончить дело миром. Дело прекращается производством 25 мая 1940 года. Вершат правосудие три женщины: судья – Гамбургер, заседатели – Подколзина и Гришина. Как будто открываются новые перспективы. Но через год – война.
Как ни странно, но именно в 1944 году, в войну, «Античную мифологию» представляют к Сталинской премии два академика – А. И. Белецкий и Л. Н. Яснопольский (12/I– 1944). Подтверждается это представление отзывами А. И. Белецкого, а также двух известных писателей К. Федина и С. Маршака, ибо собрание мифологических текстов – явление большой литературы, имеющей непреходящее художественное значение, а значит, и культурное, и воспитательное. Однако и здесь – неудача. Премию выдают только за напечатанные труды, а этот, несчастный, все еще в машинописи. В 1945 году, когда А. Ф. работает в МГПИ и скандалы на кафедре еще не разразились, зав. кафедрой профессор Н. Ф. Дератани просит Лосева дать отзыв о трудах заведующего к его 60-летнему юбилею. Он, конечно, пишет сей отзыв сам, но подпись – главное, причем такие тонкости не обнародуются.[261] В обмен предлагает представить «Античную мифологию» на премию МГПИ. Но и здесь опять неудача – премии не дают. Есть подозрение, что сам же Дератани способствовал тайно (это в его духе) провалу этого и так заведомо гиблого дела. Лосев-то юбилейный отзыв не подписал.
Странная судьба у «Античной мифологии». Тяжелая судьба. Пять машинописных томов, готовящихся к печати, размеченных корректорами, в переплетах, оказались на самом дне фугасной воронки нетронутыми в ночь на 12 августа 1941 года. Война. Ничего не скажешь. А. Ф. завещал мне напечатать «Античную мифологию» после его смерти. Он скончался. Войны сейчас нет. «Античную мифологию» с ее живыми голосами древних поэтов и философов, чудом выжившую, не печатают. Может быть, рассчитывают на вечность всей этой древности. Она ведь никогда не стареет. Всегда ко времени.[262] И время пришло в 2005 году.
Только и было в печати, что перевод нескольких трактатов знаменитого философа-неоплатоника XV века кардинала Николая Кузанского. Ему повезло. Считалось, что его похвалил Маркс, и Лосев участвовал в издании небольшой книжки (издательство «Соцэкгиз»).[263] Тоже драма. Все комментарии, заказанные издательством Лосеву, выбросили, весь анализ текстов выбросили, правили некие «правщики» невежественно перевод. Так, название трактата «О бытии-возможности» переиначили в «Возможность бытия», «чувственное небо» исправляли на «чувствительное», «неразрушимость духа» стала «непорочностью духа», «человечность» – «человечеством». Текст примечаний не был согласован с текстом перевода, ибо «все историческое» решительно выбрасывали из комментариев. Измываясь над переводчиком, сняли имя Лосева с титульного листа. Тот гневно писал (26/VI—1937), что снятие имени переводчика нарушает «элементарные трудовые права советского гражданина». Он боролся, писал отчаянные письма, указывал на ошибки редакторов, приводил скрупулезно бессмысленные «исправления» (сохранились эти письма у нас в архиве) – все тщетно.
Уже через десятки лет, в 1979–1980 годах, издательство «Мысль» выпустило двухтомник Николая Кузанского, и там среди других поместили также лосевские переводы, сверенные с латинским труднейшим оригиналом. Спасибо редакции «Философского наследия», Л. В. Литвиновой, профессору В. В. Соколову и В. В. Бибихину.
Перевел А. Ф. перед войной, тоже для «Соцэкгиза», трактаты великого скептика Секста Эмпирика. Следует учесть, что оба перевода – Н. Кузанского и Секста – делались Лосевым не самовольно, а по постановлению Института философии АН СССР, где директором был П. Ф. Юдин. Судя по переписке, эта работа началась еще в 1935 году. Конечно, как всегда, началась с отрицательных отзывов. В. М. Лосевой пришлось писать П. Ф. Юдину, не только директору Института красной профессуры, но и ответственному работнику ЦК, пытавшемуся помочь А. Ф. В своем письме Валентина Михайловна указывает на то, что рецензент, зная имя Лосева по прежним годам и «не имея указаний к объективному отношению, счел своим революционным долгом ругать автора». Как это характерно для советской действительности – ждать указаний. Таковых не было, и Лосев оказался обвиненным в «религиозно-мистических моментах», которых, как отмечает справедливо Валентина Михайловна, «нет и не может быть в такой работе». Лосева, великого логика, упрекали даже в «отсутствии способности к логически связному мышлению».
Казалось, Юдин тоже втянут в какие-то интриги. Однако после телефонного разговора Валентины Михайловны с Юдиным вернулось к нему, как пишет Валентина Михайловна, «чувство глубокого доверия» (16/Х—1935). Когда твердые указания были даны, А. Ф. прислали из «Соцэкгиза» договор на перевод ряда трактатов Секста (17/XII—1935). В 1937 году (20/XII) издательство готово было предоставить Лосеву перевод всех трактатов, кроме «Пирроновых положений», переведенных еще до революции Брюлловой-Шаскольской.
Однако дела в «Соцэкгизе» затухли вместе с началом войны. К счастью, текст перевода сохранился в архиве издательства (потом мы его обнаружили и в домашнем архиве), откуда он был извлечен В. П. Шестаковым по просьбе Лосева. Тогда В. П. Шестаков еще нуждался в научной поддержке Лосева и был очень оперативен. Двухтомник Секста с предисловием и комментариями Лосева напечатало издательство «Мысль» в 1975–1976 годах после внимательного пересмотра Лосевым своего старого перевода и при учете нового издания греческого текста.
Сколько же надо было ждать и какое терпение иметь – около полустолетия!
В 1943 году, когда А. Ф. работал в МГУ на философском факультете и ожидал заведования кафедрой логики, была попытка новой публикации «Логики» Г. И. Челпанова, некогда учителя А. Ф. по университетским годам. Опять все тот же могучий «Соцэкгиз» заключил с Лосевым соглашение (21/VIII—1943) (директор А. В. Морозов) на редактуру двенадцати авторских листов, причем работу надо было сдать через месяц. В это время Лосев много пишет по логике, в частности о вопросах, связанных с современным состоянием этой для социалистического общества новой науки. Об этой работе в пятнадцать авторских листов дал отзыв Э. Кольман (10/XI—1943), известный политический деятель и философ-марксист. Хотя рецензент «по ряду частностей не согласился с формулировками автора», но признал «большую эрудицию» и «смелость научного исследования». В итоге, пишет он, работа «всячески заслуживает быть напечатанной». Какие обнадеживающие слова! Возможно, благожелательность Кольмана связана с постановлением властей о развитии и укреплении логики как науки в высших учебных заведениях, а может быть, и с тем, что Лосева допустили на философский факультет, и значит, он проверен. Кроме того, Кольман тоже готовил свой учебник и редактирование его хотел поручить эрудиту в этой области. Но не пришлось Лосеву быть редактором ни учебника Кольмана, ни учебника Челпанова (все материалы по редакции сохранились в нашем архиве). Не пришлось напечатать поставленные в план Института философии работы «Современные проблемы логики» (15 п. л.) (на нее положительный отзыв дал Кольман), «Логическое учение о числе» (2–3 п. л.),[264] «О типах логики и диалектики» (3 п. л.), «О методах логики» (3 п. л.). Лосева в это время изгоняли из Московского университета, и о крахе издательских дел по логике он сообщил П. Ф. Юдину в письме от 20 февраля 1944 года.
Между прочим, труды по логике диалектической, математической логике и все выше перечисленные до сих пор не напечатаны. Лосев не раз к ним обращался и позже в 50-е годы, перечитывал, исправлял, переделывал композиционно. Однако такие авторитеты, как профессор С. Яновская, категорически не пускали их в печать. Лосев закрыл и эту страницу своего творчества. Забыл о любимой с юности науке. Идеи же свои старался использовать в работах логико-лингвистических, если уж не дали осуществить их в логико-философском плане. Лингвистические работы, как и переводы 30-х годов, как и античная эстетика, будут печататься уже после смерти Сталина (1953) в оттепель 60-х годов, в самый застой 70-х. В идеях лосевских застоя никогда не было. Издатели – в основном «Искусство» и «Мысль» – печатали, демонстрируя как раз не застой, а очень живое ощущение интеллектуальных потребностей общества.
Однако нечего заглядывать в будущее, оно еще неизвестно ни Лосевым, ни мне. Мы живем в послевоенные, 40-е годы. Важно, что послевоенные. Они вселяют надежду. Алексей Федорович исподволь, систематически, как он это делал всегда, опять взялся за античную эстетику, заново, начиная с Гомера, с самых истоков. Лосеву важна строгая логика и система, от истоков великой античной культуры до ее завершения, от язычества к христианству, когда в 529 году византийский император Юстиниан закроет на веки вечные платоновскую Академию в Афинах, последний оплот языческой мудрости в мире нового христианского жизнетворчества.
Пишется «Эстетическая терминология ранней греческой литературы. Гомер. Гесиод. Лирики». Сидим за письменным столом, работаем, таскаем книги из всех библиотек Москвы, выписываем из Ленинграда, близко время, когда разрешат выписывать научные книги из-за границы через Академию наук, обновится и приумножится свое, домашнее книгохранилище.
А. Ф. все труднее писать самому, с глазами плохо. Заметки и записки пишем ему крупным шрифтом. Все, что обдумывается, заносится в тезисном виде в тонкие и толстые, еще довоенные тетради (их сохранилось много).
Одни из них предназначены для рефератов прочитанных книг, подробных конспектов – эти почерком А. Ф., уже угловатым, где буквы наезжают на буквы, или почти все моими каракулями, которые сама с трудом различаю. Книги, читанные мною на всех главных европейских языках, – я ими тогда увлекалась, и просто была необходимость. Все тетради целы, их роль сыграна. Спокойно лежат в левом ящике письменного стола.
Другие тетради – самые важные. По ним можно и теперь проследить разработки тем, которые лежали в основе многих книг А. Ф.; там же тезисы всех докладов с указанием года и числа; там же материалы для работы с аспирантами и даже переводы с русского на греческий и латинский знаменитых стихов, пушкинское «Я помню чудное мгновенье» или «То было раннею весной» – прелестного романса Чайковского. Там же библиографические списки к разным темам, записи новых книг, шифры библиотечные и многое другое. Страницы заполнены четким почерком (специально для А. Ф.) Валентины Михайловны, моим, а далее других помощников, так называемых секретарей, тех, кто писал под диктовку, иной раз много лет подряд, а то от времени до времени, по необходимости. Я их всех различаю по почеркам. Все они, правда, возникнут много позже, с 60-х годов (например, Г. В. Мурзакова с 1963 по 1973 год, не философ, не филолог, а просто образованный человек). Мы же еще только в 40-х.
Многие проходили лосевскую школу, хотя, казалось бы, работа механическая, пиши под диктовку, да читай, да в словари смотри. Ан, смотришь, и школа получается, а там и диссертация пишется, и научный работник вырастает.
Валентине Михайловне трудно справляться с потоком лосевских запросов, у нее полная ставка в Авиационном институте. Да и я уже сочиняю диссертацию под строгим надзором А. Ф. Значит, еще нужен помощник. Это близкий нам человек, студентка классического отделения Юдифь Каган, дочь М. И. Кагана, сотоварища Лосева по ГАХНу, философа-неокантианца, учившегося в Германии. Он близок М. М. Бахтину, М. В. Юдиной, сестрам Цветаевым, семье Флоренского. Умер безвременно в 1937 году, слава Богу, дома. Теперь вот немцы издают его сочинения и его архив стараниями моей милой подруги Юдифи, сохранившей вместе с матерью, Софьей Исааковной, все до мельчайшего листочка.
У Юдифи в те давние времена трудная жизнь в старинном деревянном доме в тишайшем Молочном переулке близ Зачатьевского монастыря, в двух комнатах коммуналки на втором этаже. В одной – рояль и принимают гостей, в другой – на столе у Юдифи «Столп» о. Павла, а под стеклом портрет величавого Моммзена («Это что, твой дедушка?» – выясняла ее сокурсница). Мы дружили, но спорили, и даже иной раз не разговариваем. А потом опять вместе. И непонятно, кто старше.
Я аспирантка, она студентка. Но во мне больше детского, а в ней взрослого. У нее свои отношения с Валентиной Михайловной. Иной раз на лекциях А. Ф. (Валентина Михайловна и я сопровождаем, идучи пешком на М. Пироговскую) они переписываются тайными записочками с очень смелыми мыслями о Боге, например. Друг другу абсолютно доверяют в эти опасные времена.
А. Ф. в память отца помог Юдифи поступить к нам, на отделение. Помню, как к нему приходила высокая, стройная черноволосая женщина с выразительным незабываемым лицом и низким голосом – Софья Исааковна. И Юдифь – черноволоса до блеска, прямой пробор, пучок, всегда строга и с хорошим вкусом. Вот она сидит в тяжелом кресле, пишет крупным, ясным почерком об эстетической терминологии, а я об Олимпийской мифологии, хотя иной раз меняемся ролями. Но дело идет. Обе работы будут напечатаны в скромном институтском издательстве в 1953–1954 годах. Первые после двадцатитрехлетнего перерыва.
Казалось бы, как просто и хорошо. Но это именно кажется. Пока забудьте о простоте и счастливом конце, что венчает дело.
Упорный А. Ф. Лосев понимает, что эстетический космос античных философов не по профилю, а проще – не «по зубам» кафедре классической филологии МГПИ имени Ленина, руководимой профессором Н. Ф. Дератани. Он разрабатывает подступы к классической эстетике, изучает ее истоки, то есть Гомера, Гесиода, лириков. Это самая настоящая литература, и кафедра вполне компетентна рассмотреть рукопись и рекомендовать ее к печати. Но дело в том, что на кафедре давно, уже года с 45-го, идет глухая, да и открытая борьба с идеалистом Лосевым. Собственно Лосева стремится выжить с кафедры Н. Ф. Дератани, как уже говорилось, единственный член партии среди старых ученых, специалистов по классической филологии.
Если бы Лосев тихо сидел и не вылезал со своими работами по античной эстетике, если бы не читал блестящих курсов греческой литературы и мифологии, если бы не увлекал студентов и аспирантов в высокую науку, если бы не разоблачал невежество рвавшихся в кандидаты наук членов партии, если бы не выступал на философских семинарах со своей неумолимой диалектикой, если бы не критиковал так называемые «труды» присных и прихлебателей Дератани, если бы дерзко не обращался в ответ на оскорбления в ЦК, то мертвенный мир господствовал бы на кафедре и Лосев не был бы Лосевым.
Но А. Ф. – человек самостоятельных и независимых взглядов, его голыми руками не возьмешь. Премудрость марксистская ему, прошедшему школу диалектики великих неоплатоников, Дионисия Ареопагита, Николая Кузанского и Гегеля, – детские игрушки. Ему ли трепетать перед IV главой «Краткого курса ВКП(б)», «Материализмом и эмпириокритицизмом», «Философскими тетрадями» Ленина, «Диалектикой природы» Энгельса и «Капиталом» Маркса? Все это Лосев изучил досконально, как он имел обычай сам во всем разбираться, и в науках, и в потугах на науку. Что-то взял на вооружение (одобрение гегелевской диалектики Лениным, учение о социально-экономических формациях), умел оперировать «священными» текстами, смело выставляя их в противовес противникам, и не боялся бить врагов, опираясь на их высшие авторитеты. Справиться с Лосевым, прямым конкурентом заведующего кафедрой, было трудно. А. Ф. часто говорил, что его больше гнали именно конкуренты в философии и филологии, провоцирующие власть демагогическими воплями о вредном идеалисте.
Да, не могли вынести также многие старые филологи-классики Лосева за то, что и понять было трудно, то ли он философ, то ли филолог, все с какими-то идеями, а зачем идеи, если есть текст, читай его и разбирай грамматически или дай исторический комментарий. Идей очень не любили, особенно оригинальных. Все непонятное называли презрительно «философией». И между прочим, знаменитый знаток греческого и латинского Сергей Иванович Соболевский, как я упоминала, терпеть не мог «этой философии» и укорял добродушно молодого Лосева: «Ну что вы все носитесь с какими-то идеями». Ну что же делать? Философия и филология были для Лосева единым Логосом, в котором мысль и слово неразрывны, и недаром греческий, любил подчеркивать А. Ф., имеет более шестидесяти оттенков вот этого тончайшего взаимодействия мысли и слова.
Да и обидно было заведующему кафедрой. Он диссертацию на латинском языке, кстати сказать, последнюю в России, защитил в самую революцию в Московском университете, по риторике Овидия, знаток был латыни, прошел старую муштру классическую, старше был Лосева, а вот пришлось приспосабливаться, крутиться, объединяться с молодыми партийными неучами, самому вступать в эту проклятую, но такую нужную партию, интриговать, губить прежних коллег, перессориться со всеми стариками и однолетками. Знаменитые старики, академики М. М. Покровский, С. И. Соболевский, И. И. Толстой, терпеть не могли партийного Дератани, не выносили его С. И. Радциг, Н. А. Кун, Ф. А. Петровский, А Н. Попов и др. В ИФЛИ, цитадель советской гуманитарной науки, не пускали, а он, окопавшись в МГПИ, в партийных кругах наркомата просвещения, в околоцековских чиновничьих службах, презирал в свою очередь бывших учителей и сотоварищей. Да еще откуда ни возьмись свалился на голову младший коллега все из того же Московского университета, неугомонный и очень подозрительный Лосев, с совершенно испорченной биографией, закоренелый идеалист, беспартийный, тайный антисоветчик. Еще удивительно, как о нем заботятся верхи. Перевели со своей ставкой в Пединститут имени Ленина, чтобы он там, как и в университете, соблазнял своими идеями незрелую молодежь.
На первых порах хотелось тишины, и даже в гости ходили несколько раз друг к другу. И жен у обоих звали одинаково – Валентина Михайловна.
Но тишина быстро кончилась. Особенно же после истории с защитой диссертации некоей приезжей Новиковой. Народ невежественный, но зато партийный считал удобным спрятаться под опеку профессора Дератани. Так и здесь, предстояла защита, и, конечно, не хуже мифологического коршуна терзали бессмертного Прометея. Лосев же как назло выступил с большим крамольным докладом о проблеме неподлинности эсхиловского «Прометея». Проблема серьезнейшая до нынешних времен, ею занимаются выдающиеся умы и очень сомневаются в авторстве Эсхила,[265] относя эту драму к концу V века до н. э. Если даже с ними не соглашаться, с выдающимися учеными, все равно интересно и поучительно изучить все pro и contra, весь так называемый «прометеевский вопрос». Но официально в советской науке запрещено даже упоминать об этом. Маркс назвал мифологического Прометея «первым мучеником в философском календаре». Эсхил – первый великий трагик. Значит, дошедший до нас «Прометей прикованный» принадлежит Эсхилу. Подумайте, какова логика!
Смущенно выслушали доклад Лосева. Поняли одно – здорово он знает греческую трагедию. Значит, быть ему оппонентом у Новиковой.
Диссертация эта кандидатская была жалостная, вульгарно-социологическая, конечно, по русским переводам. Языков ни древних, ни новых диссертантка не знала. Для вящей учености пыталась сослаться на английское издание текста и смехотворно перевела в перечне действующих лиц (дальше она не пошла) английское minister – слуга, прислужник, как «министр». Гермес оказался министром Зевса. Я сама читала эту диссертацию и делала выписки из нее, они у меня, как и отзывы Лосева, хранятся.
Дератани боялся провала. Защищали тогда на Ученом совете факультета, где много было солидных ученых. Решил воспользоваться авторитетом Лосева, уговорил выступить его оппонентом. Скрепя сердце А. Ф. согласился. Не мог отказать. Дал отзыв кислый, но в итоге, как делают в сомнительных случаях, все-таки положительный.
Новикова держала себя на заседании Ученого совета вызывающе, отвечала оппоненту грубо, передергивала его аргументы, даже делала политические выпады. Ну как же, известный идеалист (Боже, кто только не попрекал этим «грехом» Лосева) не может понять революционной трагедии, он вообще и Прометея-то эсхиловского отрицает, эдакий крамольник. А. Ф. отвечал сдержанно и вежливо. Но дома, поразмыслив и поняв, что дал согласие на отзыв против совести, решился на опасный шаг. Просил совет собраться и выступил там с отказом от собственного отзыва.
Присутствовать при этом самоубийстве было невыносимо. Сердца наши с Валентиной Михайловной истекали кровью. Страшно было смотреть на белого после бессонных ночей человека, душа которого металась между научным долгом, совестью и собственным благополучием на кафедре.
Голос Лосева был тверд, он принял решение и не отступил от него, как ни ополчались, издеваясь над его поступком, Дератани и Тимофеева (парторг кафедры) в маске служителей истины, клеймя чуть ли не предателем научной добросовестности. Лосев не просто произвел сенсацию на совете своим отказом, раскрытием глубокого невежества диссертации и причинами, по которым он вынужден был дать положительный отзыв, он многих членов совета привел в смущение. Иные из них задумались и прозрели. Хотя бы тот же молчаливый, мрачноватый Вячеслав Федорович Ржига, великий знаток древнерусской литературы и других славянских,[266] или Борис Иванович Пуришев, ставший нашим неизменным гостем и другом, тоже немало страдавший, Иван Григорьевич Голанов, сам в 30-е годы под арестом и выслан.[267] А другие – осуждали, иронизировали, ехидничали. Но главное – это был открытый вызов заведующему со всеми его креатурами и союзниками. Отныне мира быть не могло. Дератани и Тимофеева в средствах не стеснялись, писали тайные доносы на Лосева, а тут стали открыто действовать против него и против ему сочувствующих.
Кафедра была приведена в боевую готовность. Главную роль играла парторг кафедры доцент Н. А. Тимофеева, оплот заведующего. Она четко делила всех на материалистов и идеалистов, друзей и врагов народа, но любила пококетничать, произнося в нос, на французский манер слово «жанр». Она считалась местным специалистом по жанру романа. Спорить с ней было опасно. Все трепетали, ибо партком с его интригами была ее стихия. Не могла противиться главной паре Г. А. Сонкина, член ВКП(б). Защитила она диссертацию по Горацию в мою бытность (оппонентом, вполне благожелательным, был Лосев). Она – вдова известного военачальника времен гражданской войны – Михайловского, с высокими связями. Ей поэтому прощали образованность, знание языков, деликатность. Человек она в глубине души страдающий. Должна защищать общую «линию», вступает, бедная, в противоречие сама с собой, Лосева боится, но уважает. А еще больше боится Дератани и Тимофееву.[268]
Есть еще тоже бывший ученик Дератани – некто Генрих Борисович Пузис, так сказать, друг кафедры. Его призывают для разного рода обсуждений и отзывов и, если надо, избиений. Высокий, толстый, нескладный, как будто всегда небритый, похожий на жабу. Юдифь Каган однажды после того, как он пожал ей руку, долго мыла и терла ее. «Как жабу подержала в руках» – ее слова.[269]
Есть еще Н. М. Черемухина, доцент-искусствовед, ученый секретарь кафедры. В прошлом – дочь состоятельных родителей, получила прекрасное образование, юность проводила за границей – в Греции, Италии, на Крите. Много всего знает, но в голове полная путаница. Как удержаться среди злодеев и остаться человеком. Она боится всех, но, хорошо знаю, Лосева уважает, а меня даже любит, храня нежную память о моем отце, у которого она работала. Это она, когда был костюмированный бал в нашей школе, привезла моему брату, Хаджи-Мурату, великолепный албанский костюм (точно по портрету Байрона из брокгаузовского издания его сочинений). Он был тихо взят из запасника Музея народов СССР, где основателем и директором был мой отец. Там были кремневые инкрустированные перламутром и серебром пистолеты, а кинжалы были наши, отцовские, поясом служила старинного переливающегося шелка шаль моей бабки, матери отца. Н. М. Черемухина – та самая, которая однажды с апломбом провозгласила на заседании кафедры: «Человек – это звучит горько», выразив, по Фрейду, подсознательное личное ощущение своей погубленной жизни.
На кафедре тихо сидели молчаливые аспиранты, Миша Аккерман, Аня Горштейн, сдававшие кандидатский минимум. Неизменно поддерживала Лосева живая, бойкая Валя Гусятинская (она защитила потом у А. Ф. диссертацию по Феокриту), одинокая жизнь которой, хотя сама Валентина Семеновна теперь доктор наук и профессор, в общем не удалась.
Для сокрушения Лосева призывались и студенты классического отделения. Не все ведь любили своего профессора, хотя он со всеми возился, читал замечательно греческих авторов, Гомера, мифологию, давал книги.
Со студентами Дератани и Тимофеева заигрывали, соблазняли демагогией, так что споры и скандалы расходились кругами. Некий Кузнецов очень усердствовал (его я запомнила) и еще Лия Тюкшина, хоть и студентка, но уже член ВКП(б). Сама из деревни, взятая на воспитание симпатичной семьей Чеховых (не родичей Антона Павловича), одна из дам которых работала вместе с Валентиной Михайловной на кафедре в МАИ. Мне приходилось забегать в их деревянный дом в Гагаринском переулке (он давно уже снесен). Благодаря Валентине Михайловне эту девочку Лию устроили на классическое отделение. Дератани и Тимофеева основательно с ней поработали, и она, так скромно улыбавшаяся («Какая у нее хорошая улыбка», – говорила Валентина Михайловна), стала одной из верных помощниц партийных деятелей факультета в травле Лосева. Но зато это открыло ей всю дальнейшую карьеру. Диссертация, заведование кафедрой (русский язык для иностранцев, если не ошибаюсь), твердое положение в МГПИ, профессура, – от прежней провинциальной девочки ничего не осталось. Да и фамилия другая, звучная, замуж вышла, стала Дерибас.[270]
На одном из последних юбилеев А. Ф. поздравляла его от лица своей кафедры. Тяжело было смотреть и слушать.
Но были и ярые сторонники Лосева – Виктор Камянов и Петя Руднев – старшекурсники, и младшие – Олег Широков и Леня Гиндин – все талантливые ребята, честные, совестливые. Их судьба дальнейшая тоже об этом свидетельствует. Многим был знаком известный критик Виктор Камянов, но мало кто знает, что он по образованию филолог-классик, учился у Лосева. Петр Александрович Руднев – известный стиховед, был в свое время гоним, все-таки защитил диссертацию, горячо поддержанную Лосевым и М. Л. Гаспаровым, работал у Ю. М. Лотмана в Тарту, профессорствовал в Петрозаводске, у него и жена Лидия, и сын Вадим – стиховеды. Всю жизнь мы с Алексеем Федоровичем и потом я одна – с Петей близкие друзья. Всю жизнь друзья с О. С. Широковым (до сих пор хранится его курсовая за II курс у нас дома) и женой его, тоже ученицей Лосева, всегда помогали, чем могли, друг другу, многое нас связывает глубоко. О. С. Широков – профессор на филфаке МГУ. Прекрасным ученым был (печально говорить «был», скончался в 1994 году) Леня Гиндин, доктор наук и профессор Института славяноведения и балканистики РАН, сам учитель многих учеников. И тоже всю жизнь мы друзья.[271]
Этих младших, когда Дератани закрыл классическое отделение в МГПИ и ушел заведовать кафедрой в университет (это особая история), перевели на классическое отделение филфака МГУ, которое они окончили.
Между тем среди всех неурядиц, скандалов, объяснений, избиений надо было сдавать кандидатский минимум, диссертацию готовить, наукой заниматься, Алексею Федоровичу и Валентине Михайловне помогать. Как-то само собой получилось, что спецвопрос по философии мне придумал А. Ф. Предложил рассмотреть изменение жанров греческой литературы в связи с эволюцией общества и личности. Обдумывали мы это, сидя на порожках опарихинского домика, еще летом 1945 года. Тогда же придумал А. Ф. мне тему диссертации – изучить поэтические тропы поэм Гомера и постараться объяснить их мифологические корни, выделить их, исторически сложившиеся еще в родовом обществе. Работа очень конкретная, вся основанная на внимательном изучении текста, но вместе с тем и на изучении трудной теории поэтического языка – этого Kunstsprache, и огромной об этом литературы. Темы минимума и диссертации утвердили еще до больших скандалов на кафедре, и мой официальный руководитель (он всеми аспирантами руководил) Н. Ф. Дератани забыл о моих научных делах, так как их заслонили совсем не научные коллизии.
Минимум по философии сдавала я Э. Кольману, старому деятелю Коминтерна, чешскому коммунисту, попавшему в немилость и подвизавшемуся в МГПИ. Э. Кольман был странный человек. Он почему-то писал Лосеву, даже пытался приглашать его к философскому сотрудничеству, общался с ним и как-то вел себя не очень ортодоксально. В институте все его почитали и побаивались. Он мог снова очутиться вблизи высших властей.[272]
Аспиранты трепетали перед экзаменом, хотя все готовили традиционные известные вопросы по истории философии. Мой спецвопрос заинтересовал Кольмана, и он так увлекся, что долго обсуждал со мной, к удивлению молчаливой комиссии, тонкости жанровых своеобразий и философских школ в Древней Греции. Поставил он мне пятерку и был страшно как-то оживлен, доволен. Кстати сказать, по марксизму-ленинизму я схватила едва-едва тройку, потом пересдала на четверку. Не хотелось учить – и все тут.
После экзамена среди аспирантов прошел забавный слух, что Тахо-Годи сдавала Кольману спецвопрос на английском языке. Это был, конечно, вздор. Но Кольман с акцентом говорил на русском, а я многие вещи разъясняла, ссылаясь то на немецкие, то на английские источники, и тут произошла какая-то аберрация. Правда, мои сотоварищи по аспирантуре и общежитию не раз просили меня писать письма по-английски (тогда почему-то стали получать из Англии от студентов письма). Я английский любила, хорошо его знала, как и французский, почти с детства, и вообще питала страсть к языкам. Сама учила итальянский, испанский и польский, по совету своего дядюшки, любившего польских романтиков. У меня от дяди сохранились словари, грамматики, прекрасные антологии. Потом пришлось всю эту лирику забросить, сохранить языки только для научного употребления. За границу не посылали, осталась без разговорной практики, хотя когда-то бойко говорила, чему есть свидетели. В общем, философию сдала успешно. Но это полдела.
Материалы по Гомеру А. Ф. предписал мне взять с собой, когда я поехала в очередной раз к маме на Кавказ. Там, каждый день, сидя под сенью древес, среди аромата роз, жужжания пчел, под синим небом в нашем маленьком садике, напоминающем по своей интимной замкнутости и благоуханию какую-то живую декорацию к идиллиям Феокрита, я читала Гомера.
Стояла блаженная жара и блаженная тишина. Никто не мешал. Как будто мир отгорожен навеки и его вообще не существует. Как-то раз это уединение нарушил мой сотоварищ по аспирантуре (он был зарубежник) Сергей Гиждеу. У него во Владикавказе жили родичи, хорошо всем известный знаменитый офтальмолог профессор Гиждеу, и Сережа приехал его навестить. Зашел ко мне, и мы с упоением беседовали о поэзии, особенно вцепились в Рильке, которого наше поколение тогда еще не знало, а мы уже читали его по-немецки.[273] То вдруг появилась моя подруга Юдифь. Она участвовала в экспедиции геологов под руководством своей матери Софьи Исааковны, которая многие годы преподавала в Институте нефти и газа имени Губкина, была опытным геологом. Эти последние очень любят места под Владикавказом для практики студентов. Знаю наверняка, так как другой геолог, наш друг, профессор Павел Васильевич Флоренский, старший внук о. Павла, не раз вывозил студентов в наши края и даже как-то прихватил туда с собой мою маленькую тогда племянницу Леночку, о чем она красочно вспоминает.
Так вот, Юдифь отправлялась потом дальше по Военно-Грузинской дороге в Тбилиси (она даже изучала грузинский язык), а все ехавшие туда всегда проезжали через Владикавказ – начало этого двухсоткилометрового пути.
Хорошо и как-то духовно-родственно было встретиться с Юдифью вне институтских стен, всей этой учебной сутолоки и неприятностей. А вообще жили мы достаточно уединенно. Время от времени я вспоминала рассказы Лосевых о том, как они в 1936 и 1937 годах тоже проезжали Владикавказ, отправляясь в далекое путешествие, и жили, оказывается, несколько дней на Ингушской турбазе. Она же помещалась напротив нашего особняка (Осетинская ул., 4), бывший дом (а внутри – настоящие дворцовые апартаменты) миллионера из Грозного, нефтяника Тапы Чермоева.
При доме жил прежний денщик Чермоева, теперь сторож Николай, который неизменно величал мою маму «барышня Нина». Он помнил ее с дореволюционных лет. Да, Лосевы видели наш дом, а может быть, и меня поздним летом 37-го, девочкой, привезенной сюда из Москвы в канун своего осеннего пятнадцатилетия. Сладко было мечтать, что мы, не зная друг друга, были где-то совсем рядом. Все это не случайно.
Так сидела я и ежедневно трудилась, выписывая из Гомера и классифицируя на карточках все оттенки метафор, сравнений, синекдох и т. п. Довольная своими приятными и ничуть не обременительными занятиями, я, закончив обе поэмы (работала я быстро, как-то лихорадочно, и сейчас происходит то же самое, если засяду, наконец, за письменный стол), написала удовлетворенное письмо моим дорогим «взросленьким». И как же я была поражена, когда получила в ответ строгую телеграмму (она хранится до сих пор): «Темпы свидетельствуют небрежность работы. Лосев». Задумалась, заволновалась, стала все перечитывать, перебирать, пересматривать. Много чего нашла пропущенного, недосмотренного в спешке. Когда же вернулась осенью в Москву, всю работу еще раз проверяла, уточняла, классифицировала, составляла статистические таблицы и поняла, что в науке спешить нельзя. Как прав А. Ф., что работает ежедневно, регулярно, систематически, из бесчисленных капелек-фактов создается целый мощный поток мыслей. Еще раз убедилась я в этом, когда с друзьями году в 52-м по совету дядюшки мы пешком прошли Трусовское ущелье и, главное, Кассарскую теснину (в стороне от подъема к Крестовому перевалу), напоминавшую своими серными парами, нависшими скалами и мертвыми птицами Дантов ад. И там были свидетелями, как из груди отвесной скалы сочились тысячи капелек, буквально капля за каплей источались, как они потом собирались в бойкий ручей, на котором работала мельничка, а затем этот ручей на наших глазах превращался в бурный поток, впадавший в Терек.
А. Ф. любил учить, научать, лепить ученика, создавать из него личность, необязательно большую, но с присущими только ей качествами, и чтобы мыслил пытливо, добирался до сути, привык к внимательной работе, с уважением относясь к исследуемому материалу, без всяких вкусовых ощущений. Ученика не жалел, требовал строго. Многому научил меня Лосев в работе над диссертацией. А еще больше я училась, помогая ему в его ежедневных трудах.
И как хорошо! Совсем забыл обо мне Дератани. Так думала я по наивности. А он вовсе и не забыл. Кончалась моя аспирантура, и было принято решение, что меня оставят на кафедре.[274] Уже будучи аспиранткой, я преподавала греческий на третьем курсе классического отделения, где училась Юдифь. Но события развертывались стремительно, тут уж ни с чем и ни с кем не считались, и летом, в июне, меня отчислили с моей ассистентской полставки.[275] Самое опасное, что не просто сняли с работы, а включили по наущению Дератани в криминальные списки, куда включали и солидных ученых – и действительно изгоняли – например, выдающегося биолога профессора Натали (предки были итальянцы); попал туда и Б. И. Пуришев, наш друг, но потом обошлось. Был какой-то срок в плену у немцев, хотя доказано, что там он чистил картошку и занимался хозработами, тщательно скрывая свой с детства немецкий язык. У меня отец – враг народа – это даже не предлог, а, само собой разумеется, какая-нибудь кара. Предлог благовидный был – укреплять кадрами Ашхабад. Я уже об этом упоминала выше. Значит, прощайте, Лосевы, прощай, Москва, прощай, диссертация. Для меня такое укрепление кадров – чистая ссылка, откуда не вернешься. Но если учесть, что вовсю идут аресты, то эта ссылка, может, и спасение. Но какой ценой.
И вот тихо договорились Алексей Федорович и Валентина Михайловна с нашими друзьями Александром Ивановичем Белецким и его сыном Андреем – поехать мне в Киев, тоже укреплять кадры на открывшейся там кафедре классической филологии и отделении, которыми руководит Андрей Александрович Белецкий. Все это предприятие держалось в строгой тайне.
В институте последняя моя встреча с начальством, с деканом профессором И. В. Устиновым была вполне драматична. Человек я сдержанный, никогда ни с кем не скандалила, голоса не повышала, всю горечь всегда держала в себе, а тут вдруг не смогла стерпеть, прорвало, наговорила и накричала на всех со слезами, с рыданиями, уж они и не рады были, что вызвали меня на разговор. Помню, что с остервенением и злобой кричала: «Буду преподавать, обязательно буду, в Москве, на классическом отделении, всем вам назло!» Закатила сущую истерику, но стыдно не было. За многие годы все обиды вылились, и легче стало. Как в воду смотрела, выкрикивая растерянному декану свои провидческие слова, над которыми мрачно ухмылялись. Да, стала преподавать на классическом отделении, сначала в Киеве, а потом, после смерти Дератани, и в Московском университете. Вот как все неожиданно исполнилось. Несомненно, с соизволения высших сил. Так завершилось мое пребывание в МГПИ. Лосев остался там пока в полном враждебном окружении.
К счастью, никто меня не искал, не требовал. Это еще раз указывает на то, что Дератани надо было просто отделаться от меня любым путем, а остальное его не заботило. Выгнали – и хорошо. Может быть, я и уехала в Среднюю Азию, а может быть, скорее всего, в Тбилиси. Знали, что я с Кавказа, и полагали, что там у меня друзья. Во всяком случае, есть у меня характеристика, посланная Дератани в Тбилисский университет.
До последней минуты не хотелось уезжать, но пришлось. Ровно год – учебный год – проработала я в Киеве, на кафедре у А. А. Белецкого. Вспоминаю с чувством любви и признательности это время. Вся семья Белецких: он сам, Мария Ростиславовна, сыновья – ученейший Андрей с женой, красавицей Ниной Алексеевной, и студент Платон с женой, тоже красавицей Славочкой (оба талантливые художники) – встретили меня как родную. Первые дни я блаженствовала у них в квартире на Рейтарской улице, неподалеку от Святой Софии. Затем нашли мне отдельную комнату в деревянном домике на проспекте Ленина (в центре, бывшая Фундуклеевская). Там источали изобилие бесчисленные магазинчики и ларечки с душистыми гроздьями винограда, персиков, слив – пройти мимо, не купив, просто невозможно.
Университет имени Шевченко (бывший святого Владимира) еще толком не восстановлен. Занимались там в холодных, сырых от полной неустроенности помещениях, но больше в какой-то школе, куда ходили рука об руку с Андреем Александровичем уже к вечеру, через вырытые для прокладки труб ямы, развалины сносимых домишек. Там частенько не горел свет, выключалось электричество. И мы, зав. кафедрой и молодой ассистент, сидя за уютным столом на Рейтарской, мечтали: а может быть, сегодня не пойдем, может, электричества не будет.[276] Иной раз мечта сбывалась, и мы радовались как дети. Тогда Андрей Александрович начинал читать какую-нибудь свою загадочную повесть о брате Юнипере или я пускалась играть с трехлетней внучкой Белецких – прелестной Леночкой – с детьми я очень хорошо ладила и они меня любили, а то слушали музыку или печатали на машинках: Андрей Александрович – что-то для своей докторской (кандидатскую он защитил в Харькове, до войны, и уже там, совсем молодой, заведовал кафедрой), а я – для студентов упражнения фразы для перевода – очень интересно печатать на машинке греческим шрифтом, одно удовольствие.[277]
Вечером можно позвонить на Арбат, в Москву, или ждать телефон оттуда, услышать родные голоса и уже совсем поздно, увы, надо возвращаться в свой деревянный домик. А там я непонятно как живу.
Просто так. Плачу деньги – и все. Даже не прописана в Киеве, и отдел кадров как-то совсем этим не обеспокоен.[278]
Из Киева то езжу поездом в Москву, на краткий миг, то летаю самолетом. Бедный Андрей Александрович очень страдает от таких отлучек, но поделать ничего не может. А то присылают мне из Москвы с оказией (через родичей Яснопольских, украинского академика Лошкарева) маленькие посылочки с чем-либо вкусненьким, для утешения, например, с черной икрой. Тогда этих деликатесов в Москве было сколько угодно после денежной реформы, отмены карточек и т. п.
Белецкие устроили (узнав все от Валентины Михайловны) мне прекрасный день рождения 26 октября, с цветами, конфетами, подарками – и от себя, и от Лосевых. До сих пор живы у меня хрустальная вазочка для цветов и чайная чашечка с блюдцем и десертной тарелкой. А той, что устроила праздник, хлопотливой, заботливой Марии Ростиславовны – давно нет на свете. Нет и дорогого мне Александра Ивановича – храню его карточку, письма Алексею Федоровичу и мне – спрятаны далеко, все обещаю передать их в Киев, а поднять из архива сил нет, письма замечательные.
Как хорошо все вместе встречали Новый год, с поздравлениями, написанными искусным византийским почерком Андрея Александровича, тоже с подарками, с елкой. Или вечерние беседы за чайным столом, все друзья, все единомышленники, и особенно интересно, когда собирались втроем – Александр Иванович, Леонид Арсеньевич Булаховский и приехавший на сессию Академии наук – Н. К. Гудзий – все три друга. Важные, ученейшие, выдающиеся (к Александру Ивановичу с почтением приходили домой члены ЦК Украины). А какая простота и доброжелательность в обращении, да с кем, с девчонкой, «гимназисткой», как называл меня Булаховский (нравилось ему мое коричневое платье, напоминало старые времена его молодости), и я тоже вступала в эту серьезно-шутливую беседу с участием острых на мысль и язык братьев, старшего Андрея, младшего Платона. Чего стоил один его диалог с самим собой, где употреблялось только одно слово «бандура» и производные от него. Виктор Максимович Жирмунский – тот был солиден, казался взрослым среди всех этих ученых мужей, любителей высокой поэзии, тонкой иронии, забавных мистификаций, – но если дошло дело до науки, то только держись, шутки в сторону.
Господи, неужели все это было, и все ушло, и никого из них, этих собеседников почти что платоновских симпосиев, нет на свете. И мы – тогда юные и молодые – теперь, как скромно говорят, «на возрасте», а по-старинному – попросту старики.[279]
Тем более остры воспоминания о киевских днях, каких-то солнечно-теплых, даже зимой, не говоря уж о блаженной весне и благодатной плодоносной осени.
Однажды, в пору зрелости яблок и груш в киевских садах (как мы любили гулять на Владимирской горке и в Ботаническом и в Царском, над Днепром), ранним утром пошла я пешком по дороге, вблизи днепровского берега, паломницей в Киево-Печерскую лавру. Тогда, как ни странно, там открылся мужской монастырь при всеобщем церковном запустении. Его закрыли в, казалось бы, более либеральные времена. От реки веет холодком, но день разгорится жаркий, хорошо идти под нависшими деревьями, прячась в их теплую тень. Хорошо карабкаться по кручам, нависшим над Днепром, и через какой-то пролом в стене вдруг выбраться в монастырский сад. Это вам не грубая проза – взять да и приехать на трамвае к воротам лавры. Да, деревья, отягощенные плодами, сказочны, и тишина такая, что слышно, как падают яблоки на густую пахучую траву.
Вот также через несколько лет, идучи пешком от Звенигорода до Поречья на свидание к Лосевым, в морозный сверкающий зимний день слышала я в полной тишине робкий шорох падающих с еловых веток невесомых снежинок.
Там, в лавре, перед одним из храмов – толпа богомольцев, со всей России, настоящих паломников, странников, убогих, больных, на костылях, старых, молодых, с младенцами на руках, с мешками за плечом, с каким-то дорожным скарбом. Все под разгорающимся солнцем воду пьют из какого-то фонтанчика, на головах платки, темные, белые, и говор, и рассказы степенные, и радостные возгласы нежданной встречи.
В монастырском саду – нездешняя тишина, а тут, у храма – разноликая и разноязычная, шумливая, как-то вдохновенно-радостная толпа – достигли цели, пришли наконец к святому месту.
Никогда более я не слышала такого величавого пения суровых мужских голосов, как в этом храме, никогда более не видела столь торжественную «катавасию» – «нисхождение» (греч.) седобородых, строгих старцев в старых бедных рясах, среди бедного, темного, известью беленного нищего храма. Пели они великую вечернюю песнь «Свете тихий святыя славы, бессмертного Отца небесного, святого блаженного, Иисусе Христе». Время остановилось. Непонятно, как промелькнул день, прохладой уже вечерней повеяло, «солнце познало запад свой», а уходить не хотелось, так бы и сидел на этих еще теплых от жара солнца каменных плитах, так бы слушал говор ручья в траве монастырского сада, треск кузнечиков, шорох падающих яблок. Нет, все это было нездешнее, а возвращаться пришлось.
Возвращаться пришлось в Москву. Надо было оставить приветливый Киев, дорогих друзей, первых моих учеников – и поныне всех помню; они теперь профессора, доктора наук, заведующие кафедрами, доценты, кандидаты. Много воды утекло.
В Москву ехала защищать кандидатскую диссертацию и устраиваться на работу. В одиночку я, конечно, ничего не смогла бы сделать, но Алексей Федорович и Валентина Михайловна принимали меры.
Шла упорная борьба за право защитить диссертацию в Московском университете, куда вот-вот должен был перейти заведовать кафедрой Дератани. Следовало успеть, пока он еще не член факультета, не член Ученого совета и не раскинул там свои сети. Оппоненты готовы выступить, и значительные – профессор М. Н. Петерсон, замечательный лингвист, сравнительное языкознание, корректный, аккуратный, весь застегнут на пуговицы внешне и внутренне, доброжелательный, официальный. Но это только так кажется. Он с Анциферовыми и Лосевыми – единой православной гонимой веры, тщательно скрываемой, и готов помочь. Со мной ласков и предупредителен до трогательности, ценит мою работу по Гомеру. Другой оппонент – тоже профессор и доктор наук, Сергей Иванович Радциг, старый знакомец Лосевых и давний недруг Дератани. Он тоже доброжелателен, а главное, возмущен партийным интриганом, который вот-вот влезет на кафедру в университет. Сергей Иванович тяжко болел, перенес общее заражение крови, спасли только что вошедшим в моду пенициллином. В больнице читал мою диссертацию, но к защите, слава Богу, поправился. Дает свой подробный отзыв и Андрей Александрович Белецкий – заведующий киевской кафедрой. Но главное преткновение – все тот же Дератани, который уже интригует с деканом филфака МГУ Николаем Сергеевичем Чемодановым, занимающим также ответственный пост и в Министерстве высшего образования.
В общем, приходится туго. И если бы не помощь зам. министра высшего образования академика А. В. Топчиева, хорошо разобравшегося во всей истории попыток удушить Лосева и его ученицу, провал был бы обеспечен. Просто не разрешили бы защиту. А куда еще деваться? Не в Ленинград же. Там, во-первых, издавна не любят московскую классическую филологию (теперь это, к счастью, забыто), а главное, хватает своих скандалов и забот. Все тоже воюют друг с другом и с космополитами, которых что-то очень много расплодилось. Нас об этом оповещает славная газета «Культура и жизнь», которую издевательски называют «Культура или жизнь?», наподобие разбойничьего клича «Кошелек или жизнь?».
А. В. Топчиев укротил своим авторитетом Н. С. Чемоданова,[280] диссертацию после всех бюрократических, но необходимых процедур поставили на защиту. Я вооружилась старым большим портфелем А. Ф. (другого не было) и отправилась на совет. Там С. И. Радциг, внимательно разобрав мой труд, трогательно говорил о том, как в далеком Дагестане занимаются Гомером, хотя я с 1934 года в стране моего раннего детства не бывала (мы приехали в Москву в 1930-м, а отец – в 1929 году). М. Н. Петерсон хвалил статистику и наблюдения над мифологическим субстратом поэтического языка, А. А. Белецкий дал ученейший во всех отношениях отзыв, сопроводив характеристикой педагогической. Общественная, от парткома факультета Киевского университета, была своевременно представлена и зачитана, потом в киевской университетской газете даже поместили статью Андрея Александровича о моих научных и преподавательских успехах.
Совет голосовал единогласно. В первом ряду сидели Н. Ф. Дератани, профессор Б. И. Пуришев, профессор Дмитрий Евгеньевич Михальчи. Эти двое последних живо обсуждали мою защиту и затем в одобрительных тонах рассказывали о ней другим, что сослужило хорошую службу при моем устроении на работу. Алексей Федорович и Валентина Михайловна сидели где-то в глубине.
Как полагается, надо было вначале вспомнить о советской передовой науке под руководством И. В. Сталина, а в конце поблагодарить его за заботу. Но случился конфуз. Я благодарила всех, кого было положено, но благодарности Сталину никто не услышал, хотя мне казалось, что я ее произнесла. Потом мне делали за это выговор – ритуал нарушен, – но, видимо, я физически не могла вслух поблагодарить человека, погубившего мою семью, знавшего издавна лично и даже ценившего моего отца.
Кандидатская степень открывала дорогу в Москву и работу по специальности. Я покидала Киев.[281]
Как-то получалось очень странно – за всю свою немалую жизнь работала я только в трех местах. Год в Киеве, почти десять лет в Московском областном пединституте и теперь, уже почти 50 лет, в Московском университете.[282] Каждый раз начиналась моя работа после каких-нибудь жизненных неурядиц, грозивших полной потерей возможности преподавать.
Вне преподавания в вузе я не мыслила свою повседневную деятельность, любила учить и любила учеников. В Москве же такую работу было найти непросто. Сложилось так, что всегда все места бывали заняты, а если случались катаклизмы (их в конце 40-х было много), то все равно шло перераспределение по кафедрам, и снова ни одного вакантного места. Тем более с такой специальностью, как классическая филология – изменить ей ни за что не хотелось. Это значило бы изменить делу Лосева.
Мудрая Валентина Михайловна каким-то невероятным шестым чувством понимала людей, находила пути к их сердцу, душе, совести – назовите, как угодно. Даже в очень плохих она всегда искала доброе начало и, представьте, находила отклик. Но, уверившись в неисправимости дурного человека, была к нему беспощадной. Никого она не боялась (только Бога) – ни гэпэушников, ни энкавэдэшников, ни начальников, ни чиновников. Могла идти в любые инстанции, защищая Лосева. Так и меня, обделенного судьбой, маленького человечка, любимого, родственного по духу, она тоже защищала, как могла. Непонятно, какими путями, но она нашла понимающих, хороших людей в таком запутанном и официальном лабиринте, как Министерство высшего образования. Один из тамошних чиновников, Н. П. Журавлев, еще молодой (годы шли, все мы старели, а душа Николая Павловича оставалась молодой и романтичной), оказался чутким и добрым человеком, сразу отозвавшимся на мое трудное положение. Через него в конце концов я оказалась на ставке в Московском областном пединституте (гуманитарные факультеты помещались в здании бывшего Елизаветинского Института благородных девиц), где читала античную литературу, литературу Средних веков и Возрождения на литфаке (по кафедре зарубежной литературы) и вела латинский для студентов инфака, латинский и греческий для аспирантов обоих факультетов (это уже по кафедре иностранных языков и по кафедре французского языка). Сыграла роль и моя защита, так как заведующему кафедрой зарубежной литературы МОПИ С. Д. Артамонову о ней в тонах восторженных рассказывали Б. И. Пуришев и Д. Е. Михальчи. Оценка таких знатоков была чрезвычайно важной. Так почти десять лет я и проработала в МОПИ, куда пришла совсем юной. Мое тамошнее начальство добродушно смеялось над тоненьким, похожим на студентку 26-летним и. о. доцента Тахо-Годи. За студентку принимали в раздевалке и старшекурсники, а мне это даже нравилось. Все-таки читаю лекции на I курсе, где 250 человек в огромной длинной аудитории, и все, затаив дыхание, слушают, а потом еще в стенгазете пишут мне посвященные стихи: «Ты нам сонет Петрарки подарила…» С большим энтузиазмом читала я лекции, памятуя наставления Лосева: «Каждый лектор не только педагог, но и артист».
Так у меня это убеждение осталось на всю жизнь. В МОПИ я нашла внимательных, доброжелательных слушателей и коллег, которых вспоминаю с чувством признательности.
Иные из этих первых моих слушателей остались близкими на долгие годы, стали сами докторами наук, профессорами, как, например, безвременно ушедший Г. А. Хабургаев, известный русист, А. М. Авдукова – прекрасный англист или Людмила Пицкова (Куличкова), знаток романских языков. А все началось с небольшого чиновника, но душевного человека, с которым до самой его, тоже безвременной, кончины мы оставались друзьями. Он как-то трепетно относился к судьбе Лосевых и моей и, поднявшись по служебной лестнице достаточно высоко, неизменно приходил на помощь в критические моменты. Все начинается с человеческих отношений, с внутреннего чувства понимания, единения, сострадания, а проще – любви к ближнему своему.
Каждый год, весной, Валентина Михайловна начинала разыскивать дачу, где бы можно спокойно провести летние месяцы. Меня же мудро отсылала к маме на Кавказ, да еще и следила, чтобы я не засиживалась в городе, а обязательно поездила, посмотрела красоты любимого ими Кавказа, о котором столько я наслушалась рассказов. Как они были правы, Валентина Михайловна и Алексей Федорович, отсылая меня путешествовать в те времена, когда я еще особых забот не имела. Читать лекции – разве это забота, это одно удовольствие, даже если ты должен в шесть или восемь часов изложить всю античную литературу для бедных заочников.
Пока же мы с дядюшкой моим ездили по окрестностям Владикавказа, в ингушские места, в Солнечную долину, Ар мхи (Сталин ингушей всех выселил в 1944 году), где стоят сторожевые средневековые башни, а брошенные дома заросли высокой травой и цепким кустарником, через который не продерешься. Неприятно и даже страшновато рядом с этими мертвыми домами, будто кладбище, где похоронили живых людей. На всю жизнь с болью запомнилось.
А вот в Кобани, где на высоком плато настоящий Мертвый город древних аборигенов (в изучение кобанской культуры мой дядя профессор Л. П. Семенов внес значительный вклад своими трудами), совсем не страшно, хотя все плато усеяно маленькими каменными домиками, где покоятся кости, черепа и нехитрые глиняные горшки тысячи лет тому назад исчезнувших обитателей.
То мы едем по Военно-Грузинской дороге в Ларе, где живут кунаки наших родителей, а мама снабжает в дорогу корзиной с припасами, на всякий случай. То бродим по ближайшим окрестностям, по так называемой Сапицкой будке, заросшей густым лесом. Переваливаем через гору по бездорожью, через чащобы, по следам мчавшихся здесь когда-то потоков грозовых ливней. Устраиваем привал вблизи селения Чми, в пользующейся плохой репутацией Воровской балке. И пока все вкусно поедаем бутерброды, я сочиняю песню о нашем храбром друге Викторе (мамином воспитаннике), верном спутнике в походах: «Милый Витя на пригорке, до чего же ты хорош, как у стража, глаз твой зоркий, а в руках блестящий нож. Охраняешь от бандитов в этой балке воровской. Ах, зачем, зачем убита жизнь моя твоей тоской».
Делаем более далекие путешествия, с ночевками у кунаков или в турбазах. В Трусовскую, адскую теснину, где висит железный ящик на отвесной скале, и чтобы задобрить злых духов, надо бросить в этот ящик монеты. Мы, конечно, не верим в этих духов. Но в полном одиночестве под мрачно нависшими скалами, а Терек мчится с другой стороны узкой тропы (мы идем к истокам Терека, хотим дойти, но не дошли), – только ослик по ней пройдет, смущенно посмеиваясь, бросаем монеты в звонкий ящик. Говорят, что потом эти деньги пойдут на варку пива к празднику святого Георгия, 28 августа, совпадающему с Успением Богоматери.
Однажды, по совету Б. И. Пуришева, страстного путешественника, отправили меня Лосевы далеко – в Армению. Сначала по Военно-Грузинской дороге, через летний, пылающий жаром Тбилиси, дальше, через Семеновский перевал, мимо каменных вишапов и хачкаров, мимо черноволосых мальчишек в автобусной пыли (несутся за машиной, звонко вопят «Динь, динь, динь» – это, оказывается, они предлагают купить дыни), мимо Севана, к скалистому монастырю Гегарда, в Эчмиадзин, в циклопический Звартноц с мощными поверженными колоннами в душистой траве и жарком цветении ромашек. Древний Эребуни, древний Урарту (знаменитое открытие Б. Б. Пиотровского) и розовый туф Еревана, и особенно пленительная в зной вода холодных фонтанов. А поздним вечером на пятом этаже гостиницы мы слышим неумолчный шум гуляющей, веселой толпы; ночная прохлада выгоняет на улицы, и говорливые армяне никак не успокоятся. А мы тоже не спим, нас трое – могучий наш телохранитель Витя и моя кузина Светлана (дочь выдающегося ботаника, двоюродного брата мамы профессора Владимира Федоровича Раздорского). Я же опять сочиняю, теперь уже ночную шутливую серенаду в честь русой сероглазой Светланы: «Все армяне в Ереване в Свету влюблены, все армяне в Ереване видят те же сны. О, не будь жестокая, полюби меня, вспомни одинокого маймуна». Далее вариации:
«Все армяне в Ереване ночью при луне, все армяне в Ереване в думах о тебе». И рефрен: «О, не будь жестокая» и т. д. Действительно, в Светлану, загадочную чаровницу, все влюблены.
Как-то раз отправились маленьким самолетиком до Нальчика, а оттуда ночью, на грузовой машине, полной дров (не знаю, как усидели), в Приэльбрусье, в Терскол, в Тегенекли. Нас теперь четверо, неизменный Витя и мои родичи – историк Наль (сын брата моей мамы доктора технических наук и поэта – писал под псевдонимом С. Аргашев – ленинградского профессора С. П. Семенова), та же Светлана, студентка-медичка.
Эти места заняты по высшему указу властей Грузией (как, между прочим, и ингушский курорт Армхи, называемый «Дарьяли») и именуют теперь, по нашему мнению, крайне забавно – Пичвнари.
Пытаемся подняться к снежной полосе Эльбруса. Ну как же, там, в «Приюте одиннадцати», среди снегов, ночевали Лосевы.[283] Но женская половина не выдерживает, спускаемся, едва живые, вниз, а мужчины находят наверху какую-то огороженную проволокой зону и тоже возвращаются без всякого энтузиазма. Зато нам казалось наверху, что мы видим Черное море. Так должно быть, если забраться, куда надо.
Хорошо скользить по шаткому висячему мостику над буйной вспененной рекой или любоваться многоцветными брызгами безумного падения ледяных вод. Что там усталость и двадцать километров – туда и назад. Встать невозможно на следующий день после такой непривычной встряски, но зато вокруг родные горные громады, солнце играет на снежных вершинах, темнея и затухая, спускаемся в долину, источники нарзана вдоль нашей дороги бьют прямо из-под земли – пей, сколько хочешь. Когда еще вернемся сюда?
Никогда не вернемся. Никто и не подозревал, что наше путешествие было для двоих из нас, Светы и Наля, свадебным путешествием, они – троюродные – тихо расписались, скрыв первоначально и от нас, и от отца (мать Светы, красавица тетя Веточка, умерла, когда та кончала школу) свой тайный брак. Они любили друг друга, как это у Лермонтова, «безумно и нежно», но жили в какой-то мятежной тревоге. Через много лет после счастливого путешествия (еще А. Ф. доживал последние годы) сердце не выдержало. Наль скончался в больнице рано утром, а Светлана в отчаянии сделала себе какой-то укол, легла на кровать и умерла в тот же день. Хоронили вместе, и приветливый дом у самого Смольного монастыря – замолк навеки.[284]
Вспоминаю тут же рассказ Н. П. Анциферова (дважды в неделю приходил к нам в гости, потом переехал в писательские дома, к «Аэропорту»). Поехал он хоронить своего друга М. Л. Лозинского в Ленинград. В доме же застал два гроба. Супруга Михаила Леонидовича, ближайший друг Н. П. Анциферова, Татьяна Борисовна в отчаянии приняла огромную дозу снотворного, сделать ничего не могли. Похоронили в один день. Они тоже любили «безумно и нежно».
Как-то Алексей Федорович и Н. П. Анциферов потребовали, чтобы я поехала в Крым. У нас в Симферополе были друзья, да Н. П. Анциферов просил Ирину Николаевну Томашевскую, своего давнего друга, вдову Б. В. Томашевского, женщину замечательную (ее все почитали и побаивались в Гурзуфе), мне помочь. В общем, устроили целое путешествие, на юг, на восток, в горы. Особенно влек меня Партенит (как и всё в Крыму, это место стало называться дико – Фрунзенское), где, видимо (всем этого хотелось), стоял храм Артемиды, чьей жрицей была Ифигения.
Партенит – явно от греческого parthenos – дева. Никаких следов, ни одного камня, никаких, даже жалких, развалин. Только бескрайнее поле красных маков на пустынном берегу – капли крови – ведь приносили же человеческие жертвы. Во всяком случае, так говорит миф. И мы ему верим.
Было, опять-таки заботами Алексея Федоровича и Валентины Михайловны, устроено путешествие по всему Черноморскому побережью. Ехали вдвоем, я и моя верная подруга Нина. А. Ф. вручил мне замечательный путеводитель по Кавказу (был такой и по Крыму) Г. Г. Москвича, где указаны цены на извозчиков, цены на базарах, в пансионах, санаториях, имена надежных проводников, все достопримечательности, храмы, развалины, исторические сведения. Многие не понимали, что Москвич – это настоящая фамилия автора, создавшего русский классический Бедекер. А. Ф. даже рассказал как-то о встрече в Пятигорске с одним милым стариком, который признался ему (сидели рядом на одной скамейке): «А ведь я Москвич». Лосев даже сначала не понял, а потом спохватился, разговорились, вспоминали прежнее, давнее. Валентина Михайловна со своей стороны в письме ко мне на Кавказ описала подробно несколько маршрутов для недолгих, на пять-шесть дней, поездок, в том числе Клухорский перевал с его хрустально-изумрудными озерами, где «светел тонкий хлад нездешней тишины» (строчка из стихов Валентины Михайловны), Кассарское ущелье на Военно-Осетинской дороге. Это о нем написал Лосев торжественные стихи:
Творенья первый светлый день Не тмит в душе былых воззваний, Лилово-розовую тень До-мировых воспоминаний. Алканья гроз страстных кинжал, Раздравший Душу мирозданья, Бытийных туч пожар взорвал Ущелью этому в закланье. То сумасшедший Демиург, Яряся в безднах агонии, Взметнул миры, хмельной Теург, Богоявленной истерии.Но мы, слабые души, избрали наиболее удобный путь, знакомый всем, едущим из России в земли «за хребтом Кавказа», как писал Лермонтов.
Ехали мы, конечно, по Военно-Грузинской дороге, через Тбилиси (приятно провели время в гостеприимном прохладном доме родственников Нины), осмотрели окрестности, побывали в священных местах – Мцхетском Светицховели и древнем женском монастыре Самтавро, где когда-то игуменьей была святая Нина. Стояли на монастырской вечерне.
Потом дорога на Кутаиси, в Гелатский монастырь Давида Строителя. Упорно карабкались пешком через виноградники в жару и пыль, мечтая о глотке холодной воды – мальчишки продавали ее внизу, на станции, бегая и зазывая: «Цхали, цхали». Через перевал, туннели, к Черному морю, лежавшему рядом с рельсами, радующему вечерней прохладой.
Так и объездили все точно по расписанию, удивляя встречных нашими познаниями, почерпнутыми из верного «Москвича», красной толстенькой книжицы. Путешествие было веселое, храброе (все-таки две спутницы женского пола, без мужчин), растратили все деньги, и даже те, что нам выслали по телеграфу. Но зато вернулись домой с чувством выполненного долга. Все-таки посмотрели мир.
Лосевы же каждое лето, пока меня не было, сидели и трудились где-нибудь на даче, снятой с огромными трудами. А. Ф. не спал, требовалась тишина, а всюду кричат петухи, лают собаки, орут ребятишки и почему-то, куда ни глянешь, детские сады с целой оравой крикунов.
Жили по Северной дороге два лета в «Заветах Ильича». Дальше была станция Правда – характерные названия. Лосевы рассказывали мне, что когда-то это место называлось Братовщина. Там были густые леса, дом, где летом жили родители Валентины Михайловны, – снимали дачу. Привозили туда летнюю мебель, удобные диваны и кресла в летних чехлах, обязательно рояль – Валентина Михайловна играла. Всегда в гостях молодежь, лодки, река, Валентина Михайловна любила грести. Пикники, чай за вечерним столом, неторопливые беседы. Все кончилось, ничего не осталось, кроме пожелтевших любительских фотографий. Теперь, когда нет на свете Валентины Михайловны, а вовремя не спросила, и не узнаешь, кто же там изображен, что это за милые лица.
В «Заветах» симпатичный хозяин, Николай Андреевич (брат профессора-русиста Расторгуева[285]), и его сестра Афанасия Андреевна – хлопочет по хозяйству. А. Ф. под деревьями за столом, рядом пес, прекрасная лайка, умница Аян. Очень любит сахар, и когда А. Ф. (а он с детства обожает собак) спрашивает Аяна: «Сахару дать?» – тот лает в ответ так, что мы буквально слышим «дать». Бедняга Аян погиб, и хозяин больше не заводил собак.
Под деревьями на коврике и я, лежа, сочиняю лекции – опять-таки требование А. Ф. К Валентине Михайловне пришла баба, принесла молока и земляники. На руках ребенок. Баба говорит малышу: «Ну, плюнь на маму, плюнь». Младенец плюется, мать очень довольна, а Валентина Михайловна сразу мрачнеет. Предвидит, наверное, будущее ребенка и мамаши. На заднем дворе утки, роскошный петух и куры. Ими командует Афанасия Андреевна, почти глухая, добрая, всегда в темном. Стоим среди этой живности с Валентиной Михайловной, и она вдруг задумчиво говорит мне: «А я знала женщину, которую тоже звали Афанасия». Не знаю почему, но эти слова мне крепко запали в душу. И когда выяснилось, что Алексей Федорович и Валентина Михайловна приняли 3 июня 1929 года тайный монашеский постриг под именами Андроника и Афанасии, поняла ту печаль, с которой много лет тому назад были сказаны эти слова. Да, Валентина Михайловна знала в другой жизни совсем другую женщину, Афанасию, но она, эта другая, жила в нынешней потаенно, печально напоминала о себе. Живали Лосевы и в Кратове, вблизи своих старинных друзей Воздвиженских. Василий Иванович – сын последнего настоятеля Успенского собора в Кремле, Елена Сергеевна – дочь известного русского генетика Сергея Сергеевича Четверикова, преследуемого в годы лысенковского торжества. Е. С. Воздвиженская – ученица А. Ф. по гимназии.
Кратово помнилось войной. Там зимовали Лосевы в 1941–1942 годах, снимая дачу у киноактрисы Эммы Цесарской, сыгравшей впервые Аксинью в «Тихом Доне». Сама она покинула Москву, а на даче жил ее брат. Там обосновались и Лосевы, на 42-м километре обитали П. С. Попов с супругой А. И. Толстой и сыном Льва Толстого – Сергеем Львовичем, композитором. Ходили друг к другу в гости, оставляли записочки (кое-что сохранилось), вместе меняли вещи на продукты, доставали дрова. Жили мирно до поры до времени. Кратко об этом я уже упоминала.
Жили и в Звенигороде летом, неподалеку от церкви на горе, где источник святой воды. Там жить соблазнил В. Н. Щелкачев, профессор-математик, ближайший к Лосеву еще с конца 20-х годов.
Замечательный человек Владимир Николаевич. Сам он из Владикавказа, откуда и мои родные, учился в школе, где была раньше гимназия, что окончил мой отец. Внук генерала Щелкачева, Владимир Николаевич никогда не подделывался под власть, не таил своих религиозных взглядов и был арестован по одному делу с Алексеем Федоровичем и Валентиной Михайловной. Из ссылки вернулся в Москву, стал выдающимся специалистом по разработке и использованию нефтяных месторождений и заведовал кафедрой в Институте нефти и газа имени Губкина (теперь новое название – как будто академия). У Владимира Николаевича милая жена Вера Архиповна и двое сыновей. Они колесят на велосипедах по окрестностям Звенигорода, а зимой – на лыжах в Приэльбрусье. И когда Владимиру Николаевичу было за 80, он пересекал океан и огромные пространства по зову своих учеников-нефтяников, то в Китай, то в Сирию, то в Канаду. Что же говорить о тех давних временах.
Там, в Звенигороде, мы с Владимиром Николаевичем познакомились. Он сам рассказал в телевизионной трехсерийной передаче «Лосевские беседы» (режиссер – замечательная О. В. Кознова) о том, как встретил «барышню в белом платье» на даче у Лосевых, «нашу Азу», как ее отрекомендовали. Да, было белое платье, еще сшитое в бытность семейной жизни в Москве, маркизетовое, легкое. Я его очень берегла, и оно долго у меня держалось – привыкла беречь, жизнь заставила.
Жили и в Малоярославце, но это – под конец нашего счастливого жития с Лосевыми. Об этом потом.
Зимой же и весной бедная усталая Валентина Михайловна, мечтая отделаться от хозяйственных забот (мы вели хозяйство вместе, без домработниц), покупала путевки в дома отдыха и санатории больших министерств или АН СССР. Так и запомнились зимы в Поречье под Звенигородом, куда я от станции ходила пешком пять-шесть километров в морозные, снежные дни и где мы гуляли с Валентиной Михайловной по сказочному, призрачному лесу, почти бесплотному в зимнем сне.
Запомнились зимы в Подсолнечном (около Солнечногорска), где нас была целая дружественная компания: профессор А. М. Ладыженский с женой, Натальей Дмитриевной, Н. П. Анциферов с Софьей Александровной, Сергей Сергеевич Скребков с женой Ольгой Леонидовной и дочерью Мариной. Он учился в консерватории в бытность там А. Ф., и всю жизнь наши семьи были близки. С. С. Скребков заведовал кафедрой теории и истории музыки в консерватории, все свои книги всегда подносил Алексею Федоровичу, а тот, в свою очередь, свои, когда они начали выходить. Вся семья жила музыкой, старшие и младшие, с Лосевым тут было полное единение. Тарабукиных с нами не было. Они ездили в очень фешенебельные санатории, что вызывало у Алексея Федоровича добродушное поддразнивание Тарабукиных в аристократизме и эстетизме.
А. М. Ладыженский, профессор-юрист, специалист по обычному праву кавказских горцев, знал моего отца в прошлые времена. Жена его Наталья Дмитриевна – дочь украинского академика Багалея, ректора Харьковского университета, в противовес оживленному рассказчику Александру Михайловичу, всегда сдержанна и молчалива. Оба любовно привязаны и к Лосевым, и ко мне. Жили они на Конюшковской улице, потом уничтоженной (слава Богу, что после смерти Натальи Дмитриевны), в деревянном особняке с кафельными печами, холодной и теплой прихожими, со стариннейшей мебелью и коврами на полу – очень дуло по низам.
Александр Михайлович – доверенное лицо и комендант сего дома, владел которым во все времена старейший филолог-классик С. И. Соболевский, брат академика-слависта Алексея Ивановича Соболевского. Александр Михайлович, опытный юрист, наблюдал за правами своего принципала, усмиряя жильцов, хранил старинную библиотеку и всю обстановку, что осталась еще от родителей Соболевских. Мы любили бывать в этом гостеприимном доме, а Ладыженские – непременно наши гости на встрече Нового года вместе с Анциферовыми и Властовыми.
Какая-то тайная печаль снедала Наталью Дмитриевну, нам непонятная. Через многие годы, слава Богу, что еще при ее жизни, произошла важная перемена. После смерти Сталина, когда стали разыскивать друг друга потерянные семьи, родители и дети, раскиданные войной, дочь Ладыженских, которую считали погибшей в Харькове во время нашествия немцев, нашлась в Мюнхене, прислала письма, фотографии, – жизнь хорошая, муж русский – завязалась переписка, но ехать было нельзя. Так и умерли Наталья Дмитриевна и Александр Михайлович, не повидав дочери и трогательно оставив ей в наследство свои сбережения.
Между прочим, почти такая же история произошла и в семье Анциферовых. Дочь Николая Павловича, Таня, тоже исчезла из Царского Села, где сгорел их дом, а потом откликнулась из Америки, из Соединенных Штатов, уже семейная, с мужем и дочерью. И тоже – письма, фотографии, радость, но Николай Павлович умер, так и не повидав дочери, которая в дальнейшем не раз приезжала в Москву и Питер. Теперь этими историями никого не удивишь.
Так вот Ладыженские увлекли нас в дом отдыха Севморпути – «Братцево», бывшее богатое имение с ампирным домом, колоннадами флигелей, обширным залом под синим с золотом куполом. Туда ездили и зимой, и весной – конечно, на каникулы. Хотя совсем вблизи Москвы (а теперь это давно Москва), но сохранялась целостность имения с чугунной оградой, прекрасно поставленным хозяйством, великолепным шеф-поваром (раньше был кремлевский), разнообразием обильных и вместе с тем изысканных блюд, с теплыми комнатами (конечно, отдельные), с тяжелыми темными занавесями на окнах, нежнейшими одеялами. Все сияло чистотой, уютом, теплом и так по-домашнему звучал несколько раз в день приветливый голос в коридорах – «Кушать подано, подано кушать». Весной там заливались соловьи, и казалось, что живешь совсем в другом мире.
Был дом отдыха Министерства иностранных дел, как будто вблизи Щелкова по Ярославской дороге. Там совсем интересно. Оказалось, что это бывшее имение родичей Четвериковых, миллионеров Алексеевых, а из этой семьи, как известно, вышел Станиславский.
В лютые холода, когда мы приехали, никак не могли протопить маленький коттедж, весь в изобилии мягкой мебели, кроватей и одеял. Печь стала даже трескаться, и на третий день нас троих перевели в так называемый голландский домик (там, по рассказу Воздвиженских, раньше жили слуги), вытянутый вверх, со всеми атрибутами счастливой голландской сказочной жизни. Там объяла нас несусветная жара, и спасение было на зимнем воздухе или в походах в столовую, на трапезы, где слева с прекрасной посудой общий большой стол (там как раз мы встретили отдыхавшую М. Е. Грабарь-Пассек, она преподавала немецкий в дипломатической школе), так сказать табльдот. Но нас посадили за маленький, вместе с супругами Громыками, видимо, сам глава семьи еще не набрался особой важности.
После тяжелого воспаления легких у А. Ф. в 1951 году (он перенес болезнь дома) Лосевы отдыхали в санатории на станции Сходня. Туда я тоже ездила их навещать и даже прожила несколько дней в отдельной маленькой комнатке. Врачи, сестры, обслуга удивительно были приветливые и знающие свое дело люди.
Я же вспоминала, как в начале войны студенткой вместе с друзьями, на даче в Сходне, поздним вечером мы с трепетом смотрели на немецкие самолеты, летевшие то ли в сторону Москвы, то ли уже из Москвы, со страху прятались за какие-то кусты, и ребята кричали шепотом, что меня видно, чтобы я немедленно сняла светлое летнее пальто, иначе в нас попадет бомба.
Летний отдых, зимние и весенние краткие каникулярные передышки были для нас троих «приютом спокойствия, трудов и вдохновенья». Там всегда много работалось, а главное, никто не отвлекал, ни телефон, ни люди. Там исподволь, постепенно, методично продолжалась работа над лосевскими книгами.
В разгаре конца 40-х годов была борьба с вейсманистами-морганистами, Лысенко избивал генетиков, от всех требовали участия в кружках по проработке постановлений партии и правительства. На периферии старались особенно, и в Киевском университете на кафедре, где я проработала год, тоже требовали посещения таких обличительно-просветительских занятий. К счастью, со мной была книга Б. М. Кедрова, недавно вышедшая, по-моему, «Энгельс и естествознание». Я эту книгу показала и объявила, что работаю по ней самостоятельно. Поскольку всюду висело изречение Сталина «Марксизм не догма, а керiвнитство до дiï»,[286] меня оставили в покое, считая, что Энгельс поможет правильно действовать против окаянных дрозофиловых мух.
Среди всего этого бедлама – два важных события. По ранней летней прохладе, чуть ли не с первой электричкой привезла меня матушка Вера, вдова о. Александра Воронкова, лосевского погибшего друга, в старинный XVII века подмосковный храм, где старичок-батюшка окрестил меня, нарекая именем Наталии. Хотелось мне носить имя матери А. Ф. Он для Валентины Михайловны и меня был как ребенок. И теперь вместе мы втроем собрались во имя Христово, а это значит и Он посреди нас, мы в единой церкви.
В последний же день 1949 года сделала всем нам Валентина Михайловна подарок – принесла мне паспорт с постоянной московской пропиской на Арбате (я даже и не поняла, как сей документ у нее очутился). Теперь у меня законные права здесь пребывать и не так уж страшны доносы в милицию от разных «доброхотов».
Жить на Арбате было не просто. Ведь это правительственная трасса, по которой едет Сталин в свою подмосковную резиденцию, где-то около Барвихи.
В конце недели появляется милиционер. Он поднимается на чердак и опечатывает его. Вдруг там кто-нибудь установит пулемет. Поэтому и ресторан «Прага» с его удобной для пулеметов крышей закрыт. Правда, там, как говорят, энкавэдэшники установили свои орудия. Дом наш содержится в большом порядке, и о каждом, кто там появляется, милиция знает через дворника (он в белом фартуке сидит на скамейке под деревом) или через тех же обитателей двухэтажного флигеля во дворе или одноэтажного домика с античными медальонами в соседнем дворе – мы отделены деревянным забором от школы и этого домика.
Наш двор обозрим со всех сторон, мышь не пробежит незамеченной среди кустов сирени, черемухи и жасмина. От переулка отделяют нас чугунная решетка и ворота – остатки прежней усадьбы архитектора Лопыревского, строителя нашего дома 33 и разных построек во дворе, искусственно потом разделенных, уничтоженных, снесенных.
Даже под окном нашей кухни, в укромном уголке, возделывает за забором скромный, но приятный цветник под большим деревом еврей-парикмахер, дверь его на первом этаже дома 31 выходит прямо в этот уголок, в садик под нашими окнами. Во дворе цветочные клумбы, асфальта еще нет.[287]
А. Ф. каждый вечер гуляет под окнами во дворе. С ним почтительно здороваются, его знают все. Иной раз какой-нибудь пьяненький подойдет, но мирно поговорит о жизни, а я наблюдаю в окно, не пора ли вмешаться.[288]
Двор патриархальный. Жарким летом жители вытаскивают кровати на воздух, спят, как цыгане, отгородившись какими-то тряпками на веревках. В нашем доме замечательная нумерация квартир двух семейств. На первом этаже нашего подъезда Николай Карпович Гасан, инвалид войны, физически здоровый, крепкий, но нервный до безумных припадков (с топором – за кроткой женой Марусей).[289] Он, вселяясь в свою квартиру, взял себе, как истинный пролетарий, номер 1. На втором этаже скромный профессор Лосев согласился на номер 20, кто его знает, может, еще будут жильцы. Но таковых не оказалось.
В доме райздрав, женская консультация, станция переливания крови. Все это по наследству от прежних времен. Раньше были здесь родильный приют и амбулатория, бесплатная, для бедных. В самой середине Арбата было много медицинских учреждений одного хозяина – «Общества русских врачей». Но место опасное. Остановиться и поговорить со знакомым на нашем углу или около дома – Боже упаси. Подходит человек в гороховом пальто: «Граждане, проходите». Я сама свидетель. Эти гороховые пальто стояли по всей арбатской фасадной парадной линии. Зато в переулках светло вечером, спокойно, никто не обидит, гуляйте, граждане, на здоровье. Нас оберегает родная милиция. Не нас, конечно, а правительственную трассу, но и нас заодно.
Теперь, когда Валентина Михайловна принесла мне паспорт, многие опасения отошли. А уже, как оказывается, начальник милиции пугал ее этой пропиской чужого человека (влезет в квартиру, вас выгонит, заберет, украдет), чего только не говорил. Но его можно понять. Он блюдет интересы неразумного профессора, он страж порядка, а ведь слова почти те же, что и у давних знакомцев, что жили в квартире Лосевых восемнадцать лет, обещая выехать через два-три месяца, и мрачно встретили мое появление.
Слава Богу, многолетний комендант дома, хороший, почтительный человек, некто Кашкаров, всегда поможет, хозяйственный, честный. Но и он ничего не сможет сделать, если злостно донесут, времена опасные. Ночью с Валентиной Михайловной слышим шум затихающего мотора где-то рядом: не вблизи ли нашего дома, не к нам ли во двор? Страшно, аресты идут. Ведь чего только не пишут на нас троих Дератани и Тимофеева из МГПИ в разные инстанции, учрежденческие и политические. Мы вроде каких-то злодеев-заговорщиков, старый идеалист (подумать, какой старый – всего 54 года), его зловредная жена (за их спиной лагерь, тюрьма) и молодой человек, уже вредный тем, что из семьи уничтоженного врага народа, еще и совращаемый злостными Лосевыми.
Как правильно было, что отослали эти Лосевы меня в столь трудное время в Киев, и как права была Валентина Михайловна, сделав пропиской нам всем троим новогодний подарок.
В 1947 году по инициативе Б. М. Кедрова прошла философская дискуссия в связи с выходом книги по истории философии всесильного академика Г. Ф. Александрова, зав. отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).
Обсуждение напечатали в № 1 за 1947 год, которым открылся журнал «Вопросы философии». Многие, в том числе и мы, восприняли это событие с энтузиазмом, и Валентина Михайловна купила сразу пять или шесть экземпляров нового журнала, которые сохранились в нашей библиотеке.
А. Ф. работал все 30-е и 40-е годы чрезвычайно интенсивно, несмотря на постигшие его катастрофы, арест, лагерь, уничтожение дома, провал в Харькове с присуждением докторской (ее присудили в 1943 году в Москве – и это было куда лучше), изгнание из МГУ, травлю, организованную Дератани и Тимофеевой. О том, какие рукописи Лосева лежали в издательствах перед войной, я подробно говорила выше – не судьба была им выйти в то печальное время.
Вот какой перечень подготовленных к изданию рукописей приводит Лосев в письме А. А. Жданову (28/V—1948), воодушевленный сдвигами в развитии логики и особенно после философской дискуссии 1947 года. Лосев просит содействовать в издании работ. Ответа от Жданова не последовало. В этом перечне двенадцать номеров. Здесь труды по математической логике (№ 1–3), по современным проблемам логики. Об этой последней одобрительно писал Э. Кольман. Здесь же – логическое учение о числе, о типах логики и диалектики, о методах логики. Отдельный блок составляют труды по истории античной эстетики (два тома), греческой эстетической терминологии, социологическим основам античной эстетики. Большое место занимают античная мифология (два тома) и мифология эпохи матриархата. Всего, по подсчету автора, – 209 печатных листов. Недурная, прямо скажем, цифра.[290]
Не все могли выдержать спокойно лосевскую экспансию в науке, человека не раз битого и не разбитого, непокорившегося. Отсюда активное стремление – задержать печатание, не дать Лосеву места в современном научном мире, опорочить его ссылками на книги 20-х годов.
В 1948 году Лосеву – 54 года, но он готов начать все сначала, силы есть, ум есть, талант есть. Возможностей нет.
Удивляюсь той наивности, с которой А. Ф. обращается к Жданову, прося о «внимательном и партийном просмотре» его трудов. Он готов выслушать сообщение о «всех недостатках», готов на «компетентное редактирование» при подготовке к печати, если работы «того заслуживают». Он просит вызвать для разговора к «авторитетному товарищу», чтобы поднять вопрос об антиковедении, о классической филологии и, в частности, о кафедре МГПИ. «Мое положение ложное и неправильное», – заключает Лосев. Общественность должна узнать то новое, что сделано им за последние 18 лет, а не ссылаться на 20-е годы.
Многие удивляются, как Лосев мог так много подготовить и напечатать, когда это стало ему возможно. Недоумевающие, наверное, никогда не работали, как Лосев, трудившийся, по сути дела, не только днем, но и ночью. А когда же еще можно продумать весь текст до последней запятой, как не ночью. Ночь была не для сна. Катастрофы тоже не страшили Лосева. Он преодолевал их молитвой и служением в уме Господу Богу. Для Лосева, если вспомнить его стихи, «Ум – средоточие свободы, / Сердечных таинств ясный свет. / Ум – вечно юная весна. Он – утро Новых откровений, / Игра бессмертных удивлений, / Ум не стареет никогда». Написаны эти стихи в 1941 году. Но в них – вся дальнейшая жизнь личности творящей, созидающей.
Что же говорить о 1948 годе, и как могли вынести «творческий порыв» чиновники от науки, видевшие в сосланном на кафедру МГПИ, многажды битом Лосеве просто-напросто конкурента по службе.
Когда А. Ф. решил возобновить вопрос об античной эстетике, о ее наиболее безобидной филологической части, главах о Гомере, Гесиоде и лириках, кафедра немедленно приняла все доступные ей враждебные меры.
Началось с обсуждения рукописи, которое, однако, длилось с июня по декабрь 1948 года под занавес правления Дератани. Этот последний вместе с неизменной своей помощницей Тимофеевой инспирировал отзыв сотрудника Института философии АН СССР.
Сотрудник этот, Иван Борисович Астахов (его называли хромым бесом за злокозненность и хромоту, он ходил с палкой), якобы писал отзыв по поручению дирекции института. Как в дальнейшем выяснилось, это была чистейшая ложь для запугивания Лосева.[291] Астахов «работал» под русского мужичка, который всегда готов резать правду-матку. Мужичком он никаким не был, а заплечных дел мастером даже очень. Русский мужик всегда отличался трезвым, быстрым умом, смекалкой и умением схватить самую суть. И. Астахов – воинствующий невежда на уровне пролеткульта. Он даже не сообразил, что его втянули в гиблое дело, где он может проявить себя не только как полный профан, но встретить протест известных ученых и вызвать (это главное) неудовольствие высоких партийных чиновников.[292]
В июне месяце, 10-го дня 1948 года был представлен поразительный огромный отзыв И. Астахова под названием «О трудах по древнегреческой эстетике А. Ф. Лосева», обращенный к декану факультета языка и литературы И. В. Устинову и зав. кафедрой Н. Ф. Дератани. Устинов – опытный администратор, человек осмотрительный, старался не обострять отношений с А. Ф., хотя, изгоняя меня, вел себя неприлично. После ухода Дератани и после смягчения климата в 1956 году Иван Васильевич резко изменился в благожелательную к нам сторону (может быть, потому, что его жена Татьяна занималась древними языками в аспирантуре у Лосева?).
Отзыв И. Б. Астахова гласил: «Вся теоретико-эстетическая часть не имеет никакой ценности». Труд Лосева – «продукт философской сумятицы, хаоса, неразберихи», там «ни одной верной мысли». «Эту часть работы следует просто элиминировать» (подумайте, иностранное слово!). Опираясь на презумпцию виновности Лосева, Астахов перечеркивает всю фактологию автора, все приводимые тексты, которые необходимы в работах по классической филологии. Оказывается, «надо удалить документацию», ибо приведение текстов – «труд напрасный, ненужный», ведь никому в голову не придет «проверять эти ссылки», и «удалить статистические таблицы» как «безнадежный формализм», удалить обобщения, которые только запутывают дело. А так как у Лосева нет никаких «общетеоретических основ, необходимых для философа», все это «не научный анализ, а домыслы», и достаточно сделать просто краткий терминологический словарь.[293] Теория Лосева рождена не материализмом, но «иссохшим и бесплодным, как смоковница, идеализмом». Подумать только! Знает евангельскую смоковницу!
Астахов, которому попал в руки громадный, абсолютно неведомый (в античности он – нуль) материал, действует просто.
Терминологии самого Астахова можно посвятить целую работу, настолько эта терминология типична для него и для того времени. «Чистейший идеализм», «старые басни буржуазно-идеалистической науки», «непонимание сущности древней демократии», «беспочвенный характер», «гегелевская триада», «Лосев не знает, как стиль гомеровских поэм великолепно охарактеризован Белинским, Гоголем и мн. др.», «идеализм причесан под материализм» (это о телесности идей у Платона). «Целая пропасть отделяет эстетику Лосева от марксизма», «не совпадает с марксизмом», «чудовищное извращение, ничего общего с марксизмом не имеющее», «карикатура на марксизм» (а это почуял здорово и правильно, но тогда – смертельно опасно!).
Критик зашел так далеко, что, опровергая решительно все в работах Лосева, превратил свой отзыв в какой-то чудовищный гротеск. Оказалось, что Лосев «пользуется ненаучной терминологией», в работах его «все неверно от начала до конца», «все рождено фантазией», автор не освоил того, «что достигнуто современной наукой» (Астахов, видимо, по-настоящему оценивает себя корифеем антиковедения. А это уже глупость, бросающаяся в глаза. Надо ведь знать меру даже в подлости). Критик поражен такими словами, как «трагический бурлеск», «авантюрная сказка» и т. д. И вообще «вся теоретико-эстетическая часть не имеет никакой ценности», все это «не научный анализ, а домыслы», при этом домыслы потаенные, «как по мысли, так и по стилю».
Сокрушив Лосева заодно с Гомером, Гесиодом и лириками, Астахов делает единственный правильный, по нашему мнению, а по его – крамольный, вывод: «Эту концепцию Лосев нигде не заимствовал, он ее сам изобрел». Как хорошо. Самобытность идей Лосева признают не только враги, эмигрантские философы, но сам ортодоксальный Астахов.
В завершение сакраментальные слова: работа «не представляет интереса в научном отношении». «Работы Лосева как не отвечающие научным требованиям решительно невозможно рекомендовать к изданию». Где бессмертное пушкинское: «Суди, дружок, не свыше сапога!»?[294]
Лосев не сдавался. Он ответил решительно и гневно на пасквиль Астахова, названный профессором Дератани «дружеской критикой». Автор обсуждаемой рукописи осветил полную «безграмотность» Астахова и даже уличил его в полемике с Кратким курсом ВКП(б). Марксистский канон Лосев знал хорошо и с врагами боролся их же оружием.
В своем ответе «гражданину Астахову» Лосев подчеркнул политическую подоплеку так называемого отзыва, которая нужна тем, «кто к таким невеждам обращается за рецензиями».[295]
Одновременно Алексей Федорович послал письмо академику М. Б. Митину (он был академиком еще с 1939 года, с молодых лет), члену ЦК, одному из главных марксистских авторитетов в течение десятков лет. Как ни странно, М. Б. Митин, к которому и мне по делам Алексея Федоровича приходилось лично обращаться, и самому А. Ф., был отзывчив к нашим просьбам и уважительно относился к Лосеву, о чем есть целый ряд свидетельств. М. Б. Митин сыграл главную роль в деле о докторской степени Лосева (1943 год), и у него в руках были старые работы А. Ф. и новые рукописи. К письму А. Ф. приложил положительные отзывы, которыми он заранее запасся. Что делать, война есть война, а Лосев по натуре воин.
Он послал свои работы на отзывы профессору В. Ф. Асмусу, непререкаемому авторитету в историко-философских проблемах, А. И. Белецкому, в это время уже вице-президенту Украинской АН, члену-корреспонденту АН СССР, известному искусствоведу И. А. Ильину, старшему научному сотруднику и ученому-секретарю кафедры эстетики Академии общественных наук при ЦК ВКП(б).
Отзыв от А. И. Белецкого (2/VII—1948) констатировал, что «издание работ А. Ф. Лосева будет событием не только в нашей науке», труд Лосева «произведет в мире сенсацию», во всей зарубежной литературе нет аналогии такой работе.
Отзыв И. А. Ильина (4/VII—1948) утверждал, что метод Лосева «исключительно плодотворен», «выводы предельно интересны», таких работ нет «ни на Западе, ни у нас».
В. Ф. Асмус в своем отзыве (26/Х—1948) дал «весьма высокую оценку» «выдающейся по оригинальности теме, по объему текстов, по тщательному анализу». На такой труд, писал В. Ф. Асмус, «отважиться может ученый, который не только изучил по оригинальным текстам всю совокупную литературу, но который владеет искусством воссоздавать смысловую структуру и возводить ее к ее оригиналу – к породившему ее общественно-политическому укладу».
Дела развернулись дальше. Осенью, 15 сентября 1948 года, состоялось заседание кафедры, на которое А. Ф. не пошел. Сил не хватало. Там было передано лицемерное письмо Дератани к Алексею Федоровичу, в котором он опять-таки лгал, что отзыв Астахова – указание Г. Ф. Александрова, что кафедра готова к «дружественной критике», предлагал «все прошлое забыть» и призывал к «дружественной совместной работе». Упоминалось и о моей судьбе, заботившей Лосевых. Оказывается, меня предназначили совершенно нормально работать на периферию, укреплять классическую филологию в Ашхабаде. Там, правда, тогда и не пахло античностью, но зато были землетрясения. Как всегда, и здесь, в письме, – ложь. Дератани включил меня в список высылаемых из института сотрудников по разным, большею частью биографическим причинам. Об этом я уже писала. В письме же все выглядело вполне пристойно. Однако на всякого мудреца (а может быть, и хитреца) довольно простоты. Я работала целый год в Киеве, и до защиты диссертации никто из врагов об этом не догадывался.
Следующая кафедра состоялась 14 декабря 1948 года. Там зачитали заявление А. Ф. по поводу отзыва Астахова, причем было указано, что отношения к ИФ АН СССР он не имеет (об этом у меня выше). Лосев прямо назвал ссылку на Институт философии «демагогическим приемом». В письме он пишет: «Считаю позором для себя и для кафедры участие в обсуждении отзыва о филологической и даже лингвистической работе», который принадлежит человеку, не имеющему «отношения ни к классической филологии, ни к античности вообще» и который «даже не может прочитать в подлиннике анализируемые мною тексты».
А. Ф. направил с этим заявлением три положительных отзыва, чтобы их зачитали на кафедре, присоединили к протоколу, а копию протокола срочно потребовал ему вручить.
Это примечательное заседание нашло отражение в интересном документе, выписке из протокола № 8 от 14 декабря 1948 года, которую аккуратная Н. М. Черемухина, секретарь кафедры, переслала А. Ф. Итог был следующий. Кафедра не может вынести «окончательного суждения», так как профессор Лосев не явился на заседание и не представил своих работ. Последнее – совсем странно, так как все работы лежали на кафедре и именно оттуда попали к Астахову. Даже есть упрек рецензенту, что он «не все работы разобрал с достаточной полнотой», а затем уже совсем иезуитское заключение: отзыв тов. Астахова «абсолютно не является пасквилем». Руководство несколько свысока, но снисходительно заявляет, что профессор Лосев «желает перестроиться и избавиться от формализма и идеалистических концепций, но это ему не всегда удается и в процессе перестройки у него появляются ошибки» (бедняга Лосев!). Но «кафедра готова помочь Лосеву перестроиться» (какое великодушие!), послать работы на дополнительный отзыв и назначить заседание со специалистами для «окончательного решения вопроса о печатании работ профессора Лосева».
Обратите внимание на терминологию, какая снисходительность к заблудшему идеалисту и формалисту. Хорошо, что не космополиту. Был разгар космополитизма, и можно было под этим соусом вообще выгнать из института, арестовать, ведь отзыв Астахова явился самым откровенным идеологическим, а значит, политическим доносом. Обратите внимание также на «перестройку». Вот когда появилось это примечательное словечко, а отнюдь не в 1985-м вместе с Горбачевым. Куда там! На десятки лет раньше и по такому благородному поводу – оказать помощь слабо подкованному в марксистской теории товарищу по науке.
Конечно, никуда больше работы А. Ф. Лосева не посылали, ничего не обсуждали, оставили в покое, из института не выгнали (еще придет время) – роль сыграло высокое заступничество. Спасибо Валентине Михайловне, которая не только писала, но ходила в ЦК, да и я в этом была повинна. Обивала там пороги кабинетов уже несколько лет и с людьми встречалась, иной раз с хорошими, не очень большими, но от которых зависело, как дело представить большим людям. С благодарностью вспоминаю человека небольшого, сотрудника Отдела науки ЦК Николая Ивановича Арбузова, Николая Павловича Журавлева из Министерства высшего образования и из людей больших – Александра Васильевича Топчиева (зам. министра высшего образования, потом главный ученый-секретарь АН СССР), а также ответственного работника ЦК, профессора МГПИ, у которого я не раз находила поддержку, Степана Афанасьевича Балезина, знаменитого своими работами по коррозии металлов. Да, все-таки были люди честные – и большие, и маленькие.
Но долго еще Н. А. Тимофеева, ставшая зав. кафедрой по уходе в МГУ Дератани, мучила Лосева. В «Олимпийской мифологии» она заставляла его выбрасывать ссылки на иностранных ученых (космополитизм!), ликвидировала весь справочный аппарат (ученые буржуазные!), вставляла слова о марксистско-ленинском подходе, требовала ссылок на классиков марксизма, сочиняла к «Эстетической терминологии» предисловие с прославлением Сталина и Жданова, посылала на злостные рецензии. Когда в это же время готовилось к печати «Введение в античную мифологию», некоторые почтенные люди давали отзывы, и, конечно, отрицательные.
Например, кандидат философских наук М. Хасхачих пишет, ничего не понимая в историческом развитии мифологии. Ему невдомек теория рудиментов, которая с полной ясностью изложена Лосевым (у Геры – коровьи глаза, у Афины – совиные, Артемида – медведица) и которую за десятки лет мною обученные студенты-классики МГУ знают наизусть.
То, видите ли, «в рукописи мало авторских обобщений», а если и есть, то «не отличаются глубиной». А то конкретный анализ подменяется «философствованием», «общими рассуждениями», и они, естественно, «противоречат марксистско-ленинской теории». Терминология давно известная: «расплывчато», «сумбурно», даже стиль «шероховатый», да еще «языковые и стилистические погрешности». Бедный Лосев!
М. Хасхачих больше озабочен не содержанием, а тем, что нет классиков марксизма. Их и так всовывала Тимофеева. Но недостаточно. Ужасно. Всего две цитаты И. В. Сталина в важном разделе, да и те «неумело использованы». Пропущен основной вывод Сталина: «В этом ключ непобедимости большевистского руководства». Энгельс тоже «обойден», «не приведен» Ленин с критикой социальных корней религии. Для рецензента, что религия, что мифология – различия нет.
Итог суров: «Рукопись в таком виде нельзя рекомендовать к печати». Знал рецензент, кого можно бить и не пускать.
Другой, не менее почтенный, а может быть, и более, тогда еще кандидат искусствоведения (потом станет доктором) Виктор Владимирович Ванслов тоже знал, какой отзыв писать о Лосеве. Единственно положительные черты у Лосева – эрудиция и любовь к искусству – снисходительно похвалил. А вообще положительные стороны книги «перекрываются ее недостатками». Философская сторона книги «наиболее слабая и уязвимая». Это кандидат искусствоведения о философе Лосеве! Конечно, снова старая песнь: «Неполно использованы классики марксизма». Опять только две цитаты: «одна Маркса и одна Сталина». Как они считают цитаты, не понятно. Да и те цитаты не органичны, а иллюстративны. Что касается «коренных» проблем диамата и истмата, то Лосев (так ему надо!) «сползает на откровенно идеалистические позиции».
Автор вообще философски неграмотен – смешивает мифологию и язык, «извращенно трактует марксистские положения о единстве языка и мышления», ну и, конечно, «откровенный объективный идеализм, нечто среднее между объективным идеализмом Платона, Лейбница и Гегеля». Вот это похвала! Но еще и «абстрактность» и «схолацизм» (странный термин, сказал бы: «схоластика»).
Итог. В таком виде книга А. Ф. Лосева не может быть напечатана. Заключение важное. Искусствовед не простой, он сотрудник Института философии АН СССР, оттуда же, откуда и Астахов. Но Астахов – неуч, ему простительно, Ванслов считается ученым – а ему не стыдно. Лосев, правда, обошел своих злобных рецензентов. «Введение в античную мифологию» напечатал в Сталинабаде с помощью заинтересованных в ней сотрудников Пединститута. Вышла в 1954 году.
Интересно, как эти конъюнктурщики 1952 года читали (если только читали) книги Лосева после 1956 года, ставшие обильно выходить год за годом? Проснулась ли совесть? Или злость брала? Или зависть? Или жалели, что вовремя не добили?
Сам же А. Ф. по странной привычке настоящего ученого цитировал даже своих врагов, уважая чуждое мнение, если оно обоснованно. Я всегда (женские эмоции) возмущалась: «Вас ругают, а Вы их цитируете». Да что я. Помню, как М. А. Лифшиц, когда Лосев в «Философской энциклопедии» напечатал большую статью «Эстетика», говорил возмущенно автору: «Алексей Федорович, ну что вы там насобирали всякую сволочь, упоминаете, ссылаетесь». «История науки, – ответил Лосев. – Для нас важен и древесный клоп. Все надо изучать». Почему-то А. Ф. всегда приводил в пример объективного научного исследования этого несчастного древесного клопа. Он и классиков марксизма на этом же основании изучал.
Кто не перенес в те страшные времена позорного давления, издевательства над совестью, волей и душой человека, над научной истиной, тот никогда не поймет, каких мук стоило печатание первых нескольких книжек после вынужденного 23-летнего молчания – «Олимпийской мифологии» (1953), «Эстетической терминологии ранней греческой литературы» (1954), «Введения в античную мифологию» (1954) – в скромных «Ученых записках» МГПИ имени Ленина или в таджикском Сталинабаде.
Радоваться сил не было.[296]
Несмотря на кафедральные и иные препятствия, раздавались сочувственные голоса и появлялись вестники с надеждой на издание некоторых рукописей.
В 1949 году началась переписка с далеким Тбилиси. Грузины из Института философии Грузинской ССР решили перевести с греческого великого неоплатоника Прокла, издать этот перевод вместе с грузинским переводом и комментариями христианского неоплатоника Иоанна Петрици, философа и монаха XI века. Планировали также перевод Иоанна Итала (XI век). Письма шли от молодого тогда Шалвы Васильевича Хидашели, ученого секретаря Института философии Грузинской академии наук. С Шалвой Васильевичем мы будем дружить долгие годы. Он неизменно посещал нас в Москве, был всегда скромен, отзывчив, любил науку, много работал, и только в дальнейшем мы узнали, что сам он перенес большие потрясения. Его супруга, известный ученый, фольклорист, была арестована и начала вновь печататься в Москве уже через многие годы. В нашей библиотеке есть ее книги о грузинских сказках. Брат ее – выдающийся художник-декоратор Большого театра, Вирсаладзе, чьим талантом все восхищались. В его квартире около Смоленской площади останавливался Шалва Васильевич.
Грузинский неоплатонизм – целый мир, неведомый России, но зато ведомый и Лосеву, и Хидашели, который в дальнейшем выпустит книгу о грузинском Ренессансе. Вот откуда началась связь Алексея Федоровича с грузинскими учеными, с 40-х годов, длилась до самой его кончины и продолжалась потом. В год своего 90-летия А. Ф. произнес замечательную речь о грузинском неоплатонизме (она напечатана и записана на пленку), обрисовав строго по пунктам, строго логически тип этого неоплатонизма. В книге «Эстетика Возрождения» (1978) А. Ф. посвятил очень важные страницы Восточному Ренессансу и специально грузинскому неоплатонизму.[297]
Предназначался перевод Прокла не для печати (на это не решились даже грузины), а для внутреннего употребления, чтобы сотрудники института, изучая старогрузинский текст Петрици, могли внимательно согласовывать его с точнейшим переводом Лосева и его разъяснениями. Несмотря на такие условия, А. Ф. согласился, и мы начали работу, не задержав ее и предоставив в срок. Уже в 1950 году (30/V) А. Ф. сообщил Хидашели об окончании перевода, приглашая приехать к нам летом. Летом все вместе встретились на даче в «Заветах Ильича». Сидели под деревьями скромного подмосковного уголка, пили чай, беседовали. Впервые друг друга увидели, но как-то сразу возникла обоюдная симпатия и не было препятствий для понимания. А все-таки хотелось увидеть плоды труднейшей работы не за семью замками, а в нормальном издании, чтобы открыто прочитали все желающие.
Ждать же пришлось почти тридцать лет, пока «Первоосновы теологии» появились в Тбилиси небольшим тиражом в 1972 году. Но зато отдельной, небесно-голубой книжкой, которую сразу раскупили, в том числе и студенты классического моего отделения МГУ, бывшие в Тбилиси на научной конференции. Нина Брагинская тогда (теперь она почтенный доктор исторических наук) радовалась, что успела купить эту книжку. Десятки лет рукопись Лосева служила нескольким поколениям грузинских философов, находясь как бы в спецхране – только для служебного пользования. Но все-таки вырвалась на свет.[298] Этим всегда заслуженно гордились и Ш. В. Хидашели, и директор института Николай Зурабович Чавчавадзе. В 1993 году «Первоосновы теологии» с комментариями и статьей А. Ф. вышли отдельной книжкой как приложение к журналу «Путь», издаваемому А. А. Яковлевым. Туда я внесла ряд дополнений из VII тома «Истории античной эстетики» (кн. 2-я. М., 1988), где большая часть посвящена Проклу, и включила гимны Прокла, впервые переведенные нашей с А. Ф. ученицей, талантливой Ольгой Смыкой.
Появлялась на даче в Кратове (я уж не говорю о более позднем времени), тоже из Грузии, Натэла Кечакмадзе, молодой философ (умерла она рано и неожиданно). Снова неоплатонизм. Она занималась неоплатоником Иоанном Италом (XI век, Византия). Нужны были лосевские консультации, пересмотр текстов. Опять-таки намечалась какая-то живая работа с хорошими, достойными людьми.
Грузинские ученые оказались первыми, которые не испугались философа Лосева, не устрашились так называемого «мистицизма» неоплатоников. Отсюда наша дружба с грузинами.
Неожиданно неоплатонические проблески осветили и 1947 год. К своему великому удивлению, А. Ф. Лосев получил приглашение участвовать в трехтомной академической «Истории греческой литературы». Для III тома ему предложили написать главу о философской прозе неоплатонизма и его предшественников. Ученый-секретарь ИМЛИ имени Горького Е. А. Беркова просила (29/IV—1947) представить главу к лету 1947 года. В разгар кафедральных неурядиц А. Ф. погрузился в любимых им неоплатоников. Написал огромную главу, причем с упором на литературные и художественные особенности этих труднейших философов. Здесь Лосев – филолог, и более того, эстетик – проявил себя в полной мере. Было, правда, у него предчувствие, что глава целиком не пройдет, слишком все ново и необычно. Он даже написал специально письма членам редколлегии, просил не сокращать. Но, конечно, не вняли, сократили. Спасибо, хоть в усеченном виде, но напечатали главу о махровых мистиках-идеалистах. Да, это действительно был первый слабый проблеск, но все-таки был. И люди читали, удивлялись. Правда, из печати том III «Истории греческой литературы» вышел в 1960 году.
Незаметно приближались 50-е годы, роковые для нас троих, для нашей личной жизни. Не говорю о всей стране – она переживала общую беду и предвестие общего выздоровления, которое, увы, длится уже десятки лет.
В 1953 году в последний раз я провела лето у мамы, где бывала ежегодно с 1944 года. На переломе к весенней поре – 5 марта 1953 года – не стало «великого вождя народов» И. В. Сталина.
Никогда еще мы не слушали столько великолепной классической музыки, столь мрачно-торжественной, фатально-величественной, что звучала в дни траура. Сама судьба стучалась в наши двери. Ведь никто не поверит сейчас, какое потрясение испытывали так называемые обыватели, а иначе, простые люди, да и не только они. Задумывались о будущем, кто поведет великую державу, плакали непритворно в ожидании невиданных катастроф. Да, смерть Сталина граничила с всенародным и, более того, с космическим бедствием, хотя почти каждый в отдельности испытал на себе и своих близких тяжелую руку властелина полумира. Но ведь когда рушатся горы, разверзаются недра земли, море выходит из берегов, а пепел огнедышащего вулкана засыпает целые города – тогда вселенский страх охватывает бедное человечество.
Даже одна мысль о том, что будет некогда день, когда солнце погаснет, земля погрузится во мрак и мертвый сон обнимет мертвую нашу планету, уже одна эта мысль наводит ужас. Чего же вы хотите, если вдруг среди ночи металлический голос произносит слова, о которых тайно мечталось, но которых страшилась безмолвно произнести истерзанная человеческая душа. Сталин умер. Наконец умер. Зачем умер? Земля разверзлась, взволновалось человеческое море. Кто с горем, кто с надеждой на будущее, кто с любопытством и злорадством, – но все в ужасе от невиданной катастрофы ринулись лицезреть вождя, мертвого льва, поверженного Смертью.
Я сама свидетель этих мрачных толп, нервно торопящихся с затаенным блеском в глазах. Я сама с Алексеем Федоровичем и Валентиной Михайловной участница одного из таких шествий по бульварам, чтобы пробраться к Колонному залу. Удивительно, как быстро мы шли, почти бежали, как лезли через дыры в заборах, через какие-то щели, по дровам и доскам, как не боялись потерять друг друга и быть растоптанными. Но потом одумались и повернули, слава Богу, вспять, добрались до дому осознавать в уединении все величие этой катастрофы; будет ли она благодетельной или обернется чем-то еще худшим – никому не ведомо.
Маленький забавный штрих. Как только через несколько дней кончился траур и заработали промтоварные магазины, мы все – теперь уже радостно – отправились на площадь Маяковского в большой магазин радиотоваров и купили рижский приемник «Эльфа» – в наивной надежде слушать весь мир. Как оказалось в реальности, на Арбате такое общение с миром было невозможно, работали мощные глушители. Факт нашего похода в магазин, хоть и мелкий, но примечательный. Мы рассчитывали на новую жизнь и катастрофу теперь уже сочли благодетельной.
Но нас ожидало крушение в собственной семье.
По-моему, что-то сломалось в Валентине Михайловне, когда ей подробно рассказали об ужасной кончине лосевских друзей, известного археолога Бориса Алексеевича Куфтина (он хорошо знал моего отца и дядю) и его жены Валентины Константиновны (урожд. Стешенко), пианистки, ученицы Гольденвейзера.
Оба поехали отдыхать в Прибалтику. Там, случайно, рано утром, выходя из дома, наткнулся Борис Алексеевич на острый кол, подпиравший дверь, и, пока добирались до врачей, истек кровью. В больнице Валентина Константиновна упросила ее оставить наедине с покойником, ночью, в одной комнате, где и повесилась, глядя ему в лицо. Перед смертью написала завещание – рояль передать Святославу Рихтеру.
Из Тбилиси, где жили Куфтины, прибыл брат Бориса Алексеевича увезти его гроб (телеграмму дала еще живая Валентина Константиновна), а, приехав, увидел два гроба. Так их вместе и похоронили.
Это была замечательная пара. Я их помню хорошо в нашем доме. Оба красивые, высокие, внутренне изящные, талантливые. Он – открыватель и исследователь знаменитой Триалетской культуры (Грузия) – подарил в свое время нам об этом книгу. Она порывистая, живая, пианистка, профессор Тбилисской консерватории, автор диссертации о древнейшем музыкальном инструменте «Флейте Пана» – тоже целая книга.[299]
Оба были гонимы и не случайно попали в Тбилиси, а вынужденно. Погибли, когда их пригласили в Киев, ее в консерваторию (Валентина Константиновна – украинка), его в Институт археологии, когда начиналась для них новая жизнь.
Помню, как сидим мы в кабинете А Ф. и Борис Алексеевич, глядя на меня, изрекает: «Каспийская подраса Средиземноморской расы», а Валентина Константиновна в кроваво-красном шелку, наглухо закрытом вечернем платье с одной сверкающей брошью (была в гостях у Гольденвейзера, где много играла), волосы черные, глаза сияют, вся она излучает какой-то беспокойный свет.
Слушали мы втроем эту страшную историю погибели двух душ.
Ведь были у нас недавно, и нет их, и никогда больше не будет.
С тех пор помрачнела Валентина Михайловна, как-то внутренне замкнулась и, казалось, что-то скрывает от нас свое, тайное, тоже страшное и неизбежное. Думаю, что уже носила она в себе неизлечимую болезнь, не сознавая этого (никогда не лечилась, все врачи для А. Ф.). Смерть, да еще такая (самоубийство – грех-то какой, как молиться за них?), надорвала некую душевную струну, стало трудно сопротивляться болезни, упорно захватывающей последние жизненные силы.
Тяжелые предчувствия стали посещать Валентину Михайловну. В последнее лето в убогом домишке в Малоярославце ей не спится, и невольно складываются стихи, наспех записанные той же ночью. Она видит в А. Ф. свою единственную опору, ниспосланную Богом.
Тобою к Богу приведенная, Нездешним светом озаренная, Воскресшая душа моя С тобой всегда. С тобою жизни крест пронесшая, Твои страданья перенесшая, Молящая душа моя С тобой всегда. В сердечно-огненных моленьях И тихих тайн всенощных бдений Бессмертная душа твоя Полна всегда. … Не смея ожидать спасенья, Живя в надежде на прощенье, Из мира мы уйдем Когда?Именно это «когда?» становится все более зримым. Сроки подходят. Ее бессмертная, скорбящая и молящая душа чувствует Приближение страшного, неизбежного.
Уж поздний час. Давно легла я. Но все не сплю. Душа болит. Шагами тихими, ступая, Тоска, подкравшись, в дверь стучит. Трещат накаты, мышь скребется, Шальной мотор внизу турчит, Суровых мыслей вихрь несется, Судьба столиким оком зрит. Не спи, не спи, напоминает, В последний путь готовь себя, Конец всей Жизни наступает, Спеши любить, простить любя. В душе иссякли жизни силы. Простерта ниц лежит она В гробу тесно; темна могила. Нет никого; душа одна.Как всегда, с великой радостью еду я в неведомый мне Малоярославец на исходе лета 1953 года повидать Валентину Михайловну и Алексея Федоровича. С такой же радостью ежегодно встречала я маму, младшую сестренку, дядюшку – все владикавказское семейство. И всегда с печалью уезжала из родного дома на Кавказе и с такой же печалью – из родного дома на Арбате. Лето 53-го года было особенно хорошее. Путешествие по Черному морю прошло замечательно: купались, грелись, гуляли среди пальм, олеандровых рощ и магнолий, поднимались на гору Нового Афона – нигде никаких признаков часовни или церквушки. Сплошной дом отдыха. И вот после этого южного великолепия сразу в скромный Малоярославец с деревянными домишками в кустах малины и черной смородины.
Увлекли Лосевых в этот городишко друзья Нилендеры, которые не раз там мирно живали. Как все жалко и убого. Ей-богу, в Опарихе и то было лучше. Те же петухи орут, собаки лают да еще ребятишки кричат. Одна комната, разделенная пополам огромной русской печью. В одной половине – хозяйка, в другой – Лосевы. Хорошо еще, что хозяйка плохо слышит, а то ни о чем не поговоришь как следует. Да и как-то говорить не хочется. Алексей Федорович унылый, Валентина Михайловна молчалива и что-то таит, осунулась, устала – это на отдыхе, якобы на природе. Да какая там природа, пыль, грязь, лопухи, чертополох. Мне невдомек, что надвигается беда, весело рассказываю и щебечу. Решаем на днях уезжать в Москву, и Валентина Михайловна просит меня пригласить ее знакомого инженера, владельца немецкой машины BMW. Почему я запомнила эту марку? Никогда не помнила и не разбиралась в марках машин, а тут запомнилось, хотя на улице и не узнаю, если встречу.
Приезжаем через несколько дней, и, о ужас, Валентина Михайловна едва жива – белая, едва передвигается, потеряла, видимо, много крови. Осторожно укладываем ее в машину на подушки, устраиваем поудобнее. Уезжаем, чтобы никогда не возвращаться и даже не вспоминать тихое пристанище провинциального городка. Малоярославец связан у меня с неизбывным горем, и невмоготу становится, как подумаю о последних летних днях пятьдесят третьего года.
В Москве срочно врачей, одного (нашего, от поликлиники Минздрава прикрепленного) старой еще школы – Константина Николаевича Каменского – живет рядом в доме 31-м, в квартире, где когда-то жил его отец, адвокат (теперь, конечно, в коммунальной). Константин Николаевич вызывает хирурга из поликлиники на Гагаринском, совсем рядом. У Валентины Михайловны страшное кровотечение, лежит, как мертвая, кровь, говорит Каменский, желудочная, почему-то совсем черная, густая, смола. Хирурга мы тоже знаем, любит выпить и не прочь получить «гонорар», хотя не полагается. Мы готовы на все, гонорар даем, и еще какому-то врачу. Каменский командует – в больницу. Звонит в Боткинскую. Там готовы принять. И вот уже на легковой машине «скорой помощи» увозят Валентину Михайловну из дома. Привезут потом в гробу. Мы с доктором рядом. Алексей Федорович остается один-одинешенек, в кабинете, в кресле. Шепчет, как всегда, про себя, молится, думая, что незаметно, а я все равно знаю, крестит мелкими крестиками под пиджаком, там, где сердце.
В больнице снова осмотр, наша банка с черной кровью никому не нужна, запихиваем ее под скамейку. Здесь врачи все знают сами, и бедного Каменского никто не слушает. Сами обследуют. Больница вам не поликлиника. Нахожу машину, уезжаю, забрав подушки, одеяла, одежду Валентины Михайловны, чтобы вернуться на следующий день. Валентина Михайловна в какой-то общей палате, еще на обследовании, и не получила своего постоянного места. Рядом с ней оказывается близкий человек – жена брата Г. В. Постникова. Она потом тоже умрет, только дома. Няньки шепчут мне, что все будет хорошо, и я сую им деньги.
Валентина Михайловна белая, совсем седая, глаза запали, руки истонченные, силится говорить. Слава Богу, кровотечение прекратилось. Дает мне сложенный листок бумаги, просит внимательно дома прочитать и рассмотреть.
Дома раскрываю этот листок, где карандашом, почерком через силу, мне краткая записка. Чувствует, что умрет, просит похоронить рядом с матерью, на Ваганьковском, и план нарисован, как найти могилу. Сразу видно математика, привыкшего иметь дело с точными чертежами. Аккуратные указания: прямо, направо, налево, прямо, налево, вблизи от дерева со сломанной вершиной – очень это символично, дерево сломанное – все мельчайшие приметы указаны и чертеж нарисован совсем так же точно (потом по нему нашли место и рыли там могилу), как она это делала в Новочеркасске, в 1936 году, набрасывая план местности, где расположен был дом Лосевых. Оба чертежа у меня сохранились. Письмо о будущей смерти, уверенно предчувствованной, и все записочки наши, которыми обменивались, хранятся в особой папке. Каждая черточка дорога. И сейчас, когда взгляну на карандашные пометки, сделанные в старинном молитвеннике Валентины Михайловны для меня, не могу, плачу. Человека нет, а карандашная скобочка на месте, ею проведена, обо мне думалось.
А. Ф. об этом письме тогда не знал, сказала ему уже после. И вот начались наши хождения в больницу, где пускали нас без очереди, привилегия тяжелобольных, грустное преимущество, и халаты выдавали белые тоже сразу. А Валентине Михайловне даже и лучше стало. Чего только не приносили, каких лекарств только и снадобий она не пила, и гомеопатию, конечно. И врачи с воли под видом родных ее навещали, и батюшка, и воду святую, и просвирки, и даже причастие. Крестик спрятан, но так, что всегда рядом.
Она уже встречала нас, сидя на кровати, провожала в коридор, стала поправляться, а потом все рухнуло. Снова похудела, поднялась температура, косу пришлось мне ей отрезать, голове тяжело (так эта коса поныне в Мусенькиных вещичках покоится), когда жар. Опять стали искать врачей, да чтобы поважнее. Наш Каменский хорошо знал профессора Дамира Алима Матвеевича, крупного терапевта (он потом лечил Л. Ландау после катастрофы). Пригласили Дамира, денег не считали. Главный врач Боткинской, профессор Шабанов, разрешил, сам не раз сопровождал светило с целой вереницей ассистентов к больной. Тогда в моду стали входить антибиотики, начали лечить стрептомицином, очень большими дозами, уколами.[300] А больная все худеет, и боли начались адские. Приходим каждый день, сидим до ночи, хотим Новый год рядом встретить, а Валентина Михайловна гонит нас домой: «Уходите, я не могу при вас кричать, вы мне мешаете кричать». Морфий не помогал. Оставалось кричать. Уже сиделку взяли, чтобы всю ночь была рядом, а другая – днем. Приятная была женщина, которая ночью – Екатерина Всеволодовна.[301] Все труды напрасны. Сидела я около нее, а она уже без сознания, только веки подергиваются и голова, как в тоске великой, то влево, то вправо мучительно поворачивается. Пока еще была в сознании, просила не оставлять Алексея Федоровича, быть всегда вместе. «Передаю из рук в руки», – говорила она, рассказывая вещий сон, как лежит она в каком-то подземелье, роет, роет землю, а выбраться не может, земля тяжелая не пускает. «Передаю тебе на руки», – шептала.
И вот 29 января не стало нашей Мусеньки. Так хотела умереть дома, но врачи боялись ее тронуть. Умерла в больнице. В канун ее кончины сообщила Екатерина Всеволодовна, что не доживет до утра и чтобы мы готовились.
Ночью стали разбирать книжные шкафы, перегородки большой комнаты, сдвигали шкафы так, чтобы гроб мог пройти, складывали книги штабелями в стороне.
Утром рано позвонили – все кончено. А там привезли уже в гробу, белую, ледяным холодом веет, лоб поцеловала – почуяла впервые, что такое смертный холод. Одета во все белое, а сверху я положила еще от матери Валентины Михайловны оставшийся тончайший покров, нити шелковые с нанизанными мелкими жемчужинками и перламутром, конец XIX века. В руках маленькая иконка, Иерусалимская (осталась еще одна – эта для А. Ф., к его смертному часу), крестик кипарисовый – так положено (ее серебряный предназначен мне). Спящая царевна – вот кто она, наша Мусенька. И гроб со всех сторон старинной родительской парчой покрыли, а на столике – золотое тяжелое кружево (все остатки Соколовского наследия) и на нем свечи. Псалтирь читают старые монашки, вдова о. Александра Воронкова, Вера Ивановна, и Владимир Николаевич Щелкачев. Иду к батюшке в Филипповский переулок, храм, Иерусалимское подворье. Батюшка пожилой, надежный, можно довериться.[302]
Не всякий решится в эти годы отслужить панихиду на дому, все должны быть предельно осторожны. Днем прощаются коллеги по кафедре. Зав. кафедрой профессор Г. Н. Свешников произносит прочувствованное слово о Валентине Михайловне, жизнь которой была посвящена романтической науке, небесной механике. Все, слава Богу, кратко и пристойно. Сам Г. Н. Свешников человек верующий.
Зимним вечером в наш дом, где мы, по сути дела, живем одни,[303] пробираются наши друзья, несколько десятков человек, окна глухо занавешены, вокруг каменная старинная тишина. Свечи горят в руках, идет заупокойная служба. Алексея Федоровича подвели проститься к гробу, он рыдает, не может стоять, укладывают в постель, с которой он еще много дней не встанет, готовится к смерти. Снова призову батюшку, он исповедует и причастит Алексея Федоровича.
Января 31-го трескучий мороз, на кладбище могильщики ночью жгли костры, растопить землю. Им щедро платит наш друг, И. А. Ильин, которого потом я буду помогать хоронить его беспомощной жене. Могильный холмик усыпали хвоей и тут же заледеневшими – как живые – цветами. Разбросали из букетов. Корзины же с цветами от всех близких стоят у нас в столовой, там, где зеркало занавешено и шкафы выстроились совсем по-другому – простор для гроба. Но теперь заболела я, простуда и воспаление среднего уха – кладбищенский мороз.
Зажили мы сиротливо с Алексеем Федоровичем, оба больные, едва передвигаемся. Он теперь один в своем кабинете, без Валентины Михайловны, я – в столовой на своем коротком диванчике. Но я-то молодая и помню наставления Валентины Михайловны, сама себя подбадриваю и Алексея Федоровича ободряю надеждой на жизнь с Мусенькой навеки. Мне кажется, что она здесь, рядом, только в другой комнате, где дверь замкнута, а так совсем рядом.
Поняла я и слова давние Валентины Михайловны, что она готова отдать жизнь за Алексея Федоровича. Она действительно отдала ему часть предназначенного ей срока. Он прожил 95 лет, работал до последнего дня. Это была ее доля в его судьбе, вполне реальная. Она дала возможность создать новое «восьмикнижие», заплатила за него, принесла жертву.
Надо продолжать жить, иначе Мусенька будет недовольна, работать надо, о науке думать, главное, книги печатать, заниматься Мусенькиным делом.
Она не смогла выбраться из-под тяжести земли в своем вещем сне, а мы с Божией помощью (не наша, но Твоя да будет воля) просто обязаны вырваться из-под тяжести нашего горя. К лету 1954 года вышла книжка, выстраданная последними Мусенькиными усилиями, «Эстетическая терминология ранней греческой литературы (эпос и лирика)». Новую череду издаваемых книг открыла все она же, сопутница и печальница философа Лосева – вечная его молитвенница перед Господом Богом, матушка Афанасия.
Часть пятая
Мы осиротели, но жизнь надо было продолжать. Куда деться, куда бежать от печальных мыслей, как устроить новое наше бытие без той, которая всегда заботилась и сострадала? Конечно, к маме, на Кавказ, в старый дом, где находили прибежище многие и в гражданскую войну, и в годы сталинского разорения, а теперь вот мы. Хотелось в горы, но не очень далеко от мамы, чтобы всегда вернуться, если соскучишься. Так и получилось, ни в каких ближних горах, вернее селениях, мы не прижились. Это вам не прежние времена, когда Лосев делал огромные переходы по Военно-Осетинской дороге, шел через Клухорский перевал, забирался к «Приюту одиннадцати» на Эльбрусе. Миновали те времена, а сидеть на аульском пятачке вечно в окружении удивлявшихся нам сельчан немыслимо. И почему всегда удивлялись и принимали Алексея Федоровича Бог весть за какую особу? То бабка Татьяна – за митрополита, то за знаменитого кинорежиссера Л. Висконти! «Маэстро, buono giorno…» – открывают дверцу такси. А пока ехали поездом через Ростов с большими остановками, с длительными прогулками по перрону под хрипловатый завлекающий полушепот Бернеса: «Умирать нам рановато, есть у нас еще дома дела» (пел на каждой станции) – почему-то прошел слух, что едет турецкий посол инкогнито – это Лосев в черной шапочке. И теперь тоже в маленьком полузаброшенном селении принимали за какого-то важного беглеца, скрывается, от кого – неизвестно. Так мы вернулись в мамин старый дом, где каждое утро у Алексея Федоровича и Леонида Петровича, профессора Семенова, маминого брата, за чаем шли разговоры о литературе, и, чтобы совсем эпатировать символиста Лосева, тихий ироник дядя Леня вдруг объявлял, что он больше всего любит Крылова, Салтыкова-Щедрина и Некрасова. А мы, молодежь, знали хорошо, что Леонид Петрович сам писал когда-то стихи, полные тоски и каких-то смутных видений, любил Жуковского, Фета, а главная его страсть – Лермонтов, не говоря уже о том, что Лермонтов – предмет его многолетних исследований и что он владелец лучшей лермонтовской библиотеки (пожертвовал потом в «Домик Лермонтова» в Пятигорске), что задумывал он создать Лермонтовскую энциклопедию. Она и вышла в 1981 году, когда Леонид Петрович давно скончался (1959). Издатели, правда, не преминули в первых же строчках предисловия вспомнить профессора Семенова, подавшего идею этого замечательного издания.
Потом сидели и перебирали, с неизбежными рассказами, старые семейные бумаги, альбомы, читали восстановленные из небытия выпуски журнала «Маяк», когда-то, в прежней жизни, изданные другой молодежью этого милого дома, той, которая теперь уже постарела, поседела, пережила много потрясений, но не утеряла ласковой заботы о ближних и далеких, всех, кто страждет и нуждается в помощи. А то сядешь за пианино (рояль в гражданскую обменяли на пуд муки), наигрывая «Кукушку» старинного Дакена, а тетя Лена, сестра мамы, загадочно улыбаясь, прислушается и скажет: «Эту пьесу каждый день играл тогда английский полковник, что жил в нашем доме, а я ему жарила яичницу». Когда же это «тогда»? В гражданскую? В Первую мировую? Почему полковник, кукушка, яичница, Бог его знает, у тетушки не добьешься. Была пышной красавицей в далеком прошлом, потом ходила босиком в балахоне, подвязанном веревкой, – Лев Толстой соблазнил, – потом была выдающимся педагогом с орденом Ленина на груди, а теперь какая-то странная, тихая, безмолвная, посмеивающаяся про себя, и скоро ее не станет. А нам, молодежи, было весело, сидели на горячих каменных ступеньках, ведущих в наш маленький садик, со всех сторон окруженный стенами, под синим, тоже горячим небом, дышали ароматом пылающих роз. Спрятавшись за кустами розовых флоксов и лиловых гортензий, плескались нагретой солнцем водой, отправлялись все вместе, прихватив Алексея Федоровича, в роскошный городской парк, по-старинному трек, и читали, сидя в укромном месте под сенью нависших деревьев, под журчание вечнобегущей воды. И то, что стоит жара, – хорошо, и когда разразится южная гроза, небо станет черным и огненным и потоки понесутся с торы мимо нашего дома – тоже хорошо (слава Богу, черепичная крыша пока не течет). А то Алексей Федорович или Леонид Петрович вдруг решат, что молодежи надо развеяться, и укажут цель путешествия – пусть не очень дальнего, но и не очень простого. Так мы побывали (об этом я уже писала) в Приэльбрусье и в Кассарской теснине. Мы – это я и моя сестра Мин очка (попала сюда еще девочкой, спасали после ареста родителей), мои кузены Леонид Семенов, в обиходе Наль (в память о романе некогда известного писателя и художника Каразина), и Светлана Раздорская (дочь профессора В. Ф. Раздорского), наши друзья Витя и Павлик Аваков (сын друзей наших родителей, молодой ученый-физик из Дубны, погибнет там через год). Алексей Федорович все удивлялся, как это устроила судьба в 1937 году остановиться ему вместе с Валентиной Михайловной на турбазе на улице Осетинской, в бывшем дворце нефтяника Чермоева, напротив которого в доме 4, во владении профессора Л. П. Семенова, жила девочка, которая соединит свою жизнь с Лосевым. «А мы и не подозревали», – вспоминал он. Да как же можно было это знать. Но все-таки интересный факт, совсем не случайный.
Следующее лето проводим в местечке Акри под Каширой. Нашла нам этот скромный домик Александра Ивановна Зимина, новый наш друг. Через каких-то знакомых пригласили ее на лето еще при Валентине Михайловне пожить у нас на Арбате, постеречь квартиру, но так получилось, что осталась у нас Александра Ивановна до 1960 года. Некуда ей было деться, дочери с ней не очень ладили. Было ей тогда под 70. Человек удивительной деликатности и воспитания, ну как же – княжеских корней Мосальская-Рубец, воспитанница Смольного института, пережившая трех мужей (все они были генералы Генштаба, один умер до революции, двое погибли при советской власти), в лагере претерпела десятилетие. Она трогательно заботилась об Алексее Федоровиче, повязывая салфетку, наливая суп или чай, шила ему очередную шапочку. И все удивлялась, как он мало ест, ставила в пример своих мужей, особенно второго – казачьего генерала. «Но я же, Александра Ивановна, на маневрах не бываю и лозу не рублю», – говаривал Алексей Федорович.
Чтобы получить хоть какую-то пенсию, выдали Александре Ивановне справки о ее секретарской работе подруга по Смольному, знаменитая арфистка Ксения Эрдели и профессор Лосев. Забавный был случай, когда пришли из собеса с проверкой, Алексей Федорович так потряс скромную профсоюзницу своим видом да еще ловко вынутыми из кармана ста рублями, что та, благодаря и кланяясь, исчезла, удивляясь «настоящему профессору».
Мы жили так: в перегороженной книжными шкафами большой комнате, где, мало кого стесняясь, проходили Яснопольские, на маленьком, бывшем моем, диванчике спала Александра Ивановна, я ставила каждый вечер раскладушку, а если кто-либо приезжал из ее родни, например внучка Тамуся, или моя подруга Нина, ставили еще одну раскладушку, но никто не сетовал, не сердился, никто не видел в этом ничего необычного, главное было – не мешать Алексею Федоровичу и его работе в кабинете за закрытыми дверями.[304]
Вот так начали мы блуждать по подмосковным дачам. В Акри часами гуляли с Алексеем Федоровичем по полям и часами работали над «Античной мифологией в ее социально-историческом развитии». Запомнилось мне это место кошмаром, случившимся при первой нашей туда поездке. Надо было выйти из вагона на деревянную платформу. Алексей Федорович не видит и начинает спускаться по вагонной лестнице вниз (между вагоном и платформой большой промежуток). Я его втаскиваю назад, а дама, которая нас туда сопровождала, стоит на платформе и тащит его к себе. Он же спускается в гибельную пустоту, под колеса поезда. Дама коренастая, сильная, решительная. Я в ужасе кричу диким голосом, ведь считаные минуты, и, схватившись за ручку тормоза, останавливаю поезд. Вся дрожу, рыдаю. Алексей Федорович не может переступить пустоту, что-то ему мешает это сделать. Тогда машинист (это обычный паровоз, не электричка) решает ехать до следующей станции и стоять, пока мы спокойно не сойдем. Народ наблюдает, сочувствует, советует, все ждут момента остановки, помогают. Буквально на руках переносят Алексея Федоровича на платформу. Поезд уходит. Мы остаемся одни и бредем пешком вдоль железной дороги назад в наш поселок, молча, сосредоточенно, переживая ужас случившегося. С тех пор у меня правило: дача должна быть конечной остановкой электрички или предпоследней, чтобы до нее дойти пешком. Пережить еще раз этот спуск по ступенькам под колеса! Я и сейчас, когда пишу, не могу успокоиться. Бог миловал в тот час.
Начались наши скитания по подмосковным дачам, памятные книгами, над которыми то там, то здесь работал Алексей Федорович. Попали мы в Домодедово, в Елочки к Н. И. Либану, известному историку русской литературы на филфаке Московского университета (его рекомендовал наш друг профессор А. М. Ладыженский), в кирпичный дом с огромной верандой и шведской печью, обогревающей верх и низ, с большим, почти пустым участком – деревья еще молодые. Говорят, что теперь там настоящий лес, но зато и город добрался до этих мест. Там завершает Лосев «Античную мифологию». Работаем допоздна: лето, светло, а потом при керосиновой лампе. Как приехали – свет отключили, в поселке меняют столбы, все лето идет дождь, а мы навезли квасу для окрошки, один раз и попробовали, потом весь скис. Каждый вечер перед сном Алексей Федорович пьет по два нембутала, голова полна мыслей, как всегда, заснуть невозможно. Наша помощница Шура в рюкзаках везет книги из московских библиотек, надо кончить работу за лето и сдать в «Учпедгиз» Ивану Михайловичу Терехову «Античную мифологию».
Алексей Федорович пытался отдать в «Худлит», но главный редактор, А. И. Пузиков, отказал решительно. В этом издательстве все еще помнят Лосева, и кое-кто помнил какую-то не очень внятную историю с попытками печатать огромную «Античную мифологию» с собранием текстов еще в конце 30-х и в 40-х годах. Больше всего потешались над четвероруким Аполлоном. Ну и выкопал Лосев такое чудище. Этого быть не может. У Аполлона две руки, и он прекрасен.
Помог старый друг Н. М. Гайденков. (Потом профессор МГУ, скончавшийся в 70-х, безвременно. Тоже за всю жизнь много пришлось ему перенести.) Он сагитировал директора «Учпедгиза» И. М. Терехова и превратил высокого чиновника, но человека с добрыми задатками, в лосевского поклонника. Терехов с энтузиазмом взялся за дело, выделил симпатичного редактора С. А. Ненарокомова, интеллигента прежней закалки, и книга вышла в 1957 году, на хорошей бумаге, с супером – ее сразу расхватали, вышла под более лаконичным названием «Античная мифология в ее историческом развитии». Социальность испугала редактора, лучше быть от нее подальше.
В «Античной мифологии» А. Ф. Лосев имел возможность впервые после многолетнего перерыва спокойно изложить свою собственную теорию мифологического процесса, основываясь на смене родовых отношений первобытного общества древних греков, исходя из бытия и сознания в их единстве, изучая в мифах «личностную историю», данную в словах, живой телесный дух в его развитии.
Следует сказать, что Лосев исследовал именно мифологическое развитие, не касаясь религии, области, которую часто по незнанию и спутанности понятий подменяют мифологией. Мифология как форма освоения мира человеком родовой общины была полна чудес, в реальности которых никто не сомневался. Каждый миф расцвечивался безудержной фантазией человека, погруженного в загадочную жизнь живого тела природы, частицею которого он и сам был, общаясь с таинственным и могущественным миром демонических стихий и богов.
Миф был полон выразительности, то есть имел огромное эстетическое значение и поэтому был закреплен, живо воспринят, расцвечен, разработан в греческой поэзии и прозе, интерпретировался философами и учеными на протяжении всей античности, доходя от чисто художественных образов до невероятно сложных и отвлеченных символических умственных конструкций.
В своей книге Лосев доказывал на основе собранных им бесчисленных текстов (недаром он любил кропотливую науку, классическую филологию), что мифомышление возникает на ранней ступени общины – родовой формации, когда на мир переносятся родственные отношения древнего человека (иных он не знает) и весь космос представляет собою одну огромную родовую общину, одно огромное живое тело.
Лосев ввел в отечественную науку получивший потом большое распространение термин «хтонизм», указывающий на первенствующую роль Матери-Земли в порождении ее первопотенций, сил, управляющих миром, это был мир архаической, доолимпийской мифологии, с ее фетишизмом (понимание всего неживого как живого), миксантропизмом (соединение животного и человеческого начал), тератоморфизмом, то есть миром чудовищных форм. Здесь звериные и человеческие начала были нераздельны, ибо человек сам не отделялся от природной материи и не ощущал себя как «я», как некую субстанцию, будучи только атрибутом этой материи. Поэтому превращаемость, оборотничество в пределах единого живого тела природы было одним из главных принципов архаического, доолимпийского, хтонического бытия. Этот хтонический мир основывался на таких «вечных законах», которые требовали «постоянных чудес и превращений, постоянных сверхъестественных совмещений и разъединений, рождений и уничтожений».[305]
Алексей Федорович обосновал периодизацию, связанную с переходом от материнской общины к отцовской, патриархальной, которая стала основой антропоморфной, классической мифологии, где господствовала олимпийская семья богов, победившая стихийных, рожденных Землей титанов.
Автором были учтены рудименты архаики в благородных антропоморфных олимпийских богах. Их страшное зооморфное животное прошлое сохранялось в классике уже не самостоятельно, субстанциально, но в качестве необходимых атрибутов. Так, например, змея стала атрибутом мудрой Афины, бывшей некогда змеей; Зевс стал владеть громами и молниями, будучи некогда небом, посылающим эти грозные силы; Дионис, украшенный плющом, – сам некогда растительный, фитоморфный фетиш; лавр Аполлона напоминал о его любви к древесной нимфе Дафне – лавру. Учтены были в архаике и ферменты, ростки будущей классической структуры мифов. Так, например, в мифе о сестрах-горгонах одна из них – Медуза – смертна, две другие – бессмертны, то есть здесь явно намечалось представление о бессмертии божественной силы. Ведь архаические, еще безымянные даймоны (демоны) составляли единое целое с предметом, в котором они обитали, и были, как и он, подвержены уничтожению.
В книге исследовался целостный исторический комплекс мифа, его множественная семантика во всей многозначности, от древнего оборотничества и фетишизма до изысканных и благородных форм, от безымянного и безликого демонизма к красоте умного героизма, уничтожавшего чудовищ и строящего жизнь на принципах меры, красоты, справедливости. Рассматривался там и закат героической мифологии, так называемые мифы о родовом проклятии, наложенном богами на дерзких героев и знаменующем конец живого мифологического развития, когда миф переставал быть верой в его непреложную реальность, в реальность чуда, а становился предметом поэзии и рефлексии.
Первые сто страниц книги А. Ф. Лосева, ее введение, явились сгустком теории, которая в дальнейшем исследовании полностью была реализована на двух мощных Олимпийцах – Зевсе Критском и Аполлоне, сыне Зевса и его сопернике.
Для нас было величайшей редкостью появление благожелательных рецензий на первые книги, на «Олимпийскую мифологию» и «Античную мифологию в ее историческом развитии». Это о Лосеве, вечно гонимом, вот чудеса!
Академик А. И. Белецкий в «Литературной газете» (1955, 4 июня) опубликовал большую рецензию «Новое о древних мифах», а В. В. Соколов в «Вопросах философии» (1958, № 10) выступил со статьей «Мифологическое и научное мышление». Потом и чудаковатый Г. Панфилов – в «Вестнике истории мировой культуры» (1959, № 3) почему-то на английском языке. Дальше пошли румыны, греки, поляки, венгры, чехи. Книгу, можно сказать, приняли.
После выхода книги (1957) никто уже не считал странным, что в «Философской энциклопедии» в пяти томах (1960–1970) были помещены не только философские, не только эстетические статьи Лосева (их целая сотня), но также огромная статья «Мифология» с изложением теорий мифа от античности до наших дней.
Когда стали готовить в 70-е годы энциклопедию «Мифы народов мира» в двух томах (1980–1982, 1-е изд.), Лосев принял в ней самое деятельное участие как член редколлегии, автор больших статей и как автор ведущей статьи «Греческая мифология». Проблема мифа в соотношении с символом, метафорой, аллегорией, художественным образом вновь, как и в «Диалектике мифа», была поднята Лосевым позже в книге «Проблема символа и реалистическое искусство» (1976, 2-е изд. – 1995), в собрании статей «Знак. Символ. Миф» (1983).
Разохотился Терехов и в 1960 году издал прекрасную книгу «Гомер», правда, несколько урезали ее, но издали тоже на хорошей бумаге, с иллюстрациями, схемами, чертежами, над которыми я старалась сама.[306] «Гомера» готовили с Алексеем Федоровичем тоже под Москвой, в Загорянке (ближе к конечной остановке Соколовской) по Ярославской дороге. Там, как оказалось неожиданно, друзья А. И. Зиминой сдавали отдельный маленький домик. Выгнала нас из этого места сырость, расстилавшаяся туманом к закату солнца. Жить было невозможно, несмотря на милых хозяев и клубнику, которой нас потчевали.
Отправились мы с Шуркой на следующее лето в соседнюю Валентиновку. Мне понравилось название – напоминало дорогую мне Мусеньку, да и Юлия Ивановна Самарина, мать профессора Р. М. Самарина и друг А. И. Белецкого, поселилась там и хвалила эти места. Бродили мы с Шуркой вдоль Полевой улицы и нашли симпатичный домик (Полевая, 16, поселок «За здоровый быт»), случайно после ремонта еще не сданный хозяевами, такими же, как и дом, уютными.[307] Старики-пенсионеры Севалкины, Михаил Митрофанович и Евгения Андреевна, без устали работали в огороде и в саду.
Кусты смородины и крыжовника, целое поле розовых и белых флоксов (цветы продавали), жимолость обвивает окна, выходящие в сад, скромная теплица с забавными огурчиками, помидоры – аккуратно подвязаны, в тени берез скамейка и столик. Тихо. Мирно. Петухов и кур нет. Огромное поле клевера перед домом, а там дальше деревушка, несколько разбросанных домиков. За домом дорога через глубокий овраг по деревянному мосту на высокую кручу с березовой рощей и одинокой скамейкой. Внизу едва течет медленная, мелкая, тинистая Клязьма. Бескрайние золотистые поля ведут в никуда, сколько ни ходи, не найдешь конца, и где-то вдалеке церквушка, тоже недостижимая.
Наша сторона, левая по ходу поезда, солнечная, в фруктовых садах и кустах ягод, с цветниками (хозяева возят цветы в Москву), а правая – вся в соснах, сумрачная, сыроватая, с какими-то загадочными тропинками. Зато у станции, на пеньках, чистые старушки со своим скромным хозяйством – яички, клубника, огурчики, и рядом магазинчик, где, к моему удивлению, можно купить любимые миндаль и фисташки, а так на полках пусто, и какой-то чудак парикмахер в маленькой будочке – вот и все хозяйство. Но нам и этого много.
У нашего Михаила Митрофановича каждый день можно купить и ягоды, и овощи. Он аккуратно взвешивает на весах, мерит стаканами, записывает в книжечку (когда-то, в 20-х годах, имел свое дело и жену возил в Крым, помнит землетрясение 1927 года). Одно удовольствие делать такие покупки, когда все сверкает от утренней росы, все живое, свежее, аккуратное.
Мы сидим под деревьями и работаем. Теперь голова занята «Историей античной эстетики», той, которая была когда-то в двух томах, погибла в бомбежку и теперь снова возрождается под пером Лосева. Привезли книги – Гомер, греческие натурфилософы, тексты, словари, ученые книги, снова нам везут книги в рюкзаках, но уже не Шурка, расстались с ней, ушла замуж, предварительно поскандалив. Я-то думала – ей лет 18, а оказалось 27 – годы подпирали. Тишина. Никто нас не навещает. И это хорошо, можно работать и быть на воздухе одним. Только слышно: «Миша», «Женя» – это перекликаются хозяева, работая в саду, собирая по соседству в канаве грибы, свинушки, или шишки и сухие ветки под деревьями. Хозяева рачительные, ничто не пропадает, все идет в дело, даже старый ржавый замок лежит в керосине недели две: вдруг пригодится, а печь топят мусором с участка, хорошие дрова укрыты под навесом, на крайний случай. А этот случай как-то странно не наступает уже целых девять лет, пока мы здесь живем с 1 июля по 15 сентября. Маленькие, закутанные в какое-то выцветшее старье – «прозодежду» супруги Севалкины, как трудолюбивые гномы, копаются целыми днями в земле и жарят какие-то подозрительные грибы, а то и навоз собирают на поле, конечно, рано поутру, раньше всех. Очень поучительная картина, как можно жить со вкусом, экономя, и незаметно, по капле, прибавляя к скудной пенсии кое-какой достаток. Нет, замечательные люди, у которых ничего не пропадает втуне. Такой замкнутый на себе хозяйственный цикл, ни в чем постороннем не нуждавшийся. Если идет дождь, а дышать хочется, Алексея Федоровича укладываю на раскладушку среди ароматных флоксов, укрываю его какими-то одеялами, клеенкой, плащами, над головой – огромный черный зонт, и под мелкий, сеющий дождичек лежи себе и думай, что там дальше продиктовать Азушке (так меня называли всегда он и Мусенька), что записать на маленькие листочки, сложенные в виде книжечки. Никаких записных книжек Алексей Федорович не признавал, все записывал на эти листочки для памяти, много их осталось, или в старые толстые тетради из сероватой бумаги, но зато основательные, которые хранят все доклады Лосева, начиная с 40-х годов, мои конспекты разных ученых трудов, наброски и записи, иные из них пронумерованы Мусенькой, даже оглавление составила. Она, как математик, любила делать работу удобной: например, ставила номера песен на каждой странице «Илиады» и «Одиссеи» в издательстве «Academia». Потом по этому образцу я проделала то же самое с «Илиадой» и «Одиссеей» в переводе Вересаева. До сих пор остались еще эти толстые тетради с чистыми страницами, ждущие, чтобы их заполнили. Напрасно. Никто уже не заполнит свидетелей довоенного лосевского ученого быта.
Времена менялись основательно. Ведь мы пережили знаменитое письмо Хрущева о культе Сталина, которое часа четыре читали в МГПИ им. Ленина и после которого никто не обмолвился словом и все прятали друг от друга глаза – привычка бояться и остерегаться каждого. Оказывается, близились 60-е годы, краткое время либерализации, и, конечно, начался сдвиг в издательской деятельности.
Алексея Федоровича пригласили писать статьи по философии, эстетике и мифологии в рождавшуюся пятитомную «Философскую энциклопедию» (1960–1970), которую возглавлял академик Ф. В. Константинов, известный деятель сталинского этапа в философии. Заместителем его оказался А. Г. Спиркин, он-то и был инициатором организации «Философской энциклопедии», давний тайный благожелатель Лосева.
Судьба А. Г. Спиркина в БСЭ была непростой. Он ведь бывший враг народа, которому, как и Лосеву, запретили заниматься философией, и он нашел выход в психологии.
Александр Георгиевич прошел со своей статьей «Мышление» по конкурсу в авторы БСЭ. Его статью, у которой был конкурент из Психологического института, поддержали академик С. И. Вавилов, глава БСЭ и его Ученого совета, и чуть ли не 30 академиков. Александра Георгиевича взяли на работу редактором по логике и психологии в БСЭ, не пуская дальше. Но когда Спиркина реабилитировали в 1956 году, а потом приняли в партию, путь для него оказался открытым. Тут он и предоставил в 1957 году развернутый план задуманной им «Философской энциклопедии» А. Зворыкину. Теперь за эту идею схватилось начальство БСЭ, привлекли Ф. В. Константинова как главного редактора и «щит» против любых нападок, а его заместителем сделали Спиркина. Он, в свою очередь, постарался привлечь достойных авторов, в том числе В. Ф. Асмуса, А. Ф. Лосева и молодых талантливых людей.
Надо сказать, что такие благожелатели, как Спиркин, ставшие друзьями, встречались не раз. Такими были М. Ф. Овсянников, или В. В. Соколов, или логик А. Чудов, а теперь, после 1956 года, число их стало удивительным образом увеличиваться, уже открыто, оттесняя погромщиков идеалиста Лосева, которые уходили в тень, пытаясь действовать исподтишка и большей частью неудачно, так как Лосев, вернувшийся в философию, эстетику, мифологию, становился авторитетом и даже модным.
Особенно тянулась к нему молодежь, как, например, Вячеслав Шестаков, пришедший по рекомендации В. Ф. Асмуса, чтобы Алексей Федорович дал ему отзыв о дипломной работе. Многие годы Слава Шестаков был вблизи Алексея Федоровича и даже познакомил нас с Петром Васильевичем Палиевским и Эвальдом Ильенковым, у которого мы самозабвенно слушали Вагнера. Но в конце 70-х соблазнился на более официальные авторитеты, и мы вынуждены были с ним расстаться с печалью, ведь и он в свое время помог через Нонну Шахназарову напечатать «Античную музыкальную эстетику» Лосева в 1960–1961 годах. Слава понимал и любил музыку. И даже способствовал выходу «Истории эстетических категорий» (1965), написав туда ряд глав, внимательно обсужденных с Лосевым. Ничего не поделаешь, слаб человек, не каждому по плечу научный аскетизм и требовательность Лосева. Но все это еще впереди.
А. Г. Спиркин, зав. редакцией 3. А. Каменский сделали все, чтобы дать Лосеву возможность написать 100 статей для «Философской энциклопедии», многие из которых превышали размеры в несколько раз. Лев Степанович Шаумян – зам. председателя научного совета «Советской энциклопедии» – очень внимательно относился к бывшему опальному профессору.
Это благодаря Шаумяну вышел так называемый «макет» для общественного обсуждения (которого, конечно, не было) статьи по неоплатонизму, Платону, пифагорейцам, всем когда-то закрытым, забытым и даже проклятым марксизмом-ленинизмом именам. Не желая ущемлять выдающегося автора «Философской энциклопедии», Шаумян разрешил полностью напечатать отдельно все лосевские статьи, сократив их до необходимого размера в основных томах. В 1995 году А. Яковлев издал в своем издательстве «Мир идей» этот замечательный макет, но уже выправленный от многих опечаток, с дополненной мной библиографией, со статьей 3. А. Каменского, с письмами Лосева, Асмуса и Шаумяна, проясняющими ситуацию, под названием «Словарь античной философии».[308]
Там, в «Философской энциклопедии», Алексей Федорович участвовал в конкурсе на статью «Диалектическая логика» под девизом «Москвич». А. Г. Спиркин рассказывал, какой ужас объял Константинова, когда он, прочитав статью под девизом «Москвич» и восхищаясь ее автором, «этим бойким парнишкой» (ну прямо комсомолец), открыл конверт и обнаружил имя старого идеалиста Лосева. Соломоново решение было простое – премию Лосеву выдать, статью назвать «Логика диалектическая» и отнести ее подальше, к тому же поделить ее между отдельными авторами, оставив Лосеву только историческую часть, да и то не всю.
Алексей Федорович с большим энтузиазмом писал статьи для «Философской энциклопедии». Но приходилось постоянно себя обуздывать. Хочется писать подробнее, полнее, высказать много мыслей, что накопились за десятки лет, но нельзя – размеры не дают. Лосев выработал такой лаконичный и вместе с тем точный стиль статей, что можно только удивляться огромной их информативности и вместе с тем сжатости. Редакторы, конечно, тоже старались: страница – 1800 знаков, выходить за пределы нельзя. Однако Лосев очень своеобразно выходил за пределы. Увлекаясь, он писал большую статью, которая перерастала в книгу, и не в одну. Так родилась книга «Проблема символа и реалистическое искусство» (1976), неоплатонические статьи в «макете», превратившиеся в целые тома ИАЭ – VI, VII, VIII. Бывало, Алексея Федоровича подговаривал кто-либо из друзей: «Пишите больше, пригодится для будущих книг». Так, инициатором серии огромных неоплатонических статей был профессор В. В. Соколов. Он вместе с М. Ф. Овсянниковым начал нас посещать после смерти Сталина. Овсянников сразу отставил свой пессимизм, перестал пить, защитил докторскую и стал вести огромную организационную и научную работу в Институте философии. Михаил Федотович был добрым человеком и часто пропускал, по слабости характера, слабые диссертации. Алексей Федорович его укорял: «Миша, ну что ж ты такую дрянь пропустил». Он, оправдываясь: «Ну, Алексей Федорович, есть ведь пятерочники, а есть и троечники, что поделаешь». Глядя на него, защитился и В. В. Соколов. Оба они приходили меня поздравлять с докторской к нам на Арбат, и я угощала их котлетами.
Приходилось спорить и с 3. А. Каменским, с которым мы были в самых дружеских отношениях, и с Юрием Поповым, тогда совсем молодым, а позже и с Наумом Ландой, но все это было совсем на другом уровне, время безграмотных партийных редакторов прошло, и можно было надеяться, что тебя поймут и даже сделают уступки. Бывало, Лосев хватался за ленинские работы как последний аргумент: «Вот Ленин Аристотеля считает и материалистом, и идеалистом, то и другое находит сразу в нескольких его фразах, а вам подавай или то, или другое». Но большевистский порядок побеждал (уже и сами редакторы не рады ему, они мыслят свободно; стремятся к независимости). Если вы перелистаете эту замечательную энциклопедию, то увидите, как каждая статья из отдела персоналий начинается с сакраментальной дефиниции – материалист или идеалист.
Возврат в философию, хотя бы и античную, работа над античной эстетикой, мифологией требовали знания новейшей научной литературы. Библиотек явно не хватало.
Открылась возможность выписывать научную литературу из-за границы через Академию наук. Алексей Федорович и я (с 1959 года я стала доктором филологических наук), мы имели на это право, но денег в валюте давали мало. Спасибо многим нашим знакомым людям – философам-марксистам и филологам, которые выписывали на свои имена книги для Алексея Федоровича, иной раз даже не подозревая, кому эти книги идут. Но ведь книги шли на пользу дела, и совесть наша была спокойна. Очень помогал А. Г. Спиркин, знакомый со множеством людей и особенно с академиками-марксистами, которым никакая выписка иностранных книг не была нужна, языков они не знали, наукой не занимались, но зато наукой руководили. Весело получать книги, выписанные якобы академиком П. Ф. Юдиным (доброжелателем Лосева в 30-е годы) или академиком Ф. В. Константиновым, который не задумываясь подписывал заявки, полагая, что это надо для Спиркина или для редакции «Философской энциклопедии». В эту игру включались иной раз заядлые сталинисты, известные в университете партийные деятели, от науки далекие, а подмахнуть заявку по просьбе друзей ничего не стоило. Так Лосев снабжался новейшими, часто многотомными изданиями. Иной раз руководство Книжного отдела хваталось за голову (оказывается, очень многие шли по такому пути), наводило порядок, а потом все возобновлялось и я или кто-нибудь из молодежи, как доверенные лица, ходили получать охапки книг. Деньги-то все равно за всех вносил профессор Лосев. Постепенно ряды доброхотов редели, старики умирали, но приходили на помощь новые люди, а потом в Книжном отделе так привыкли к Лосеву, что председатели комиссии, утверждавшей списки, разрешали Алексею Федоровичу выписывать больше, чем положено, и добрейшая Анна Даниловна Гейко, знавшая, несомненно, о разных невинных хитростах, всегда трогательно помогала получить всю необходимую литературу. Да, теперь этот замечательный отдел закрыт, валюты у Российской академии наук нет, книги выписать нет возможности, самого Лосева двадцать лет как не стало, и все его «снабженцы» тоже ушли в мир иной. У меня сохранились все списки и фамилии наших невидимых доброхотов или видимых, но не подозревавших о своей благотворительной деятельности в пользу старого идеалиста Лосева.
С «Философской энциклопедией» связан скандал, разыгравшийся с V томом, где столь много статей по богословским проблемам, написанных Сергеем Аверинцевым, и где впервые за десятки лет напечатана статья об о. П. Флоренском.
Сережа Аверинцев учился на классическом отделении университета, был там аспирантом и защитил диссертацию по Плутарху, когда я принимала дела от профессора А. Н. Попова и начала заведовать кафедрой в 1962 году. Сергей любил музыку, почитал Вагнера, русских символистов, его влекли совершенно запретная стихия византийской духовной поэзии, проблемы богословия. Он прекрасно знал древние языки и новые, интересы его непосредственно совпадали с тем, что когда-то увлекало молодого Лосева. Отсюда и возникла близость между Лосевым и Сергеем, который пришел не один, а со своим другом-германистом, знатоком Хайдеггера и музыки, Сашей Михайловым. Оба они стали посетителями лосевского кабинета, где за овальным столом вели беседы на самые для них актуальные темы, а я поила их чаем и прислушивалась к разговорам о различии католицизма и православия. Оба уже читали книгу Лосева 1930 года «Очерки античного символизма и мифологии», где есть замечательные страницы (в конце книги) с апологией православия и критикой католичества с философско-богословской стороны. Можно ли было тогда подозревать, что эти разговоры за чаем будут иметь большие последствия?
Последствия сказались на всей дальнейшей жизни обоих молодых людей. Оба философствовали в богословии и музыке, стали тонкими ценителями изысканной поэзии, для обоих немецкая культура была родной почвой, с ее романтиками, Гёте, музыкой, философией, старой и новой.
Скандал же был из-за Ленинской премии, которую лелеял получить Ф. В. Константинов за издание «Философской энциклопедии». Но подвел V том, знаменитый богословскими статьями, ловко пристроенными туда молодыми авторами и молодыми редакторами с полного одобрения опытного А. Г. Спиркина, умело обходившего диктатуру академика Константинова, который полагался на своего зама с полным сознанием своего собственного непонимания новых идей философии, – лишь бы политики не касались. Но и он в конце концов понял, что его, грубо говоря, провели «рыжий поп» (как он в пылу негодования обзывал Спиркина) и спрятавшаяся за его спиной молодежь. По иностранным «голосам» стали дискутировать о Ленинской премии Константинову и «избранным» лицам, выискали факты из прошлой деятельности Федора Васильевича. Страсти кипели, Спиркину трепали нервы, грозили отставкой, но последний, V том «Энциклопедии» вышел, и отставки бояться было нечего, так как Александр Георгиевич имел прочное место в Институте философии. В годы войны сидел он в одиночке на Лубянке, претерпел пытки, унижения и клевету, вышел закаленным бойцом, стал известным ученым, доктором наук, имя которого знают за рубежом. Пришлось Константинову примириться. Наступили другие времена, сталинские динозавры марксизма-ленинизма уходили в небытие.
Пишу, и становится грустно. Далеко Сергей Аверинцев – почтенный академик РАН, в Вене читал курс русской литературы. Там и умер в 2004 году после тяжелой болезни. А Саша Михайлов еще раньше, осенью 1995 года, скончался как-то очень быстро, хотя все мы видели, что он стал по виду совсем другой. «Это не я, это моя тень», – сказал он, посетив меня с моей племянницей Леночкой на Арбате и получая в подарок очередной том Лосева. Талантливый был человек Саша Михайлов, тонкий, благородный, чистая душа, искавшая высшую истину, скромнейший и застенчивый, защищавшийся от жизненных бед иронией любимых немецких романтиков. Ах, как тяжело терять такого друга. Царство ему небесное! Прав, как всегда, Пушкин: «Иных уж нет, а те далече». Грустно. Я сижу одна на даче у А. Г. Спиркина (где уже пребываю лет тридцать) и под раскаты июльской грозы, под мурлыканье белой кошки – Игруньи, почти «некошки», пишу эти строки, вздыхая, а на втором этаже Александр Георгиевич, тоже один, сочиняет главу «Философия чуда» в очередную книгу.
Скандал со статьей Ренаты Гальцевой, которая теперь – пожилая важная ученая дама, а тогда, в 1969 году, была еще неопытным, молодым, но отважным человеком и редактором (редактор – это ведь почти нечеловек) «Философской энциклопедии». Недавно я напомнила А. Г. Спиркину, как интересно начиналась статья о Флоренском.[309] П. А. Флоренский родился в семье служащего; мать – армянка. Правда, любопытная логическая ошибка? В ответ мне Александр Георгиевич в свою очередь ехидно напомнил о некоем сыне юриста и русской: логика та же самая. Заварил кашу Павел Васильевич Флоренский, старший внук о. Павла, возмущенный статьей, которую сначала поручили писать ему и П. В. Палиевскому, а потом инициативу переняла Рената Гальцева. Павел Васильевич обратился за помощью к Лосеву, памятуя о давнем знакомстве молодого Лосева и намного старше его о. Павла. Читал он и послесловие к книге Хюбшера «Мыслители нашего времени» (1962), постепенно разбираясь в портрете о. Павла, нарисованном Лосевым впервые за годы советской власти, что, кстати, привело к большим неприятностям у Алексея Федоровича в издательстве «Иностранная литература».
А. Г. Спиркин собрал совещание редакции у нас дома на Арбате, в кабинете Алексея Федоровича. П. В. Флоренский записывал скорописью все выступления. Я находилась в столовой и слышала только громкие голоса, нервный разговор, даже «ненормативную» лексику главы совещания – терзали Ренату, а потом наступила тишина и слышался только спокойный голос Алексея Федоровича, который преподал всем урок объективного подхода к творчеству о. Павла. Речь эта тоже была записана Павлом Васильевичем, и все присутствовавшие впервые услышали человеческие слова (а не злобные вопли), старательно разъясняющие роль о. Павла в русской философии и науке. Разгоряченные и, надо сказать, смущенные вышли участники совещания из кабинета, а Лосев порадовал их видом только что вышедшего второго тома его «Истории античной эстетики».
Статья в «Философской энциклопедии» приобрела вполне пристойный вид, и страсти постепенно улеглись. Однако в Ренате Гальцевой почитатели и исследователи о. Павла нашли в дальнейшем постоянного оппозиционного критика.[310]
Стали печатать А. Ф. не только в «Философской энциклопедии», но и в «Вопросах языкознания», что особенно ценил Лосев, работавший над книгой «Введение в общую теорию языковых моделей» (вышла в 1968 году). Он в эти годы изучал структурные методы в лингвистике, выписывал из Тарту «Труды по знаковым системам», издаваемые Ю. М. Лотманом. А. Ф. захватывала идея объединения классической и структуральной лингвистик. И вот тут-то он сблизился с членом редколлегии журнала, выдающимся, европейского масштаба, ученым-лингвистом – профессором Э. А. Макаевым, знатоком русского Серебряного века, его поэзии и искусства, прекрасным пианистом, обладателем завидной библиотеки. Разве могу я забыть дружеские встречи за нашим вечерним столом, ученое общение, торжественные речи на разных языках, новых и древних. Подлинное пиршество духа!
В эти же годы посещал нас известнейший структуралист С. К. Шаумян (кузен Л. С. Шаумяна).[311] Оба, Лосев и Шаумян, вели замысловатые беседы. А позже появился и лингвист Ю. С. Степанов (будущий академик), молодой, блестящий ученый (тоже станет печатать Лосева в академическом журнале), с которым у А. Ф. установилось тонкое взаимопонимание.
Там же, в Валентиновке, писали мы с Алексеем Федоровичем учебник по античной литературе, выдержавший уже семь заметно улучшенных изданий. При его подготовке тоже настрадались, так как в этот учебник, пользуясь знакомством в издательстве «Учпедгиз», влезла известная Н. А. Тимофеева, прихватив с собой Г. А. Сонкину и Н. М. Черемухину под прикрытием идеи пользы коллективного учебника, а не двух родственных авторов. Не знаю, что бы мы стали делать с Алексеем Федоровичем, впору было отказаться, но жаль проделанной работы. Мириться со всеми несуразицами, прямыми ошибками, устаревшими установками было невмоготу. Тогда я обратилась за помощью к академику А. И. Белецкому.
Александр Иванович сдержал свое обещание, данное мне после защиты кандидатской. Он был одним из моих оппонентов на докторской в 1958 году; теперь чувствовал себя неважно, хотя откликнулся на мою просьбу – дать развернутый отзыв об этой злосчастной рукописи. Отзыв разразился в издательстве как гром среди ясного неба. Сколько ошибок, сколько устаревших и теперь просто смешных вещей обнаружил он при внимательном чтении, какой разнобой в стиле этого навязанного нам коллектива.
Александр Иванович пришел к выводу, что все должен отредактировать и исправить один человек. Таким человеком он назвал меня. К этому времени я работала в университете на должности профессора кафедры классической филологии и ее заведующей. К словам Александра Ивановича издательство не могло не прислушаться. Скандал получился бы серьезный. Кроме меня, никто не взялся бы за столь тяжелую работу, и издатели решили поставить мое имя на титуле, указав общую редакцию профессора А. А. Тахо-Годи и тем самым снимая с себя ответственность за все неполадки. Так в 1963 году этот учебник и вышел. Мне пришлось еще три раза его менять, дополнять, исправлять. В 1986 году, когда заболел Алексей Федорович, вышло 4-е, исправленное издание. В дальнейшем я снова обратилась к этой книге (7-е изд., 2005), хотя, признаться, учебников вообще не люблю. Она пользуется популярностью среди студентов многих вузов, хотя предназначалась для пединститута. Идей же чисто лосевских в ней много. Некоторые из них, в частности по римской литературе, о Вергилии и Овидии, предвосхитили научные труды не только наших, но и зарубежных ученых (аффективность и драматизм Вергилия, декоративность, живопись и краски Овидия и связь с современным ему искусством). И это в обычном учебнике. Надо только уметь им воспользоваться.
Почему каждый выход в печать то ли статей Алексея Федоровича, то ли книги сопряжен с какими-то трудностями? Ничего не дается просто, хотя все страшно уважают и даже почитают профессора Лосева. Ну что там небольшая статья о Платоне в одном из сборников, который неутомимый Павел Сергеевич Трофимов из Института философии готовил в издательстве «Наука». Пригласил он туда нас обоих.
Хороший был человек Павел Сергеевич, тоже благожелатель Лосева, хотя и великий спорщик, особенно когда нас посещал. Большой рост, плотный, широкий, он как-то сразу занимал много места. Наивный человек, занимался эстетикой Древнего Египта, не будучи профессионалом в египтологии, читая в переводах то немногое, что было. Конечно, специалисты встречали все это с усмешкой. Любой профессионал в той или иной области всегда с презрением смотрит на дилетанта. Он прав. Не зная языка, невозможно охватить круг идей и понятий, войти в жизнь, быт, культуру. Но при советской власти, где гуманитарные науки подавлялись или должны были принимать удобную для ЦК партии форму и направление, многим ничего не оставалось, как заниматься любительством. Так называемые красные профессора, по-моему, были самые несчастные люди. Ими когда-то гордились, и они чувствовали себя на высоте науки, осененной знаменем марксизма-ленинизма. А когда стала исподволь неизбежно подниматься настоящая наука, тут они сникли. Поспорить с новым поколением не могли, не было знаний и сил, а руководить хотели. Печальная картина в философских дебрях.
Нам нравился Павел Сергеевич. Он сознавал свое несовершенство, но хотелось забраться в гущу древности, усмотреть там истоки каких-то поздних форм. И он приходил к нам попросту, побеседовать, поспорить, услышать Алексея Федоровича, поучиться у него. Сам он хорошо знал цену настоящей науке и, будь другие времена, многое сделал бы. С ним-то мы ладили и горевали, узнав о его безвременной смерти (он страдал от высокого давления), налетевшей как-то внезапно. И семья у него была хорошая, жена, дочь, которая кончала вуз с французским языком, а потом ездила в Париж по каким-то научным делам.
Но вот редактор, которого ему приставили для сборника из «Науки», был тяжелый случай. Ездила я не раз в Подсосенский переулок, в редакцию. Алексей Федорович сам, конечно, никогда не ездил (физически не мог), принимал дома, но эта особа считала себя столь важной, как же, Академия наук и какой-то подозрительный профессор, что я, как человек молодой или казавшийся таковым, сама приезжала на так называемые спорные вопросы. Боже мой! Что это были за спорные вопросы. Я видела, что передо мной сидела самодовольная крашеная особа, ничего не понимающая в нашей науке. Выражать чувства – ни в коем случае, моя задача – растолковать невежде, буквально показать на пальцах, что Платон – это пустяки, сама простота, сплошная телесность, всюду материальные тела. Мне надо доказывать, что идеализм тут совсем хороший, ну, подумаешь, Платон чего-то не понимал, и вполне подпадает под ленинское определение «умного идеализма». Думаю, что Алексей Федорович бы не справился с такой воинственной глупой дамой. Завершилось все благополучно. Статья «Эстетическая терминология Платона» – первая ласточка, еще не делающая весны (1961), но все-таки ее провозвестница. Не совсем обычную фамилию (в ней звучало что-то мрачное) дамы я запомнила – Мораф.
Платон был совсем не случаен. Лосев готовил первый том «Истории античной эстетики» – «Ранняя классика», где было учение пифагорейцев о геометрических телах, близкое платоновскому.
С этим томом тоже произошел казус. По старой памяти, когда в канун войны решалась судьба той, давней «Античной эстетики» Лосева в издательстве «Искусство», Алексей Федорович решил обратиться туда и переговорить с зав. редакцией эстетики В. М. Мурианом. Мы поехали вдвоем. До того времени, когда директор К. Долгов станет называть на редсоветах Лосева «нашим классиком», было далеко. Пока все оказалось слишком прозаично. В издательстве, на Цветном бульваре, в темном дворе, в доме с темной лестницей и какими-то фанерой перегороженными закоулками, почти в полуподвале сидел зав. редакцией эстетики, который, недолго думая, объявил, что такой науки – античная эстетика – не существует и печатать он предлагаемый труд не может. По-моему, это было при мне единственное посещение Лосевым издательства с предложенной готовой книгой.
Алексей Федорович понадеялся, что старые времена прошли, что наступил новый период. Тем более в «Вопросах эстетики» напечатаны две его замечательные статьи о калокагатии и канонах. Но там в редколлегии был А. А. Сидоров, большой ученый, выдающийся знаток книжной графики, искусства вообще, совсем не чуждый эстетике, хорошо знавший Алексея Федоровича еще в 20-е годы, в ГАХНе. А. А. Сидоров – человек осторожный – несмотря на другое время, рисковал, печатая Лосева. Для него античная эстетика, как и любая другая, была реальностью, но ведь и биография Лосева – тоже реальность. С малоприятными фактами этой биографии была некогда связана судьба родного брата Алексея Алексеевича, известного священника о. Сергия Сидорова,[312] погибшего в репрессиях 30-х годов. Ни Алексей Алексеевич, ни Алексей Федорович словом не обмолвились о прошлом, оба молчали, делали вид, что занимаются только античной эстетикой. Но как дружески оживлен был Алексей Алексеевич, приехав вечером к нам на Арбат. Как похвалил меня за мой вкус, за картины А. Мещерского и Альберта Бенуа и за цвет ковра, за убранство стола и посуду (мы только сделали в 1961 году основательный ремонт в квартире после 20-летнего перерыва). Чувствовался тонкий эстет и живой, дружелюбный человек, непосредственно выражавший свое мнение. И мы с Алексеем Федоровичем посетили дом Сидоровых, один из коттеджей (их строили немцы где-то у Беговой), где так тепло и душевно нас приняли хозяева. Правда – о главном, что связывало двух человек, многие годы не встречавшихся, никто не произнес ни слова. Я узнала о судьбе о. Сергия сначала от Алексея Федоровича, потом от нашего друга С. В. Бобринской, а потом от дочери о. Сергия Веры Сергеевны, жены Н. Н. Бобринского, со слов которой я записала ряд фактов.
Да, а в издательстве «Искусство» первый том лосевской эстетики не приняли. Выручили молодые люди, Слава Шестаков и Юрий Бородай, которые протолкнули через друзей этот том в виде учебного пособия в издательство «Высшая школа». Сколько было радостных волнений, когда готовили книгу, подбирала я иллюстрации, орнаменты из редких иностранных альбомов, так, чтобы скрывалось в этих завитушках, бутонах и едва распустившихся цветах нечто символическое – рождение эстетики. Но, увы, издательство бедное, бумага серая, плохая, оставили только несколько традиционных иллюстраций (даже толковых подписей не сделали), а от орнаментов для форзаца и следа не осталось, только одна завитушка на переплете, да и та какая-то судорожно сжатая.
И еще одно происшествие – Юра Бородай, молодой редактор и автор предисловия (глава из его диссертации, не очень связанная с книгой), вдруг решил сократить том и вынул из него десятки страниц. Алексей Федорович, не вытерпев, вызвал Юрия, явилась и жена Юрия, Пиама Гайденко (с тех пор мы сблизились), молодой философ большого ума и красавица. Оба, Алексей Федорович и Пиама, набросились на бедного Юрия, который после горячих споров пообещал все страницы опять поставить на место. Но всегда бывает легко вынуть, а вернуть обратно – трудно. Читая внимательно этот том, мы с Алексеем Федоровичем хорошо видели какие-то странные провалы в тексте, для посторонних глаз не очень заметные. В общем, подпорчен оказался этот труд – как говорят, первый блин комом. Но и то великая радость, вышел I том, а ведь Алексей Федорович уже вовсю работает над вторым, не подозревая, что книг этих будет ровно десять, а томов восемь и что рождается новое «восьмикнижие», которое растянется на целых тридцать лет и станет делом жизни.
Радостно было многие годы встречаться с Пиамой и Юрой Давыдовыми (Пиама и Ю. Бородай расстались) и дома на Арбате, и на даче в «Отдыхе», уже у А. Г. Спиркина. Любила я слушать философские беседы Алексея Федоровича и Пиамы. Как весело экзаменовал он ее по «Критикам» Канта и как задорно она включалась в ученую игру! Слушать и смотреть – испытываешь эстетическое наслаждение от глубины и блеска ума, от внутреннего понимания собеседников, когда один, как бы случайно брошенный намек уже рождает понимание и стремительный ответ. Более прекрасной философской беседы, более тонкого интеллектуального спора я никогда не слышала. Слабым отзвуком этой игры прозвучали слова Алексея Федоровича на конференции по средневековой культуре в университете, когда он при переполненном огромном зале вдруг воскликнул, обратившись к докладчице: «А ну-ка ответь, Пиама, мне на такие вопросы». И Пиама, уже солидный, всеми признанный ученый, со свойственной ей серьезностью отвечала, порадовав Лосева, которому не так давно исполнилось 90 лет. Сколько вместе пережито (особенно 1968 год – советские войска в Праге) и какие тяжелые последствия тянулись за Пиамой и Юрием Давыдовым. Но они все выдержали, докторские защитили, книги издавали, всегда имели свое мнение и Лосева не забывали. Последний раз в нашем старом доме видела я ее сквозь слезы на заупокойной службе у гроба Алексея Федоровича. Каменной стояла Пиама (парастас длился долго), скорбно сосредоточенная.
Это была ее последняя встреча с Алексеем Федоровичем. Лосева не стало, и не стало приходов и бесед за вечерним чаем.
Во второй половине 60-х годов задумали издавать Платона, Полное собрание сочинений, что указывало явно на либеральное отношение властей к закоренелым идеалистам, пусть и древним. К нам домой пришел зав. редакцией издательства «Мысль» (бывший Соцэкгиз), что для Лосева было так же удивительно, как и сам Платон. Обсуждали вопрос о составе издания под редакцией Лосева и Асмуса. Именно так потом стояло на титуле, без правил об алфавите. Лосев – главный и первый знаток Платона, все это сознавали, и Валентин Фердинандович уступил ему первое место.
Но пять томов не получилось. Помешал донос в ЦК КПСС (в это время уже не было ЦК ВКП(б) – великий прогресс!), причем злые языки называли не главного доносчика Иовчука, а какого-то будто интеллигентного философа, делающего карьеру. Тот или другой донес, но ЦК КПСС решил – хорош будет Платон и в трех томах, а издательство слегка перехитрило ЦК и выпустило три тома в четырех частях, каждая часть как том (1968–1972). Но все-таки обкорнали Платона, причем решили отделаться самыми ранними и недостоверными диалогами, чтобы урона претерпеть меньше.
Через много лет, чуть ли не в 1986 году, издали отдельный том «Платон. Диалоги», куда вошли ранние диалоги и диалоги платоновской школы, чтобы восполнить собрание. Прошло несколько лет, и за 1990–1994 годы появилось новое собрание сочинений, уже не только под редакцией Лосева и Асмуса, но и моя фамилия стояла на титуле. Томов было четыре, причем первый – огромный томина, как целых два. Теперь уже весь русский Платон со стихами, с приложениями платоновской школы – все собрали.
Тогда же обсуждали со всех сторон, привлекли прекрасного редактора и переводчика, университетского филолога-классика С. Я. Шейнман-Топштейн, о которой давным-давно как об очень способном человеке рассказывала мне профессор М. Е. Грабарь-Пассек. Теперь все мы пережили свою молодость, но и опыта и знаний набрались, так что Сесиль Яковлевна надолго стала нашим сотоварищем в изданиях Платона. Ни Алексей Федорович, ни она второе полное собрание не увидали. Обоих не стало. Но как-то ко мне в кабинет в университете пришла симпатичная девушка, смутно напомнившая Сесиль Яковлевну. Оказалось, что это ее внучка, Лена. Я видела ее совсем маленькой на даче, в соседней Ильинской (теперь эта дача исчезла – сожгли), откуда Сесиль Яковлевна и ее супруг приходили к нам в гости. Лена просила разрешения посещать мои лекции. Так она ходила два учебных года на мифологию и на греческую литературу вместе со своим спутником, приятным молодым человеком – оба студенты Института международных отношений. Восприняла я Лену как некий привет от покойной Сесили Яковлевны, знак, что не забыла меня.
Так вот началась горячая работа, с проверкой текстов, с переговорами, – молодые переводчики большею частью упрямы.
Алексей Федорович работал над множеством статей, подробным философским анализом и логическим изложением сюжетов, очень полезным для читателя. Один огромный диалог отдан был Асмусу – «Государство». Валентин Фердинандович написал большую статью, но сюжетной схемы делать ему не захотелось, кропотливо и нудно. Так и осталось «Государство» без удобного для читателя анализа сюжетной достаточно сложной линии. В новом издании этот недостаток устранили.
Однако самое главное – вступительная статья о творчестве Платона и с его оценкой. Работал Алексей Федорович со страстью. Как же, столько лет без Платона, а здесь сошлись во времени II том ИАЭ «Софисты. Сократ. Платон» и собрание сочинений – какая радость для Лосева, который путь свой начинал с Платона. Статья вышла великолепной. Никто после Вл. Соловьева не писал так живо, заинтересованно о драматической судьбе философа. Какая мощная фигура вышла из-под пера Алексея Федоровича, особенно когда он пишет о воздействии Платона на мировую философию, вплоть до современности. Один перечень заставляет склониться в признательном поклоне. Но так думает нормальный человек. У запуганного официального чиновника наши восторги рассматриваются с другой точки зрения – как бы чего не вышло.
Собрались в редакции обсуждать лосевскую статью под председательством нового зав. редакцией, специалиста по индийской философии, В. С. Костюченко.
Много сидело народа, в том числе и В. В. Соколов, и, как потом выяснилось, А. В. Гулыга, и молодой тогда Давид Джохадзе. Была зима. И ледяной холод в словах Костюченко, который, несмотря на молодость, начал выискивать в статье дух идеализма. Как же, Лосев, значит, все возможно. Но ошибся молодой человек. Времена не те, народ осмелел, и Лосев не даст себя в обиду. Помню, как встал Алексей Федорович во весь свой могучий рост и как стукнет палкой об пол. И начал крушить Костюченко так, что пух и перья летели, да еще подкрепляет свои слова ленинскими цитатами – никуда не денешься. Ленин сказал – баста. Лосев на предмет споров и обвинений всегда имел в запасе такие высказывания классиков, которые даже не все знали, и применял их к месту. В борьбе с критиками этот метод здорово помогал, боялись противоречить.
И вдруг берет слово А. В. Гулыга, уже тогда в философии авторитетный. Боялись его и за острую мысль, и за острый язык. Спуску прихлебателям не давал, не выносил лжи. Человек высокообразованный, своих философов – немцев, Канта, Гегеля, Шеллинга – знал наизусть. В отличие от других все читал в подлинниках, блестяще знал и говорил по-немецки. Арсений Владимирович, можно сказать, пропел дифирамб статье Лосева, все поставил на свои места, даже привел простой, но удивительный факт, как он дал соседу по квартире, чтобы проверить впечатление читателя, статью Лосева (ее раздавали членам редколлегии серии «Философское наследие») и в какой восторг пришел этот совсем не ученый человек, какие важные достоинства отметил он в статье. А. В. Гулыга поставил точку в прениях. Статью одного идеалиста о другом идеалисте приняли.
Лосев же за последующие годы так приучил советских читателей и издателей к Платону, что Платона стали называть, посмеиваясь, «нашим советским идеалистом» и даже с каким-то оттенком любования. Вот мы-де какие передовые. Даже отпраздновали 22 мая 1973 года в Институте философии АН СССР 2400 лет со дня рождения Платона, «великого древнегреческого философа». Так и сказали. Выступил А. Ф. с докладом «Мировое значение Платона». Были доклады Ф. Кессиди, В. В. Соколова, И. Д. Рожанского, молодого Сергея Аверинцева. За столом президиума сидела я рядом с А. Г. Егоровым, академиком, официальным главой эстетики в пределах АН (когда-то мы учились вместе в Пединституте им. Либкнехта, он – на курс старше и был близок к Б. А. Грифцову) и с нашим другом А. А. Аникстом. Заседание осенял мраморный бюст Платона, добытый с большими трудами. Вот до чего дошли, виданное ли прежде такое событие? Сборник выпустили, правда, в 1979 году, где А. Ф. написал статью «Платоновский объективный идеализм и его трагическая судьба». Меньше чем на трагедию Платон рассчитывать не мог.
С обсуждения Платона завязалось наше знакомство с Арсением Владимировичем, большими друзьями стали мы. Не раз в трудных случаях помогал Алексею Федоровичу советом и делом Арсений Владимирович, писал о нем, агитировал в философских и литературных кругах, приобретал новых почитателей Лосева.
Но вот сообщили мне на дачу, что скончался Арсений Владимирович. Позвонила его жена, Искра Степановна, передала о своем горе и просила меня помолиться о покойном. Господи! Опять потеря невыносимая. Череда потерь: Юрий Кашкаров, Г. К. Вагнер, Саша Михайлов и теперь Арсений Владимирович. Куда же все уходят, как оставляют нас? Только и надеешься на их помощь оттуда.
Наконец вышел в издательстве «Искусство» второй том ИАЭ. Все произошло благодаря Александру Ивановичу Воронину (Саше Воронину в обиходе), который стал заведовать редакцией эстетики и взял на работу симпатичных молодых людей – Юрия Даниловича Кашкарова, Сергея Михайловича Александрова, Галину Даниловну Белову, подрабатывал там и Александр Викторович Михайлов, появился чуть позже Владимир Сергеевич Походаев, был одно время Барабанов, но за диссидентство его быстро убрала администрация. Все они для нас, конечно, Юры, Сережи, Гали, Саши, Володи и таковыми остались навсегда. Сам Саша Воронин – вот новый удивительный образец советского чиновника – понимает Лосева, душа добрая, бесхитростная, а глаза синие, о таких только читала и, глядя на него, поняла очарование густой синевы, в которую нельзя не влюбиться.
В делах же Воронин предусмотрителен, деловит, его высоко ценят в верхах, проходимцев и лжи не терпит. На всякий случай он заранее заготовил и подписал с Алексеем Федоровичем ряд договоров на будущие тома ИАЭ. И был прав. Его повысили по службе, потом отправили в Чехословакию на издание международного печатного органа (по-моему, «Проблемы мира и социализма»), а там он не выдержал лицемерия и насилия советских властей. Душа не стерпела, и, напившись вдребезги (для русского человека пьянство – протест), под Новый год дал он себе волю – нахулиганил. Говорили, что бутылкой из-под шампанского разбил стекло какой-то высокопоставленной машины или написал обломком бутылки на ветровых стеклах важных машин у подъезда заветное русское слово из трех букв. Так или не так, не могу утверждать. Знаю только, что душа его не выдержала и протестовал, как мог. Срочно отправили в Москву, проработали, наказали, но, как номенклатуру, оставили, дали новое место на кормление, главный редактор издательства «Изобразительное искусство», а потом – и того больше – заместитель главного редактора издательства «Мысль». Там уже, в конце 70-х, я с ним встретилась, когда думали печатать громадный труд Алексея Федоровича о символах. Сидел он при открытом летнем окне, в синей рубашке, смотрел ласково синими глазами, все готов был сделать. Потом как-то внезапно заболел тяжело, оказался рак, и умер бедный Саша Воронин. Погубила его советская жизнь. Оказалось, что душа этого человека была не только доброй и простой, но еще и хрупкой.
Спасибо этому нашему благожелателю и помощнику, с его помощью, но уже без него, при других заведующих, пошли следующие тома ИАЭ, кончая восьмым.
С Юрой Кашкаровым крепко сблизились, знали о его непростых отношениях с матерью, Елизаветой Федоровной, о его любви к бабушке (по отцу), о казачьих ее корнях, о родных Юрия, оказавшихся в эмиграции в Соединенных Штатах, в Австралии, о его родственных связях с Г. К. Вагнером, выдающимся искусствоведом, который двадцать лет отбыл в лагерях, а потом прославился своими реставрациями знаменитых соборов во Владимире и как знаток русского искусства, древнего и нового. Юра по образованию был историк, он жил прошлым, видел в нем своих предков, усиленно восстанавливая выкорчеванное советской властью генеалогическое древо своей семьи. Знаниями обладал богатыми, все переплетения родовых ветвей знал наизусть, дружил с людьми «бывшими», пострадавшими, пережившими крушение своих усадеб, имений, близких, но сохранившими память о прошлом, которое так горячо любил Юрий. Он-то нас и познакомил с семьей С. В. Бобринской, внучки Антонины Николаевны Трубецкой, сестры братьев князей Трубецких, Сергея и Евгения, выдающихся деятелей русской культуры. Юра мог бесконечно разбирать родственные связи Марии Алексеевны Бобринской, урожденной Челищевой, и ее супруга, покойного профессора Николая Алексеевича, доводя его родословную до императрицы русской, матушки Екатерины, и восхищаясь тем, что сам Алексей Степанович Хомяков – по прямой линии предок нынешнего Алеши Бобринского, сына Софьи Владимировны.
А то он приходил с рассказами об еще одной замечательной женщине, Анне Васильевне, вернувшейся из лагерей. Анна Тимирева (по первому мужу), Книппер (по второму), дочь знаменитого русского музыканта, дирижера Сафонова (родом донского казака), возлюбленная адмирала Колчака. Юру умиляла твердость молодой красавицы до последней минуты быть рядом с любимым, слышать, как его повели на расстрел, передать ему последнюю записочку, быть верной его памяти. Он хранил какие-то старинные бумаги, рукописи, документы, необходимые для его собственных сочинений, которые тщательно скрывал. О большом писательском даре Юрия узнали мы позже, когда он в 1977 году неожиданно для всех эмигрировал за границу, очутился в Соединенных Штатах (там доживали век две его двоюродные бабки, одна – на востоке страны, другая – на западе), познакомился с Романом Гулем, издателем «Нового журнала», основанного в войну русскими эмигрантами, перебравшимися из Европы в Штаты. Сначала как член редколлегии, а после смерти Р. Гуля полноправным главным редактором издавал Юра этот интересный журнал. Тогда, в начале 90-х, он выпустил наконец свою книгу «Словеса царей и дней», которую я прочитала дважды, сначала, как говорят, запоем, а потом медленно, внимательно, не желая отрываться ни на минуту, и поняла, какого прекрасного русского писателя мы потеряли. Вставала живая Русь,[313] от жизнеописания святого Исаакия из Киево-Печерской лавры, через Смутное время, к нашей, не менее смутной и запутанной жизни. Вспомнил в этой книге Юра о своем паломничестве на Афон, мечтал он поселиться там, остаться навсегда (и мне об этом говорил), но не успел – умер. А Лосева в «Новом журнале» успел напечатать: и «Диалектику мифа», и повесть «Метеор», и статьи к 100-летию Алексея Федоровича, и даже стихи. Печально – вышли они уже после смерти Юрия. Но слово сдержал – напечатал. Умер Юра на аэродроме, отправляясь в Москву, сознавая, что умирает. Приготовил место для могилы рядом с бабушкой на даче в Сходне, даже плиту с надписью положил, оставалось число поставить. Все предусмотрел. А как рада бывала я, встречая Юру солидным издателем у нас на Арбате и на кладбище 24 мая у Алексея Федоровича с начала 90-х. Кто думал, что проживет так недолго. А он это даже предугадал.
Почему-то все друзья-издатели считали, что Лосев закончит свою эстетику на VI томе. Пришел к нам Юрий однажды вечером, стянул с головы вязаный колпак, уселся и стал говорить об отъезде «туда». «А как же ты меня покидаешь!» – горестно воскликнул Алексей Федорович. «Ничего, – ответил Юра, – это еще не скоро. Вот завершим работу с VI томом и уеду». Уехал он раньше, чем вышел том, но действительно все подготовил. После его отъезда стала распадаться дружная компания в редакции. Ушел Сережа Александров, ушла Галина Даниловна, уже стал известным и не подрабатывал там Саша Михайлов. Остался один абориген – Володя Походаев, тихий, скромный, всеми покинутый. Как же – том VI вышел, можно хоть редакцию закрывать. Не знали еще, что предстоит длинная история с VII и VIII, каждый в двух книгах. Но это в будущем, до которого мне пока не добраться.
Большие изменения произошли в институте, где работал Алексей Федорович. Там закрыли кафедру классической филологии, которой после ухода Н. Ф. Дератани заведовала Тимофеева. В конце 50-х годов она попыталась изгнать Лосева и лишила его всех курсов, но, как я уже писала, мы обратились к академику М. Б. Митину и в конце концов Лосеву вернули штатное место. Работать ему пришлось на кафедре русского языка, куда перевели и Тимофееву после закрытия кафедры. Заведовал там старый знакомец профессор И. Г. Голанов (бывший арестант, как и Лосев). Алексей Федорович влачил жалкое существование, занимаясь греческим и латинским с аспирантами кафедры.
Группа приходила к нам домой, занятия начинались в шесть вечера. До этого, с двенадцати или часа дня, Алексей Федорович работал над своими книгами до пяти часов. Спал он, как всегда, плохо, со снотворным, вставал поздно, не раньше 11, засыпал под утро, не от снотворного (оно давно не помогало, но он его пил, увеличивая дозу), а просто от усталости изнемогший организм все-таки засыпал. Мешали сну мысли, все надо было продумать к приходу так называемого секретаря, которому Алексей Федорович диктовал за ночь обдуманное прямо набело, так чтобы можно было отдать машинистке.
Заниматься с аспирантами он любил и свои занятия вел артистически, живо, весело, сообщая столько и такие сведения, которые аспиранты ни от кого не могли получить. Он разработал курс сравнительной грамматики индоевропейских языков, куда входили санскрит, греческий, латинский, старославянский. Вот когда пригодились давние курсы, изданные профессором Поржезинским. Но мы следили за наукой и выписывали из-за границы новые пособия, учебники, исследования, чтобы быть во всеоружии. Понимая, что часы ограничены, Алексей Федорович соорудил интересные и полезные таблицы, где вся система склонений была продумана до мелочей, постепенно дополняясь, исправляясь и уточняясь. Таких таблиц накопилось много, так как надо было раздавать ученикам и все время их обновлять. Они принимали все более громоздкий характер, так что в каждой клетке можно было найти сразу ответ на все вопросы. Исправление и переписка таблиц происходили до последних дней Алексея Федоровича. По-гречески занимались по грамматике Соболевского, делали 42 параграфа до глаголов, латинский – по Попову, для заочников. Это было большим подспорьем аспирантам, так как преподавание шло с упором на проблемы сравнительного языкознания. Но все-таки для Лосева это была детская игра, не для его размаха. Курсы античной литературы, которые он читал на литфаке и деффаке, сокращались, забрала эти часы Тимофеева, еще сохранились кое-какие семинары по античной литературе и ее связям с русской и зарубежной, студенты любили их, делали доклады, писали прекрасные работы (некоторые у нас сохранились), но и это постепенно ликвидировали.
Не знаю, чем бы кончилось пребывание Алексея Федоровича в МГПИ имени Ленина, если бы не настоящий переворот, происшедший в начале 60-х. Министерство слило два пединститута – Городской и МГПИ имени Ленина. В конце войны с МГПИ слили Пединститут имени К. Либкнехта, так что в Москве осталось только два – МГПИ имени Ленина и Областной пединститут имени Крупской, где с 1949 по 1958 год проработала я, перейдя в 1958 году в Московский университет.
В институт пришли новые люди. Главное же – пришел известный профессор Иван Афанасьевич Василенко, деятельный, энергичный, с живым умом, чутко понимающий новые задачи науки. Не знаю, каков он был раньше, но здесь повеяло свежим ветром. На все кафедры факультета языка и литературы пришли новые люди, и чтобы никого не обижать, открыли новые кафедры – две кафедры литературы, две кафедры языка; о других факультетах не знаю, но там тоже должно было многое измениться, так как Городской институт имел сильную профессуру. Так, профессор Василенко стал заведующим кафедрой общего языкознания, а кафедра русского языка оставалась, как была прежде. К себе на кафедру Иван Афанасьевич сразу перевел Алексея Федоровича, но заодно и латинистов – Тимофееву и Сонкину, которые тихо сидели, зубря со студентами элементарную грамматику, и не смели ни в какие дела кафедры вмешиваться.
На страже интересов Ивана Афанасьевича стояла его вторая жена Ирина Матвеевна (первая – скромная и ученая дама, тоже языковед, скончалась) в должности зав. кабинетом и старшей лаборантки. Ирина Матвеевна – веселая, всегда оживленная, по сравнению со своим мощным супругом (он был поистине огромен) казалась воробушком, но характер имела твердый. На кафедре царил строгий порядок во всех делах. На первом месте стояла наука, и здесь Иван Афанасьевич стал верным союзником Лосева. Алексей Федорович, собственно говоря, на первых порах один начал разрабатывать проблемы теоретические, общее языкознание; он делал лицо кафедры своими работами, которые уже начал печатать в разных сборниках.
Василенко тотчас же дал Алексею Федоровичу руководство аспирантами. Это требовало времени, умения выбирать темы, разработки. Я всегда поражалась, как Алексей Федорович работал со своими подопечными, как из русских глаголов с приставками, из суффиксов и, казалось бы, ничем не примечательных служебных словечек он сумел делать нестандартные диссертации, действительно отвечавшие на вопросы общего языкознания. Среди первых аспирантов были Нина Павлова, Рита Михайловна Трифонова, Ирина Андреева.
Они были не только ученицами, но и многолетними друзьями. Давал Алексей Федорович темы по истории языкознания. Так, одну из аспиранток он направил на изучение грамматики Барсова (XVIII век). Работа оказалась настолько плодотворной, что, когда пришло время издать в Академии наук замечательный труд Барсова, его поручили бывшей диссертантке Алексея Федоровича.
Иван Афанасьевич буквально заставил Лосева участвовать в конкурсе института на так называемую Ленинскую премию и выставил на конкурс «Общую теорию языковых моделей» (1968), труд примечательный, один из результатов длительной работы Алексея Федоровича над проблемами структурализма, которыми он начал заниматься и заодно критиковать, изучая тезисы всех конференций, все тартуские сборники и множество исследований. Книга Лосева получила премию.[314]
Более того, Василенко охотно отпускал Алексея Федоровича на научные Всесоюзные конференции по классической филологии, где Алексей Федорович мог общаться с ученым миром. Он становился известен благодаря большому количеству печатных работ, с ним начинали считаться филологи-классики, которые от него раньше открещивались как от философа.
Так, мы ездили летом 1966 года совершенно замечательно (вместе с Ольгой, нашей домоправительницей) в Киев. Там на конференции филологов-классиков познакомились и подружились с зятем Симона Георгиевича Каухчишвили, патриарха грузинской классической филологии, ученика Дильса, двадцатидвухлетним Рисмагом Гордезиани (теперь уже выдающийся ученый); его Алексей Федорович защитил от нападок всегда готового на критику профессора В. Н. Ярхо. Познакомились с Ираклием Шенгелия и Александром Алексидзе (из знаменитой семьи режиссеров, художников, актеров), другом Рисмага. Он занимался византийской литературой, и я через много лет была в Тбилиси оппонентом на его докторской. Бедный Алик: сначала скончалась неожиданно его жена, прекрасная пианистка, а потом, также скоропостижно, и он, оставив сиротой маленького сынишку.
В Киеве встретились с Н. С. Гринбаумом (я потом оппонировала на его докторской), с его другом В. В. Каракулаковым (умер в расцвете сил), с петербуржцами Н. А. Чистяковой (муж ее Н. Н. Розов, замечательный знаток древнерусских рукописей, родственник знаменитого диакона времен патриарха Тихона, Константина Розова), Н. В. Вулих, И. М. Тройским и многими другими. Но главного нашего друга А. И. Белецкого уже не было в живых, и Киев с моими давними сердечными воспоминаниями померк. Все миновало. Все умерли – и Булаховский, и Гудзий, да и мой дядюшка Леонид Петрович – все вместе. Учились они в Харьковском университете. Ушли прелестница Нина Алексеевна (первая жена Андрея) и ученая скромница Татьяна Чернышева (вторая жена). А ведь мы с Андреем летом 1966 года ходили под окна родильного дома, чтобы хоть мельком увидеть Таню с младенцем Машенькой. Умерла Таня, покинутая близкими, и Андреем, и Машей (уже взрослой), остались только ученики. В 1995 году не стало и самого Андрея Белецкого. Умер, заранее передав (что-то уже предчувствовал) свою великолепную библиотеку кафедре классической филологии Тбилисского университета, ее заведующему, профессору Рисмагу Гордезиани. Так окончились счастливые времена.
Через несколько лет, в 1968 году, отправились мы на такую же ученую конференцию (опять-таки вместе с Ольгой Собольковой) теплым южным октябрем в Тбилиси.
Там встретили Алексея Федоровича с триумфом, началось паломничество в гостиницу (тогда лучшую) «Сакартвели», завтраки, ужины, приемы, все это помимо заседаний. Солнечно, тепло, ласково, изобильно – любимый Кавказ и хлебосольные грузины, готовые все показать, все отдать, всем доставить радость. Куда нас только не возили: и в виноградную Кахетию, с древними храмами, одинокими среди бескрайних равнин, открытыми для всякого врага (а сколько их шло с востока). Там, в Икалто, храм, опоясанный колоннадой портиков, где монахи-ученые, не хуже древних афинян, беседовали под мерный всплеск водомета (мы собирали на дне его, ныне сухом, опавшие листья и цветы – на память). Там, в Икалто, ужас охватывает от беззащитности человека. На горизонте встает мощно, величаво суровый Кавказский хребет, тот, что отделяет Чечню и Дагестан от блаженного юга. Когда я смотрела на эти одетые синеватой дымкой громады, становилось нечеловечески одиноко. А каково же было им, мудрым насельникам монастырей, в зеленых долинах Кахетии, один на один с грозным врагом. Он ведь спускался с круч, переходил любые границы. С севера – горцы, с востока и юга – турки и персы.
В старинной усадьбе князей Чавчавадзе, откуда наибы Шамиля увезли через тропы над бездной княжескую семью (и тогда брали заложников), эта незащищенность Кахетии ощущается особенно остро. Чувство неизбежной обреченности до сих пор памятно мне, не могу забыть увенчанную снегами каменную громаду хребта, не преграду, а вечную угрозу ласковым и беспечным виноградным долинам.
Не знаю, что было важнее для меня, сидеть на ученых докладах или, забыв все временное, погрузиться в созерцание вечности – туманные горы, там, где небо сходится с землей, осеннее мягкое солнце, синева высей, запахи листьев, цветов, ветра, настоянного на вольных травах, неясные шорохи среди развалин, холодный ручей под столетним орешником. Золотые шары мандаринов (их еще не убрали), гранаты, налитые алой кровью, лиловые кисти собранного винограда. Среди всего этого приволья запомнился в развевающемся коротком пальто (выехали мы по холодку, рано) Акакий Владимирович Урушадзе (его тоже нет, умер от рака, уступив место зав. кафедрой молодому Рисмагу). Легким, изящным взмахом руки приглашает он, как гостеприимный хозяин, насладиться запахами земли в буйном цветении и видом древнего храма. Акакий Владимирович отдыхает. Всю дорогу он опекал нас, занимал беседами, рассказывал, как бывалый гид, кормил в придорожных магазинчиках (духанах? харчевнях? – нет, все не то), щедро расплачиваясь своим кошельком. Ну как же грузин позволит угощаться гостю за свой счет? Даже если этих гостей около полусотни. И человека уже нет на свете, а все вижу среди зеленого раздолья эту фигуру в черной крылатке. Так и жизнь пройдет, а преизобилье вечной красоты останется. Какие уж тут дискуссии и доклады, хоть и без них нельзя.
Запомнилось мне посещение знаменитого Ладо Гудиашвили – художника, хорошо известного в Европе и почти неизвестного на родине – очень уж самостоятелен и властям не кланялся.
В память о нем висит у меня дома загадочная символическая гравюра с надписью, сделанной при мне, – тоже графическое произведение искусства.
В огромной и высокой дворцовой зале маэстро, живой, с горящими глазами, казался особенно сухощавым, худеньким и небольшим на фоне картин ярких, каких-то переливчато-светящихся, буйно красочных, среди торжественной пустоты (здесь не было места отвлекающей мебели) – только изящный старинный стол (черное дерево, мрамор, золото), окруженный креслицами. Здесь этот вызыватель духов вместе со своей молчаливой (вся в черном), улыбчивой супругой угощает персиками, свежайшей ароматной чурчхелой и чаем в золотых причудливых чашечках.
Ладо Гудиашвили предстал перед нами как сказочный хранитель сокровищ в заколдованном замке. Ведь на первый взгляд его дом ничем не примечателен – старый тифлисский дом со скрипучей деревянной лестницей, а внутри – пиршество красок в дворцовой зале; они не уступают древним драгоценностям, что показывал молодой, красивый, романтический Звиад Гамсахурдиа вместе со своим другом, тонким пианистом, Мерабом Коставой.
Музыкант погиб через несколько лет при загадочных обстоятельствах, Звиад – свергнутый президент Республики Грузия – тоже не менее таинственно.
Сколько выпито, сколько речей сказано за пиршественными столами в кахетинскую нашу поездку и на последнем прощальном торжестве. Чувство общего ученого содружества объединило нас, не было забытых и отвергнутых. Какое-то горячее счастье охватило всех. Надолго ли, думалось в предотъездные часы. Но действительно, в людях что-то сдвинулось, развилось нечто простое, доверчивое, человеческое в отношениях друг с другом. Именно там, в Тбилиси, закрепилась дружба с нашими грузинскими друзьями – Шалвой Хидашели, Нико Чавчавадзе, Денезой Зумбадзе и ее другом, скульптором и художником Идой Тварадзе, семьей Каухчишвили, Рисмагом Гордезиани, Аликом Алексидзе, Ираклием Шенгелия, Акакием Урушадзе, Мари Пичхадзе, Писаной Гигаури и многими другими. Там же мы сблизились с И. М. Тройским, которого еще до этого я ездила поздравлять в Ленинград с юбилеем от нашей кафедры, что тогда было новостью и дружеским актом. Личное общение ничем не заменить. Тогда же в Ленинграде я познакомилась с профессором-историком Древнего мира Ксенией Михайловной Колобовой. Чего только ей не наговаривали о Лосеве! А как только ее пригласил в гости Моисей Семенович Альтман (сам пришел к нам в Москве знакомиться), – оба они ведь ученики Вяч. Иванова,[315] – так расстались мы с Ксенией Михайловной друзьями, и Лосев занял прочное дружеское место в ее окружении. Мы потом по ее просьбе с особым удовольствием участвовали в рукописном сборнике в честь М. С. Альтмана, человека выдающихся знаний, мифолога, символиста, поэта.
Вот что значит настоящий заведующий кафедрой, который понял место Лосева и всячески укреплял его. Позицию Ивана Афанасьевича в институте поняли сразу, и факультет обернулся к Алексею Федоровичу совсем иначе, чем прежде, когда клевету распространяла Тимофеева. Декан С. И. Шешуков оказался в самых дружеских отношениях, причем искренне, раньше боялся парткома и Тимофеевой. Даже И. В. Устинов, в деканство которого меня изгоняли с факультета, теперь стал добрейшим, этому способствовала и его молодая жена Татьяна, занимавшаяся в аспирантской группе Лосева и принимавшая нас в гостях вместе с И. А. Василенко и другими «китами» факультета.
Задумал Иван Афанасьевич к 75-летию Алексея Федоровича великое дело – юбилей. Бедный Лосев никогда юбилеев не отмечал, хотя все вокруг, начиная с 50 лет, праздновали круглые и полукруглые даты и наперебой приглашали Алексея Федоровича на торжественные заседания, зная, что Лосев пришлет умную телеграмму, а то и речь произнесет, к удовольствию всех, по-латыни или по-гречески. Алексей Федорович прекрасно сочинял речи на этих языках в самом наиклассическом стиле, памятуя молодость и своего учителя И. А. Микша (вот уж он-то был бы доволен учеником), и слушатели бывали в восторге от самого произнесения слов, интонаций, артистизма. Алексея Федоровича понимать не понимали, но знали, что хвалит, этого было достаточно.
Заранее разослали сотни две приглашений с портретом Алексея Федоровича, еще предвоенным. Алексей Федорович не фотографировался, поводов не было. Это потом, когда стал совсем знаменит, снимали бесконечно. Суетились аспиранты, покупали в полном секрете подарки, писали адреса. Мы, признаться, не ожидали настоящего праздника. А он был действительно. Народу в самой большой аудитории тьма, речи произносят неофициальные, чувствуются искренность, уважение, любовь. Людей не узнаешь, как изменились, студенты в восторге, такого настоящего торжества, не внешнего парада, а от души идущего, никто здесь никогда не видел. Уже гремит неистовый Феохар Кессиди, уже Гулыга произносит речь, меча кое в кого стрелы, уже В. А. Карпушин что-то говорит о гамбургском счете в философии, а не об официальных наградах. Когда же вдруг появились грузины и Ираклий Шенгелия (Боже, какая его настигнет смерть через много лет! а чай, подаренный мне, – останется) преподнес традиционный кавказский бурдюк с вином, а сверху по ступеням, вся в черном бархате, с крестом на груди спускалась Денеза Зумбадзе – ликование охватило зал.
В окружении друзей, цветов, подарков отправились мы домой, чтобы потом несколько вечеров подряд принимать ответно почетных гостей дома и потчевать их.
Ученица Алексея Федоровича по гегелевскому семинару в университете А. А. Гарева, приглашенная на юбилей, вспоминает: «И вот в конце 1968 года впервые после долгого молчания заговорили вслух о Лосеве – когда отмечали 75-летие Алексея Федоровича.
На расширенном заседании Ученого совета факультета русского языка и литературы МГПИ им. Ленина собрались видные ученые из многих институтов и научных учреждений Москвы. Были прекрасные речи и официальные поздравления. Было сказано много теплых, добрых слов в адрес юбиляра.
Впервые открыто, громогласно чествовали Лосева! Но хотелось, чтобы о Лосеве знали не только старые философы, логики, филологи и молодые студенты и аспиранты-филологи. Хотелось, чтобы о нем узнала вся страна, народ. Для этого нужно было рассказать о Лосеве в прессе.
Я воспользовалась своим знакомством с Сергеем Наровчатовым, который тогда входил в редколлегию «Литературной газеты», получила согласие одного из ученых Московского университета написать статью об Алексее Федоровиче (статья была помещена под псевдонимом[316]). Теперь это кажется невероятным, но тогда еще опасались говорить громко о Лосеве: Наровчатов боялся говорить о Лосеве в своем служебном кабинете, он вышел со мной разговаривать в коридор. И наконец, через полгода, довольно сдержанная (иначе нельзя было) статья об Алексее Федоровиче появилась в газете в середине лета 1969 года. В то время это было событие!»[317]
Для Лосева юбилей – событие небывалое. Оказывается, есть люди, которые не скрывают, прямо говорят о его подвиге, подвиге ученого и человека. А что министерство награждает при этом юбиляра в 75 лет значком почетного учителя – так это же их тупость. Еще не настало время, когда и они, мертвые, пробудятся. Всему свое время. С тех пор я стала собирать все атрибуты юбилеев. Их будет еще два, 85 лет и 90. На память от первого у меня засохшие розы от роскошного букета, подаренного А. Ч. Козаржевским. Они до сих пор, пополняемые другими, стоят у меня в старинном, еще Соколовском, кашпо. А Андрея Чеславовича уже давно нет на свете.
Вскоре отпраздновали 70-летний юбилей Ивана Афанасьевича, пировали в «Праге» (там была без А. Ф. я одна), лились речи и вина, подносились подарки, и среди них подсвечник (они входили тогда в моду) с тотчас зажженными свечами. Свечи так ярко пылали, огонь рвался во все стороны, его с трудом погасили, но знатоки мрачно шептали – нельзя дарить такие подарки, свеча гаснет – жизнь уходит. Что же вы думаете? Иван Афанасьевич неожиданно заболевает гриппом, высочайшая температура, ничего сделать нельзя. И этот великан, человек удивительной физической мощи, гибнет через три дня. Так остался Алексей Федорович без своего благодетеля. Но установленный им порядок остался незыблем. Профессор А. Н. Стеценко, а затем молодой еще тогда И. Г. Добродомов (тоже сидел аспирантом за нашим большим столом) всегда соблюдали интересы профессора А. Ф. Лосева.
Особенно радостно встречали мы Новый, 1970 год. Может быть, потому, что наши старинные друзья еще живы, а некоторые, новые, еще не покинули пределов страны, да и у Алексея Федоровича намечается будущее. Все собрались вместе. Как читала стихи Магдалина Брониславовна Властова! Замечательная женщина, поэтесса, художница, человек драматической судьбы (кто за нашим столом вне драмы?). Дочь выдающегося русского биофизика Б. Вериго, соратника Менделеева и Бекетова (имение его Веригино рядом с Шахматовом и Бобловом – остались развалины фундамента, заросшие кустами сирени, рассказывала Магдалина Брониславовна), профессора Новороссийского университета в Одессе. Брат А. Б. Вериго – выдающийся физик, да еще один из первых наших воздухоплавателей. Магдалина Брониславовна – жена друга лосевского по гимназии, биолога, профессора Б. В. Властова. Но судьба сложилась так, что гордая Магдалина Брониславовна (польское наследие), никогда никого не просившая и навеки устрашенная большевиками (была одно время в городе, захваченном Колчаком, брат Сергей – белый офицер, погиб), вынужденно замкнулась в четырех стенах и работала, осознавая невозможность печатания. Умерла Магдалина Брониславовна сто двух лет с полной ясностью ума, оставив бесценное наследие трех архивов – своего, отца, брата, – картины (училась в Париже), стихи, мемуарную прозу.[318] Так вот, читала Магдалина Брониславовна свои стихи, а я – греческие (попросил Алексей Федорович), Марина Кедрова – английские, Иетса, вместе с мужем Юрой Дунаевым (его молодого ждет трагический конец) пели что-то симпатичное, французское, подпевали им Женя Терновский и Жаклин Грюнвальд (Женя – давно во Франции, профессор, а Жаклин – монахиня, матушка Анна в православном монастыре в Бюсси). Как счастлив был Алексей Федорович, управляя всем нашим новогодним собранием, слушая стихи, песни, музыку – Юра играл на лютне. Мы сидели с сестрой Миночкой тоже счастливые – редкий случай: зимой – и вместе. Как всех разметало время, безжалостное оно.
Хожу по аллее на даче А. Г. Спиркина и все посматриваю на столик под кленами. Там многие годы, сидя в качалке, занимался и писал Алексей Федорович. Поглядываю, но никогда там не сижу. Не потому, что там большая тень и мне трудно читать, а потому, что больно даже и посматривать. Пусто под кленами. Качалка давно лежит в Москве на антресолях,[319] другую, маленькую, никогда не беру. Сплю здесь на кровати, на которой спал Алексей Федорович, и всегда тяжело и плохо. В Москве я никогда и не пыталась перебраться в его кабинет, там его место, там его пустое кресло и стол, заваленный книгами, изданными мной после его смерти.
Не смею я там находиться. У меня свой угол, своя с 1961 года комната, когда уехали так называемые друзья, Яснопольские, и мы сделали ремонт.
Удивляюсь, как это я пережила такой разгром? Как сейчас перед глазами картина: вся большая комната завалена книгами, посередине свободен только стол и мы вдвоем за ним. Как своими руками я освобождала в столовой все шкафы, чтобы можно было их передвинуть, как каждую книгу ставила на свое место. В моей комнате сделали огромный, до потолка, во всю внешнюю стену шкаф, где книги одна за другой в три ряда. И все своими руками. Помощников не было, да я бы тогда и не доверила. Сколько сил требовалось, но молодость – великое дело, она спасала, хоть особенной силой я никогда не отличалась, но когда входила в раж, то остановить невозможно. Так и книги читала ночами, так и работала, так и с ремонтом справлялась. Он же длился месяц. И среди всей этой внешней неразберихи сидел и методично работал каждый день за книгами Алексей Федорович.
Да еще мы умудрялись смеяться и шутить, особенно когда маляр, попивая кефир и стоя на высокой стремянке, меланхолично повторял: «Деньги у каждого есть. Но, как сказал Сухово-Кобылин, никто не знает, где он их прячет». В день много раз мы слушали эту сентенцию якобы Сухово-Кобылина. Почему он? Почему маляр? Забавная была публика, вроде главного подрядчика большой бригады безалаберных, ловких, хитроватых работяг, знающих, правда, свое дело. Обсуждая вопрос о нише в моей комнате, этот себе на уме дядька все приговаривал: «Сделаем мишу, сделаем мишу». А то из какой-то булочной приволокли двери – к столовой подойдет, здоровая дверь. А то из какого-то привилегированного дома, где подрабатывали по сантехнике, приволокли большую новую ванну, тоже подойдет по росту профессору. Интересная публика. Тягаться с ними мог только замечательный и положительный Иван Дмитриевич Чикинев со своей Анной Кузьминичной, которые в 1981 году, через 20 лет, делали нам ремонт – тоже целый месяц, а потом стали нашими друзьями-помощниками. Иван Дмитриевич все грозился: «Выкинуть надо эти ящики» (это он про старинные шкафчики), «выкинуть надо все эти книги», а сам аккуратно так работает, чтобы, не дай Бог, не повредить красоту шкафчика (сам их не раз чинил) или случайно задеть книгу. Нет уже Ивана Дмитриевича, умер от инсульта, добрый, заботливый, человек честный, умелый русский мастер.
Нет, в кабинете Алексея Федоровича мне не бывать. У меня свой угол. А там Леночка. Ее не связывают горькие воспоминания десятков лет, шаги, голоса, книги, бумаги, каждый листик, исчерченный уже совсем непонятными, но его, дорогими для меня каракулями, хоть и она написала воспоминания недавно, глядя как бы взглядом маленького ребенка, которого привезли на дачу, где для нее открылся особый мир. Воспоминания со стихами ее к нему и от него к ней, с забавным письмом его к ее маме, моей сестре Миночке. Плакала я, читая эти болью в душе отдающиеся слова. Но все-таки это рядом с Лосевым, и не всегда, не ежечасно и ежеминутно. А я удивляюсь, как еще живу на свете без него. Может быть, дело спасает, которым он жил. Без дела и меня нет, а так мы опять вместе. И даже замечать стала, что жесты мои похожи, руку протягиваю к чашке тоже так, сижу на кровати, беру часы со стула среди ночи, все – так же, сижу, подперев голову левой рукой, как он, по ступенькам дачи спустилась и по аллее хожу, как будто мы вместе идем и, как всегда, считаем шаги, сто восемьдесят или двести двадцать, если прихватить еще кусочек, слева от дома, и потом, смотря какие шаги.
Вот и подошла я к сладким воспоминаниям, что берут начало в последней трети 60-х и переходят в настоящее, сегодняшнее.
На дачу в Валентиновку как-то приехала к нам М. Н. Спиркина, привезла какие-то бумаги от Александра Георгиевича, шла ведь непрерывная работа в «Философской энциклопедии». К слову сказала, что собираются они покупать дачу. Зимой 1961 года сидит в кабинете Алексея Федоровича сам Александр Георгиевич, рассказывает о даче. Трудно им живется в Москве, в проходной комнате чуть ли не полуподвала старого дома. Дача в «Отдыхе», напротив города Жуковского, рядом с Кратовом. А, да ведь там Лосевы провели чуть ли не три года после уничтожения своего гнезда, наезжая в Москву и устраивая новую квартиру. Места знакомые. Но ведь мы-то в Валентиновке целых девять лет. Спиркин же соблазняет. Дачу подняли из руин (все дело рук его брата, замечательного мастера Ивана), расплачиваться надо. Деньги занимал у Ф. В. Константинова – тут живет, неподалеку, и дачу сосватал. Деньги нужны, сдавать надо на лето; а может быть, Алексей Федорович и в долг даст тысяч эдак шесть? Может быть, и вдвоем обживать и достраивать дом? «Нет уж, – сопротивлялся Алексей Федорович. – Я и с московской квартирой едва справляюсь. Правда, Аза?» – Это ко мне. «Конечно, конечно». – «Нет, ты уж сам хозяйничай, а мы у тебя будем снимать на лето, раз такие ты обещаешь чудеса». Действительно, вода в доме, ванна есть, «удобства» тоже, отопление, в каждой комнате батареи, газ пока в баллонах, а скоро и настоящий проведут. Мы не могли устоять, соблазнились и покинули скромный домик в Валентиновке, где рачительный хозяин приходил к нам каждое лето подписывать договор, сначала 3 тысячи за лето, а потом 300 рублей, все, как положено. Где каждый день овощи и ягоды домашние, но все прелести дачные тоже как положено – колодец, летом вода едва сочится в тоненьких трубах, деревянный домик – «удобства» в конце участка по тропинке, и холодно уже в августе, отапливаемся электрической плиткой (хозяева экономят даже шишки и мусор). Но зато после поездки в Москву на распродажу цветов подносит мне чайную розу Gloria Dei – никто не купил, все равно уже не продашь, скоро завянет – все рассчитано: и дело надо делать, и удовольствие доставить своим постояльцам.
Прощайте, маленькие хозяева маленького домика в Валентиновке. Спасибо за приют и привет. Мы были здесь, несмотря ни на что, счастливы среди аромата флоксов и вьющейся жимолости. Прощайте, прогулки в березовую рощу, прощайте, овраг и мостик, одинокая скамейка над кручей, церквушка недосягаемая и даже чудная клубника «виктория» в Болшеве, в мире, где все полно воспоминаний детства.
Эти места действительно счастливые, для меня в особенности. Лет тринадцати туда, в Болшево, к нашим друзьям, Склярским, к любимой моей Наталии Ивановне с Ией и Ариком, отправили меня родители. Отец уехал в Мацесту и Кисловодск, Мурат – в Дагестан и Владикавказ, к дедушке Петру Хрисанфовичу Семенову, отцу матери, а мама с младшими – в московской квартире.
В Болшеве приятный большой деревянный дом, теперь уже не помню, в какой стороне и на какой улице, но не близко от станции. Дом – настоящая прежняя дача, комнат, наверное, шесть, все разные, какие-то друг на друга непохожие, интересные, окна в сад, в густоту сирени, в тень. В одной ничего нет – только огромный ковер, в другой – мы с Наталией Ивановной, а есть еще девочка Лютик, маленькая, дочь знакомых, тоже на лето здесь, при ней няня, у нас домработница. Веранда открытая, полукругом, ступени в сад, где я сделала клумбы для цветов, выложив из дерна инициалы любимой Наталии Ивановны. За домом хозяйственные постройки, сараи, старинный ледник с настоящим льдом, где хранить можно продукты, где лежат бутылки с вином, с шампанским (на всякий случай). В углу сарая гора старых книг, романы Станюковича, совсем не о морях, а о чиновничьей петербургской жизни, скучнейшие, еще Боборыкин и пресловутый Шеллер-Михайлов. Кошмар. Я это понимаю. Но там же и дореволюционный «Журнал для женщин», целые ворохи. Вот чудо. Сколько картинок, мод, советов, как остаться красивой и какие цвета носить в старости. Я запомнила – белый и желтый; как принимать гостей, накрывать на стол, смягчать кожу лица и рук. Боже, сколько вырезок делала я (благо никому эти журналы не нужны), сколько записывала – ничего не пригодилось и все куда-то исчезло. Запомнились статьи и письма в месяц объявления войны в 1914 году. Какие патриотки наши знаменитые актрисы – Яблочкина и балерина Гельцер, как они ненавидят немцев и жаждут победы. Замечательный журнал. С тех пор я научилась рисовать женские ножки в умопомрачительных туфлях и фигурки в балетных нарядах.
От калитки к дому длинная аллея среди темных сосен, а у ворот за домом целое поле маслят. Каждое утро срезали, а они все вылезают и вылезают. Вообще лето грибное. Собираем бесконечно, ходим далеко, близко, всюду их полно, жарим и даже едим отварные, очень вкусно. Но самое вкусное утром на веранде – большая тарелка манной каши с густейшим медом или вареньем. Никогда не надоедало.
Вечерами молодежь (все старше меня лет на пять—семь) заведет патефон – танцуют, распевают песенки Утесова; молодежь модная, в клетчатых гольфах (днем играют в крокет на площадке), в каких-то немыслимых пиджаках и сарафанах. А я что, я маленькая, предоставлена сама себе, но тоже хочется покрутиться со взрослыми. Тут и случай представился. Собираемся по реке, Клязьме, тогда еще вполне приличной, на лодках, на экскурсию. На двух лодках столько смеха и веселья. Тут и солидные люди, и молодежь, а во главе всех Наталия Ивановна.
Вдруг налетает ветер, начинается дождь, а потом гроза самая настоящая, с громом и молниями, сваливается на нас. Деваться некуда, поворачиваем домой, тьма, хаос, ничего не видно, сплошная ночь и сполохи синие. Еле добираемся до пристани, бредем мокрые по сплошному болоту, грязные, страшные приплелись в мирный, теплый дом. Но здесь уже все развеселились. Гулять так гулять. Идет срочная приборка, умывание, одевание, волосы мокрые блестят. Я тоже со всеми, расчесываю косы, смотрю в зеркало, а сзади мужской голос: «А ты красивая девочка и, наверное, сама об этом не знаешь». Это кто-то из взрослых гостей. Я рада, что мне делают комплимент, что я тоже повзрослела в эту грозовую ночь, да и к тому же читаю «Будденброков» Томаса Манна. Как же не возгордиться. Наталия Ивановна уже командует – шампанское сюда! Жарим огромную яичницу. Тепло, весело, светло, спасибо грозе, что устроила такой чудесный праздник. Завтра можно и на солнышке прогреться, под горячими соснами, где розовокрылые кузнечики и пахнет земляникой. Прощай, Болшево, прощай навсегда.
Хорошо в «Отдыхе», на лесном участке, где раскинулся двухэтажный дом с двумя верандами. Одна – открытая, с перилами в виде эспланады в кустах жасмина и с вьющимся диким виноградом, а между досок пола в небо устремляется сосна. Долго она там пребывала (и на фотографиях есть), пока однажды не спилили ее при очередном ремонте, боялись, что в грозу загорится. Открытую веранду Спиркины торжественно называют порталом (над ним балкон), а с него – дверь в застекленную веранду, большую, где хорошо гулять в дождь и работать за огромным столом, под которым лежит львиной масти огромный пес, страж дома (сбежал от Константиновых, скупые хозяева не кормят), великолепный, смелый Рыжик. Под властью Рыжика хитроумная Малышка, гроза пришельцев, заводила всех собачьих драк, любящая тяпнуть исподтишка. Да, пережили мы Рыжика, двух Малышек, мать и дочь, Пирата, сына младшей Малышки, а теперь вот живу с Айной и ее сыном Цезарем, напоминающим волка, только не серого, а какой-то рыжеватой масти. Но все повадки – волчьи.
Не участок, а густой лес с перелесками и полянками, почти гектар, а станция рядом, пять-шесть минут быстрым ходом, но ее не видно и не слышно, стволы сосен и ели – надежная защита. Белочки перелетают с дерева на дерево, дятел стучит деловито, красногрудые снегири прилетают осенью к рябинам (мы живем до начала октября). Рябины много, всем хватает, птицам и людям. Я варю варенье, а Олег Широков (вскорости профессор) перелезает через забор, набирает рябины, а потом угощает друзей настойкой под названием «Лосевка».
У нас внизу две комнаты. Одна настоящая, и другая, отгороженная от большой столовой специальной стеной со стеклянной дверью. После нашего отъезда ее снимут и отнесут в сарай. Верх еще не совсем отделан, но через года два там уже поселяется в большой комнате Александр Георгиевич – это его святилище вместе с зимней верандой, все отапливается. Мы тоже побываем наверху, в меньшей комнате, подобие застекленной полуверанды, и тоже теплой. Но это – когда сюда на дачу в двухлетнем возрасте привезут маленькую дорогую нашу гостью, племянницу Леночку, дочь моей сестры.
В этом доме есть свои тайны, и даже страшные. Он принадлежал когда-то известному в сталинское время врачу, ученому – исследователю рака Клюевой. Она-то и благоустроила впервые дом, службы и сад: навезли земли (здесь ведь песок, сухо), провели аллеи в разные стороны от дома, насадили цветущие кустарники, садовый шиповник, сирень, жасмин, проделали дорожки, кое-где поставили скамейки и столики для отдыха и работы, вода журчала по всему саду, била фонтанчиками из проложенных труб. Но Клюева не оправдала доверие Сталина, не открыла раковый вирус, как обещалось. Опала легла на нее и ее мужа. Лишилась всех мест работы (хорошо, что не посадили), а муж, как говорили, в сарае повесился.[320] В дом тот даже родственники не наведывались, боялись, пришел он в упадок, буквально упал на землю, зарос колючими кустами малины, в доме бродило привидение, тот несчастный самоубийца. Вот вам и подмосковная дача. Это классический старинный замок с собственным привидением. Когда здесь, по моей протекции, поселилась моя ученица Ольга Смыка со своей семьей, то она, как человек мистически настроенный, зажигала свечу и воскуряла ароматы, чтобы задобрить какие-то смутные ночные тени и шорохи, бродящие по дому. Но это в рассказах Ольги. Я сама за десятки лет ничего подобного не испытала. Наверное, я не мистик. Но к тому же сарай потом сгорел в пожаре 1986 года, и последние следы потусторонней силы исчезли.
Так вот этот заброшенный дом и купил Александр Георгиевич Спиркин по страшно дешевой цене, которая даже тогда не казалась большой.
Привезли нам на дачу двухлетнюю крошку Леночку. Приехали с коляской, игрушками, чемоданами с пеленками, одеяльцами, штанишками, платьицами, туфельками. Я удивлялась – неужели так много надо малышке? Да. И этого было мало. Шло лето 1969 года. Наш дачный режим сразу же был разрушен. Нет, конечно, Алексей Федорович, как всегда, трудился под кленами, в назначенное время я делала сок (тогда это стало широко распространяться, и купили соковыжималку), яблочный, морковный, капустный и еще ягоды – все это среди дня, а обедали, как всегда, поздно, часов в восемь вечера, к ужасу Спиркина. Он все присматривался, как кормили мы с Ольгой Собольковой Алексея Федоровича, что на обед, ест ли мясо, бульон. Выяснялось, что иногда ест котлеты, но большей частью овощи. Утром обязательно отварная горячая картошечка с овощами и постным маслом (зимой это обычно винегрет), ряженка, чай с творогом. Творог, конечно, на рынке, у знакомой молочницы, хороший. Никаких бульонов, только овощное первое. Зато вечером жареный арахис или фундук и чай с шоколадом. Любил Алексей Федорович орешки и хороший шоколад в плитках. Разбирался прекрасно и в конфетах. Сладкое любил. Наверно, интенсивная мозговая работа требовала сладкого. Иной раз он поражал даже детей. Как-то в Москве Алеша Рубцов, сын Виталия и Нины (она – моя ученицами – директор Психологического института), в испуге от того, что коробка с шоколадом на его глазах опустела. Уже все съел?! По-моему, это была «Белочка» с орехами. На даче мы покупали маленькие батончики шоколада с местными лесными орехами. Вот прелесть! Место, где их продают, привозя из Раменского, указала нам С. Я. Шейнман. Мы увлекались этими вкуснейшими ореховыми палочками. Обычно не очень знающие ужасались, как это на ночь орехи и шоколад. Но, между прочим, я потом вычитала, что орехи хорошо действуют на кишечник (утром натощак или вечером перед сном). Соблазненный жареными орешками приходил Александр Георгиевич.
Да и не только орешки его привлекали. Была еще «Спидола», которая брала (это сделали наши умельцы) самые короткие волны, и здесь, несмотря на город Жуковский, мы хорошо слушали разные голоса, то «Свободу», то «Немецкую волну», то Би-би-си, а в Москве, на нашем Арбате, это было исключено, стоял адский шум забивки, так что на даче еще и эта отдушина была. Шли вечерние разговоры, обсуждали с Александром Георгиевичем услышанные новости. У него тогда не было приемника, а потом ему достали какой-то особый, с военного самолета, и тот ревел на всю округу, но никто не смущался. Вот это был отдых! Как-то однажды, когда спала жара и была сладостная теплая ночь, сидели мы с Александром Георгиевичем и Алексеем Федоровичем на портале и бесконечно пили чай с так называемым «киевским вареньем», ягодами в сахаре. Такое пиршество забыть нельзя. Мы не могли остановиться, и беседа текла незаметно, и ощущение жаркого юга пришло откуда-то. Алексей Федорович утирался полотенцем, рубашка расстегнута, так он обычно в жару пил чай с любимым кизиловым вареньем. Его привозили с Кавказа, да и я варила на даче варенье, которое никак не могли съесть, причем лучше всех рассчитывал сахар для варенья сам Алексей Федорович. Вакханалия с кизилом, киевским вареньем и полотенцем называлась у нас «Чаепитием в Мытищах» (по известной картине Перова).
Однажды Александр Георгиевич привел к нам Ф. В. Константинова. Тот жил на нашей улице, неподалеку. Любопытное семейство – отец, мать Татьяна Даниловна, две дочери, в которых я никогда не могла разобраться, «кто есть кто». Наша домоправительница Ольга Сергеевна как-то, уж не знаю почему, зашла к ним и была потрясена подвалом, набитым консервами. Сказали – на случай войны, рядом лежали бутыли из-под подсолнечного масла, вина, молока, всевозможные банки – ничто не выбрасывалось.
Собак не кормили, вернее, давали картофельные очистки, так что зимой один бедный пес начал грызть крышу конуры, а потом сбежал. Мы всё хорошо знали, так как в доме Константинова и в их дворе постоянно что-то чинил брат Александра Георгиевича – Иван «со товарищи». Они все любили выпить, но были замечательные мастера. Они же и мастерили цепь для мощного Рыжика, который от голода срывался с цепи и мчался к Спиркиным, где животных любили: собак, кошек, белок, птиц. Потом появлялся кто-либо из Константиновых и укорял Майю Николаевну, что собаку сманивают. Так и бегал Рыжик с цепи и большей частью жил на дворе у Александра Георгиевича, а чаще всего лежал под столом веранды или рядом с качалкой Алексея Федоровича.
Грозный был пес. Это с нами ласковый. Если же являлись чужие собаки с соседней дачи, громадные сторожевые псы, ухаживая за Малышкой, Рыжик бился с ними насмерть – защищая свою спутницу от чужаков, и, знаете, побеждал. Бывало, вокруг качалки Алексея Федоровича лежало четыре пса: Рыжик, Малышка и их прихлебатели.
Возвращаюсь из университета поздно, когда уже тьма-тьмущая, пока доедешь с Ученого совета, а калитку заперли. Знаю, что никого нет в доме, кроме Алексея Федоровича. Дом далеко от калитки, не докричишься. Иду к воротам, они поближе к дому, пытаюсь просунуть руку, открыть засов, куда там. Все собаки лезут лизать руки, мешают, просто никак ничего не сделаешь. Вижу, что на портале сидит в качалке одинокий Алексей Федорович. Начинаю кричать: «Алексей Федорович, откройте калитку!» Ору что есть силы. Голос у меня громкий, это всем известно. Представьте себе – услышал Алексей Федорович. Встает, спускается по ступеням, держась за перила, вышел на дорожку. Боже, каково ему идти. Он же не видит. Еще собьется в сторону, как бывало, когда задумается, гуляя, и прямо в чащу, где и днем с глазами человеку не пробраться. Идет медленно, с палкой, а собаки уже бросились за ним. Я у калитки жду и дрожу за него от страха. Вдруг споткнется, собаки тычутся ему в руки, тоже помогают. Наконец он рядом, открывает какой-то засов (обычно его не закрывали, а тут почему-то хозяева, уезжая, закрыли) и меня впускает. Собаки безумствуют от восторга, подпрыгивают, лапами обнимают. Так шествуем мы во мраке, счастливые, в дом (свет на аллее провели через много лет и зажигали там фонари).
А то вдруг приказали вернуть Рыжика в отчий дом. Идет печальная процессия: Иван, его приятель, вечно навеселе, некто Коля, Николай Дмитриевич, ведут Рыжика. Я стою огорченная, чуть не плачу. Опять на цепь. Ее, новую уже, сделала эта парочка и несут собачьи кандалы торжественно впереди. Но Коля поворачивается неожиданно ко мне и заговорщицки произносит: «Не извольте беспокоиться, все будет в лучшем виде». Значит, все в порядке, кандалы сделаны так, что Рыжик без труда завтра же снова с нами.
Рано поутру меня будит зычный голос Федора Васильевича под соседним окном спальни хозяев: «Саша, Саша, вставай, идем гулять!» На часах около шести утра. Спиркин, допоздна работавший с энциклопедическими статьями, мирно спит. Под окном звучит настойчивый зов: «Александр Георгиевич, вставай!» Нет ответа. Тогда уже, совсем по-деловому, по-партийному: «Товарищ Спиркин, вставай!» Тут Александр Георгиевич наконец понимает – делать нечего, надо вставать, и идут по аллеям «Отдыха» на утреннюю прогулку, заодно обсуждая и решая массу неотложных дел. Так приучился наш Александр Георгиевич в шесть утра ходить на обязательную прогулку в любую погоду в те времена, когда уже никто под окном его не зазывал, ибо отношения в конце концов стали прохладными, если не окончательно испортились.
Трудно было Александру Георгиевичу быть под прессом члена ЦК КПСС, одного из организаторов советской философской науки. Александр Георгиевич пропадал с нами каждый вечер, обсуждая вечный «левый берег Иордана и полосу Газы». А то, споря с Алексеем Федоровичем: развалится ли эта телега и когда? «Нет, никогда, – говорил Алексей Федорович и, сжимая кулак, повторял: – Вся сила в военной мощи. А она у нас вот какая», – и сжимал крепче кулак. Спиркин жарко спорил, доказывая, что никакая военная мощь не спасет, сама «развалится телега». Здесь он был провидцем. Все-таки человек другого поколения, чем Алексей Федорович, хоть и испытал одиночку Лубянки. Слушали мы с ним, сидя рядом, всю пражскую трагедию, плакал Александр Георгиевич от беспомощности. На следующий день торжествующий Федор Васильевич, придя в наш двор, с гордостью объявил о советских войсках в Праге. Каково это было слушать бедному Саше. Ничего не поделаешь. Надо молчать.
С Алексеем Федоровичем Константинов был всегда любезен. Да какое там знакомство, но ведь статьи принимал и визу ставил. Помню, сидим мы под кленами, работаем. Идет по аллее Федор Васильевич, увидел нас, поздоровался и говорит: «Ах, Алексей Федорович, как я вам завидую, сидите и наукой занимаетесь». – «Федор Васильевич, а что вам мешает, – отвечает Лосев, – бросьте все да садитесь за работу». Прошел дальше, вежливо улыбаясь.
Уж кого только мы не повидали, сидя под кленами, особенно когда Александр Георгиевич открыл экстрасенсов. Ведь это он в газете «Труд» опубликовал первую свою статью, ввел в оборот слово «экстрасенс», потом привлек множество этих фантастических людей и, наконец, Джуну, при начале карьеры которой стоял именно он, снабдив ее документом за своей подписью, как член Академии наук СССР. Тогда это был пропуск в большой свет.
В маленьком домике идет прием пациентов, кого-то провозят через ворота, другие идут по аллее, поток их нескончаем. Всех знаменитостей Александр Георгиевич направляет к Алексею Федоровичу, чтобы, во-первых, вернули ему зрение, а во-вторых, дали ему сон. Каждый клянется, что сделает это запросто. Никто ничего не сделал. Когда Алексей Федорович простудил какой-то нерв и не мог ступить шага без адской боли, все знаменитости оказались беспомощны, сколько им ни платили, как их ни кормили. Зато когда вернулись в Москву, вылечил Алексея Федоровича замечательный врач, доктор медицины, биохимик и психиатр Давид Лазаревич (нашел его нам Алексей Бабурин, студент мединститута, делавший массаж Алексею Федоровичу). Красивый, лет около сорока, с черными по плечам волосами, повадками и статью поэт-романтик. Он сразу сказал, через сколько сеансов Алексей Федорович сможет наступать на ногу, через сколько пойдет, когда спустится по лестнице и отправится гулять. Никаких лекарств, только в течение считаных минут легчайшие удары игольчатым маленьким молоточком где-то в области спины, ближе к шее, а отнюдь не коленный сустав или бедро, где обычно колдовали экстрасенсы. Интереснейшая личность во всех отношениях и замечательный врач. Теперь за границей, уехал, говорят.
Вспоминаю Николая Васильевича Цзюя, китайца, которого мы звали дома Коля Васильевич. Он работал в Китае в массажном и водном заведении своего дяди, а потом, в 30-е, соблазненный успехами социализма, подался в Союз, да так и остался, женился, говорил по-русски с маленьким акцентом. Сын его совсем русский, инженер на большом авиазаводе, если не ошибаюсь. Там по схеме нашего друга Л. В. Голованова, наследника А. Л. Чижевского, нам сделали люстру Чижевского для кабинета Алексея Федоровича, когда этих люстр еще ни у кого не было и в помине. Алексей Федорович регулярно ее включал. Висит она у него над письменным столом и сейчас.
Николай Васильевич потрясающий массажист. К Алексею Федоровичу он приходил раза четыре в неделю (за компанию и меня подлечивал), рассказывая массу новостей (навещал он очень важных людей), стал своим человеком в доме, ходил лет десять, а умер от рака желудка (любил хороший коньяк). Меня вылечил от страшного радикулита, подхваченного у Спиркина – результат холодного душа в жару. Боли были мучительные, не могла лежать, дремала стоя, держась за рояль. У Николая Васильевича свой метод, полное выздоровление через четырнадцать дней. Вспоминаю с благодарностью доброго нашего Николая Васильевича и как всегда пил он мой кисленький чайный «японский гриб».
От Николая Васильевича попал к нам другой китаец, так называемый Женя. Он колол иглами, тоже пытался действовать на сон Алексея Федоровича. Женя работал официально диктором на Южный Китай (там особый диалект), а неофициально врачом. Это дипломированный врач, которого направили во время культурной революции на перевоспитание на юг Китая, где жили дикие племена, среди любимых блюд у которых – свежая человеческая печень. Как мог, Женя их просвещал, а потом отослали его на холодный север, но зато на границу с Казахстаном, куда он и бежал, переплыв бурную реку, держа в руке скрипку (это особенно умиляло), в которой спрятаны были документы и дипломы. Жил на пастбищах Казахстана, кормился впроголодь, ни слова, кроме китайского. Потом как-то попал в город, получился разговаривать на смеси русского и местного наречия, устроился в поликлинику, где лечил больных тайно, за занавеской. Считалось же, что они попадают к известному врачу, который принимал, записывал, осматривал для вида, а потом отсыпал за занавеску, якобы к своему ассистенту. Случай помог. Буквально из неминуемой смерти вытащил секретаря обкома комсомола, попавшего в автокатастрофу. В награду отправили в Москву, дали денег. А в Москве путь один – лечить знатных персон. Они же и пристроили Женю на радио, дали квартиру, и он жил припеваючи да еще составлял какой-то учебник по фитотерапии со всеми китайскими травами, которых у нас нет, тратил деньги в комиссионных магазинах на антиквариат и колол страшными длинными иголками, причем колол больно. Человек Женя симпатичный, ребят своих, крохотных китайчат (жена у него кореянка), приводил, забавные, катались по комнате, как шарики. Но глазам и он помочь не мог.
А еще Федор Дмитриевич Карнеев, тоже врач, тоже иголками колол и лечил своими собственными снадобьями, но главным образом пчелиным ядом лечил. Его привела к нам Ольга Смыка, вылечил ей бронхиальную астму. Очень он нам помогал. Особенно когда от снотворного и транквилизаторов в начале 70-х Алексей Федорович не мог даже языком шевельнуть и почти перестал двигаться. Все лекарства выбросил Федор Дмитриевич и колол маленькими иголочками под языком. Алексей Федорович всегда на все готов, если дело касается сна, работу приходится бросать. На глазах совершилось чудо – говорит, ходит нормально.
Потом регулярно появлялся у нас Федор Дмитриевич с маленькой коробочкой, где жужжали пчелы, ловко выхватывал одну, и она немедленно колола своим жалом, сама погибая. Мы с Алексеем Федоровичем на себе испытали пользу этих тружениц-пчелок. И еще – мокрое обертывание. Не всякому это дается, надо быть мастером. Как-то Алексей Федорович схватил простуду, поднялась высокая температура, а через день – Ученый совет, защита диссертации, где каждый голос важен. Вызвали Федора Дмитриевича. Он сразу горячие, дымящиеся буквально от кипятка мохнатые полотенца и мгновенно обернул ими грудную клетку Алексея Федоровича, а сверху теплые одеяла. И что вы думаете? Без всяких лекарств температура спала, простуда ушла, и Алексей Федорович отправился на Ученый совет. Но сама я никогда бы не решилась на такую операцию. Опыт большой нужен. Какие-то особые диеты придумывал наш Федор Дмитриевич, снабжал своей «зеленой мазью» (с медью) собственного производства – спасала от нагноений. Чего только он не придумывал, талантливый человек, настоящий врач и пчеловод хороший, снабжал нас своим медом. Да, все это в прошлом, прошлом.
В те времена рядом со мной был Алексей Федорович, для него старалась, все делала, чтобы здоровый был. Думаю, эти добрые, хорошие люди, о которых я сейчас пишу, основательно помогали Лосеву. Достаточно было одному из них исчезнуть – Николаю Васильевичу, с его китайским массажем, – и уже что-то нарушалось в железном режиме. Теперь же мне все равно, хоть для дела лосевского тоже не мешает быть здоровой телом и сильной духом. Не всегда удается.
Сама не заметила, как куда-то ушла в сторону от дачного повествования. Дача у Спиркина – особый мир, где столько было продумано, написано, причем летом, когда нормальные люди отдыхают, едут в отпуск. А мы, видимо, ненормальные. Ждем лета, когда телефоны не мешают, люди не ходят, дела не отвлекают Алексея Федоровича. Он любит лето жаркое, все-таки южанин, я – тоже люблю, где-то в глубине моей природы – кавказские корни дают себя знать. Сидит Алексей Федорович под кленами, лето горит, и леса горят вокруг, торфяники горят, дым застилает небо. Лето 1972 года. Сидит Лосев под кленами, на столе рядом с ним тазик с холодной водой, лежит полотенце, кладет на голову, шапочку черную снимает. Рядом «свободный художник» Володя Бибихин (это он опубликует через много лет свои потаенные беседы с А. Ф.), а это самоуглубленный Саша Столяров («стоик», будущий доктор философии) или Юра Шичалин, «неоплатоник» (появится позже, станет доктором философии). Сидят Люся Науменко, чудаковатая умница, или аккуратная, строгая Надя Садыкова (она же Малинаускене), задумчивый Юра Панасенко, кто свободен из моих учеников и готов приехать на дачу, поработать с Алексеем Федоровичем, читать вслух, писать под диктовку (или спеть под гитару, как это умеет Тамара Теперик) или порассуждать на высокие духовные темы, как свойственно Лиде Горбуновой. Я уже теперь не успеваю, делаю работу более важную. Да и в Москве напротив А. Ф. за столом все те же Володя, Саша, Юра, Надя (а то и стремительный Гасан Гусейнов – этот будет доктором филологии) – читают вслух, записывают за А. Ф. Иной раз присоединяются к ним другие мои ученики – Лена Дружинина (внучка С. В. Шервинского, художественная натура, сочиняет у меня диссертацию о Гомере) и Таня Бородай (дочь Пиамы Гайденко, философический ум, пишет у меня об Аристотеле), появляется Таня Шутова (безукоризненный французский) от П. В. Флоренского или Дина Магомедова от профессора Д. Е. Максимова (она – знаток Блока и в дальнейшем его издатель). Пока все они юные, жаждут знаний, набираются уму-разуму рядом с Лосевым, обучаются систематической работе, приобщаются к серьезной науке. Время не ждет, и машинистки ждут рукописи, теперь самая главная – Лиля Тавровская, прелестная блондинка, ласковая, трогательно любящая Алексея Федоровича. И поныне помнит об Алексее Федоровиче, а он ей дарил книги, которые Лиля печатала с большим тщанием.
В июле 1973 года все под теми же кленами, в качалке, пишет Алексей Федорович шутливое письмо моей сестре после того, как получил от нее долгожданный подарок – легчайшую, невесомую летнюю кепочку. Давно он хотел получить такую взамен старой, но все оказывалось не то. Кому только не заказывали и где только не покупали. И вдруг, по рисунку Миночки, в далеком Владикавказе сшили именно то, что хотел Алексей Федорович. Сидит он под деревом и диктует письмо нашему молодому другу, ученику моей сестры, Володе Жданову. Он-то и привез эту кепочку, легкую, как поцелуй младенца. Стали ее с тех пор именовать «поцелуйной». Володя для Алексея Федоровича всегда Владимир, для нас Вольдемар. У нас старинная дружба. Еще дед его учил меня рисованию и черчению в школе. Что я? Он учил моего отца тем же предметам в классической гимназии. Живому деятельному Володе скромность мешает писать и выступать. Замечательный прочел доклад в Ростове о Лосеве и Айхенвальде, но так, по-моему, и не напечатал. Володя пишет под кленами, радуясь вместе с Алексеем Федоровичем веселому и даже очень стилистически изысканному письму.[321]
Маленькая Леночка, племянница, то и дело подбегает к качалке, спрашивает: «Вам что-нибудь надо, Алексей Федорович?» Со вкусом произносит полностью имя и отчество, хотя обычно называет его попросту «Алеша», видимо, считая его своим товарищем по играм. Алеша строго смотрит на маленькую шалунью и отвечает тоже не без подвоха: «Сядь, почитай „Дочь падишаха“». – «Ах, какие вы хитренькие», – возмущается Леночка, удирая подальше от качалки. Уж больно занудная эта сказка, придуманная каким-то советским детским писателем. Я сама ее терпеть не могу.
Леночка по праву считает Алешу своим товарищем и другом. Ведь лето на даче – праздник и для нее: уехать из привычной домашней обстановки Владикавказа (тогда он был еще Орджоникидзе), от няньки и строгой бабушки, моей мамы Нины Петровны, рядом с которой маленькая Леночка лепит какие-то пирожки, чтобы потом стать настоящей мастерицей по части вкусных вещей.
Малютка в два-три года перевернула вверх дном наше житье-бытье на даче. Мы с Алексеем Федоровичем переселились на второй этаж, вернее только ночевали там, а так весь день внизу: в саду, на веранде. В нашей нижней комнате мама Мина и дочка Леночка. Кто из них кем управляет, не совсем ясно, хотя, если присмотреться, то, конечно, Леночка – глава всей нашей семьи.
Я встаю рано, часов в пять утра или в начале шестого, это я, которая терпеть не может вставать рано: ложимся мы с Алексеем Федоровичем поздно и встаем поздно. Но здесь ничего не поделаешь. Малютка просыпается в самую рань и начинает играть. Мама Мина готовится уехать в Москву, она пишет докторскую диссертацию по французской литературе. Французский у нее с детства, когда еще к нам ходила мадам Жозефина, но потом с нашими семейными потрясениями 1937 года[322] девочка многое забыла, и я, живя с ней у нашего дядюшки во Владикавказе, занималась с Миночкой французским, читала ей французские детские книги мадам Сегюр, а маленький ослик Кадишон стал ее любимым героем. Встречных осликов (а их тогда много было в городе) она так и называла Кадишонами.
Так вот, мама Мина уезжает на целый день в московскую Иностранную библиотеку, а Леночке объясняем – мама поехала делать массаж. Массаж она понимает. Я же должна забавлять малютку. Забираюсь к ней в кровать (в комнате рядом стоят две большие кровати для мамы и дочки), прячемся под одеяло и играем в Маугли и пантеру Багиру. «Мы одной крови, ты и я». Леночка может бесконечно играть в эту игру и повторять эти слова. Или же идет стирка белья, без воды, конечно. Она трет какую-то тряпочку и шипит, это льется вода, а потом начинается сушка. «Сусыть, сусыть», – повторяет маленькая прачка. Я уже изнемогаю, часы идут, ребенок играет. Так несколько часов. Спать хочется, но пора одевать, умывать, кормить ребенка, да и об Алексее Федоровиче не худо позаботиться. Такая у меня работа целый месяц.
А то еще Леночка просит: «Сделай мне машаш». Ложится голенькая, животик мягенький, тепленький, вся мягенькая и теплая, а я глажу животик и говорю: «Машаш, машаш». Баловство, но приятное, и животик сладко поцеловать и розовые пяточки – все такое аппетитное. Малышка-красавица. Когда она с Ольгой Сергеевной едет в такси, ей приветливо машут руками водители, она задорно смеется и поет с Ольгой какие-то песенки про васильки, лютики и любовь. Мордашка в кудрях, на голом тельце трусишки, носочки и туфельки красные. Хватаясь храбро за спинку качалки и стоя сзади на перекладине, она раскачивает Алешу и сама качается.
Перекладина качалки служит еще для сушки, уже настоящей, носочков и туфелек, если вдруг оскандалится двухлетнее существо. Весело хохочет Василий Иванович Воздвиженский, наш старый друг. Пришел из Кратова навестить Алексея Федоровича, а тут такое забавное чудо. Сидит на корточках, развешивает на перекладине качалки носочки, рассматривает сосредоточенно мокрые туфельки и повторяет: «Сусыть, сусыть». У Василия Ивановича оба внука, Сережа и Георгий (он же Геродот), уже взрослые, есть и малютки-правнуки, но все в городе. На даче только он и Елена Сергеевна. Вот туда и соберемся все вместе: Алеша, Леночка в коляске, мама Мина и Баба. Баба – это я, Аза Алибековна. Волосы у меня начали рано седеть, а лицо молодое, очень похожее на мою маму Нину Петровну. Это сходство смущает ребенка. Если там, на Кавказе, бабушка, то почему же здесь, в «Отдыхе», не быть Бабе. Так и осталась с этим домашним именем (в устах Леночки, даже взрослой) на всю жизнь, как и Алексей Федорович остался для нее Алешей и еще Гиганом. Слово «гигант» она не могла произнести, но гиган, который где-то на крыше борется с бабой-ягой, чтобы Леночка спокойно заснула, этот гиган – свой, родной. Как же не пойти в пешую экскурсию в Кратово? Действительно, идет целая процессия, идем минут сорок, хотя обычно и за двадцать минут по шоссе добираемся. Но тут нужна сугубая осторожность. Я под руку с Алексеем Федоровичем, не дай Бог споткнуться о какую-нибудь кочку, корягу, камень, осторожно по шаткому мостику через речку Хрипаньку, почти высохшую, но все-таки речку. Наконец, улица Ломоносова, гостеприимный дом Воздвиженских, где на огромном участке все сосны подсчитаны, их больше сотни, темновато на открытой веранде, но старательно возделаны грядки клубники, флоксы вдоль аллеи, ведущей к дому, на веранде старинный дубовый стол и тяжелые дубовые стулья из московской квартиры: там места мало, не помещаются громоздкие вещи из прошлого. Нас угощают своей клубникой, пьем чай с вареньем, Елена Сергеевна забавляет Леночку масками разных зверей, вынула из какой-то кладовки.
О, эти спасительные маски. Мы их тоже купили, разные, но главные и обязательные – медведь и лиса.
Леночка не любит есть. Весь день бегает с бутылочкой, почти пустой, из-под кефира и кричит в ответ на призыв к еде: «Кихирчик, кихирчик!» Боимся, как бы не упала и не поранилась с этой противной бутылочкой. Но она еще умудряется подбежать к старушке – матери Александра Георгиевича, тихой, смиренной Федосье Ефимовне: «Вам ничего не надо, Федосья Ефимовна?» «Вот уж какой дитенок добрый, – говорит глуховатая Федосья Ефимовна. – Ведь никто за целый день не спросит меня ни о чем!» Бедная Федосья Ефимовна. Вечно в трудах – то подметает аллею, то штопает носки сыну, то что-то зашивает, а то сидит с Библией на коленях, погружена в чтение вечной книги, свою единственную радость. Над старушкой посмеивается ее внучка, тоже Лена. Но наступит время, и Лена наденет крестик и станет постоянной посетительницей окрестных церквушек. Федосью Ефимовну сбила в Москве машина. Забыла она на столе оберегавший ее всегда Псалом 90 «Живый в помощи», который всегда носила с собой, называя попросту «живые помочи». А как радовалась она, когда ее сын Саша стал членкором АН, не очень понимая, что это такое, но принимая как самое надежное разъяснение своего младшего сына Ивана. Стоят они оба на балкончике второго этажа, Иван кричит во всю ивановскую (оба они почти не слышат): «А Сашка теперь получать будет 250 рублей!» – «За что же, милай?!» – спрашивает Федосья Ефимовна. «А ни за что. Просто так!»
Эти объяснения достаточны. Мы с Алексеем Федоровичем гуляем вечером по аллее, и каждое слово, даже если бы и шептали (а тут кричат), слышно. Какое мудрое объяснение. Русский человек любит, чтобы было ни за что, просто так. Это самое дорогое.
Да, так вот маски очень нам пригодились. Леночка за столом капризничает, ничего не ест. Ольга Соболькова в полном раздражении хватает половник и готова опустить его на голову этого бесенка, но что такое? Ребенка нет, где он? Уже Ольга рыдает, что она довела младенца до того, что тот упал от страха под стол. Младенец действительно под столом. Но не от страха, а просто надоели ему приставания с едой да еще и угроза половником. Под столом сидеть очень удобно.
Вот тогда входят в роль медведь и лиса. Мощный удар сотрясает стеклянные двери из комнат на веранду. Раздается страшный рык, и появляется медведь, а около него юлит лиса. Алеша мастерски разыгрывает репризу, Миночка что есть силы помогает.
Ребенок, по-моему, делает испуганный вид, верещит, хватает ложку, начинает есть, но как-то подозрительно весело. Он тоже включается в игру. По сценарию, надо есть, иначе медведь заберет, лиса не спасет. Вот так почти каждый день. Уже сам хитрющий младенец готов играть первый и спрашивает: «А когда медведь придет?»
Уложить спать – тоже проблема. Не спит, да и только, слушает мои сказки. Выдумываю их бесконечно, лежит, закрыв глаза, а только кончу, тонкий голосок: «Еще». Тут на помощь мне приходит Гиган. Опять дрожат двери, раздаются стуки. Гиган на крыше (почему там, я и сама не знаю) борется с бабой-ягой. «Спи, иначе заберут тебя». Ребенок суетится, прячется под одеяло, в щелочку поглядывая одним глазом. Я в полном отчаянии, но тут приезжает Миночка из Москвы и наконец сменяет меня. Теперь ее очередь «делать машаш», рассказывать сказки, а я иду наверх, к дорогому моему Гигану. Теперь ложимся раньше, ведь с утра мне опять на работу.
Идем гулять на Хрипаньку, где гуляет еще один младенец – бычок Морячок, ласковое существо. Зато не все дети ласковые. Наша-то добрый ребенок, игрушки всем раздает, со всеми готова поделиться сладким, хочет играть вместе с какой-либо подружкой. Но встречает отпор злобной маленькой девочки, с которой нянька не справляется. Наша от горя, что ее отталкивают от песочка и бьют по пальчикам, бросается ко мне, плачет. Тогда я делаю из бумаги кораблики (я их с детства умею делать), сажаю на них бумажных человечков, и мы пускаем их по мелкой водичке на зависть злой девочке, посматривающей исподтишка. Делаем маленькую запруду, и туда проскальзывают какие-то мельчайшие рыбьи детки, серебрятся на воздухе крохотные тельца, плывут какие-то жучки, веточки.
Вдруг в траве чудо – черепаха, самая настоящая, втянула голову и лапки, притаилась. Возвращаемся торжественно домой, все горести забыты – несем черепаху. Дома привязываем ее (как – уже не помню) в саду среди травы, ставим водичку, даем ей какую-то кашку. Черепаха начинает передвигаться, и довольно активно, уже и веревочка куда-то делась. Разыскиваем среди густой травы, волнуемся, все-таки удивительная находка. Вспоминаю гомеровский III гимн к Гермесу, когда сей плут находит черепаху и радуется «знаменью», полезной для него находке (все-таки Баба человек ученый). Правда, многославный Гермес распотрошил бедную черепаху ножом из «седого железа», приладил к панцирю семь струн из овечьих кишок, сделал звонкую лиру и обменял ее у Аполлона на стадо коров, украденных им у бога.
Мы – добрые, нам бы черепаху накормить. Но, видно, свобода важнее корма из рук человека. На третий день черепаха окончательно исчезает. Откуда она взялась, куда делась, загадка.
На даче среди настоящего густого леса – ели, сосны, рябина, березы, цветущие кустарники, грибы-зонтики с огромными плоскими шапочками величиной с тарелку, синюшки, действительно какого-то сине-лилового цвета, мухоморы. Мы их, конечно, не собираем, но дядя Ваня их жарит и ест, ничего, остается жив. Однажды Володя Бибихин с дочкой Ренатой набрали целый пакет синюшек. Не знали, куда потом их деть. Рената, на год старше Леночки, серьезная девица, в руках облезлая матерчатая обезьяна. Сажает ее на диван. Я вежливо спрашиваю, как зовут эту явно любимую игрушку. Рената в ответ басом: «Доктор Мартин Хайдеггер». Вот так, ни больше ни меньше. Знает, что отец все говорит о Хайдеггере, переводит, пишет о нем. А она запомнила.
Жаркий день, даже на Хрипаньку-речушку идти тяжело, никто не хочет, дома прохладнее. А вот Леночке хорошо бы поплескаться в водичке. Раскладываем детский бассейн, наливаем воду, и наш младенец уже резвится. Брызги летят во все стороны, радуется Леночка, рады все ее игрушки, особенно резиновый крокодил, прильнувший к бассейну. Страшный, но любимый. От удовольствия Леночка начинает распевать на какой-то свой мотив с совершенно не понятными никому словами песенку, без конца и без начала. Из окна смотрит пожилой родственник Майи Николаевны, прислушивается и спрашивает меня: «Это она на кавказском языке поет?» Так Лена изобрела свой кавказский язык.
Особые удовольствия доставлял дядя Ваня, Иван Георгиевич, брат хозяина. Талантливый человек, мастер одного из авиационных заводов в Жуковском (там и семья его живет). Жизнь сложилась так, что никаких вузов не кончал, но мастерил что угодно, и на заводе ставили его на самую тонкую и точную работу. К великим праздникам завод заказывал ему портреты вождей – и это он делал мастерски, для души писал подмосковные пейзажи, был и поэтом, причем публицистическим, хотя с рифмой и размером не ладил, но на разные важные события отзывался стихами, записывая их в огромную амбарную книгу. Иной раз захватит врасплох и во весь голос (сам по глухоте не слышит) выкрикивает с выражением обличительные строки. Больше всего любил возиться в сарае, куда со всего околотка притаскивал, казалось бы, никому не нужные железки, проволоку, гайки, колеса, пружины, матрасы, спинки от железных кроватей, всякий хлам. В его умелых руках хлам этот превращался в полезные, а часто и бесполезные вещи. Сам делал ульи для пчел, был и пчеловодом, но, правда, пчелы все подохли зимой, чего-то он не учел. Сам смастерил он пилораму, валил сосны, таскал откуда-то доски, бесконечно пилил, не выходя из рамок обычной платы за электричество. Здесь он был просто академиком, пускался на такие хитрости, что ни один нормальный электромонтер не разберется. Самое же главное – он сконструировал маленький забавный грузовичок, чтобы возить на участок песок, гальку и всякий мусор, который ему попадается. Но это что! Он добыл где-то развалившуюся легковушку с хорошим мотором и усердно трудился над ее реставрацией. Своя машина – престиж мастера высокого класса.
Вот с этим замечательным дядей Ваней все мы были в самых теплых отношениях, в том числе и Алексей Федорович. Никогда не пройдет мимо, не остановившись на аллее, снимет шляпу (он ходил в несусветной шляпе), спросит у Алексея Федоровича о здоровье. К Алексею Федоровичу относился с небывалым почтением, сделал ему столик для работы под кленами, стол для работы на веранду, и не один, чинил нам старенький холодильник, настольные лампы, замки с ключами. Портал-то тоже его работа. Сначала деревянный, пахнущий сосной в жару и после летнего дождичка, а потом цементный, чтобы века стоял, а затем весь покрытый метлахской плиткой, чтобы пыли цементной не было. Потребовала это сделать наша Ольга Сергеевна, внушавшая дяде Ване самые теплые, сердечные чувства. Как же Алексею Федоровичу дышать пылью? Ни в коем случае. К нашему очередному приезду – роскошный ковер из плиток разного размера, рисунка и цвета радовал глаз. Правда, плиток не хватало. Недолго думая, дядя Ваня решил уменьшить необъятные размеры нашей эспланады и отрезал от нее с двух сторон по два метра. Насобирал какие-то крохотные плиточки, чтобы возместить нехватку. Кроме того, работал он, как всегда, темпами аврала, в последний момент, когда деваться некуда. А тут зарядил дождь, так что весь этот плиточный ковер расстилался под дождем, что совсем не положено. В результате маленькие плиточки стали незаметно отклеиваться, а маленькая двухлетняя Леночка своими крохотными пальчиками тоже с удовольствием выковыривала симпатичные квадратики, сидя на корточках и старательно пыхтя. Леночка и дядя Ваня любили друг друга. Леночка тянулась к родственной ей детской душе дяди Вани, полной сказочных фантазий. Среди них осуществлялась одна – маленький грузовичок, конечно, без всякой кабины для водителя, а с этакой скамеечкой впереди, где умещался сам дядя Ваня за рулем, а рядом с ним маленькая девочка. Какой восторг вызывали поездки за пределы дачи. Машина адски рычала, как сорок тысяч моторов рычать не могут, подпрыгивала так, будто неслась не по удобным сосновым аллеям, а по какому-то бурелому или булыжным завалам, густые клубы ядовитых газов тянулись в хвосте этого чудовища, но зато как она сигналила, разгоняя встречных-поперечных. Мы поражались храбрости нашей девочки. Я понимаю, что маленькие не испытывают страха, они не знают, что это такое, поэтому спокойно подходят к собакам и лезут в чащу кустов, где прячется всякая скользкая нечисть. Но какое удовольствие сидеть на шаткой скамеечке, подпрыгивая вместе с грузовичком, цепко держась маленькими пальчиками за какие-то железки, и испытывать восторг от этого фантастического полета? Нет, этого я не могла понять. Никакой техникой Леночка не стала заниматься. Она зато научилась прекрасно вышивать, вязать, шить, рисовать, писать стихи, прозу, заниматься наукой и готовить вкусную еду. Но ведь для всего этого тоже нужна храбрость. Вот ребенок и набирался опыта для самостоятельной творческой деятельности.
В третье лето третьего тысячелетия от Р. Хр. в тридцать седьмой раз приезжаю я в этот некогда благодатный уголок. Все так же встречает меня большой приветливый дом, изрядно подряхлевший (ночью он скрипит и кряхтит совсем по-стариковски). Я уже привыкла к мощной крапиве (и к траве со скучным, серым прозванием – сныть), что давно поглотила анютины глазки, колокольчики, золотые шары и розы, и шиповник, и малину. Но все так же стоят могучие сосны (хотя лес заметно поредел), тянутся вверх упрямые клены, живы кряжистые яблони, сирень и пышные заросли белоснежных деций, окаймляющих аллею. Весь в цвету, роскошный жасмин поздравляет меня с приездом, а там вдруг устремятся ввысь и лилово-розовые стрелы изобильных кустов, имя которых все давно позабыли.
Этим жарким летом в Большом доме, о чудо, мы только вдвоем: я – внизу, Старый хозяин – наверху (молодые изредка появляются в благопристойном коттедже под старинным названием – Маленький домик). Стоит удивительная тишина. Ее нарушает в урочный час, к всеобщей радости, Добрая душа, прелести прозрачной и почти призрачной. В сумеречной, как всегда, столовой ее встречает Сам (мой выход желателен), рядом – старый израненный в давних боях Цезарь (последний из славной стаи) и ненасытный кот Пушок. Добрая душа приютит, одарит лаской, накормит и вселит надежду, что так будет завтра, послезавтра, всегда и вечно. А потом дом снова погружается в тишину. Сидя за книгой, внизу, на веранде, я не слышу, как бывало, ни стука пишущей машинки, ни тихой музыки, под которую обычно так хорошо работалось обитателю верха. Только тяжелые неровные шаги. Только шаги. И невольно всплывают в памяти стихи Алексея Федоровича «Тревога», где ум «тайно шумит» «тревогой тонкой», где жизнь «тревожна мглой чудес», где стар и млад погружены в «тревог туманность».
Ах, как хочется снова побывать жарким летом в уголке, который я умилительно живописала в своей книге. Все в этом краю полно воспоминанием об Алексее Федоровиче, и столик его под кленами все еще цел и скамейка зеленая как будто ожидает нас обоих. Как хочется! Но – тревога…[323]
Иной раз в те давние времена удачный мирный быт нарушали гости. Бывало это обычно в сентябре, 23-го числа, в день рождения Алексея Федоровича. Сначала приезжали самые близкие, всегда несколько человек. Пиама с Юрой, Петя Палиевский, А. В. Гулыга, Л. В. Голованов, Алеша Бабурин. Петя, после того как в «Контексте» вышла одна из статей Алексея Федоровича о символе, привез в подарок великолепную дыню, всю обклеенную наклейками – «Контекст». Ели дыню с особенным удовольствием. Пиама привезла как-то любопытный кофейный сервиз с подносом и мягчайший плед – они и поныне у меня в ходу, особенно плед. Его полюбила белоснежная кошечка Игрунья, и мы вместе наслаждаемся, отдыхая под пледом Пиамы и Алексея Федоровича. Пиама сделала нам еще один подарок – привела в гости Л. Н. Столовича, философа, стихотворца, небывало остроумного, добрейшей души человека. Леонид Наумович пришелся нам обоим по сердцу и остался таковым навсегда. Хотя он большей частью жил в своем тартуском университетском уединении, но, приезжая, одаривал книгами, стихами и своими открытиями кантовских раритетов.
Это уже позже, к 80-м годам, наплыв посетителей в день рождения стал принимать угрожающие формы – сидели на веранде, в комнатах, в Маленьком домике. А раньше было все просто и совсем семейно, с угощением мы с сестрой или я одна вполне справлялись.
Были гости традиционные, обязательные посетители дачи, без них не обходилось ни одно лето, с начала 70-х вплоть до кончины Алексея Федоровича. Это были наши друзья, профессора М. Ф. Овсянников и В. В. Соколов. Являлись оба друга с важными делами. Михаил Федотович – с японским фотоаппаратом, снимать в разных видах Алексея Федоровича и его окружающих, включая собак. Василий Васильевич – с обсуждением издательских дел, новых идей, рассказами о московских событиях. Знал он поразительно много, удивлял тем, что точно называл годы рождения и смерти, годы выхода книг, был живой летописью происшествий, очень давних и близких. О нем можно было сказать рекламой из старого, дореволюционного журнала «Я знаю все». Он действительно знает все и до нынешнего времени. Я всегда наслаждаюсь, разговаривая с ним даже по телефону. Чего только от него не услышишь, причем это не слухи, не сплетни, а достоверные факты. Сказывается закалка историка, вначале Василий Васильевич был на истфаке ИФЛИ, а потом уже перешел на философский. Особенно ценил Алексей Федорович эволюцию Василия Васильевича в образе мыслей, в том числе в плане религиозном, что существенно сказалось на его книгах. С наслаждением слушали мы, как профессор Соколов читал державинскую оду «Бог». Вот уж никогда не думала о таком повороте в судьбе человека. Значит, Господь его не оставил.
М. Ф. Овсянников – тот обязательно с аппаратом. Приглашается Спиркин. Всех усаживают, то так, то этак. Миша, как его называет Алексей Федорович (для него все давно Миша, Вася, Саша), прицеливается поудобнее, чтобы запечатлеть навеки (так он считал) наши дружеские мгновения. Как будто фотобумага, особенно советская, вечная, да и события могут нагрянуть такие, что и клочков не соберешь. В чем-то он прав, конечно. Вот и сейчас, вынимаю сохранившиеся фотографии мамы, отца, молодыми, красивыми (правда, они только такими и остались в моей памяти и без фотографий), а там и мамина мать, бабушка, которую я никогда не видела (обе бабушки умерли до революции и совсем не старыми), важная, величественная дама с большим чувством собственного достоинства, добродушный ласковый дедушка – я ребенком знала его и даже переписывалась вполне серьезно, а он присылал в письмах рассказы из быта казачьих станиц. Вот так вынешь из кожаной папки (альбомов у меня нет, они сохранились у моей сестры Миночки) дорогие портреты и окунешься в другой мир, который никогда не вернется, а я люблю жить прошлым, уж оно-то никуда не денется, всегда в моей памяти.
Наверное, прав наш записной фотограф Михаил Федотович. Как он радовался, когда в III томе «Истории античной эстетики», который вышел к 80-летнему юбилею Алексея Федоровича (его не отмечали в институте), поместили портрет Алексея Федоровича, удачно снятый на даче под кленами, один из самых симпатичных, а в конце тома, где стояли выходные данные, указали: «Портрет работы профессора М. Ф. Овсянникова». Денег он не взял. От издательства причитался – рубль.
Смотрим мы с фотографий теперь уже покойного Миши Овсянникова (скончался он раньше Алексея Федоровича) тоже молодыми и красивыми, как наши родители и деды, и благодарим Михаила Федотовича.
Бывали на даче гости совсем необычные. Например, американец, профессор Джордж Клайн. Надо сказать, что в конце 60-х начали какие-то слухи просачиваться к нам из-за рубежа, что кто-то Лосевым интересуется, что имя его вошло в историю русской философии, что статьи о нем писали известные русские философы-эмигранты и что в Итальянской философской энциклопедии о нем большая статья. Сообщил нам об этом всезнающий В. В. Соколов, который эту энциклопедию выписал. Мы последовали его примеру и тоже стали ее обладателями. Но, признаться, Алексей Федорович как-то отрешенно и даже болезненно относился к этим разговорам: философия своя, собственная для него погибла вместе с давними книгами, из-за которых он столько страдал. А вот оказывается, что как раз эти книги именно теперь нужны многим людям (никуда не денешься от проблесков свободы).
Стали захаживать к нам на Арбат люди совсем незнакомые, почитатели Лосева (мы и не подозревали, что число их растет). Я даже не понимала, каким образом мы их все-таки впускали в дом. Что-то сдвинулось в общей обстановке и в нашем сознании. Как мы боялись звонков незнакомых людей, которые просили разрешения посетить семинары Лосева по философии. «Какая философия! – возмущалась я. – Вы понимаете, Лосев преподает древние языки аспирантам. Без всякой философии». Люди, наверное, не верили.
Книги выходили, их следовало внимательно читать, и многое можно было вычитать из античной эстетики. Она ведь была той же самой философией, и находились понимающие люди. Власти уже не обращали особого внимания на Лосева. С приходом Лосева в эстетику все давно примирились, на него ссылались, как на главный авторитет. Он начал получать письма от неведомых молодых людей, которые спрашивали: «Как жить?» Неожиданно могли позвонить в дверь, и, хотя я к чужим не выходила, но почему-то, выслушав незнакомый голос из-за закрытой двери, проникалась сочувствием, открывала и смотрела на смущенные молодые лица. Они задавали один вопрос: «Верующий ли человек Лосев?» Я не могла вступать с ними в беседу, отвечала кратко, но утвердительно и советовала внимательно читать его книги. Трогательный и забавный был один случай. Из Башкирии, из сельской местности под Уфой, еще в 1960 году, как, уж не знаю, но добрался до нас школьный учитель, пенсионер, восхищенный книгой Алексея Федоровича «Гомер». Для нас это было непостижимо. «Значит, я кому-то нужен?» – спросил Алексей Федорович с утвердительной интонацией. Пенсионер из-под Уфы хотел как-то поблагодарить профессора. Представьте, я не выдержала и впустила его в дом, целая революция во взаимоотношениях с людьми. Он привез Алексею Федоровичу большой бидон с черной смородиной в сахаре (это считалось очень полезным для здоровья) и другой – с медом (башкирский мед славился).
Я пишу эти строки, а на огромном дачном столе стоит бидон, рябиновая кисть алеет на желтом фоне. В бидоне темно-алые крупные цветы. Но бидон – это ведь тот самый, из-под черной смородины (а из-под меда – в Москве). Я всегда беру его, чтобы ставить на даче букеты цветов. Красиво, декоративно, подходит к золотистым занавесям на окнах веранды и мелким розочкам на клеенке стола. Работаю, смотрю и вспоминаю первого ревностного читателя. Недавно «Гомера» переиздали в серии «ЖЗЛ» с моим предисловием «Гомер, или Чудо как реальный факт».
В Москве на Арбате у нас побывал Борис Шрагин с товарищами (в дальнейшем он эмигрировал и выступал по «Свободе»), потом какие-то французы, их имена я запамятовала, часто приходил Женя Терновский (близкий друг писателя Вл. Максимова, тоже эмигрировал и теперь значится как «профессор Евгений Терновский»), появлялся известный итальянский публицист Витторио Страда и еще итальянцы, затем появились немцы, ученые, не политики, поляки, тоже ученые. Особенно мы сблизились с известным филологом Казимиром Куманецким, переписывались, и благодаря его стараниям Алексея Федоровича приняли почетным членом Польского общества филологов, приезжали болгары, чехи и венгры – все это издатели, переводчики. Но опередил всех, как положено, грек Карвониди, журналист. Брал интервью, сделал хорошие фотографии, не раз появлялся у нас, любезничал, принес журнал со своей статьей. С его легкой руки явились фоторепортеры из журнала «Советский Союз» и из ТАССа.
Все это было самое начало. Потом, уже к годам 80-м, отбоя не было от посетителей, и я обычно приглашала их к утреннему, вернее, дневному кофе. Они пили вместе с Алексеем Федоровичем чашечку кофе, кратко беседовали, и Алексей Федорович уходил в кабинет работать. Кого только здесь не было – от японских телевизионщиков и американских журналистов до какого-то лосевского фанатика из Казахстана (бывшего гулаговца), любимой книгой которого были «Очерки античного символизма и мифологии». Приходил кое-кто с философского факультета МГУ «просто познакомиться с А. Ф. Лосевым», профессора новой формации. Присылали письма, стихи (например, Женя Кольчужкин из Томска[324]), портреты Алексея Федоровича – даже заключенные из лагеря, не говоря о молодых читателях из провинции.
Прибыли к нам М. Хагемейстер из Марбурга, А. Хаардт из Мюнстера. Это они в 1983 году переиздали в Мюнхене, к 90-летию Лосева, «Диалектику художественной формы» со своими очень внимательно сделанными статьями, а потом и появились у нас в гостях; и многие годы, приезжая в Москву, посещали наш дом, писали об Алексее Федоровиче. Все вещественные доказательства общения с Лосевым я сохранила, как и имена усердных читателей и почитателей. Все это пришло поздно, когда Алексею Федоровичу ничего не было нужно, кроме времени и здоровья, чтобы завершить свои труды.
Профессор Джордж Клайн появился у нас в Москве на Арбате в самом конце 50-х годов, может быть, в 1957-м. Он хорошо говорил по-русски, общительный, приятный человек, любитель книг. Он подарил мне альбом репродукций Модильяни и еще какие-то буклеты художников, слишком авангардных. В один из приездов, в 1960 году, Джордж Клайн подарил Алексею Федоровичу новое издание фрагментов досократиков Дильса – Кранца. Вскоре мы получили такие же три тома через АН. Через несколько лет один из этих экземпляров Алексей Федорович подарил Тане Васильевой в честь ее защиты диссертации по Лукрецию, да еще снабдил подарок своими греческими стихами. Не знаю, где теперь находится после кончины Тани, не раз получавшей от Алексея Федоровича и меня поддержку в делах научных, этот давний дар.
Алексей Федорович, в свою очередь, дарил профессору свои книги. В свой приезд в 1968 году Джордж Клайн, к нашему удивлению, рассказал о предстоящей философской конференции во Франции, в Эксан-Провансе, по русскому идеализму. Затем он прислал оттиск своего доклада о феноменологии Гуссерля, Лосева и Шпета, а также библиографии своих трудов и свои биографические данные.[325]
С Дж. Клайном бывали содержательные встречи и беседы, но, конечно, в ряде случаев Алексей Федорович оставался осторожным «проученным» человеком и не мог полностью откровенно говорить с сочувствующим ему иностранцем. Во время этих бесед, как это вполне естественно, я угощала, кормила, поила и заодно разговаривала. Не знаю, почему профессор Клайн решил, что Алексей Федорович после смерти Валентины Михайловны не был женат до 1958 года? В своих комментариях к интервью мистера Клайна я отметила эту неточность. Ведь мы зарегистрировались в декабре 1954-го, спустя год после кончины Валентины Михайловны. Алексей Федорович не мог оставаться один и терпеть не мог неопределенности. Наше соединение сразу создало прочный фундамент для всей дальнейшей деятельности Алексея Федоровича, и он мог ни о чем не беспокоиться, возложив на меня все заботы о бытовой, научной, а главное, издательской стороне.[326]
Я хорошо помню посещения Дж. Клайна нашей московской квартиры. К сожалению, летом 1966 года в Валентиновке, куда он приехал на электричке вместе с больной дочерью, Брендой, меня не было. Принимала гостя наша домоправительница Ольга Сергеевна Соболькова, смутившая Клайна своим обращением к Алексею Федоровичу «мой ангел». Профессор Клайн увидел здесь нечто, связанное «со слепотой Лосева и его духовностью».[327] Должна разуверить почтенного профессора. Ольга Сергеевна была женщина необычайно эксцентричная. Будучи в годах, лет сорока с чем-то, она пришла к нам и прожила лет 10–12, – собиралась замуж, но так и не вышла, – курила, красилась, ходила в модных белых пальто и шляпе, всех профессоров в МГПИ знала великолепно и каждого именовала «мой ангел». Читала бесконечно романы, причем хорошие, у нее был вкус к литературе, цитировала целыми страницами взапуски с Алексеем Федоровичем «Ревизора», сидя на спинке кресла (о ужас для посетителей), пела романсы Чайковского и пела правильно, иначе Алексей Федорович, обладавший абсолютным слухом, не вытерпел бы. Обожала О. Генри и цитировала афоризмы из его рассказов. Один из ее любимых: «Он был свеж, как молодой редис, и незатейлив, как грабли». С этими словами она обратилась к Алексею Федоровичу, поздравляя его с 85-летним юбилеем, и все знающие ее весело смеялись. Алексею Федоровичу была преданна, следила за его рубашками, галстуками, чтобы выглядел элегантно. Но в конце концов фамильярность ее превзошла все границы, и мы с ней расстались после очередного скандала.
Теперь-то я понимаю, как она страдала, не имея возможности официально закрепить свой брак с человеком, которого любила и который был значительно моложе ее.
Наша Ольга Сергеевна достойно умела принять и угостить гостей. На даче у Спиркина она поражала своими кулинарными шедеврами. А тут ожидался американский профессор. Соболькова привезла из Москвы крахмальную скатерть, великолепное угощение и персики невиданной красоты. Устроили пиршество, настоящий симпосиум с вином. Сам Алексей Федорович не пил, но любил для гостей иметь хорошее вино. Ольга расстаралась, и Дж. Клайн сидел у нас до ночи. Приехал он в «фольксвагене», но не учел, что за такими бойкими иностранцами ведется слежка.
Дача Спиркина была окружена машинами известного ведомства. Бдительно следили за нашим гостем, но он, видимо, этого не заметил, особенно после философических бесед, угощения, хорошего вина и чудо-персиков. Мы умели принимать щедро. Дом Лосева славился гостеприимством.
Пусть не думает читатель, что после первых книг Алексея Федоровича, вышедших спустя долгие годы молчания, печатание его трудов шло гладко. Нет, каждая книга требовала усилий: то редактора надлежало «обратить в свою веру», пусть не полностью, но хотя бы частично, то «просветить» его (иной раз такие редакторы вступали с нами в дружеские отношения), а то обращаться к начальству или, если оно само настроено подозрительно, повернуться и уйти, чтобы никогда больше не переступать порога этого издательства. Нет, Лосева продолжали бояться, причем, как я уже упоминала, некоторые историки. И в этом с их стороны было что-то болезненное.
Вместе с тем меня поражала незлобивость Алексея Федоровича, желание объяснить человеку, явно ему враждебному, свои идеи, сослаться на такого неприятеля в своих книгах, отнестись объективно, похвалить. Меня часто раздражало подобное смирение (видимо, сказалась кавказская горячность): «Он нас ненавидит, а вы с ним беседуете». (Я всегда называла Алексея Федоровича на «вы».) Не раз бывали длительные разговоры с Я. А. Ленцманом. Еще студенткой я слышала от обожаемой мной В. Д. Кузьминой похвалы Яше Ленцману, который на фронте читал Платона. Яков Абрамович даже и не подозревал, с каким пиететом я произносила его имя. Как же мне было тяжело, сидя с Алексеем Федоровичем на очередном свидании с Ленцманом в конце 50-х годов в пустом зале Института философии АН СССР (встречи назначались обычно там, так как «Вестник древней истории» помещался тогда на Волхонке), выслушивать пренебрежительный тон этого человека (он был значительно моложе Алексея Федоровича), как будто перед ним сидел некий профан в науке. Но и с ним надо соблюдать вежливость. О людях, не понимавших другого, гордых своим положением, Алексей Федорович обычно говорил: «Не переехали», – не попал этакий себялюбец под колеса сталинского паровоза, прямым ходом летящего в коммунизм.
Где-то в начале 60-х годов написал Алексей Федорович работу об Аристофане, конечно, филологическую, и приложил словарь мифологической лексики Аристофана. Работа основывалась на исчерпывающем лексическом материале. Подал Алексей Федорович ее в «Вестник древней истории» специально ради эксперимента – безобидная, на историческую проблематику не претендует и соответствует начавшейся в журнале тенденции печатать статьи по классической филологии. Но не тут-то было. Работу отклонили, ссылаясь, конечно, на отзывы, написанные так, как пишут о новичках в науке. С тех пор Алексей Федорович никогда не подавал в «Вестник» ни одной статьи. Напечатался «Аристофан» в сборнике МГПИ «Статьи и исследования по языкознанию и классической филологии» (М., 1965). «Вестник древней истории» не отозвался даже на последний юбилей Лосева, хотя постоянно печатает сведения о гораздо менее значительных юбилейных датах. Спасибо хоть некролог поместили. Но, думаю, это была инициатива С. С. Аверинцева, автора некролога, так же, как он при благожелательном С. Л. Утченко напечатал статью к 75-летию Алексея Федоровича. Хотя в редколлегии ВДИ есть мои доброжелатели и ученики, не могу туда ничего лосевского дать, сердце не лежит.
С «Эстетикой Возрождения», а это уже 70-е годы, когда репутация Лосева укрепилась и даже враги вынуждены были делать реверансы, прежде чем выпустить ехидную стрелу, поднялась вокруг Алексея Федоровича невероятная злобная кампания, которую в конце концов победила независимая от штампов марксизма мысль настоящих ученых и стойкий читательский успех.
Начиналась же вся эта эпопея как будто незаметно, в узких коридорах издательства «Искусство». Однажды упомянутый мной В. П. Шестаков, составитель ряда антологий по музыкальной эстетике и теперь доктор философских наук, решил издать очередную антологию, но уже по эстетике Возрождения.
Тексты он подбирал сам, а вступительную статью попросил написать Алексея Федоровича, своего, можно сказать, давнего благожелателя и даже в какой-то мере учителя.
Как известно, Алексей Федорович имел обычай не ограничиваться сжатыми размерами статей. Так поступил он и здесь, написав листа три. Но дело было даже не в размерах, а в содержании. Лосев умудрился во вступительной статье высказать свои заветные мысли об эстетике Возрождения, которые никак не могли устроить составителя. Возрождение – привилегия историков, а с ними, опирающимися на высказывание Энгельса об эпохе, породившей титанов по силе мысли, страстности и характеру (пишу по памяти, но, по-моему, буквально), Шестаков спорить не мог, тем более что здесь историки смыкались с искусствоведами. Независимостью Слава Шестаков не обладал и начал, как редактор издания, подгонять текст Лосева под принятые всеми единогласно установки. Алексей Федорович, как человек мирный и доверявший Шестакову, старался переделывать эту злосчастную статью. В домашнем архиве Алексея Федоровича есть целый ряд истерзанных вариантов статьи с поправками Вячеслава Павловича. Но даже у Алексея Федоровича иссякло терпение, и он наконец отказался уродовать свое детище.
Тогда Вячеслав Павлович решил поставить вопрос о статье на редсовете издательства «Искусство» под председательством его главного редактора Ф. Д. Кондратенко. Повторялась известная ситуация – Лосев вторгался в область, всегда принадлежавшую искусствоведам и историкам. Но Лосев философ, и он имеет право вторгаться в любую область знания; так это было с мифологией, музыкой, математикой. С ним вечно спорил Ленька Постников, тот самый Алексей, сын Егора Васильевича, доктор наук, а тогда еще мальчишка, но уже заносчивый – математик. А вот Саша Штерн (муж Ольги Смыки), тоже талантливый и серьезный, но деликатный, уважающий собеседника, наоборот, усаживался рядом с креслом Алексея Федоровича на скамеечку и беседовал с ним обо всех новых математических теориях, книгах – ни следа какого-то профессионального превосходства. О Вл. Н. Щелкачеве и говорить нечего. Он всегда понимал Алексея Федоровича. И намека не было у этого серьезнейшего математика как-то противопоставлять себя и Лосева. А Виктор Троицкий, высокий профессионал, работающий над трудами Лосева по философии математики? Нет, дело в самих людях, в нетерпимости их к философу Лосеву, которого не грех обидеть (умела давать обидные отзывы математик и логик С. А. Яновская), снесет как-нибудь. Тем более издательство «Искусство», куда Алексей Федорович пришел, по всем понятиям, уже стариком (а для меня он моложе молодых) и где после Саши Воронина начальники не торопились его печатать. «Все равно скоро помрет, – говорили обычно, – чего торопиться со следующим томом». А он все доживал и доживал. На смертный одр положила я том VII (часть первая) его античной эстетики, а о сигнальном экземпляре он знал накануне своей кончины – 24 мая. Вышли назло недругам все восемь томов, да еще с указателями. Любил он указатели и повторял не раз немецкое присловие (Моммзен как будто говорил: «Das Buch ohne Index ist kein Buch»). Вот и соорудила я с помощью моих учениц, Любочки Сумм, Лены Приходько, Лены Макаревич и верной памяти Алексея Федоровича Милы Гоготишвили, роскошные указатели ко всем восьми томам. Пусть душа его радуется.
А тогда как он мучился, когда ушла я на заседание редсовета. Нелегко мне сидеть среди открытых и скрытых врагов и держаться вежливо. Не терпела, если Лосева обижают, даже малейшее шевеление слышу и помню потом всю жизнь. С юности привыкла защищать его, старшего на десятки лет, столько страдавшего вместе с Мусенькой и без нее, и от злых людей, и от уготованной ему Господом судьбы, испытания – потерять глаза. Кто бы знал, что это за мука, ни слова не прочитать, ни слова не написать, всех ведь просить надо. Ну хорошо меня, а то ведь даже человека, которому за это деньги платят, боится лишний раз побеспокоить. Нет, память на зло, ему содеянное, и память на добро, ему пожалованное, у меня хорошая. Казались избитыми когда-то слова Толстого: «Не могу молчать». А ведь, право, наступает минута, когда молчать не могу. И тут, на этом сборище врагов под маской доброжелателей, не смолчала и, чуть не плача от злости, каждому предрекла наказание неминуемое, в чем бы оно ни заключалось, то ли в смерти, то ли в научном бесплодии, то ли в потере репутации.
А Вячеслав Шестаков? Он думал, что выбросил лосевские статьи из антологии и победил? Ничего подобного. Пока шла вся эта возня, Лосев не терял времени. Он печатал целый том, единственный в советской науке, «Эстетику Возрождения», и более того, издательство «Мысль» ее напечатало в 1978 году к 85-летию автора. Спасибо Ларисе Владимировне Литвиновой, зав. редакцией, которая сама редактировала книгу, да еще и в 1982 году издала вторично, но уже во время неутихающего шума вокруг лосевского «Возрождения». Шестаков решил сам написать вступительную статью к своей антологии, но издатели все-таки сообразили, поняли ее убогость, и антология вышла без всякой статьи, да еще со ссылкой, что, мол, существует лосевская «Эстетика Возрождения». Сверх того, статья, которую так корежил Шестаков, была все-таки напечатана редакцией эстетики издательства «Искусство», но отдельно, в сборнике Института философии «Эстетика и жизнь» (1982) под названием «Исторический смысл эстетики Возрождения». Здесь почему-то на отрицательную рецензию не посмотрели.[328]
Стоило выйти «Эстетике Возрождения» из печати, как тут же началось брожение умов. Сразу обратили внимание на больное место, на главу «Обратная сторона титанизма». Лосев, как бывало раньше, пошел против всяких штампованных, утвержденных классиками марксизма характеристик великой эпохи, к истоку всех последующих завоеваний и бед богатой, сытой, забывающей Бога либеральной буржуазии Европы. Книгу буквально расхватали. Одни громко ужасались автору, поднявшему руку на титанов Возрождения, навеки благословенных Энгельсом, другие тихо восхищались отчаянной дерзостью Лосева. Ему мало обличать деспотов-гуманистов; чем лучше их философы, занимающиеся черной магией и колдовством, или Леонардо с его хищно-холодной Джокондой, или Рабле с апофеозом всякой грязи и пакости, называемой реализмом, а вот Савонарола – заклейменный монах-изувер, оказался истинным гуманистом и апологетом умной, безмолвной молитвы (не мог Лосев тогда произнести слово «исихазм», его бы просто не поняли, рано было),[329] да и Фома Аквинский совсем не темный мистик, а философ, тонко понимающий пластическую, телесную красоту. А тут еще и любимый, переводившийся Лосевым в страшном 1937 году, родом из глухого селения на юге Германии, кардинал-неоплатоник Николай Кузанский. И в конце концов Шекспир с горой трупов, символ ужасающей безысходности и гибели титанизма, дошедшего до своего логического конца.
Как же не возмутиться тем, кто долгие годы зарабатывал авторитет на апологии Возрождения. Нашлись, правда, ученые, которые отнеслись к идеям Алексея Федоровича, к работе над Возрождением, а позже к его книге сочувственно или критически, но уважительно, по-деловому, а то и с восхищением. Здесь были самые различные люди, искусствоведы, философы, литературоведы, такие, например, как М. В. Алпатов, А. А. Сидоров, Г. К. Вагнер, Ю. Дунаев, А. А. Аникст, Л. Е. Пинский, Ю. Б. Виппер, Б. И. Пуришев, М. С. Альтман, В. В. Соколов, М. Ф. Овсянников, Г. И. Соколов, Т. Б. Князевская, П. А. Николаев, П. В. Палиевский, А. В. Гулыга, В. А. Карпушин, В. В. Бибихин, Л. Н. Столович, П. П. Гайденко,[330] Ш. Хидашели, Н. Чавчавадзе и многие другие.
Но были те, кто вел до поры до времени любезную, можно сказать, дружескую переписку с Алексеем Федоровичем, вроде А. X. Горфункеля, а когда вышла книга – немедленно переменил тон, как будто были Лосевым затронуты основы самого бытия. Или В. И. Рутенбург, членкор АН СССР, который в сборнике, изданном Научным советом по проблемам культуры под названием «Античное наследие в культуре Возрождения» (М., 1984), опубликовал свою статью «Античное наследие в культуре Возрождения (некоторые вопросы историографии)», с грубыми, неприличными выпадами против Алексея Федоровича, одновременно прислав ему свою книжку (в обмен на вежливо посланную Алексеем Федоровичем «Эстетику Возрождения») с ехидной надписью: «От маленького титана». Сколько хлопот причинило это Т. Б. Князевской, ученому секретарю Научного совета по истории мировой культуры при Президиуме АН СССР и давней почитательнице Лосева.
Умную, изящную, красивую Татьяну Борисовну привел к нам в свое время В. А. Карпушин, когда они оба работали в Институте философии. Как прелестна Татьяна Борисовна на акварельном портрете кисти известного Фонвизина, который я видела у нее дома. Нежно и загадочно смотрит юная Татьяна Борисовна с этого портрета.[331] Я могу его сравнить только с портретом пастелью Е. Е. Лансере, написавшего мою тоже некогда юную мать в 1919 году. Он сохранился у нас, несмотря на все превратности судьбы.[332]
Татьяна Борисовна, ученый секретарь совета, как верный друг, отстаивающий истину, сражалась с Рутенбургом, стараясь выбросить одни выпады, смягчить другие, и сумела-таки добиться сравнительно положительных результатов. А ведь это шли годы наибольшего признания Лосева, его последние юбилейные годы.
В Ленинграде и Москве устраивали под видом научного исследования эпохи Возрождения конференции с проработкой Лосева. На одной такой в Москве, в Музее изобразительных искусств, мне довелось присутствовать, и я получила полное представление от этого собрания. Задеть Лосева сильно там опасались, произносили похвалы, делали реверансы, а между ними покусывали с оговорками. Жалкое зрелище, а главное, вполне бесплодное.
Есть и сейчас друзья и враги Лосева во взглядах на Возрождение. Так, Э. Чаплеевич (Варшавский университет) восторженно принял книги Лосева,[333] стал его настоящим пропагандистом. Он не раз посещал наш дом, и при жизни Алексея Федоровича и после его кончины, восхищаясь мощью его творчества.
А вот, например, К. М. Кантор, частый посетитель редакции эстетики издательства «Искусство», уже вдогонку покойному Лосеву направил свою негодующую статью, издевательски предлагая назвать книгу скончавшегося в 1988 году автора не «Эстетикой Возрождения», а «Эстетикой Вырождения» и полагая, что у Лосева «все поставлено с ног на голову» (заодно ссылаясь, что характерно, на В. Рутенбурга).[334] Удобно критиковать покойника – он ведь безмолвствует. Но есть книга, ее читают, идеи ее усваивает новое поколение, она живет уже своей, ни от кого не зависимой жизнью. Она говорит.
Да что «Эстетика Возрождения». Когда Т. Б. Князевская хлопотала об открытии Античной комиссии во главе с Лосевым при Научном совете по культуре АН СССР, то встретила страшное противодействие. Боялись Лосева-идеалиста. Но мудрая Татьяна Борисовна заручилась мнением Р. И. Косолапова, который в 1981 году напечатал в «Коммунисте» (№ 11) статью Алексея Федоровича «История философии как школа мысли». Перед мнением главного редактора журнала «Коммунист» враги отступили.[335] Что на это скажешь?
Не успели мы отдышаться от последствий «Эстетики Возрождения», как навалилась новая напасть. Начиналось, это уж обычно, все исподволь.
Затеял А. В. Гулыга (царство ему небесное!) издавать сочинения в трех томах Вл. Соловьева. Великое дело! Но прежде решил издать Н. Федорова, о котором смутно где-то кто-то слышал, что были такие «федоровцы», какое-то воскрешение отцов и загадочная книга «Философия общего дела», изданная в г. Верном (Алма-Ата) учениками этого философствующего (не философа – настаивал Лосев) странного человека, бессребреника, аскета, книжника, спорившего с Толстым и Вл. Соловьевым. Как ни уговаривали Арсения Владимировича сначала издать гораздо более безобидного Вл. Соловьева, а потом Федорова, чтобы приучить власти и читателей к невиданной крамоле, упрямый Гулыга не соглашался.
Появился в 1982 году «Федоров» (однотомный), начальство мгновенно отреагировало, наложило запрет, но не тут-то было. Любознательный читатель и предприимчивый директор магазина успели раскупить и распространить большую часть тиража, а под шумок вскорости и все распродали. Но скандал получился большой, издательство «Мысль» стали прорабатывать, трехтомник В л. Соловьева повис в воздухе.
Вступительную статью предложили писать Алексею Федоровичу. Он, памятуя свое молодое пристрастие к Вл. Соловьеву, с радостью согласился. Написал, как обычно, не менее трех листов. Испуганный редактор принялся править и на первых же страницах менял почти каждое слово, надписывал свое над лосевским, о чем свидетельствуют экземпляры, хранящиеся в нашем домашнем архиве. Пока Алексей Федорович менял то один вариант, то другой (вспоминается история с предисловием к антологии по Возрождению), пока мы перепечатывали (за свой счет) все тексты Вл. Соловьева для трехтомника, начали сгущаться тучи, устраивались заседания редколлегии, где главную роль играли ведущие «знатоки» русской философии. Мы знаем хорошо, как при советской власти изучали эту философию. В общем, вся реакционная братия (и тут всплыл член-корреспондент Иовчук) общими усилиями свела трехтомник до двухтомника, а затем утопила все издание. Опыт с Федоровым показал невозможность по-человечески издать великого русского философа. После некоторых важных событий в жизни Лосева разрешили издать наконец Вл. Соловьева. Вышли оба тома в 1988 году уже после его кончины. Так и не подержал в руках.
Однако, как всегда, статья к сочинениям Вл. Соловьева оказалась только затравкой. Алексей Федорович вышел за ее пределы и начал усиленно работать над книгой, обследуя всю литературу: дореволюционную, эмигрантскую, русскую, иностранную, – поднял, как ему положено, все, вплоть до мелких журнальных старинных статей и советских диссертаций, где авторы под видом критики пытались сказать что-то свое, привлекающее их в Соловьеве.
Работа у Алексея Федоровича шла полным ходом. Готовился большой том.
Издательство, продолжая свою благородно-просветительскую линию, умудрилось издать двухтомного Николая Кузанского (1979–1980), куда вошли заново отредактированные переводы Лосева из «Сочинений Н. Кузанского» 1937 года. Алексей Федорович не терял времени. Он с середины 70-х годов проделывал большую работу для энциклопедии «Мифы народов мира», где к нему давно привыкли (сыграло роль его участие в «Философской энциклопедии»), поручали важные статьи, сделали членом редколлегии этого издания и вообще относились по-дружески, особенно зав. редакцией В. М. Макаревич и его супруга Галина Гамидовна, которую мы знали еще совсем юной. С ними Алексею Федоровичу и мне работать было – одно удовольствие. Энциклопедия – двухтомная, роскошная – увидела свет в 1980–1982 годах.
Как раз в это время редакции «Философского наследия» издательства «Мысль» пришла в голову идея издать для просвещения публики маленькую книжечку «Вл. Соловьев» в серии «Мыслители прошлого». Серия эта известна десятками книжечек, написанных знатоками своего дела, добросовестно сделанных. Эту серию издавали обычно стотысячным тиражом, и она пользовалась огромной популярностью. Лосев схватился за предложение, выбрал из большой рукописи о Вл. Соловьеве необходимый объем, ужал до нескольких страниц биографию философа, которая в рукописи занимала более сотни, пришлось изменить композицию, сохранив всю концептуальную характеристику мировоззрения и стиля, а также заключительные трепетно-интимные страницы.
Как молодо и задорно начиналась эта небольшая книжечка: «Вл. Соловьев – это идеалист с начала и до конца; Вл. Соловьев – это фидеист, и тоже с начала и до конца; Вл. Соловьев всегда мыслил вне марксизма… Если мы не договоримся об этой философской основе Вл. Соловьева, то читатель должен начать с того, чтобы закрыть эту книгу и не тратить времени на ее усвоение». И далее: «Вл. Соловьев – идеалист, но Л. Толстой и Ф. Достоевский – тоже идеалисты» (с. 1). Да что уж там – цитировать можно все подряд. А конец? «Он любил Россию… критиковал и Восток и Запад и все общественно-политические несовершенства царской России. Но сама Россия, в течение всей его жизни, оставалась его единственной и страстной любовью». А вот последнее, идущее от самого сердца «Спасибо ему» не осмелилась напечатать даже столь отважная редакция издательства «Мысль». Но и этого было достаточно. Редактирование поручили недавнему сотруднику редакции Виктору Сукачу, знатоку В. В. Розанова, человеку честному и в хитросплетениях издательских интриг пока неискушенному. Из осторожности, «на всякий случай», тираж сделали меньше обычного – 60 тысяч, печатали подальше от Москвы, в Калининграде (бывшем Кенигсберге). Правда, поговаривали, что типографы сделали негласно еще несколько тысяч книжечек, распродавая их самостоятельно.
И вот в «Книжном обозрении» 29 апреля 1983 года появилось долгожданное объявление о Вл. Соловьеве в разделе «Книги недели». Какая радость, какое ликование! И вдруг рано утром звонит А. В. Гулыга с мрачным сообщением. Книгу решили изъять, «пустить под нож» как вредную. Срочно надо действовать. Заволновались издатели. Донос поступил, как стало известно, от члена-корреспондента Иовчука, хранителя устоев советской философии. Донос, как выяснилось, был сделан в устной форме, чтобы не оставлять следов. Но, как всегда, тайное стало явным.
Делу дали ход. Оно развивалось стремительно. Уже 29 апреля приехали к нам издатели, зам. главного В. Е. Чертихин и Л. В. Литвинова – наши благожелатели. Сидели, думали, куда писать. Советский человек привык – на самый верх, Ю. В. Андропову, генсеку КПСС. В дни Международного праздника трудящихся 1 и 2 мая сочиняли с Алексеем Федоровичем послание. В девять утра 3 мая оно было перепечатано, прибыл в 12 часов А. В. Гулыга, одобрил, а 4-го я отвезла письмо в приемную ЦК (для крепости копию – М. В. Зимянину, секретарю ЦК КПСС). Директора издательства В. М. Водолагина 5-го вызвали в Комитет по печати, для острастки. 6-го из Комиздата звонок на Арбат – выбросить Лосеву слова и выражения, хвалебные, в адрес Соловьева. Вечером опять наши издатели. Подключается Л. В. Голованов из «Коммуниста», сообщает о том, что главный редактор Р. Косолапов готов помочь. Голованов 17 мая заверяет, что книга выйдет, судя по тому, с каким интересом ее читает Р. Косолапов. Не дремлет и А. В. Гулыга, поддерживает советами, приезжает, загадочно намекает на какого-то влиятельного писателя, «входящего в верхи». Ждем от этого неизвестного благодетеля помощи. Действительно, 8 мая письмо Лосева передали «наверх». От влиятельного писателя поступает время от времени информация. И вдруг – звонок от первого зам. министра по печати И. И. Чхиквишвили, один – 31 мая, второй – 1 июня: «Ждите, Алексей Федорович, приеду 2 июня в 13.15 к вам на Арбат, прямо домой». В назначенный день наш высокий гость прибывает в кабинет Лосева. Алексей Федорович в кресле за письменным столом, как обычно. Гость – напротив, там, где сидит секретарь. Я примостилась рядом с Алексеем Федоровичем. Ведем сначала светский разговор. Ведь я знакома с зам. министра, бывала не раз, просила бумаги для V, а потом и VI тома ИАЭ. В это дело включился и наш друг Л. В. Голованов. Учился когда-то с Б. Н. Пастуховым в вузе, тоже ходил с просьбой о листаже. Министр вспомнил, дал указание на бумагу.
Разговор продолжался мирно. Наш гость живет рядом, в Сивцевом Вражке (я знаю этот большой важный дом), так что домой собирается идти пешком, машину отпустил. Осматривает кабинет с мраморной головой античной богини на шкафу. Предупреждаю, что сидеть под ней опасно – в любой момент может упасть с расколотого в бомбежке постамента, держится чудом. Но гость отказывается пересесть, он не боится случайностей. Чтобы всем нам было приятно, вынимает огромный том нидерландской живописи, вручает мне, в подарок, хороший том, внутри вложены визитные карточки самого министра и Чхиквишвили. Так они лежат и по нынешнее время.
Разговор плавно переходит к философии, собеседник начитан, может обменяться мнениями. А тут уже и Вл. Соловьев, важная тема, нужная книга, но не все учтено, народ не подготовлен, надо расставить акценты; если трудно, то вот в помощь готовый экземплярчик, там уже все включено, вписано, тушью вычеркнуто. «А впрочем, Алексей Федорович, зачем вам что-то менять; ведь можно написать заново. Эту же книжечку мы просто пустим под нож, и хлопот меньше. Заново же вами написанную обязательно напечатаем». – «Да, да, надо подумать», – задумчиво и как-то отрешенно бормочет Лосев. Тут вмешиваюсь я, мирно, ласково: «Так давайте обдумаем, правда, Алексей Федорович? Только нам надо эту вашу книжечку посмотреть, поразмыслить, решить». – «Что же, – отвечает с готовностью собеседник, – берите ее, а за ней я пришлю человека дня через два». Прощаемся дружески, провожаем гостя, целует руку, улыбается приветливо. Уходит. Книжечка, главное, у нас в руках. Нет, я ее никому не отдам. Это документ величайшей важности, единственный. Надо хранить для потомства.
Ну как же можно согласиться, если перечеркнуты не только абзацы, но и целые страницы, вклеены машинописные вставки да еще почему-то цитаты из ленинского «Материализма и эмпириокритицизма», выброшены мало-мальски одобрительные эпитеты. Сам Владимир Сергеевич «поставил себя на службу идеализму», а, как известно, в идеалистической системе «познание истины невозможно». Особенно возмутила комитет характеристика личности Соловьева: «возвышенная», «весьма высокого типа», «необычайность его человеческих качеств», «оригинальность и свежая значимость» теоретической философии, «темперамент и ораторский пафос» философской манеры. Что же касается видений Вл. Соловьева, вечной женственности, Софии и подозрительных «морских чертей», да еще в интерпретации реакционера Е. Н. Трубецкого, так тут и спорить не о чем – все вычеркнуто. В завершение опять та же песня: «философ-идеалист умирал с мыслью о неспособности идеализма, как системы идей, быть путем к истине». Бедный Вл. Соловьев, а мы-то думали, что он умирал, причастившись, со словами «трудна работа Господня».
Внимательно изучили книжечку, которую наши хитроумные издатели специально для комитета разрисовали тушью и расчеркали так, чтобы мы без колебаний отказались ее переделывать. Раздумывать нечего. Мы не согласны.
В условленный день, после звонка по телефону, появляется молодой чиновник – приехал за книжечкой. Я разговариваю с ним в коридоре. Говорю сразу – переделывать ничего не будем, а книжечку оставим себе. Чиновник возмущен, но что ему делать, не драться же со мной, седовласой пожилой дамой, вежливой и злобно-спокойной. Выпроваживаю его и жду звонка от шефа. Вскорости, 6 июня, звонит зам. министра. Уже не любезньй и лощеный голос, а окрик в телефон, угрозы: как смеем, кто разрешил, что за безобразие, вернуть немедленно. Слушать я не хочу. Кладу трубку, и становится удивительно легко и весело.
Книжечка эта хранится в кабинете Алексея Федоровича и поныне, а режиссер фильма «Лосев» Виктор Косаковский, наш друг, переснял ее на пленку, держит при себе.
Под нож так под нож, ничего не будем больше писать и просить никого не будем. Но Гулыга ведь не дремлет, и загадочный писатель, его знакомый, уже пробирается по коридорам власти, доходит до самого генсека. 8 июня письмо вручают. Нам сообщает все тот же неутомимый борец, Арсений Владимирович, что генсек приказал книжку оставить в живых, разрешить продажу. И разрешили – в Москве ни одного экземпляра (только Литвинова выдаст тайком какие-то авторские). В Ленинграде из вагона с тиражом уже успели разворовать кое-что и продать за бешеные деньги, цена доходит до 100 рублей (а стоит-то она всего 25 копеек). Зато весь тираж, 60 тысяч, – в ссылку – в Среднюю Азию, на Дальний Восток, на Урал, в Магадан, на полустанки и в горные аулы Дагестана и Северной Осетии, в сельские лавочки, где продают керосин, мыло, хозтовары, нехитрые продукты, а заодно и завалявшуюся книжную макулатуру, в нагрузку.
Книготорг и его покровители знали, что делали. Не будет же Андропов наблюдать за исполнением приказа.
Времена настали поистине либеральные. Раньше-то Лосева за «Диалектику мифа» сразу в лагерь, канал строить, перековываться. А теперь сиди себе в кабинете, пиши, жди, когда твои книги напечатают, – старик, помрешь скоро. Зато «Вл. Соловьев» в ссылке погибнет сам собой.
Но не погибла эта маленькая вредная книжечка. «Мал золотник, да дорог» – старая русская пословица, верная. Всюду отыскивали этот золотник ученики и друзья Лосева, привозили ее из глухих мест. Миша Нисенбаум с Урала – десять экземпляров, В. В. Круглеевская объехала горные селения Северной Осетии на машине – прислала с моей сестрой десять. Почти незнакомая диссертантка с Дальнего Востока прислала пять, из туркменского кишлака – три.
Кончилось тем, что стал Лосев раздавать свою книжечку почитателям и друзьям, да и себе запасец оставил.
Комиздат же не успокаивался. Туда переслали из ЦК письма Лосева (обычай известный: на кого жалуешься, тому посылают твою жалобу), и мы сподобились получить послание самого министра от 15 июня 1983 года. В этом письме была одобрена «информация» (а мы скажем – донос) «о недостойной работе издательства». Особое удивление вызвало то, что не использованы оценки Ленина (а их, по существу, у Ленина нет вовсе), да еще в его Полном собрании сочинений (значит, см. по указателю). «Вряд ли, – пишет отправитель, – нам в современных условиях обострения идеологической борьбы на международной арене нужно преувеличивать роль Вл. Соловьева в истории русской культуры». Это преувеличение особенно беспокоит. Интересно, что было бы сказано через несколько лет, когда возникла из небытия вся русская философия во главе с Соловьевым, да и книга Алексея Федоровича (большая) вышла в 1990 году?!
Самое любопытное, что письмо завершает дипломатическая фраза (на всякий случай, «и милость к падшим призывал»): «Позвольте в заключение поздравить вас с приближающимся 90-летним юбилеем и пожелать доброго здоровья и творческих успехов».
В это же самое время готовится в Комиздате высокое собрание, куда должны вызвать несчастных издателей. Действительно, в Госкомпечати происходит заседание коллегии, решение которой от 13 июля 1983 года подтверждает грехи издательства и автора. Оказывается, что «вопреки исторической правде в книге преувеличивается вклад Вл. Соловьева в развитие русской культуры». В книге «восторженно цитируются отнюдь не прогрессивные современники Соловьева (Розанов, Трубецкой)». Читателям автор «навязывает объективистскую оценку, лишенную марксистско-ленинского классового содержания» (молодец Алексей Федорович, старый идеалист!). Всем далее воздается по заслугам. «За серьезные идейно-политические недостатки» директору – строгий выговор с предупреждением. Зам. главного «за беспринципность» – строгий выговор. Поручается рассмотреть вопрос «об ответственности» зав. редакцией Литвиновой, а также укрепить редакцию кадрами. Наказание автору, разумеется, само собой – книжку не продавать в Москве и Ленинграде, а решение коллегии рассылать по всем издательствам для устрашения. Негласное указание – задержать все издания Лосева.
В 1994 году издательство «Мысль» стараниями Л. В. Литвиновой выпустило второе издание книжечки «Вл. Соловьев», дополненное выброшенными когда-то при редактировании мелкими, но на стиль влияющими словами и строчками. Книга стала потолще – было 208, стало 230 страниц.
С того самого 29 апреля 1983 года «Книжное обозрение» упразднило рубрику «Книги недели», а ввела с 6 мая новую «Сигнальные экземпляры». Издатели и автор в своих обращениях ссылались на «Книжное обозрение» – нельзя уничтожить книгу, если она вышла, то есть пошла в свет, продается. Редакция «Книжного обозрения» с тех пор учла урок, преподанный «Вл. Соловьевым».[336]
Писателя же никакого не было. Арсений Владимирович, чтобы вселить в нас бодрость, вводил нас же в заблуждение. Когда опасность миновала, выяснилось, что была поэтесса Екатерина Щевелева (близка к Андропову по комсомольской юности), которую к делу Лосева привлекла, объяснив всю его принципиальность, известная переводчица И. Ф. Огородникова,[337] помогавшая добрыми советами (познакомил нас все тот же Арсений Владимирович). Арсений Владимирович написал об этой эпопее статью в газету, где упомянул обеих, но они по скромности сами нигде о своей спасательной акции не вспоминали. До сих пор не могу забыть о бескорыстной помощи этих женщин и А. В. Гулыги, вдохновившего их Лосевым.
Издательства честно выполняют указание, задерживают, как могут. Даже безобидный юбилейный том «Античная культура и современная наука» выходит только в 1985 году (издательство «Наука»). Издательство «Искусство» побило все рекорды – том VII ИАЭ «Последние века», сданный после 1980 года, выходит в 1988 году, а давно готовый том VIII, переданный мной осенью 1988 года, увидел свет в 1992 году (1-я книга) и в 1994 году (2-я книга). Вот как надо выполнять указания, даже «когда начальство ушло». До сентября длится вся эта «вредная путаница» (слова Алексея Федоровича) с Вл. Соловьевым. Кому не лень, пытаются, пусть по мелочи, навредить Лосеву. К этому времени относится история со статьей В. И. Рутенбурга по поводу «Эстетики Возрождения», и я пишу письмо ученому секретарю Совета по культуре 15 августа. У В. В. Бычкова в издательстве «Искусство» требуют, чтобы он снял посвящение Лосеву в книге об Августине и самое книжку нещадно режут (сообщение от 25 июля 1983 года). Работа над «Диалогами» Платона в «Мысли» приостановлена.
Решение коллегии министерства приходит в издательство 27 июля, а уже 28-го собрали там партсобрание, чтобы «проработать» Литвинову и Сукача.
Как парадокс – запоздало выходит проспект издательства «Мысль» «Лучшие книги» (экономика, философия, история, география), и среди лучших – А. Ф. Лосев «Вл. Соловьев» («Мыслители прошлого»). Самое замечательное, что происходит вся эта фантасмагория, когда к 90-летнему юбилею Алексея Федоровича готовятся и в России, и за рубежом.
В преддверии юбилея на одном из собраний Союза писателей стихийно выступают профессор МГУ, теоретик литературы П. А. Николаев, А. В. Гулыга, критик В. Гусев, тут же дают рекомендации – принять Лосева в члены Союза писателей. «Его фундаментальные труды по античной и возрожденческой эстетике, по теории литературы и языкознанию давно имеют мировую известность». Имя его «может лишь украсить» Союз писателей, пишет П. А. Николаев. Алексей Федорович Лосев «крупнейший философ, литератор, личность». Его труды по теории символа, Ренессансу – «духовная культура». «Странно, что он не член Союза писателей, необходимо его принять как можно скорее», – вторит В. Гусев. А. В. Гулыга с гордостью говорит о человеке, «которого считают своим учителем не только многие критики, но и прозаики, поэты, драматурги, переводчики, публицисты». Лосев старше Союза писателей больше чем на сорок лет. Сначала он отметит свое 90-летие, а затем Союз писателей – свои полвека. «Мне хотелось бы, чтобы задолго до этих праздников и дат Алексею Федоровичу был вручен членский билет… рекомендую это сделать как можно скорее», – заключает А. В. Гулыга.
Точно к юбилею выходит в Тбилиси сборник «А. Ф. Лосеву – 90 лет», в котором его поздравляют не только ученые, но и наборщики типографии. В огромной университетской аудитории Лосев вдохновенно произносит речь «Двенадцать тезисов об античной культуре», ему восторженно аплодируют, фотографируют. Впервые после изгнания из МГУ в 1944 году Алексей Федорович выступает в стенах некогда родного университета. В Мюнхене к юбилею выходит «Диалектика художественной формы», впервые после 1927 года. Ю. Ростовцев в «Студенческом меридиане» неустанно печатает беседы Лосева по философским и жизненным проблемам.
В адрес Алексея Федоровича идут сотни поздравлений, почитатели осаждают квартиру, тысячная аудитория рукоплещет ученому, который провозглашает вечную молодость в науке и не страшится сказать перед всеми: «Ухожу в бездну истории». Несут цветы, произносят речи, вручают подарки, преклоняет колено и целует руку учителю Сергей Аверинцев. Общий энтузиазм, общий праздник объединяет всех. Лосев – символ этого единения людей мыслящих.
Не привык десятки лет гонимый Алексей Федорович к небывалому чествованию. Он смеется: «Я теперь вроде как человек».
Правительство в лице Андропова издает указ о награждении Алексея Федоровича орденом Трудового Красного Знамени с удивительной формулировкой «за многолетнюю плодотворную подготовку философских кадров». Понимает ли читатель этот парадокс? Лосев – доктор филологических наук, девяностолетний профессор, которого Министерство просвещения и Министерство высшего образования удостаивали только грамотами и значками, отрешенный от философии, можно сказать, проклятый властью, вдруг заслужил потрясающую формулировку – готовил многие годы философские кадры. А ведь это истинная правда. Только готовил он эти кадры не в университете (туда и на порог философа не пускали), не в своем МГПИ имени Ленина, а книгами, своими книгами готовил новых, молодых философов. Российского, советского читателя приучал он к Платону, Аристотелю, Проклу, Николаю Кузанскому, Вл. Соловьеву, к философии, где не было вражды идеалистов и материалистов, а были поиски истины и смысла жизни.
Еще в «Диалектике мифа» в 1930 году Алексей Федорович писал об удивительном классовом чутье большевиков, безошибочно распознающем врага. А ведь это самое чутье и подготовило столь диковинную формулировку указа. Оно, конечно, Лосев филолог, все на текстах работает, все тексты переводит то с греческого, то с латинского, а вот чутье подсказывает – философ он, что это мы его с испугу запрятали в филологию да еще классическую. На самом деле Лосев свою систему философскую создал и потому имеет право вторгаться в любую область знания. Быть ему философом.
Писали в ЦК КПСС А. В. Гулыга и В. В. Соколов с обоснованием самых высоких наград, но там пыл их охладили. Нельзя переступать правила. Никакого Героя не дадут человеку, в жизни ничем не награжденному. Ну, Трудовое Знамя заслужил, действительно трудился. Сам Лосев признавал – «как ломовая лошадь». Один министр, по образованию, М. А. Прокофьев, лично приезжает к Лосеву вручить коробочку с орденом (указ от 22 сентября 1983 года – канун дня рождения), либерально побеседовать о науке, выпить чашечку чаю вполне демократично.
Какой удивительный день был вчера. Ходила взад-вперед по аллее, как, бывало, гуляли вдвоем с Алексеем Федоровичем. Теперь двое не пройдут, заросла аллея, осталась узкая дорожка – для одного. Так оно и есть. Смотрела на небо сквозь верхушки сосен. Когда-то мы вдвоем смотрели, вернее, я объясняла Алексею Федоровичу предвечернюю небесную высь, каков закат, какими красками отливает, колышутся ли верхушки мощных стволов или замерли в тишине. Гадали, какой день настанет, ветреный, холодный, мягкий, солнечный – и всегда невпопад. Теперь я уже не гадаю, мне все равно ходить одной, даже лучше, если дождь и серенькая погода. Печально, но свое. А вот вчера в одном углу, среди сосновых вершин, небывало синело, совсем как писал Алексей Федорович в «Диалектике мифа» о небушке голубом-голубом. Вчера же оно пронзительно-синее. И по нему – одинокая тучка, невесомая, пушистая плывет. Вот эта синева и есть София – премудрость Божия, не может она быть иной. Твердо так подумалось – воплотилась в этой синеве премудрость Божия. Тихо было и как-то значительно. Но ушло, скрылось, исчезло, всюду облака затянули небо, и тишина совсем другая, сонная, не трогающая душу.
Вспоминается год 1986-й, преддверие конца. В ночь на 12 августа (вспомните, в такую же ночь обрушилась катастрофа 1941 года на дом Лосева) слышу голос Майи Николаевны: «Аза, вставайте, мы горим». Почему-то говорит она тихо, спокойно, а мне все еще снится, что где-то лопаются стеклянные шары, разбиваются, падают откуда-то сверху. А это вовсе и не шары лопаются во сне, а шиферные крыши Маленького домика и большого сарая трещат от огня. Быстро вскакиваю, бужу Алексея Федоровича. Он совсем спокоен. Одеваю его, как следует, потеплее, в осеннее пальто, веду осторожно в аллею, усаживаю на скамейку – она как раз посередине, под огромным деревом, вдали от дома. Укутываю Алексея Федоровича в шерстяные одеяла, пледы, ночь холодная, август, не дай Бог простудится. Сама спешно, но вполне разумно собираю рюкзаки с рукописями и книгами. Не знаю, откуда берутся силы, таскаю тяжелейшие рюкзаки туда, к скамейке, где Алексей Федорович, – это его достояние. Главное, чтобы огонь не перекинулся на наш Большой дом. Огонь пылает вовсю, небо горит, стволы сосен уже занялись, верхушки горят, пожарные из Раменского льют воду, рубят ветки так, чтобы огонь не перешел по развесистым деревьям к нам. Уже угол дома, где как раз электрический щиток, запылал огнем. Бросаются тушить. Откуда-то набежал народ, тащат что ни попало из Маленького домика. К счастью, его обитатели, наши друзья, Оля и Саша вместе с девочками ночуют в Кратове, где у них тоже комнаты в даче Воздвиженских (старики умерли – остались внуки). К утру остается черное пепелище, все выгорело, ни травинки, мрачно стоят черные обугленные стволы.
Наши погорельцы на следующий день развешивают и раскладывают жалкие остатки своего скарба, в основном горелые книги. Там есть и мои, мокрые, обгорелые – давала читать Ольге.
Несколько лет черно на месте сарая и срубленных горелых деревьев. А домик уже вовсю отстраивает неунывающий Иван, да еще больше и лучше прежнего. Потом построит и сарай, подальше от дома, и снова наполнится он всякой рухлядью, ненужным хламом и досками. Сгоревшую пилораму тот же умелец Иван выстраивает заново, снова пилит на ней целыми днями доски, и регулярно гаснет то одна, то другая фаза электричества, реагируя на ухищрения великого мастера на все руки. Оля и Саша на следующий год снова поселяются в Маленьком домике, и стоял он долго – памятью покойному уже Ивану Георгиевичу.[338]
Вышла в перерыве пройтись по аллее, а под деревьями, в стороне, – огонь, огромный костер, как раз к моим воспоминаниям. Хозяева жгут ветки, сучья, хворост. Пахнет дымом и краской, молодежь красит забор; великое предприятие, если забор 250 метров.
Лосев пережил три пожара: один в детстве – предвестье великих потрясений, другой в сорок восемь лет – уничтожение родного дома, третий в девяносто три года, как предчувствие конца жизни.
И действительно, стал после этого покашливать Алексей Федорович, сидя в своей неизменной качалке, а ласковая Старая дама (ее как домашнего врача прислала нам не очень разбиравшаяся в людях наша добрая знакомая) приговаривала: «Вот и хорошо, откашливается, отхаркивается», и я, глупая, как завороженная слушала. Потом узнали, что она и вовсе никакой не терапевт, а санитарный врач и поклонница именитых, стародворянских семей, всеобщая приятельница, всегда готовая услужить, давление померить, таблетку дать, чаем напоить, укол сделать.
Так начала гнездиться в крепком, никогда не болевшем Лосеве болезнь. Работает человек каждый день, сидит в кресле, покашливает, ну и что особенного. Лишь бы работал. А он не только работал, но еще и Государственную премию получил в этом злосчастном 1986 году. Что-то много было злосчастных моментов в жизни Алексея Федоровича, а он, как горный дуб, крепко держался корнями, но и корни можно потихоньку, постепенно лишать жизненных соков, и дуб гибнет от злого вмешательства, а каково человеку в девяносто три года, если вертится рядом услужливая вражья сила (смерть причину найдет). Ночью спит, сладко похрапывая, и не слышит рядом из-за стены голоса Алексея Федоровича, а я через большую столовую слышу и бегу к нему стремглав среди ночи. Но я люблю его, а она любит себя.
Так вот в этом злосчастном 1986 году к великому празднику Октября присудили Лосеву за шесть томов ИАЭ (1963–1980) Государственную премию. Указ вышел за подписью Горбачева.
Перестройка началась в 1985 году, и неведомый нам Виктор Ерофеев, сотрудник ИМЛИ имени Горького, о котором мы никогда не слыхали, уже успел в этом году взять у Алексея Федоровича интервью, всполошившее интеллигентов. Как же! Лосев наконец раскрывает себя, говорит о том, что было потаенно, скрыто, а имена какие называет – Флоренский, Розанов, Леонтьев, Вагнер, Скрябин – вот, оказывается, что возвестило нам интервью в «Вопросах литературы» № 10 под названием «В поисках смысла». Робкий с виду Ерофеев пробился к нам через мою ученицу Нину Рубцову, тихо так пришел, скромно, с магнитофоном. «А, машинка, – сказал Алексей Федорович. – Я их не люблю». – «Да вы не беспокойтесь, Алексей Федорович, я вам весь текст покажу», – и начал настырно так спрашивать, в душу лезть. Лосеву же, думаю, просто осточертело молчать.
Хоть на старости лет, хоть под конец жизни приоткрыть заветное, дорогое, пусть умные далее копают, догадываются, все равно не дороют до глубины.
Молодые тоже рвутся беседовать, тут вам и симпатичный, еще без окладистой бороды Сережа Кравец появился, интервью брал о русской философии – стал нашим другом. Чудо случилось – нашли в Ленинке статью молодого Лосева, в Цюрихе в 1919 году напечатанную, «Русская философия» – по-немецки. Автор о ней забыл, не знал ничего, а немцы раскопали, М. Хагемейстер пропечатал в мюнхенской «Диалектике художественной формы» (см. об этом выше). Случилось же, что как раз из спецхрана сборник со статьей перевели в научный зал. Вставала заря перестройки… Так всплыли молодые философские пристрастия Лосева, а Сережа Кравец оповестил об этом всех читающих журнал «Век XX и мир» (1988, № 2–3), издаваемый на разных европейских языках. Неуемный Сережа спешно печатает в «Литературной учебе» серию глав из новой книги Алексея Федоровича «Проблема художественного стиля», которая полностью выйдет только в 1994 году в Киеве. Юрий Ростовцев каждую неделю у нас, беседует с Алексеем Федоровичем о его детстве, юности, записывает старательно на пленку, хочет сочинять книжку о Лосеве-гимназисте, тоже торопится запомнить лосевские рассказы, пока есть время. Много будет печатать Юрий Алексеевич из воспоминаний своего собеседника в разных альманахах, в «Студенческом меридиане», соберет из статей Алексея Федоровича в своем журнале целую книжку «Дерзание духа» (1988). А название это не случайно. Вместе с Натальей Мишиной в «Правде» напечатал он интервью с профессором Лосевым под названием «Дерзание духа» – это 1985 год, заря перестройки. Приходит к Алексею Федоровичу Наташа, спрашивает, как и многие, что такое Бог, – это сотрудница «Правды». Чудеса! Умер Лосев, умерла в муках мать Наташи. И пошла она в храм, в Троице-Сергиеву лавру, ходит в платочке, работает в издательстве патриархии, хочет в монастырь. А теперь уже монахиня Павла.
Тут и Павел Флоренский подоспел с Юрием Ростовцевым, беседует с Алексеем Федоровичем, спрашивает о своем замученном деде целых два вечера и письма лосевские к деду принес, на что Алексей Федорович внимания особого не обратил, слишком далеко от него прошлое, поговорить о нем еще можно, но жить – уже нельзя, поздно, слишком поздно. Бездна истории зовет к себе, недалек уход. Не увидел Лосев ни своей беседы с Павлом и Юрием, ни напечатанных писем, ни книжки, выпущенной в 1990 году Виктором Ерофеевым «Страсть к диалектике» (это уже я старалась, составляла ее).
«Машинка» у Ерофеева сломалась в самой середине беседы, поняла, что Лосев не любит этой подозрительной техники. Замолчала. Бедный Ерофеев схватился за примитивный карандаш, едва успевал записывать в этот раз. Беседу потом напечатали на разных языках за рубежом, и ко мне в университет являлись ее читатели-иностранцы, оставляли адреса, просили Лосева прислать что-либо, напечатать у них. Но Лосеву было не до этого. Он еще умудрился выступить с докладом о Боэции (работал над VIII томом ИАЭ) в университете при огромном стечении народа, и нашлись теперь даже среди историков его почитательницы (вот уж никогда бы не поверил), М. К. Трофимова, В. И. Уколова. Они не боялись обсуждать с Лосевым ни Боэция, ни гностиков.
Удивительные творились дела в этом 1986 году. Одному человеку, не группе ученых, единственному в области философских наук присудили Государственную премию. И этот единственный 93-летний Лосев, что сидит в своем кабинете и спешит доканчивать «Историю античной эстетики», том VIII – восьмикнижие на пороге смерти.
Что же такое эта «История античной эстетики» в восьми томах? Они распределяются следующим образом. «Ранняя классика» (т. I, 1963), посвященная Гомеру и натурфилософам (древние пифагорейцы, Анаксагор, элейцы и милетцы, Гераклит, Демокрит, Эмпедокл, Диоген Аполлонийский); «Сократ, софисты, Платон» (т. II, 1969); «Высокая классика», Платон (т. III, 1974); «Аристотель и поздняя классика» (т. IV, 1975); «Ранний эллинизм» (стоики, эпикурейцы, скептики (т. V, 1979); «Поздний эллинизм» (неопифагорейцы, Филон Александрийский, Плотин) (т. VI, 1980); «Последние века» (т. VII, 1988, кн. 1 – Порфирий, Ямвлих, Саллюстий, Юлиан; кн. 2 до Прокла, Прокл, Дамаский и его ученики); «Итоги тысячелетнего развития» (т. VIII, кн. 1, 1992 – Александрийский и восточный раннехристианский неоплатонизм; неоплатоники латинского Запада, эпоха синкретизма – халдаизм, герметизм, гностицизм; общая характеристика истории античной эстетики; философия, эстетика, мифология, общая эстетическая терминология – в историческом развитии). Кн. 2, т. VIII (1994) посвящена специально-эстетической терминологии (ее тысячелетней эволюции) и основным моделям античной эстетики. А ведь была еще книга 1979 года «Эллинистически-римская эстетика I–II вв. н. э.».[339] Ее материал входил в т. V ИАЭ, но этот последний оказался столь огромным, что я вынула несколько сот страниц и сделала из них отдельную книгу, которую напечатал в издательстве Московского университета А. К. Авеличев.
Какие же принципы были положены в основу изучения А Ф. Лосевым античной эстетики, если принять во внимание, что А. Ф. Лосев мыслил как нечто единое эстетику, философию и мифологию (см. «История античной эстетики», т. VIII, кн. 1, часть пятая «Философия, эстетика, мифология», где автор пишет о глубинном тождестве философии, эстетики и мифологии, с. 402–413)? Ведь для античного человека, выросшего на телесных интуициях, самым прекрасным было живое материальное тело космоса с вечным размеренным движением небесных светил над неподвижной Землей. Но живое космическое тело есть не что иное, как очеловечивание природы, то есть оно мифологично. И вся выразительность, то есть вся красота этого живого космоса заключается в геометрически-астрономических пропорциях, в музыкальной настроенности, рождающейся при вращении небесных сфер. Высшая красота для античного человека, погруженного в телесную стихию бытия, где даже боги обладают телом, правда, эфирным, обязательно космологична и одновременно мифологична, а значит, космос есть предмет эстетического созерцания. Философия же как наука о космосе (натурфилософия) и человеке (антропология) как частице этого космического целого обязательно трактует о наивысшей выразительности этих космических сил, будь то огонь, вода, воздух, земля и эфир у ранних философов-досократиков, атомы Демокрита, или Ум Анаксагора, мир идей Платона, или Ум-Перводвигатель Аристотеля. Выразительность, по мнению А. Ф. Лосева, есть слияние внутренне идеального и внешне материального в одну самостоятельную предметность. Отсюда «синтез внутренней жизни объекта и разных способов его субъективного показа – это и есть эстетика» (ИАЭ, т. VII, кн. 2, с. 105).
Таким образом, А. Ф. Лосев в своей античной эстетике создает представление о едином, живом, телесном духе (идея, выраженная автором еще в 1934 году в предисловии к «Истории эстетических учений»), о единстве материи и идеи, бытия и сознания в их историческом развитии, а значит, и решает проблему целостности античной культуры, в равной мере духовной и материальной. Собственно говоря, в античной эстетике автор реализовал свою мечту, высказанную в 1930 году в книге «Очерки античного символизма и мифологии» – создать неповторимый лик античной культуры, ее своеобразный исторически сложившийся тип с опорой на тысячи фактов философских, исторических, литературных, языковых, математически-астрономических, геометрически-музыкальных, фактов общественной жизни и повседневного быта и т. д. и т. д.
На протяжении всей «Истории античной эстетики» автор не раз обращается к разработке своей теории, связующей философско-эстетическое мировоззрение античного человека с миром тяжкой рабской зависимости, о которой так выразительно писал Аристотель, чьи мысли были тщательно исследованы А. Ф. Лосевым в томе IV ИАЭ (с. 638–652). Здесь создается оригинальная концепция аристотелевской эстетики как своеобразного культурного и мировоззренческого феномена в связи с учением Стагирита о естественности свободы и рабства. Отдельные вещи, по Аристотелю, прекрасны, так как они есть результат рабского подчинения материи божественным замыслам человека. Космос прекрасен, так как он раб своего абсолютного господина – мирового Ума, который как истинный художник привел в великолепный порядок «бесформенную, неодушевленную, безгласную и бессмысленную, даже несущую материю». «Все вещи и живые существа, а также весь мир только потому являются художественными произведениями, что их творчески призвал к жизни их господин» (с. 647). Ум-Перводвигатель (или «идея идей») едва ли допускал какие-нибудь изъяны и недостатки в своем вселенском государстве, поскольку Аристотелева идея (или эйдос) есть «творческая сила и мощь, а материя – ничто» (с. 645). Эта общая теория А. Ф. Лосева не исключала, а, наоборот, предполагала разные типы социальной жизни и разнообразную их историю в своем конкретно-историческом воплощении (см., напр., т. I, V–VI, VIII).
Изучение конкретного бытия на основе единого диалектического развития для А. Ф. Лосева безусловно. Поэтому, например, платоновский соматизм он рассматривал как принцип язычества, «не по-христиански, не по-западному, не по-нашему, но именно по-платоновски».[340] Специфика языческой античности была для него всегда необходима и всегда значима в 20-е годы.
В «Очерках античного символизма и мифологии», книге 1930 года, он размышляет об идее, теле, личности и о целостном восприятии тела и идеи у Платона. И здесь его рассуждения ничуть не отличаются от высказанного им в 1969, 1974 и 1988 годах. Тело в платонизме живет идеей не чего-нибудь духовного, но телесного же. «Сама идея нетелесна, но это идея – телесного. Идея осмысляет тело только в смысле телесности, то есть схематизма»,[341] ибо тот, кто признает только тело, не может увидеть и самого тела в его подлинной жизни, а видит лишь схему. Факт тела признается здесь, а смысл его отрицается. «Культ тела и прельщенность телом диалектически приводят к проповеди тела как пустой схемы, тела как голого факта, которому несвойственно ничто личностное и духовное». Отсюда вытекает «диалектика всякого материализма… и того вида материализма, который есть язычество». «Такова, стало быть, диалектика и платонизма, если мы возьмем его так, как он реально существовал, без всяких западных привнесений», – пишет А. Ф. Лосев. Замечательно то заключение, к которому приходит философ, говоря об идеализме Платона: «Конечно, раз у Платона есть учение об идеях, то он как-то идеалист. Но, по-моему, это такой идеализм, который по смыслу своему является подлинным и настоящим материализмом. Он – мистик, он – экстатик, он – богослов, но он, по-моему, материалист. И тут уж ничего не поделаешь. Хочешь не хочешь, а с этим приходится считаться». И совсем категорично звучат последние слова: «Лучше же совсем бы не употреблять этих многозначных и уже потерявших всякую определенность терминов – „идеализм“ и „материализм“».[342] Да, глубоко не правы те, кто делит А. Ф. Лосева на раннего и позднего, поступая часто механически и формально. А. Ф. Лосеву 50—80-х годов приходилось для продвижения своих идей ссылаться на авторитеты Маркса и Ленина. Но это отнюдь не говорит о внутреннем изменении смысла его идей. Так, благодаря строгой позиции А. Ф. Лосева в отношении Платона было осуществлено первое наиболее полное собрание сочинений отъявленного идеалиста, а уже после кончины Лосева вышло еще более полное второе издание.
Несмотря на то, что вся «История античной эстетики» поделена на отдельные периоды и заключена в рамки, предназначенные для каждого из них, у читателя остается впечатление теснейшей взаимосвязи этих томов, их взаимной обусловленности. Развертываемая историческая картина не имеет механически установленных границ. Так и ощущаются переходы, внешне как будто незаметные сцепления, связи, неравномерность движения жизни, рождающая противоречия, столкновения, конфликты социальные и личные. Эта внутренняя взаимосвязь всех сторон культуры в потоке времени создает в конечном итоге определенного рода целостность, которая по праву может считаться неким своеобразным универсумом.
Эстетика как наука о выражении сама представлена у А. Ф. Лосева средствами необычайно выразительными, можно даже сказать, художественными. Казалось бы, столь сухая материя, как учение о числе (ему автор посвятил в 1928 году книгу «Диалектика числа у Плотина»), приобретает значение жизнеобразующей силы в эстетике пифагорейцев и Платона (т. I, II). Здесь устанавливаются связи орфико-пифагорейского учения о душе и религии Диониса, бога неисчерпаемых сил вечно рождающей природы. Именно она, эта преизобильная природа несет в себе мощь бесконечных творческих потенций. Число дифференцирует и обобщает этот нерасчлененный поток бытия, превращает его в упорядоченную гармонию души и тела. «Поняв число как диалектический синтез беспредельного и предела, пифагорейцы тем самым создали учение о созидательной и творчески направляющей сущности числа», – пишет А. Ф. Лосев (т. I, с. 267). Главное, продолжает автор, «числа как такового нет, оно не существует без вещей, оно – в самих вещах и есть их структура, их ритм и симметрия, то есть, с досократовской точки зрения, – их душа» (с. 271). «В результате применения пифагорейских чисел к конструкции бытия, – пишет автор, – получается музыкально-числовой космос со сферами, расположенными друг в отношении друга согласно числовым и гармоническим отношениям» (с. 271). Примером этому может служить знаменитый диалог Платона «Тимей», в котором причудливо объединились музыка, математика и астрономия, то есть вся космология дана здесь в виде целой системы.
О единстве в лице А. Ф. Лосева ученого-исследователя и писателя, художника также свидетельствует его философская проза. Но об этом же свидетельствует и манера письма сугубо научных трудов, где даются блестящие портреты не только исторических героев, таких, как, например, Сократ (т. II), Плотин (т. VI) или император, трагически отрекшийся от христианства, – Юлиан (т. VII, кн. 1).[343]
Самые сложные проблемы диалектики рисуются А. Ф. Лосевым в духе драматической игры. И как не похожа становится античная эстетика А. Ф. Лосева на незыблемость и монументальность изваянной красоты античного мира.
Одной из самых важных интуиции античности философ считает именно игру, причем игру театральную, драматическую.[344] Жизнь как игра – это понятие проходит через всю античность. Здесь Гераклит с его вечностью как играющее дитя (В 52 D – К), здесь и Платон, у которого объединены игра и жизнь идеального государства, религия и обычаи, законы и управление, а люди – марионетки, которыми управляют боги, дергая за прилаженные к куклам нити или шнурки. Да и сами граждане у Платона – «творцы трагедии наипрекраснейшей, сколь возможно и наилучшей», а «прекрасная жизнь в их государстве является наиболее истинной трагедией» (т. III). Здесь и неоплатоник Плотин, для которого жизнь человека напоминает движение танцовщика. А каждая душа получает свою роль от создателя Вселенной, как в драме, где маски и костюмы раздаются актерам. Космический драматург создает из Вселенной прекрасно налаженный инструмент, где каждая душа отличается своим музыкальным тоном (т. VI). Для Прокла вселенская душа сравнима с трагическим поэтом, создающим драму и ответственным за игру актеров (т. VII, кн. 2). В учениях об идеях Платон опирается на систему таких жизненно-динамических образов, как охота, выслеживание, преследование, нападение, схватывание и, наконец, любование добычей (т. III, с. 290). Соматическому, то есть телесному, принципу эстетики Платона посвящены замечательные страницы наряду с метафизикой света, принципами светоносной любви, солнца, как высшего блага (с. 293–317). Интерес к метафизике света, особенно христианского, вообще характерен для А. Ф. Лосева, о чем свидетельствуют его книги «Очерки античного символизма и мифологии» (1930), «Диалектика мифа» (1930), письма философа из лагеря (1931–1933),[345] а также его знакомство с византийским трактатом Каллиста Катафигиота XII века, одного из авторов ареопагитского круга, и перевод Марка Эфесского (XV век).[346]
Разнородность текстов античных философов не является препятствием для А. Ф. Лосева. Она не помешала автору нарисовать внушительную картину трех выдающихся школ раннего эллинизма (т. V) – стоиков, эпикурейцев, скептиков.
А. Ф. Лосев исследует эстетику стоиков как учение об изреченном слове, воплотившем идеальные замыслы судьбы, управляющей миром и формирующей по своей воле космическую и человеческую жизнь.
Здесь и эпикурейцы с их ориентацией на незаинтересованное, чистое наслаждение, моделью для которого служат вечно прекрасные божественные сущности, не причастные сфере мира и его законам. Здесь и скептики с их вечной усмешкой и погруженностью в созерцание иррациональной текучести вещей.
Прочтите всего несколько абзацев на страницах 42–43 из V тома («Ранний эллинизм») и вы сразу погрузитесь в самую суть трех философских школ: «Усталостью и тонким разочарованием веет от этой философии. Кругом ширится и высится хаотическая нагроможденность жизни, а стоический мудрец – тих и беспечален, эпикуреец сосредоточенно покоится в глубине своего утонченного сада, и скептик ни к кому и ни к чему не испытывает потребности сказать „да“ или „нет“. Есть что-то загубленное, что-то долженствующее быть, но не перешедшее в бытие – здесь в этих наивных, но углубленных и даже величавых учениях о мудрости. Какая-то великая душа перестала стремиться и надеяться, что-то случилось непоправимое, окончательное, чего-то большого и сильного, чего-то прекрасного и величественного уже нельзя было вернуть, да и вспоминать уже не было сил» (с. 42–43). Не напоминают ли эти стоики читателю нечто очень интимное, личное, касающееся каждого из нас?
Или например, об эпикурейской эстетике: «Эпикурейская эстетика – это чувствование себя воздухом, огнем, теплым дыханием. Превратиться в это теплое дыхание и забыть все остальное, все, все забыть, – вот что значит эпикурейски чувствовать красоту. Сладко не мыслить, не думать, не стремиться, не хлопотать; безмыслие и безволие – сладостны, сосредоточенно-упоительны; они густо насыщают нас. И уже не знаешь, где тут тело и где душа; не знаешь, душа ли полна этой густой и насыщенной пустотой, или это наполнено тело сладким, но сосредоточенным упоением. Наслаждающийся – тих, углублен в себя, погружен в свое безмыслие. Он покоится в своей равномерной сосредоточенности; его серьезность – насыщена, его страсть – задумчива. Не трогайте его: он наслаждается… Пустота осязается в эпикурейском идеале красоты. Но имманентизм почти всегда пуст…» (с. 303), «древнегреческое эпикурейство есть философия и эстетика пустоты. Но это – особенная пустота, подозрительная пустота» (с. 304)… «Смерть это только немножко вульгарно; смерть – это только немножко скуки… И все!» (с. 306). Или еще дальше: «Сладко думать, что душа смертна… Жуткая штука! Душа, да еще бессмертная – жуткая штука! Вот почему Лукреций опроверг целых тридцать доказательств бессмертия души… Нельзя не опровергать. Иначе – неминуемые вечные муки, и – все насмарку» (с. 306).
Признаюсь, невозможно остановиться, цитируя А. Ф. Лосева. Берите книги и читайте сами эти страницы.
А задумывался ли кто-нибудь над трагическим характером эстетики скептиков? А. Ф. Лосев пишет: «Печать трагического лежит на античном скепсисе и – безысходно-трагического. Ведь и им хотелось достигнуть высоты бесстрастия, величавого спокойствия, которого кто только из греческих философов не хотел достигнуть» (с. 386). «Эта смесь эстетики, формальной логики и нигилизма привела к тому, что мы, всматриваясь в это необычное лицо философа-скептика, вдруг начинаем замечать какое-то раздирание его духа, какое-то трансцендентальное распятие» (с. 387). Скептик, как оказывается, проповедует свободу, удобную для всего деспотического и абсолютистского в обществе и государстве. «Это, – замечает А. Ф. Лосев, – такой анархизм, который является в то же время величайшим консерватизмом… Скептики – стары, вялы, их скептицизм – абсолютная монархия Александра и римских цезарей» (с. 387–388). Опять очень живое и своевременное напоминание нам, нынешним, а ведь все это лосевская история античной эстетики.
В томе VI «Поздний эллинизм» автор в поисках последней кратчайшей формулы эстетики Плотина (а А. Ф. Лосев любит сводить необычный материал к самым кратким формулировкам) обращается к интереснейшим темам.
В учении об Уме и Душе наличествуют серьезные и интимные стороны, причем образы Ума – это слитки золота, а Душа тоже есть золото, очищенная от всего телесного. Все в мире стремится к Единому и преисполнено к нему любви, но и Единое тоже охвачено, по Плотину, любовью ко всей составляющей его множественности. «Мягкой духовной теплотой у Плотина овеяны все самые существенные отношения, царящие как внутри триады с ее основными ипостасями, так и вне этой триады… а… все грозное и роковое, в созерцание чего Плотин погружен, нигде и нисколько не мешает торжеству самых мягких, самых ласковых и даже самых родственных отношений» (т. VI, с. 716). Всей этой ласки и теплоты не знала суровая классика. А чего стоит только одно прикосновение к Единому, познание которого совершается не путем науки или только созерцания, но путем прямого присутствия, соприкосновения с ним, то есть живого общения с Единым. Душа, восходя к Единому как Благу, приходит в волнение, в вакхическую восторженность, преисполняется внутренним согреванием, жгучим желанием, и вся превращается в любовь. Космос представляется Плотину прозрачным световым шаром, как и умный мир, который играет разноцветными лучами. Таким образом, свет пронизывает у Плотина решительно все. Вечный самосущий свет никогда не убывает, так что и Душа и Ум тоже становятся этим светом.
Обобщая всю эстетику Плотина, А. Ф. Лосев приходит к понятию Адрастии, сверхчеловеческой справедливости, мудрости, красоты и судьбы. Вся эстетика Плотина, по мнению А. Ф. Лосева, есть эстетика Адрастии, которая «сводится к торжеству необходимости и свободы, бытия и чуда, а также мировой жизни (со всеми ее уродствами) и всеобщей справедливости» (с. 727). Плотиновский космос живет по мудрым и справедливым законам Адрастии-Немесиды. В этом мире все оправдано и находится в гармонии, красота и безобразие. Адрастия ведет игру на мировых подмостках, меняя театральные маски. Она обеспечивает успокоительный круговорот душ, сглаживает несовершенство жизни, уравновешивает любую драму, логически и эстетически обосновывая все происходящее. Отсюда рождается пассивизм Плотина, его спокойствие перед драмой истории и жизни вообще, где все уже предопределено и оправдано мудростью Адрастии. В томе VII «Истории античной эстетики» – «Последние века» также прослеживается глубочайшее единство строгой логики и эстетического чувства. Так, учение Прокла о едином, так называемая генология, обнимающая собой все многообразие космической и человеческой жизни и создающая единый образ прекрасного, расчленяется А. Ф. Лосевым на 12 типов (VII, кн. 2, с. 115–131), диалектическая триада – на восемь типов (с. 132–143). Изучение этих диалектических переходов в системе эстетически целостного и иерархически упорядоченного универсума дает огромный материал для раздумий при исследовании становления и развития эстетических категорий в отточенной мысли поздних философов-неоплатоников.
Замечательно сходятся концы и начала в эстетике поздней и классической. Соматические, или телесные, интуиции характерны для классики (досократики, Платон, Аристотель) и раннего эллинизма. Находят они свое завершение у Порфирия, в трактате «О пещере нимф», где сама пещера, нимфы, водный источник, пчелы, мед и т. д. выражают материальные стихии в круговращении космической жизни (VII, кн. 1, с. 91—110). Музыкальная эстетика Порфирия (кн. 1, с. 71–77) и аритмологическая эстетика Ямвлиха (с. 218–243) непонятны без пифагорейцев, Платона и философов раннего эллинизма. Идея Солнца-Блага в речи Юлиана «К царю Солнцу» (с. 365–378) смыкается со знаменитым символом Солнца в «Государстве» Платона. Неоплатоническое учение об Уме замыкает путь, начатый еще Анаксагором. А уж без Аристотеля с его Умом-Перводвигателем совсем невозможно обойтись. Диалектика мифа у Прокла (с. 88—114) имеет своим началом платоновского «Парменида».
Важное значение приобретают в «Истории античной эстетики» переходы от одной эпохи к другой. Это особенно подчеркивается автором, который любил повторять, что непереходных эпох не бывает. Исторические введения, заключения, резюме, экскурсы обязательны в каждом томе ИАЭ. Но здесь эти переходы происходят в пределах античной культуры в то время, как в томе VIII, кн. 1 уже намечается переход, хотя формально и в рамках античности, но, по существу, уже в другой, христианский мир. Здесь не только переход от Афинского неоплатонизма к Александрийскому, повторяющий переход от Платона к Аристотелю, но и зарождение в недрах неоплатонизма нового христианского самочувствия, как, например, в сочинениях Синезия, где уже ставится тринитарная проблема, или у Немезия с обращением к личности, а не к безликой судьбе.
Рассматривает А. Ф. Лосев ранний христианский неоплатонизм латинского запада с Марием Викторином (тринитарная проблема) и Августином (учение о личности и воле), и опять-таки учитывая один из важных античных рудиментов, а именно принцип фатализма, который выражается в учении Августина о божественном предопределении, отождествляя его с учением о благодати. «У Августина, – пишет А. Ф. Лосев, – и чисто христианская надежда на вечное спасение с помощью Бога, и чисто языческий фатализм, о преодолении которого не может быть и речи» (VIII, кн. 1, с. 90). Здесь, хотя теоретически это трудно представить, фактически совмещаются чисто языческий фатализм и христианская надежда на личное спасение.
Историческая специфика переходных эпох и особенно тех, что свидетельствуют о надвигающейся гибели античного мира, особенно удается автору «Истории античной эстетики». Так, драматические страницы посвящены личности императора Юлиана Отступника (школа Пергамского неоплатонизма). Личность Юлиана вырисовывается не только в безвыходной раздвоенности между язычеством и христианством, но и как показатель его эстетического мировоззрения (VII, кн. 1, с. 389–408).
Такой же покинутостью веет от личности завершителя неоплатонизма (Афинская школа) Прокла, стоящего на краю гибнущего языческого мира, «одинокого героя среди чуждой религии и обычаев, который уповает на помощь древних богов, тоже, однако, чуждых новому миру» (VII, кн. 1, с. 336). Эпоха синкретизма (халдаизм, герметизм, гностицизм) – яркое свидетельство падения античности – замечательна именно тем, что в ней сказалось особенно выразительное языческое наследие, впитавшее христианские мифологемы в их причудливой модификации. А. Ф. Лосев подчеркивает историческую специфику халдаизма и гностицизма, делая упор опять-таки на переходный характер этого последнего от язычества к христианству, от античности к средневековью. Краткая формулировка автором специфики этого последнего в ИАЭ философско-религиозного направления подчеркивает этот неустойчивый характер гностицизма: «Поскольку язычество возникло на путях обожествления вещи, а в пределе это было чувственно-материальным космосом (или, как говорят менее точно и менее ясно, природы), христианство же возникло на основах не телесно-вещественной, но чисто личностной интуиции, то гностицизм и оказался смешением телесно-вещественных и личностных интуиции» (VIII, кн. 1, с. 300).
Конец неоплатонической философии, а значит, и эстетики, связан с личностью Дамаския, схоларха Афинской школы, в сочинении которого (а ведь это V–VI века) наиболее ощутима не только система Прокла, но и древнее гераклитовское начало, что указывает на единство исходных и конечных позиций античной мысли на пороге нового мира. Это, как пишет А. Ф. Лосев, «последняя улыбка умиравшей тогда античной философии, которая уже чувствовала свой смертный час и в связи с тысячелетними усилиями античной мысли могла только улыбаться по поводу скоротечности и обреченности всяких человеческих усилий» (с. 340). Была, продолжает автор, «осознана вся сущность бытия как всеобщая и вечная картина бурлящей своими противоречиями действительности. Исходный чувственно-материальный космос был осознан до конца и в своей красоте и в своей безвыходности». Вот почему со страниц Дамаския «веет безрадостностью, но и беспечальностью. Как в вечности. Потому и улыбка» (с. 367).
Не менее важны для понимания «Истории античной эстетики» терминологический принцип, изучение эстетики в слове, в имени.[347] А. Ф. Лосев по праву явился основателем терминологического направления в отечественной науке об античной культуре и ее составляющих, причем эти терминологические штудии не остаются на эмпирическом уровне, а всегда концептуальны и теоретичны. Когда вышел в свет т. VIII кн. 2 ИАЭ, включающий именные и предметные указатели ко всем томам, стала очевидной совершенно удивительная по многообразию терминологическая основа исследований А. Ф. Лосева. Изучение истории эстетики не только в понятии, но и в слове, запечатленном в определенном философском – и шире – культурно-историческом контексте, дело отнюдь не простое. Можно быть прекрасным филологом и не понимать философского значения того или иного слова. Можно быть профессиональным философом и тоже не понять языковую специфику слова. Должно быть единение этих двух наук, представленное одним человеком. Таковы были знаменитые филологи, издававшие философские тексты. Таким был Герман Дильс, таким стал А. Ф. Лосев.
Идеи А. Ф. Лосева, выраженные в «Истории античной эстетики», глубоко им обдуманы и выношены, удивляют своей первичностью. Это творчество, которое рождается у нас на глазах, и автор не боится бросить читателя в самую гущу, в самый водоворот мысли, где его идеи сталкиваются с другими мнениями, не уступают свои позиции, прочно стоят на них. Еще в 20-х годах А. Ф. Лосевым были выработаны, выстраданы идеи мифа, символа, числа, имени, античного соматизма, скульптурного эйдоса, но зрелость опыта развивала, углубляла, обогащала их и, что особенно важно, делала их все более и более доступными для читателя. Стиль автора приобретал ту ясность, которая дается после придумывания мельчайших деталей и выливается в конце концов в точные, логически отшлифованные формулировки, столь любимые А. Ф. Лосевым (например, «Платон в одной фразе» (с. 609–620) еще в давних «Очерках» или рубрикации в резюмирующих главах). «История античной эстетики» – это не только «вещь в себе» или «для себя», это «вещь для других», это не просто ученое изложение материала, но – то страстная речь, обращенная к единомышленникам и противникам, то убедительные доказательства в духе математических теорий, то непреложная аксиоматика, то неторопливое, почти эпическое размышление, но всегда диалог, имеющий в виду заинтересованного человека, кого-то другого, читающего и думающего. В книгах А. Ф. Лосева нет ученой отрешенности, но всегда обращенность к собеседнику. А этот собеседник должен тоже погрузиться в ученую мысль, узнать, добраться до истины, и потому автор бросает его в бездну научной литературы, здесь же подвергая ее сомнениям, одобрениям, вступая с ней в спор или привлекая в союзники. А. Ф. Лосев, хотя и сетовал на научную изоляцию, писал, не ожидая отклика, писал в одиночестве отшельнической жизни, но самые последние достижения науки были ему доступны и известны. Он был страстным книжником и при первой же возможности выписывал иностранную научную литературу, не довольствуясь столичными книгохранилищами, своей библиотекой (а она погибала трижды – в гражданскую войну, при аресте и в пожаре 1941 года). А. Ф. Лосев не был библиофилом в классическом смысле слова, а приобретал книги, которые непосредственно нужны были в научной работе. Но книжные катастрофы, как говорит сам А. Ф. Лосев, «невозможно вспоминать с надлежащим спокойствием духа». С волнением рассказывал Алексей Федорович писателю Вл. Лазареву, как погибла в 1941 году его библиотека. Как она взлетела на воздух (а в ней было не менее десяти тысяч книг) и оказалась погребенной в гигантской воронке, как откапывали книги, сушили в сараях на веревках, очищали от известки и грязи, проглаживали утюгами страницы. «Некоторые из обгоревших, разбитых и покрытых известью книг, которыми трудно пользоваться, я сохраняю до сих пор, так как не в силах с ними расстаться даже в этом ужасном виде. А иные из них до сих пор мне служат, так как возместить их невозможно. Однако, – замечает Алексей Федорович, – я считаю, что историческая судьба в конце концов оказалась ко мне милостивой. Неустанно собирая книги, тратя на них огромные средства, выписывая многое из-за границы, я все же восстановил свою библиотеку и в некоторых отношениях даже приумножил ее».[348] Все книги, на которые автор ссылается в ИАЭ, он держал у себя на столе, читал, изучал, не признавая ссылок через третьи руки. Если же не мог достать какую-либо книгу, то прямо на это и указывал.[349]
А. Ф. Лосев не терпел бесчисленных формально-ученых ссылок, занимавших по полстраницы. Он обладал своими собственными идеями, которые подтверждал работой над текстами первоисточников, и тут читателя ожидали тысячи фактов. Но автор никогда не упускал случая обратиться к ученой литературе, подробно изложить тот или иной труд, памятуя о читателе, который должен знать достижения науки по определенной проблематике. Здесь сказалась и привычка старого преподавателя, десятки лет работавшего в высшей школе (полвека А. Ф. Лосев был профессором в Московском государственном педагогическом институте имени Ленина), имевшего дело с аспирантами и студентами. А. Ф. Лосев говорит о своей манере писать: «Я должен сказать, что с молодых лет чувствовал в себе педагога и даже оратора. Достигать не только ясности для себя, но и ясности излагаемого предмета для других – это всегда было частью моей жизни».[350]
«История античной эстетики» возникла, по словам ее автора, «естественным путем». Его, как он сам признавался, интересовала «история духа», а в области античности «решительно все – литература и язык, философия и мифология, наука (в том числе математика и астрономия) и даже музыка». Автору пришлось сосредоточиться именно на античной эстетике, «которая и шире отдельных проблем античности и достаточно ярко представлена для специального исследования». В конечном итоге эти исследования привели автора к «проблемам истории античной культуры вообще».[351]
А. Ф. Лосев создал на 95-м году жизни замечательный свод античной философии, по существу своему всегда выразительной, эстетической. Он возвел мощное здание истории античной культуры в разуме и понятиях, но при всей своей любви к категориальной систематике и влюбленности в чистый Ум не превратился в абстрактно мыслящего философа. Историю конкретного физиогномического бытия телесного духа он пережил ярко и талантливо, можно сказать, даже интимно. В своей целостности его труд является завершительным для истории античного духа, на которую автор дерзнул взглянуть с вершины XX века.
Вспоминаются 20-е годы, расцвет сил, то давнее восьмикнижие, создавшее ему горькую славу и сломавшее его философский путь. Но и то, давнее, скоро (автора уже не будет на свете) станут печатать, заново слушать на лекциях, семинарах, писать дипломные работы и диссертации. И еще раскроются тайны. Но главную – унесет с собой.
Торопится, пишет «Историю античной философии в конспективном изложении». Заметьте, не эстетику, а философию. Пусть все знают, что лосевская эстетика и есть настоящая философия.
Кончает, подводя «Итоги тысячелетнего развития», зная, что не увидит VIII тома. Старательно записывают под диктовку Лосева Саша Столяров, Валя Постовалова и наш новый друг Мила Гоготишвили. Том надо завершить, времени в обрез. И действительно – завершает, не подозревая, что пролежит он в издательстве много лет. А ведь хотелось увидеть при жизни.
Диктует Алексей Федорович последнюю, тоже итоговую работу по философии языка. Завершая, диктует Миле последнюю работу «В поисках построения общего языкознания как диалектической системы» (вышла в 1989 году) – опять на склоне жизни любимая диалектика. «Знак. Символ. Миф» вышел в свет в 1982 году. «Языковая структура» – в 1983-м – к юбилею девяностолетнему. Темы – самые любимые, стоит только взглянуть на титульный лист книг. Когда-то была «Диалектика художественной формы». Теперь – диалектическая система общего языкознания. И снова «в поисках», как и в беседе с Ерофеевым. Лосев – это вечно поиски и всегда смысл. Даже книжечку об Аристотеле (1982) назвал «Жизнь и смысл». И в статье об Ареопагитиках «конструктивный смысл первоначала» (1986), то есть не голая структура, а смысл обязательно. В этом весь Лосев.
Тут еще вторгается новый министр, Г. А. Ягодин. Тоже прибыл в кабинет Лосева на Арбат, зимой 1986 года привез медаль лауреата Госпремии (указ от 27 октября 1986 года). «Настоящая, из чистого золота», – говорит. «Да что вы», – усмехается снисходительно Лосев. Миша Нисенбаум, наш молодой друг, художник и для заработка дворник, притащил лопату, ледоруб и закидал снегом подступы к дому. Подумаешь, министр, пусть-ка проберется через завалы в роскошной машине. Министр пробрался, медаль вручил, чаю выпил, побеседовал. И Лосев, хотя едва на ногах держался, болезнь брала свое, произнес речь о солдате, умирающем, стоя на посту. Режиссер из Питера, Витя Косаковский, молодой, трогательный, импульсивный, снял эту сцену, как и многое другое, что потом вошло в его фильм «Лосев».[352] Мишин ледоруб стоит у меня внизу, зимой мы расчищали им около дома узкую тропинку, для прогулок с Алексеем Федоровичем. Он все еще не изменил своим старинным привычкам.
Но Она, та, которую все боятся назвать, уже стояла при дверях.
Сегодня весь небесный купол немыслимо синий, весь. Верхушки сосен и верхушки берез серебрятся от этой солнечной синевы, так и переливаются серебром, никогда такого не видела. День сладостно-ласковый, тоже напоследок перед уходом лета, прощается, собрал всю свою красоту – помните, не забудьте в осенние дожди, туманы, в зимние льды, холода – мы еще вернемся, придем, снова засеребримся и улыбнемся. Господи, до чего хорошо. Стук топора среди неимоверной сегодняшней тишины даже радует, и белая кошечка Игрунья какая-то особенно тихая – туда и сюда в окно веранды, но от стола с бумагой меня не отгоняет, как обычно.
В Москву пора, на разоренное родное пепелище (Дом Лосева на реконструкции), как ласточкино гнездо над морем арбатской суеты. Проживем ли зиму, один Господь знает; мысли о будущем не дают покоя.[353]
Не было покоя в последние годы после кончины Алексея Федоровича, но вечная погруженность в работу – спасение, благо. А когда подступила к нему болезнь, дома началась другая, предвещающая беду, совсем недобрая суета.
Пришли к нам новые, ранее незнакомые люди, сестры Постоваловы, Лида и Валя с Илюшей, сыном Валентины. Юбилей Лосева поразил Валю, и она попросила знакомого профессора, нашего старого друга, Олега Широкова, познакомить ее с Алексеем Федоровичем, что он и сделал. На одной из фотографий все вместе у нас на даче, на открытой террасе, стол накрыт, чай, сладости и Алексей Федорович в обнимку с Илюшей. Он еще мал, удивительно ласков, все обнимает и целует старого Лосева, рисует его портреты в профиль (есть некое сходство), а заодно и шествие апостолов, и Христа. Рисунки сохранились у меня в архиве. Подрос Илюша. Хитроумный мальчик притаскивает тайно в кармане миниатюрный магнитофончик и делает несколько записей уже плохо себя чувствующего, почти больного Алексея Федоровича. Я и не подозревала такой ловкости. Поверила, когда уже после кончины Алексея Федоровича услышала дорогой мне голос, прерывистый, горестный, тяжело ему стало общаться с гостями, привык быть радушным хозяином, а теперь даже трудно сказать лишнее слово, да к тому же работа не ждет, силы надо беречь, книги надо кончать.
От сестер пришли двое – Валерий Павлович Ларичев, врач-психиатр, и его ученик, студент мединститута Алеша Бабурин, из благочестивой семьи, с детства в церкви. Оба большие друзья, оба русые, светлые, духовно-бодрые. Валерий Павлович с небольшой бородкой, мягкий, глаза внимательные, больше молчит, а то, взяв Алексея Федоровича за руку, наставляет, дает советы, как успокоиться, как спать, внушает тихо, значительно. Не знает, что многих повидал Лосев врачей – внушителей самых знаменитых – и никто не помог. Разве можно запретить мыслить. Голова работает день и ночь, продумывает каждое слово, что войдет в очередную книгу. Не знает Валерий Павлович, что сам себя Лосев лечит – умной молитвой: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешного»; не замечают собеседники, как мелко крестит Алексей Федорович, засунув руку под пиджак, место, где бьется сердце. Сколько раз на заседаниях, во время нудных докладов видела я, как, прикрыв глаза, сосредоточенно и углубленно, задумывался профессор Лосев.
Алеша помогает Алексею Федоровичу массажем, приходит несколько раз в неделю, из кабинета слышится его четкий, звучный голос (он хорошо поет), все задает своему пациенту важные вопросы о Боге, церкви, монашеском житии. Самое время поговорить. Как выясняется через много лет, Алеша, придя домой, спеша, записывает беседы с Алексеем Федоровичем и набирает за несколько лет целые вороха таких записей. Лежат до сих пор еще не разобранные. Только однажды к 100-летию Лосева выступил с некоторыми из них батюшка о. Алексей Бабурин. Да, и Алеша, и Валерий Павлович после кончины Лосева нашли свой правильный путь. Оба приняли священство. Один – настоятель храма Николая Угодника в селе Ромашкове, неподалеку от Москвы, – священник, видный врач, спасает несчастных от наркотиков. Другой – на краю Москвы настоятель храма Святых Флора и Лавра. Невероятно похож о. Валерий своим обликом на преподобного Серафима Саровского. А начинали оба в соседнем с нами маленьком старинном храме XVII века, в так называемом Иерусалимском подворье, чтецами во время богослужения.
Бывало, от нас минут за пять-шесть добегают до Филипповского переулка, поспеть к службе, а то часов в девять вечера, после вечерни, заглянут к нам, дорого общение духовное. Ни одна ежегодная панихида 24 мая на Ваганьковском кладбище по монаху Андронику и монахине Афанасии не обходится без наших батюшек, а с ними, случается, и о. Валентин Асмус (Валя – мой ученик, сын профессора В. Ф. Асмуса) или о. Александр Салтыков (некогда Саша, сын А. Б. Салтыкова – друга лосевского), а то и бывший физик о. Александр Виноградов – пришел ко мне после кончины А. Ф., и о. Александр Жавнерович (философ) – пришел к А. Ф. в год его 90-летия – сколько своих батюшек. Валерий Павлович привел в наш дом, к вечернему чаю, тоже замечательную личность, художника Юрия Селиверстова, которому когда-то отказался Алексей Федорович позировать, не терпел, чтобы писали его портреты. Случай помог. Оба – врач и художник – учились вместе еще в школе. Валерий Павлович не мог отказать в просьбе другу, а Лосев, со своей стороны, не мог отказать добрейшему Валерию Павловичу. Так появился портрет Алексея Федоровича в карандаше, хорошо известный по публикациям в «Литературной газете» вместе с моей статьей «А. Ф. Лосев» 26 октября 1988 года, открывшей серию статей о русских философах. Потом этот портрет попал в книгу Г. Гачева «Русская дума» (1991), в книгу самого Ю. И. Селиверстова «Из русской думы» (1995). Портрет живет, а художника уже нет на свете. На панихиде у могилы Алексея Федоровича в ближайшую годовщину Юрий Иванович сказал: «Вот бы по мне так отслужили». Поехал на юг, на море, и там его настиг конец. Страшное исполнение желаний.
Появился молодой совсем кинорежиссер Виктор Косаковский. Года два пытался к нам попасть, да я не пускала (теперь жалею), боялась чужого человека, да еще и «киношника». Бог весть что наснимает, и неизвестно, кому и где покажет. Наконец отозвалась на мольбы Виктора. Познакомила с ним Юрия Ростовцева. Оба загорелись – делать фильм о Лосеве. Тоже спешат запечатлеть, хоть что-то захватить из жизни Алексея Федоровича, да так, чтобы не мешать его основной работе.
Стали нас посещать прекрасной души люди, друзья наших друзей Г. К. Вагнера, профессора искусствоведа, и профессора Ю. Н. Холопова – выдающегося теоретика музыки из Московской консерватории, пропагандиста лосевской книги «Музыка как предмет логики». Все они рязанцы, собрались к девяностолетнему юбилею Алексея Федоровича, познакомились, подружились с нами – Саша Бабий, Валерий Данилович Дудкин и Сережа. Всех объединяли любовь к Г. К. Вагнеру, исконному рязанцу (имение родителей находилось неподалеку от города), и почитание Лосева. А искусствовед и художник Сережа стал батюшкой о. Сергием, человеком в Рязани заметным.
Перестали мы с Алексеем Федоровичем опасаться новых людей, принимали их в свой круг, в свое общение.
Как же не принять такого человека, как Миша Гамаюнов, пианист, преподаватель по классу фортепиано. Приехал из Ростова и звонит нам в дверь, взъерошенный, глаза блестят, весь узкий, тонкий, лицо нервное, артистичное. Впустила его в квартиру и сама не знаю почему. Видимо, поверила. Приехал советоваться, занимается Бахом и числовыми соотношениями в его музыке. Нет ли здесь философской основы и чьей именно. Лосева читал уже давно, а ему нет и тридцати. Принял Мишу Алексей Федорович, и не один раз. Значит, нашел, о чем с ним можно говорить. Миша все запоминал, каждую встречу, каждое число и дома записывал. Буйный у него характер, напористый до того, что как-то выгнала я его из дома. Он, однако, не обиделся. Снова пришел, виновато улыбается, просит прощения. Так и стали мы близкими людьми. На вечерах в память Алексея Федоровича всегда играл Миша. К столетнему юбилею в Ростове во время «Лосевских Донских чтений» в университете умудрился устроить целую музыкальную неделю, да еще пригласил известного дирижера из Америки Мишу Рахлевского, познакомился в Москве, приводил ко мне на Арбат, а потом заманил с оркестром в Ростов. Праздник с афишами, расклеенными по городу, удался на славу. И все это сделал один любящий человек, который и в изданиях лосевских книг участвовал, писал интересные статьи – тоже философ музыки, духовно одаренный.[354]
Есть еще один, Миша Нисенбаум. Он из Нижнего Тагила: прочитав том VI ИАЭ о Плотине – труднейший том – прислал нам письмо. Оно меня поразило величиной, страниц восемнадцать, и особым почерком – тоненькие палочки, косые, плотно так друг за другом следуют, попробуй пойми. Предлагал свою помощь, травы целебные, лекарства, рассуждал о Плотине – без всякой греческой классики прямо попал в объятия неоплатоника и, представьте, понял. Я ответила ему открыткой с цветами, как отвечала всем. Писала обычные слова, благодарила и выразила готовность повстречаться. Молодой человек, студент-искусствовед, художник и поэт, взял да и приехал. Открытку мою знает наизусть, Лосева читает, в неоплатониках соображает, бабушка живет в одном из арбатских переулков, что еще надо? Надо остаться в Москве. Он и остался, даже дворником работал, чтобы выслужить так называемую жилплощадь. Выслужил.
Вечерами же сидел у нас дома с аспирантами Лосева за большим овальным столом под люстрой в 400 свечей, зубрил греческий и латынь, рисовал грамматические таблицы, ходил в университет на занятия моих студентов классического отделения, всюду успевая. Алексей Федорович любил слушать Мишину гитару, поет прекрасно, и музыка своя. Он-то и привез из Нижнего Тагила в подарок к юбилею пачку книжек «Вл. Соловьев», вместе с замечательным горьковатым вареньем из жимолости, от своей мамы. Алексею Федоровичу и всем нам оно особенно нравилось.
Появилась некая загадочная личность, Виктор Троицкий, математик, да к тому же военный. Этот (ему не было еще и тридцати) несколько лет только писал нам с Алексеем Федоровичем особым, витиеватым слогом, за которым как будто что-то скрывается таинственное. Никогда не просил встречи, книг, сам присылал оттиски своих статей, а я, разумеется, посылала не только открыточки с цветами, но и кое-какие наши ответные дары. На последнем юбилее, зимой (почему-то успевали праздновать – только к декабрю), среди нарядной говорливой толпы гостей, под колоннадой у мраморного фонтана, давно умолкнувшего, подошел ко мне некто, поклонился и со словами: «Это я» – исчез. Я сразу поняла, что загадочный незнакомец и есть скромнейший автор писем, Виктор Троицкий. Только после кончины Алексея Федоровича буквально заставила я Виктора появиться в лосевском доме. Он стал участником издания трудов Алексея Федоровича, где философия и точные науки неразрывно связаны. Ему первому поручаю я подготовку к печати и комментирование рукописей А. Ф., и не только по философии, математике. Виктор – знаток лосевского архива и наш главный помощник.
Здесь же, под колоннадой, Галина Москвина с огромным букетом чайных роз. Она – скромный преподаватель музыки в «Школе искусств» города Жуковского. Талантливый пропагандист лосевской книги «Музыка как предмет логики», доводит ее смысл до учителей, студентов, школьников, удивительно преуспевая в своей работе. Галя явилась однажды на дачу с осенними розами, постояла, положила цветы и ушла. Сколько лет в день рождения Алексея Федоровича, 23 сентября, до всех гостей приходила Галя с розами. Когда же он болел на даче, она не жалела времени быть рядом и помогать. А. Ф. нет, но Галя с букетом роз неизменна.
Все-таки удивительные в последние годы жизни Алексея Федоровича появлялись у нас иные почитатели. Придут как будто задать ряд вопросов, а потом остаются с нами на долгие годы. Такой Юрий Ростовцев, главный редактор журнала «Студенческий меридиан». И это я, которая всегда опасалась разных журналистов – подозрительный они народ, – это я впустила его однажды, потом он стал приходить каждую неделю, записывая беседы с Алексеем Федоровичем, пропагандируя его через свой журнал и сочиняя фильм вместе с Витей Косаковским. Ростовцев, в свою очередь, привел Григория Калюжного, поэта и летчика. Всегда с фотоаппаратом – снимает. Решительный, точный (он штурман международных полетов), ценитель лосевской мифологии и даже слушатель ряда моих лекций. До сих пор вместе с Юрием: чуть что – зову на помощь.
А философ Сережа Купцов и Саша Жавнерович из Белоруссии?[355] Не зная точно, где находится дом Спиркина (дачный адрес посторонним не давали, но Валентина Завьялова сжалилась – дала), все-таки добрались до Лосева ко дню его рождения 23 сентября 1983-го, юбилейного года, да еще с огромной корзиной цветов, которую Саша, юный, русый, светлый, поставил рядом с нашей старой качалкой, а сам на коленях припал к руке Алексея Федоровича. Стал Саша философом и священником.
Мила Гоготишвили, тайная почитательница Лосева, прислала без подписи (по скромности) свой кандидатский автореферат, а потом мы приняли ее по просьбе Ольги. Мила верный, умный друг, близкий в самые тяжелые дни Алексея Федоровича. С какой трогательностью эта добрая душа заботилась о старом, но все еще работающем, почти больном Лосеве.
Бывало и так, что как будто знакомый человек вдруг открывался совсем неведомой стороной. Так нашла я подброшенный в наш московский почтовый ящик большой конверт с аккуратнейшими стихотворными строчками, обращенными ко дню рождения Лосева, с посвящением иноку и воину. Почти так же называлась статья Александра Блока в память Вл. Соловьева.[356] И вдруг Лосев. Стихи в конверте без подписи, но я доискалась, всплыла перед глазами надпись на подаренном оттиске, и Саша Доброхотов открылся мне тоже не ведомой никому стороной, хотя знала его давно спокойным, симпатичным аспирантом-философом. Чувствовались в нем какая-то глубокая совестливость и благородство. Он такой и остался, профессор Александр Львович Доброхотов, первым переиздавший статью «Эрос у Платона» и «Философию имени».
Сотрудник журнала «Коммунист» Леонид Голованов,[357] который напечатал статью Алексея Федоровича «История философии как школа мысли» (1981), оказался другом и помощником В. Д. Пришвиной, учеником знаменитого Чижевского, глубоким ценителем лосевских идей. И к тому же замечательным фотографом, на чьи работы я не устаю любоваться. Он, в свою очередь, привел к нам юного талантливого художника Антона Куманькова. Алексей Федорович, который отказывался много лет назад от предложений Ф. С. Булгакова (сына С. Н. Булгакова) вылепить его бюст, от просьбы известного художника Юрия Селиверстова, тут помягчел и просил только не устраивать сеансов. Антон работал в кабинете, сидя неподалеку от стола Алексея Федоровича, или вечером за чаем во время нашей беседы с Леонидом Витальевичем. Портрет этот не раз украшал выставки Антона здесь и за рубежом, но мы его толком не видели. Теперь он как дар художника к 100-летнему юбилею Лосева висит в моей комнате и смотрит на меня испытующим взглядом – не отвернешься, не спрячешься.
Вот так к концу жизни Алексея Федоровича собрались вокруг него новые друзья, «племя младое, незнакомое». Все – разные. Одно их объединяет – поиски смысла жизни, поиски высшей истины.
Жить оставалось полтора года. Никто, правда, этого не сознавал, не предчувствовал. Человек работает, диктует, сидит за столом, и слава Богу, а что дышит тяжело, так для этого есть лекарства и врачи. Слушали и смотрели многие, с дыханием неладно, с легкими плохо, но, говорят, дома вполне можно вылечить, попить антибиотики, делать банки, горчичники и тому подобное. Так добрались до конца января. Но тут уже я не выдержала домашних оракулов и эскулапов из поликлиник. Пригласила серьезных докторов (через СВ. Бобринскую, Алексея Бабурина, Нину Рубцову). Пришли М. Д. Раевская (зав. пульмонологией 61-й больницы) и А. В. Недоступ (консультант минздравовской поликлиники). Люди по духу и вере нам близкие. Книги лосевские знают. Приговор был скорбный и ошеломляющий. «Если вы не хотите, чтобы он у вас помер, немедленно в больницу», – твердо и даже грубовато отрезал Недоступ. Раевская – легкие. Недоступ – сердце. Все самое главное. Двустороннее воспаление легких, сердечная недостаточность. Что есть страшнее для человека за девяносто. Неожиданно стало мне жарко-жарко. Смерили давление – 250, а у меня оно всегда нормальное. Ничего, отпоили какими-то таблетками и принялись за дело.
В больницу только к Раевской, человек близкий к С. В. Бобринской, связаны свойством, но главное, врач прекрасный и в ее руках отделение. Однако с главным врачом не в ладах, очень уж независимая. Предупредила – когда придем просить о госпитализации, чтобы не удивлялись, если она станет отказывать. Тогда главный врач в пику ей немедленно согласится. Всякие до этого момента были варианты. Виктор Бычков, близкий нам издавна, даже послал телеграмму в ЦК А. Н. Яковлеву – положить Лосева (обязательно с женой, он ведь беспомощен) в знаменитый Кардиоцентр. С женой? Отдельная палата – ни в коем случае. Слава Богу, отказал А. Н. Яковлев – не в его компетенции, но какие-то лица звонили от него, предлагали помощь. Писал бумаги молодой ректор МГПИ Виктор Матросов, бегали с поручениями от института Света Полковникова, Галя Романовская, Гриша Зеленин – учились у Лосева, остались друзьями. Сколько надо преодолеть бюрократов, чтобы получить простое направление в обычную районную больницу. Не по статусу, оказывается, лауреату Госпремии, известному ученому, туда ложиться. Но Гасан Гусейнов (это уже мой ученик) все преодолел. Быстрый, живой, умный, находчивый, он так обворожил увядших бюрократических дам, что тотчас же получил бумагу. Потом вместе с В. П. Ларичевым в 61-ю, к главврачу. А там забавная сцена с М. Д. Раевской, как она и предупреждала. Не хочет, так я приказываю положить, и чтобы палата отдельная для Лосева и его жены.
В сумрачный, снежный день 10 февраля 1987 года отправились мы в больницу. Накануне провели репетицию. Ведь надо Алексея Федоровича вынести (идти уже не мог) со второго этажа. Но как? Помогла небольшая складная качалка. Купили ее, чтобы мог не только на даче в большой плетеной сидеть, но и в Москве, в кабинете. Пришли самые близкие, Оля и Саша, «старики», как их называл Алексей Федорович, шутя Гасан, Юра Панасенко, Игорь. Усадили Ольгу, солидного «толстуна» (как я ее называла) в качалку и на руках спустили вниз. Что значит народ молодой. Готовятся к больнице, а всем весело, хохочут, усаживая Ольгу, спускают раз и два. Качалка и носильщики выдержали.
На следующий день две машины – одну ведет Давид Джохадзе (кого же просить, как не его), вторую – друг Саши. Выносят Алексея Федоровича в демисезонном пальто и в шапке меховой Давида, усаживают в машину, рассаживаемся. Мы – это Саша, Ольга, Сережа Кравец. Поехали. Больница недалеко от Новодевичьего, и это приятно.
Как всегда, нудная проформа приема, измеряют температуру (а ее почти нет), что-то спрашивают, но Алексей Федорович подремывает. И вот уже повезли его в кресле по какому-то подземному туннелю в палату, мы, вопреки всем правилам, тоже спешим туда. Впопыхах забываю сумочку с документами, ключами, деньгами в приемной. Ольга несется назад за ней, пока куда-нибудь не исчезла. Все разгоряченные, взволнованные. Осматриваем палату, кровати (на две палаты – прихожая, умывальник, туалет, другая палата – на одного человека). Из громадного окна основательно дует: мы высоко, на шестом как будто этаже. Заделываем окна лишними одеялами, все стараемся устроить поудобнее. Прощаемся, обнимаем друг друга. Остаемся одни с Алексеем Федоровичем.
Началась наша новая жизнь в больнице с интенсивным лечением под присмотром М. Д. Раевской, которую персонал уважает и побаивается. Каждый день процедуры, обследования, что положено. Каждый день к нам наши верные помощники, все чередуются, условливаются; дом оставлен на С. В. Бобринскую. Каждый несет что-нибудь вкусное, так, чтобы Алексею Федоровичу было и полезно, и удобно пообедать. Идет вереница друзей, моих учеников – Валентина Завьялова, Ольга Савельева, Альбина Авдукова (эта самая давняя и первая ученица еще по Областному пединституту), Тамара Теперик, Мила Гоготишвили, Таня Бородай (дочь Пиамы Гайденко), Нина Рубцова. То это сестры Постоваловы, Лида и Валя, то Илюша повзрослевший. В положенные часы – посетители, друг наш из Рязани Саша Бабий, Юрий Ростовцев и Гриша Калюжный (целый ящик принесли вкуснейшего заграничного питания, пюре из яблок, черной смородины), посланцы от Вити Косаковского. Ночью мы тоже не одни. Каждую ночь кто-нибудь из наших ребят: Гасан, Юра Панасенко, Игорь, Саша Столяров, Миша Нисенбаум. Мало ли что случится, положение у Алексея Федоровича тяжелое. Гасан даже принес надувной матрас. Какая радость, когда часов в 12 ночи появляется кто-нибудь из них и даже очень занятой самый старший, солидный Саша Штерн (он университетский доцент, талантливый математик), приходит, пробираясь через какие-то ему одному известные тайные пути – ночью все закрыто наглухо. Кипячу чай (со мной маленький электронагреватель), пьем с вареньем, угощая из принесенных днем запасов. Приходит побеседовать профессионально с врачами Алеша Бабурин, Валерий Павлович приносит просвирки.
Там, на воле, жизнь идет, что-то печатают. Прибыли Сережа Кравец из «Литературной учебы» и Саша Сегень (учился у меня в Литинституте). Везут на машине домой, на Арбат, проверять верстку – печатают главы из большой работы Алексея Федоровича о Вл. Соловьеве. Странно так очутиться в пустой, показавшейся мне мрачной и темной квартире – жизни в ней нет, потому и мрачная. Жизнь переместилась в больничную палату, которую я сделала как могла более уютной. Нянечки и сестры удивляются, как это так можно устроить. Я считаю, что в нашем здешнем обиталище больница должна как можно меньше напоминать о себе, и преуспеваю в этом деле.
Положение Алексея Федоровича еще трудное. И тут Ольга Савельева решительно приводит к нам (по рекомендации своей подруги и моей ученицы Милы Баш) еще одного врача, извне. Почти тайком, не всякий на этот шаг согласится. Один известный профессор уже отказался – только с разрешения администрации. Под видом посетителя проходит к нам Г. А. Самарцев. Как он нас утешил, хоть и не скрывал тяжести болезни, появился просвет, вера в еще живые силы, таящиеся в глубине. Это посещение так хорошо подействовало, что Алексей Федорович начал поправляться. Мы же с Георгием Александровичем стали с тех пор близкими (смею это сказать) людьми и доныне встречаемся у нас на Арбате, говорим о событиях в мире, о вечных проблемах, о книгах.
Выходили в конце концов Алексея Федоровича, спасибо М. Д. Раевской за ее смелость. Не просто лечить человека в 93 года.
Счастливые, прощаемся 25 марта с нашим временным пристанищем. На улице первые весенние дни. Едем домой вместе с Давидом, Ростовцевым, Юрой Панасенко. Во дворе снежные завалы расчищают Гасан, Саша Штерн, Игорь и Сергей Кравец.
Вещи из больницы увозили постепенно, заранее, и качалку тоже. Алексея Федоровича сажают на стул, а потом на качалку. Он теперь может передвигаться, сидеть. Несут на руках по нашей старинной белокаменной лестнице. Господи, мы дома, дома. Никогда не забуду, как Алексей Федорович деловито, палкой постукивая, сразу прошелся по комнатам, и шаг такой хороший, устойчивый. Сел в кабинете за свой стол, в свое кресло, откинул голову в черной шапочке на спинку, устроился поудобнее, похудевшие пальцы крепко обхватили львиные головы подлокотников, ноги – на маленькую скамеечку под столом. На колени вспрыгнул черный кот Маурициус (Мавр), примостился поудобнее, мурлычет, встретился с хозяином. Все на месте, работа ждет.
Но сам-то Алексей Федорович не очень готов, как бывало прежде, трудиться без устали. Режим дня остался прежний, но чаще отдыхает, а это для него самое худшее, что только можно придумать. Последний доклад в институте, на который собралось множество народа, сделан в апреле 1986 года – последние так называемые «Ленинские чтения». Там его и снял Витя Косаковский. Одна – известная всем – фотография; Лосев со сложенными руками, задумался. Другая попала в фильм «Лосев», висит у меня в комнате, ее мало кто знает, но за душу берет. С этого снимка начинается под щемящие звуки скрипки телевизионный трехсерийный фильм «Лосевские беседы». Алексей Федорович, сложив руки на палке, сидит под колоннадой греческого дворика там, где стояли, бывало, мы вдвоем, где прошли его три юбилея, там, где когда-то стройная, русоволосая барышня прохаживалась в перерыве между лекциями – Валентина Михайловна Соколова. Сидит задумчивый, отрешенный от мира, погруженный в мысли, прекрасный, строгий, умно-скорбный лик. Самый любимый мой портрет.
Весной 1986 года сделали последнюю запись в толстую старую тетрадь с тезисами докладов. Больше ничего в нее не запишут, хотя чистых листов еще много, конца не видно, но всякая жизнь имеет свой, земной конец, и его жизнь также.
С аспирантами больше не занимается. Он прощался с ними весной 1987 года после экзамена, в котором пришлось участвовать и мне. Всех вызвал из столовой в кабинет, где, сидя на диване у овального старинного стола, принимал обычно экзамены. Бывало аспирантов от 12 до 16 человек с двух кафедр – русского языка и общего языкознания. Как-то непривычно всем вдруг войти в кабинет. Стали, не зная, куда девать себя. А профессор Лосев обошел их, каждому сказал ласковое слово, с каждым попрощался, мужчинам пожал руку, дамам – поцеловал. Пытались что-то говорить, благодарить, нестройные смущенные голоса гасли в предвечерних сумерках, впору было разрыдаться. Тихо вышли из кабинета. Не будет больше профессор Лосев здесь принимать экзамены. Сколько десятков лет у него учились. Всех записывали в особые списки. Я их сохранила, сосчитала, более 600 человек слушали здесь лекции Алексея Федоровича, набирались ума-разума. А когда наступила осень 1987 года, чтобы не пропускать занятий, принялась за дело я. Сидели в столовой, читали, переводили, разбирали таблицы по сравнительному языкознанию, только без профессора Лосева. Он в кресле, в своем кабинете, с черным котом на коленях, прислушивался к голосам, уже не столь оживленным и громким. Все постепенно притихало в квартире, и она сама становилась как будто сумрачнее, хотя так же пылала люстра по вечерам. Не комнаты, а жизнь сумрачная, уходящая.
Остались фотографии, их делали слушатели-энтузиасты. Большой стол, за ним мы вдвоем и вокруг, потеснившись, чтобы попасть в объектив (фотограф где-то там, из прихожей, нацеливается), скромные, чистые молодые лица. Все-таки остается память.
Она и осталась. То вдруг на кладбище, на ежегодной панихиде вижу знакомых, и среди них – одна из первых аспиранток Алексея Федоровича, писала у него диссертацию, Р. М. Трифонова, теперь уже в летах, но все еще изящная и тонкая; то на конференции в память учителя приходят, то присылают письма – не надо ли помочь – из Новосибирска, Омска, Магадана, то статью опубликуют к столетнему юбилею учителя, как братья Виктор и Мирослав Шетэля, поляки, в «Slavia Orientalis». Регулярно переписываюсь с доцентом Н. И. Волковой, диссертанткой Алексея Федоровича, и она трогательно присылает мне коробочки конфет или местные сувениры. Помнят меня, а значит, и Алексея Федоровича Ира Андреева и Нина Павлова, где бы они ни были, даже и за границей. Я уже не говорю о старых друзьях Светлане Полковниковой, Галине Романовской, Грише Зеленине – теперь ученые люди.
Лосева в кругу аспирантов, веселого, распевающего немецкую песенку (память о поездке в Берлин в 1914 году), снял Витя Косаковский для своего фильма.
Как судорожно-весел и печален был последний день рождения 23 сентября 1987 года на даче в «Отдыхе». В последние годы собиралось множество народа, не говорю уж о юбилейном 1983-м, когда приехали к нам на дачу люди из других городов и давний ученик, теперь почтенный седобородый Петя Руднев из Петрозаводска – с корзиной брусники (Алексей Федорович очень любил ее моченую).
Все мы когда-то были молодыми, и кажется, если давно не встречался, что время остановилось, что все прежние. А тут прибегает один из юных почитателей Лосева и шепчет мне: «Там на аллее какой-то старец ждет». Иду к старцу и, Боже мой, вижу Петю. Старец. Да я и сама-то старуха. Обнимаемся, веду к Алексею Федоровичу – то-то радость. Время действительно остановилось, потому что душа молода.
Кто только не перелезал через наш забор в разные времена. Нина Павлова, Олег Широков и Женя Терновский, Леонид Голованов, Арсений Гулыга, Григорий Калюжный. Забор высокий, калитку не открыть – с секретом. Как будто солидные люди – нет, молодые. Все к Лосеву и по делу, и поздравить, а то и свои стихи почитать, как А. Н. Голубев. Главное – в праздничный день на даче – сбор самых близких, наших с Алексеем Федоровичем учеников и друзей. Во всю веранду устанавливают стол. По традиции Гасан и Юра – два Аякса, с огромными арбузами; несут невиданных размеров яблочный пирог, пекла Рита, жена Валерия Павловича, лежат ароматные дыни, персики, груши – все, по традиции, пьют за здоровье.
Еще до вечерних гостей Витя Косаковский со своими помощниками снимает аллею к дому, террасу, бедного Алексея Федоровича, который уединился в комнате, куда Оля Савельева несет чай, а я стараюсь оградить Алексея Федоровича от любящих посетителей. Нет, последний день рождения, как ни старалась наша молодежь, вышел грустный.
Сидит Алексей Федорович в клетчатом пледе, опустив голову, и видно, как тяжко ему это придуманное добрыми людьми веселье. Уходит незаметно, ни с кем не прощается, лег отдыхать от суеты, некогда столь воодушевляющей в день рождения – пришли, любят, помнят. Сохранились кадры этого последнего праздника, видеть их не могу.
Лучше всего передал нарастающее одиночество Лосева среди торжественного празднества фотохудожник Павел Кривцов. Алексей Федорович на открытой террасе в старой качалке, покрытый стареньким одеялом, один на фоне мощных сосен, сосредоточен, углублен, думает, а вдали по аллее идут две фигурки с цветами – Марина Кедрова и Танечка Шутова. Они к Лосеву с радостными праздничными лицами, а он уходит – в мысль. Не в ту ли самую гущу «Мысли» Мусоргского, которую любил Алексей Федорович слушать, когда играла М. В. Юдина, как колдунья варила варево. Нет, он весь в умном молчании.
Виктор Косаковский с Юрием Ростовцевым, несмотря ни на что, свое дело не бросают. Понемногу снимает Витя. Он живет в Москве, учится на режиссерских курсах, частый наш гость на Арбате. Все ходит вокруг, нацеливает камеру, неизвестно, что пригодится. Он ведь документалист, ему живой кадр необходим для будущего, для памяти.
Осенью же последнего года в кабинете Алексея Федоровича идут регулярные съемки, по всем правилам и законам кино. Витя приглашает известного оператора Рерберга. Откуда у нищего Вити деньги? Живет взаймы, в долг, занимает по тем временам безумные суммы. И все ему верят. Он раздаст всем свою премию «Серебряного кентавра» за фильм «Лосев», полученную на 1-м Международном кинофестивале документальных фильмов в Ленинграде. Опять останется без денег.
Беседуют двое, Лосев сидит в кресле, ему так привычнее, спокойнее, собраннее. Ростовцев стоит, задавая вопросы. Тут же, одновременно со съемкой, идет магнитофонная запись. Что ни вопрос, то, как говорили на Руси, проклятый. Жизнь и ее смысл, зло и добро, свобода воли, вера и знание, судьба, высшая абсолютная истина, Бог и человек. Мне просто страшно слушать и смотреть на этот фантастический диалог, на все эти вопросы и ответы. Боюсь за Алексея Федоровича, он воодушевлен, но в его состоянии это опасно. Лосев вспоминает сам себя, молодого, пылкого, задиристого спорщика, лектора и оратора, тонкого артиста. Поймает в раскинутые им сети – не вырвешься. Откуда берутся силы у этого отчаянного человека? Перед съемками отдыхает в моей комнате. Ждет Юрия. Тот сразу: «Алексей Федорович, пошли, пора работать». Встает, идем вместе в кабинет. Там он преображается, как будто бы только что не лежал без сил на узком диванчике. У Юрия накопились семь больших кассет с этим невиданным интервью. В фильм попала малая их часть.
Иной раз диалог принимал столь увлекательный характер, что съемка прекращалась сама собой. «Хочется слушать», – говорит оператор. А ведь Лосев не все мог произнести вслух, сказывалась многолетняя привычка – потаенно мыслить, одно пропустить, а другое – забыть до поры до времени. О чем-то сказать бегло и преуменьшить значение важных фактов. «Я ведь был тогда совсем мальчишка» – это о своих совсем не формальных (как выяснилось потом) отношениях с философами русского Ренессанса. А то вдруг прорвется решительно осудительное о Ленине. Невольно вспомнишь, как сказал Виктору Ерофееву сердито: «Толстой был интеллигентом, Ленин был интеллигентом, а у меня свое – лосевское».
Отвечал, снисходя к немощи нынешнего поколения, так как собеседника равного не было. Все ушли, все умерли. Но даже то, что сумел высказать, заставляет задуматься каждого, а кого-то и приводит к вере.
Оказалось в конце концов, что никакой собеседник вообще не нужен. В фильме Лосев один. Витя почувствовал его одиночество, одинокость. Лосев раздумывает, как бы беседует сам с собой, обращаясь иной раз к невидимому вопрошателю, как это он вообще любил делать в своих книгах (и это почувствовал Витя): «А ты, думаешь, как? Ну, ты с этим не спорь! Придется тебе с этим примириться!» И, знаете, получилось правильно. Получилась живая беседа со зрителем, с которым тоже, как и со своими учениками, Лосев всегда на «ты». А как же иначе, если ему за девяносто и мудрость уходившего века есть он сам.
Так рождался фильм «Лосев», слишком поздно рождался. Последние кадры ждали своего часа.
Тяжело и не хочется писать о последних днях. Сохранился мой больничный дневник, сохранились записи всех врачебных консилиумов, что собирались регулярно у нас дома. Может быть, когда-нибудь кому-то и эти скорбные листы понадобятся.
Болезнь брала свое, даже предлагали вторично в больницу, под целебную капельницу. Но М. Д. Раевская прислала старшую сестру отделения, опытнейшую, добрую, идеально коловшую совсем измученные вены Алексея Федоровича – Александру Кирилловну, вместе с капельницей и необходимыми лекарствами. Дома делали все процедуры.
Долго вспоминала Александра Кирилловна черного кота Маурициуса, не отходившего от хозяина.[358] Ему ставят капельницу, а кот на кровать. «Аза, убери кота», – взывает Алексей Федорович. Убираю. А он через минуту опять у изголовья Алексея Федоровича. Ничего не поделаешь.
Чего только не применяли. Какое-то новое чудодейственное лекарство из черноморской акулы «катрэкс», что вырабатывали в Грузии, обнаружила Мила. Прилетел самолетом гонец из Тбилиси с большим термосом, где во льду сохранялись ампулы. Все без толку.
К болезни, даже тяжелой, привыкаешь постепенно, как и к любому горю. Уже обычными становятся кислородные подушки, их целый запас, Ольгины девочки – Катя и Ася – носят из ближней аптеки. Надо дышать по часу и несколько раз в день. Но наша Старая дама, домашний врач, экономит (почему? деньги наши, кислород всегда есть) и, как выясняется потом (я ведь езжу в университет на лекции, мне – никакого снисхождения на работе, куда уйдешь от кафедры), дает дышать по 20 минут, а уколы делает пребольно каким-то допотопным шприцем (у меня куплены и шприцы, и запасы иголок, и при них сосуд для кипячения) – тоже, видимо, экономит.
Последние месяцы помогает мне наш друг по издательству «Искусство» Галина Даниловна Белова. «Полезно для души» – так объясняет она свое бессребреничество. Когда она дома, я спокойна. За Алексеем Федоровичем ухаживает ласково, трепетно и деловито. Галина Даниловна – строгий, властный человек. При ней бойкая дама притихает. А вот когда Галины Даниловны и меня дома нет – дело плохо. Приходишь после работы, скорее в кабинет, что там делается. А там на качалке раскачивается в свое удовольствие, болтая ногами, никогда не унывающая Старая дама. В кресле лежит умирающий, а в качалке – веселая старушка. Прости, Господи, злопамятство, удержаться не могу, как вспомню. Собираются мудрые врачи и непременно Алеша Бабурин, врач начинающий, и Валерий Павлович. Все предписания врачей выполняет сестра – приходит дважды в день, не считая Александры Кирилловны. Худеет, слабеет Алексей Федорович, но все еще сидит в кресле и даже с кровати на качалку переходит сам. Читаю ему понемногу, возимся с рукописями, готовим к печати.
Несмотря ни на что работа идет, вот-вот уже книга готова – «Вл. Соловьев и его время». За две недели до кончины Алексея Федоровича звоню к А. К. Авеличеву, директору «Прогресса». Он печатал Лосева в бытность свою директором университетского издательства. Договариваемся о печатании книги. Передаю перепечатанную рукопись с фотографиями (они частью из семейного альбома графов Бобринских). Книга выйдет в 1990 году, следом за движением VII тома ИАЭ в «Искусстве». Там бесконечно тянут. Ведь VI том вышел в 1980 году. Новый давным-давно сдали, некому постараться. Ушли из редакции всегдашние наши помощники. В «Науке» выходит красиво изданный сборник Научного совета по культуре под редакцией Алексея Федоровича и с его большими статьями. Сборник с примечательным названием «Античность как тип культуры».
Как мечтал Алексей Федорович еще с 20-х годов разработать ряд культурных типов, в том числе и античный. Собственно говоря, в «Истории античной эстетики» все уже сказано, но Лосев любит окончательные и кратчайшие формулировки. Вот в этих последних прижизненных статьях он и дает перечисленные по пунктам (так он делает в последние годы и в языковедческих работах) окончательно сформулированные мысли.
Держит в руках книжку, гладит глянцевый переплет, доволен. На письменном столе, на овальном столе – гора книг по проблемам культуры. Собраны для будущей работы, которая никогда не появится в свет. Книги же так и остались лежать на столах, я их не трогаю, только стираю пыль. Зато все восемь томов «Истории античной эстетики» налицо. Шесть давно вышли, седьмой вот-вот появится, восьмой завершен и перепечатан, лежит в нескольких больших папках. Дело жизни подошло к концу, здесь уместилась вся тысячелетняя античность с ее философией, мифологией, эстетикой (вспомним, что для Лосева это единая целостность). Но и сама жизнь Алексея Федоровича Лосева (невольно вспоминаю 103-й псалом) «позна запад свой».
Как ни странно, о самом худшем не думается. Все кажется – возьмет Алексей Федорович и поправится. Ведь болел тяжко воспалением легких еще при Валентине Михайловне году в 50-м, но тогда ему не было и 60 лет. Валентина Михайловна в больницу не отдавала, даже рентген на дом привозили (трофейный, немецкий), вымолила его. А я наивно думаю – выздоровеет. Но такой силой молитвы, как у монахини Афанасии, я не обладаю, слишком немощна. Воля же Господня неисповедима, от нас не зависит.
Одно смущало меня и вселяло таинственный страх. Недели за две до кончины Алексея Федоровича каждый раз, как входила утром на кухню, чтобы приготовить ему завтрак, я ощущала присутствие кого-то, второго. Более того, мне представлялся незримо некто, сидящий на табурете, в изящно-склоненной позе, именно изящно, как на рублевской «Троице». Не осязаемое тело, а его бестелесная идея, как бы сказал Алексей Федорович, незримая, но присутствующая. Я произносила вслух, как бы заклиная, «здесь никого нет», успокаивая себя. Но Оно было, причем только по утрам и почему-то на кухне, подальше от кабинета. Так я встречалась с невидимым пришельцем ежедневно. Каким-то нездешним чутьем поняла – это Оно пришло. Только не страшная смерть с косой, а благородный вестник сидит поутру на страже, охраняя от вторжения безобразной костлявой гостьи, приготовляя тихий, благой переход туда, где нет ни печали, ни воздыхания, а жизнь бесконечная. Но было страшно. Боялась вслух говорить об этом нездешнем явлении и рассказала уже после кончины Алексея Федоровича сидящим за нашим столом друзьям и записала для памяти.
Шел май, близился день святых Кирилла и Мефодия, столь почитаемых с детства, со времен гимназии, Алексеем Федоровичем.
В канун праздника, 23-го, ушла я в университет, с утра повстречавшись с незримым гостем. Последнее заседание кафедры, а там и лето, кто знает? Валентина Завьялова, мой давний друг, милая, добрая душа, скромно любящая нас с Алексеем Федоровичем, передала ему в подарок свежие ландыши, знала – это его любимые цветы. Ландыши поставила в кабинете, на столе у качалки. Аромат нежно-ласковый, как будто возвещает небывалую радость.
Позвонил из издательства «Искусство» Володя Походаев, сообщил, что пришел сигнал первой книги VII тома, обрадовал несказанно. Просил Алексей Федорович повторить несколько раз, что и как сказал Володя. Просит принести сигнал, подержать в руках. Звоню Володе, прошу принести. Ему, к сожалению, некогда, занят, зайдет на днях с книгой. Огорчен Алексей Федорович.
Приезжает Юрий Ростовцев попрощаться. В Новгороде завтра открывается праздник славянской письменности в память великих просветителей Кирилла и Мефодия. Подошел к Алексею Федоровичу. Тот сидит в качалке, опечален, что книгу не несут. Еще больше опечалился, узнав об отъезде Юрия. Стали прощаться, обнялись, и, чего никогда не было, Алексей Федорович заплакал, да и у Юрия какое-то смутное и жалкое стало лицо. Как будто навек расстаются.
Остались мы на ночь одни. Дремлю как-то странно, не то явь, не то сон. Слышу голос: «Азушка» – выхожу, смотрю. Нет, спит Алексей Федорович, значит, показалось. Снова прилегла – и вдруг опять так ясно: «Азушка», – бегу в кабинет через столовую, уже светает, конец мая. Алексей Федорович лежит на подушках в полусне. Спрашиваю, может, сделать подушки выше. Отвечает: «Выше». Лежит и так ясно произносит, а глаза закрыты: «Ясочка, Азушка», – и так много раз. Тут я поняла, что он поминает Валентину Михайловну и меня зовет. Обе мы соединились в этот час вместе. Явственно шепчет: «Ясочка». А ведь при мне никогда не называл этим «своим» именем Валентину Михайловну, так же как и она его – тоже «Ясочкой» (почитайте их письма, сразу поймете). Всегда при всех и при мне: «Вы, Алексей Федорович», «Вы, Валентина Михайловна». Да и я даже наедине называла его полностью «Алексей Федорович». Только Леночке с детства разрешалось говорить «Алеша». А тут вдруг – мы вместе. Стало мне не по себе, в живой жизни так не может быть. Спрашиваю: «Может быть, посадить?» Отвечает: «Посадить». Бегу к телефону с отчаянья, глупая, звонить к Старой даме, авось приедет, укол сделает. С Алексеем Федоровичем творится что-то неладное. В ответ спокойное – очень рано, метро не работает, как заработает, приеду. Снова к нему. Положила подушки к стене, обняла его, удивилась – легкий-легкий стал (это он-то, большой, высокий), посадила. Лоб холодный, руки холодные, положила грелку. Глаза закрыты. Схватила кислородную подушку, даю подышать. Спрашиваю: «Дать еще?» Отвечает: «Еще». Вдохнул несколько раз и вдруг так сильно выдохнул, последнее дыхание его покинуло. И на этом все кончилось. Занималось утро 24 мая. Черные деревянные часы, что стояли на его столе, показали без четверти пять. С тех пор около пяти просыпаюсь я еженощно (даже на даче), но потом сон берет свое, засыпаю, слава Богу, плохо, нудно, встаю разбитая, в поздний час, чтобы потом после завтрака доспать.
Что-то надо делать? Что? Врач наш живет рядом, в Кривоарбатском, дом знаю, квартиру нет. Живет она в коммуналке и телефона не дает. Звонить нельзя. Надо искать. Тут вдруг появляется «заботливая помощница» и с серьезным видом собирается выслушивать Алексея Федоровича. «Да вы что, с ума сошли! Его на свете нет, а вы слушать!» – кричу я со злобой сквозь слезы. Испуганная, не знает, что делать. Звонит Софье Владимировне. Та – немедленно в «неотложку», установить смерть. Звонит в «неотложку» и от волнения говорит сначала не наш телефон. Оставляю ее, бегу к врачу, нахожу. Спешно собравшись, приходит наша всегда спокойная врачиха и, как положено, констатирует обыкновенную смерть.
Тут появляется «скорая». Тоже констатируют; чему удивляться, человек старый, больной. Все нормально.
Я уже звоню первому, кто живет ближе всех (не хочу оставаться одна с чужими), к Игорю, потом Оле Савельевой, Смыкам (Оле и Саше), Вале Завьяловой – пусть все приходят. Сквозь туман вижу ежедневную утреннюю сестру из поликлиники. «Нет, – говорят ей, – уколы больше не понадобятся». Она все-таки заходит в кабинет, попрощаться. Всегда с Алексеем Федоровичем была особенно ласкова и приветлива. А там Старая дама уже в своем амплуа (умеет обращаться со стариками-покойниками) – уложила Алексея Федоровича на подушки (и то слава Богу), одеялом укрыла.
А потом началась суета. Обряжают Алексея Федоровича. И легок, и чист, и как-то удивительно жив был его лик. Не страшно и благоговейно. Покойник, Господи! Не может быть. Мне кажется, что это не со мной, не с нами. А потом вдруг трезвый такой голос: «С тобой, с вами, покойник». Как будто просыпаюсь. Да, пора проснуться, дела не ждут.
Все делают друзья, как положено. Спрашивают: «Маску снимать будете?» – «Какая еще маска? Ни в коем случае», – ужасаюсь я. Гасан и Юра уже на кладбище, и от Союза писателей какая-то бумага. Даже меня везут на кладбище, подтверждать, что есть своя могила.
Дали телеграмму моим. Сестра срочно приезжает, а Леночку решила оставить дома. Пусть Алеша пребудет в ее памяти вечно живым. Дали телеграмму Вите Косаковскому, в общежитие, в Москву.
Примчался Витя и рассказывает чудеса. Живет он в комнате с женой Таней и младенцем Алешей, названным в честь Алексея Лосева (покойный Марк Туровский тоже назвал своего первенца Алексеем, покойный Юра Дунаев своего тоже Алексеем). Рано утром заплакал навзрыд малютка, мать пытается его успокоить – не может, Витя хватает на руки, бросил взгляд в окно, а там, за окном, Алексей Федорович. Мгновение – и исчез, через несколько минут приносят телеграмму – скончался Алексей Федорович, и младенец перестал рыдать.
На телефоне в квартире Смыки на Кутузовском сменяют друг друга Катя и Ася. Звонят во все концы; другие – шлют телеграммы. Уже и в Новгороде известно – умер Лосев. Срочно уезжают, бросив все дела, Юрий и о. Александр Салтыков.
Уже и гроб привезли, поставили на столе в столовой, где столько лет работал Алексей Федорович с аспирантами. Поистине «где стол был яств, там гроб стоит». В темном костюме, в черной шелковой шапочке (запасная, крепдешиновая, во внутреннем кармане осталась), в новой рубашке (подарок Оли и Вали ко дню рождения), в очках (как же без них). На лбу – венчик, крестик надела кипарисовый, его серебряный спрятала в заветную коробочку с маленькими старинными иконками, где покоятся знаки его монашества, в руках тоже старинная маленькая иконка (теперь осталась одна – для меня).
Зеркала в комнатах завешены, на старинном шкафчике, на мраморе доски, поставили большие и малые иконы, старые (еще наследие М. Ф. Мансуровой, урожденной Самариной), принес Алеша Дунаев. У нас ведь после катастрофы 1941 года, когда все иконы сгорели, осталось несколько очень маленьких. День и ночь читают псалтирь, установили очередь (сестры Постоваловы, Рита Ларичева, Миша, Игорь, Сергей Купцов, о. Леонид Лутковский (из Киева), Галя Москвина, Егор Чистяков (будет священником), а на кухне помогает Любочка Сумм. Лампады горят, свечи горят, пахнет хвоей и сладостью могильной цветов. Кресло стоит пустое в кабинете. Кровать аккуратно застелена, все на месте. Только хозяин в гробу, и рядом, на стуле, бессменно трое суток черный кот Маурициус.
Просил меня давным-давно и не раз Алексей Федорович: «Ради Бога, не выставляй меня напоказ в институте. Отпевай, но дома». Я все понимала и дала ему слово. Отпевают дома, вечером, по полному чину, четверо батюшек – о. Владимир Воробьев, дед которого ехал вместе с Алексеем Федоровичем в лагерь; о. Валентин Асмус (сын В. Ф. Асмуса, давнего знакомца Алексея Федоровича), о. Геннадий Нефедов – важный, весь какой-то светлый, о. Аркадий Шатов (маленький, скромный). Наутро прибыл и о. Александр Салтыков. Народ не помещается, стоит в прихожей, на лестнице, в дверях дома. Пахнет ладаном, хвоей (почему хвоя – ведь жаркий май на дворе, но она в изобилии), ландышами – их несли вороха, сиренью – все в цветах. В конце панихиды о. Владимир произносит слова о том, что Алексей Федорович имеет право на отпевание дома, некоторые удивлялись – почему не в храме. Теперь ведь не страшно, идут празднества Тысячелетия Крещения Руси, начинается новая свободная жизнь церкви. Но о. Владимир человек ученый, знает историю церкви 20-х годов, знает, за что пострадал Лосев. «Звонарь Алексей и регент левого хора» в храме Воздвижения Креста Господня. Умный поймет. Как говорили римляне: «Sapienti sat».
Днем идут прощаться, нескончаемая вереница людей, знакомых и незнакомых, прикладываются к руке, к иконе, ко лбу. Под головой – подушечка. Мне кажется, что он живой и так удобнее и мягче лежать. Стоит жара, такого мая давно не было. Но лоб холоднее всякого льда и мрамора. Смертный холод. Сидит на стуле седая Юдифь, когда-то молодая, красивая, черноволосая, а теперь стоять трудно. Приехали попрощаться Сергей Аверинцев и Г. К. Вагнер, и В. В. Соколов с А. В. Гулыгой, и Саша Михайлов с Сережей Александровым, и А. В. Комаровская с сестрой С. В. Бобринской, профессор Щелкачев, П. В. Флоренский (старший внук о. Павла), сестры Постоваловы с Илюшей, мои университетские ученики, друзья из Рязани, Михаил Гамаюнов из Ростова, Сергей Купцов из Минска… Виктор Косаковский со своими ассистентами – на съемках, идут кадры, завершающие жизнь А. Ф. Лосева.
Ночью, при свечах, сменяя друг друга, читают псалтирь. Вспоминаю, как В. Н. Щелкачев в 1954 году читал псалтирь у гроба Валентины Михайловны в этой же самой комнате.
Наверху, на площадке пустого третьего этажа – крышка гроба. Там художник и искусствовед Миша со своей юной женой Наташей трудятся над крестом (советская власть не признает крестов). Вырезают из упругого толстого шелка, аккуратно, красиво прикрепляют черный крест на крышку гроба.
Внизу у нас очередная драма. Еще утром 25 мая звоню в издательство «Искусство», прошу Походаева принести наконец сигнал т. VII. В редакции полный покой, никто ничего не знает, а я и не говорю о нашем горе. Прошу принести. Алексей Федорович просит. И что же? Является ничего не подозревающий Володя, не замечает суеты, входит в комнату, хватается за сердце, чуть не падая в обморок. Алексей Федорович просит. А он – покойник. Володю ведет в кабинет отпаивать валерьяной Галина Даниловна для серьезного разговора. Я, отобрав у него книгу в красивом супере, кладу ее в изножие гроба. Воля Алексея Федоровича исполнена. Пусть книга полежит с ним вместе до погребения. Тут же молодой гость из Тбилиси. Ехал с дарами, попал на похороны. Жалкий, расстроенный, держит в руках большое вместилище с грузинской виноградной чачей, плачет, совсем юный. Мы, сами заплаканные, его утешаем. Сосуд с напитком пригодится. Его очень одобрит Павел Васильевич Флоренский.
С утра 25-го Миша Гамаюнов за роялем, за «Бехштейном», давним мне подарком Алексея Федоровича. «Одной любви музыка уступает», – когда-то сказал Пушкин. Льется эта музыка не переставая: Бах, Моцарт, Бетховен, Вагнер – все, что любил Лосев. Миша – весь вдохновение, а лицо в слезах. Льется музыка, гроб выносят в последний путь по нашей старой лестнице; 50 лет по ней спускался Алексей Федорович. Теперь тоже спускается на руках друзей, чтобы никогда не вернуться. Несут гроб Саша Штерн, Сережа Кравец, Виктор Бычков, Юра Панасенко, Игорь Маханьков,[359] Миша Нисенбаум, Гасан Гусейнов, Илья Постовалов. За гробом идут Юрий Давыдов, Юрий Ростовцев, Петя Палиевский рядом, и почему-то с большим портфелем растерянный Саша Михайлов. Он не знает, что смерть ему назначена в один из осенних дней 1995 года. Несут венки, садятся в автобусы – и прощай, Арбат. Витя Косаковский снимает. Он профессионал, тут не до нервов. Щелкают фотоаппараты, снимают многие, особенно хорошо – друзья-рязанцы.[360]
Толпа у ворот Ваганькова. Тоже снимают. Вот и Саша Спиркин с охапкой сирени с дачи, под деревьями которой так хорошо работалось Алексею Федоровичу. Несут гроб на руках, сменяя друг друга. Тут и Павел Флоренский, и Стасик Джимбинов, и Алеша Бабурин, и Саша Столяров, и Андрей Вашестов. Не сменяясь, несут гроб Гасан, Миша, Саша Штерн, Виктор. Володя Походаев идет впереди меня, подставив плечо под нездешнюю тяжесть. Впереди батюшки, и среди них высокий, черный о. Александр Салтыков – успел приехать к похоронам. Среди них о. Леонид Лутковский – прилетел из Киева. Батюшка без рясы, на груди иконка на цепочке, напоминающая архиерейскую панагию. Тоже не знает, что уже отмерен ему некий срок.
У разверстой могилы смутно в тумане знакомые лица: вот Юрий Селиверстов (тоже не станет его вскоре), Володя Лазарев, Алеша с Валерием Павловичем, а вот наши издатели Литвинова и Чертихин.
Батюшки служат последнюю панихиду. Посыпают землей погребальный саван – уже Лосев не наш, приобщился к могиле. Прощаемся в последний раз. Стучит молоток, вбивает гвозди в крышку гроба. Уже не видать ни родного лица, ни черной шапочки, ни очков. Могильщикам хорошо работать, весенняя теплая земля засыпает гроб, уже и стука о крышку не слышно, уже растет холм последнего земного приюта А. Ф. Лосева.
Растет холм из венков, цветов, лент, жаркий май – густой аромат сирени и печаль погребальных роз. И уже Исай Нахов выкрикнул первое слово, подавляя рыдание, а там стремительный Юра Давыдов, как вызов, бросает горькие признания. Саша-рязанец глотает слезы, вознося хвалу усопшему, Олег Широков, сдерживая дрожь, к кому-то взывает. Один за другим стихийно говорят, плачут, никак не могут успокоиться. На дереве, том самом, со сломанной верхушкой, что указывала в своей предсмертной записке Валентина Михайловна, сидит Витя Косаковский с камерой. Слезы текут по лицу, а он снимает. Профессионал. Ничего не поделаешь. У меня самой льются горькие слезы, суют мне валерьянку, но мне не до нее. Соловьи заливаются (они каждый год будут заливаться в этот день) этим благодатным днем, все блестит и сияет вокруг. Но почему умирает человек, да еще такой любимый, умный, добрый? Вечный вопрос. А ты не спрашивай, – слышу голос Алексея Федоровича в беседе с Юрием, – не задавай Богу вопросов. Потому что ты ничего не знаешь, потому что ты дурак. – Я и не задаю. Я знаю, что все делается как надо, все правильно, и полагаюсь на волю Господню.
Как положено по старинному обычаю – поминки. В конце XX века при таком стечении народа их заказывают заранее (что и сделал Саша Штерн). В ресторане «Арбат» снимают огромный зал, украшают цветами в вазах, устанавливают роскошно накрытые столы, но и кутья, и блины, как положено по традиции. И, знаете, все едят с удовольствием (я тоже ем), все проголодались от слез и горя, а в хорошей еде – утешение. Бывало, какая-нибудь у нас дома неприятность, ставки лишили, книгу выбросили из плана, потолок течет, а Валентина Михайловна приносит что-нибудь вкусненькое, и легче становится. Так и теперь, поминали Лосева пристойно, с молитвой батюшек, с торжественным благолепным хором, с воодушевленными речами, и было всеобщее умиротворение. Вечная память вступала в свои права.
А черный кот Маурициус, как вынесли хозяина из родного дома, тоже его покинул, исчез, как будто его и не бывало.
В наш опустевший, осиротевший дом прибыла дорогая гостья. Вечером в день похорон (самолет опоздал) из Тбилиси – Денеза Зумбадзе, вся в черном бархате, черные волосы отливают вороновым крылом, на груди большой перламутровый с жемчужинами крест, черная шаль ниспадает до земли. В руках охапки роз – алых, мрачно-темных и чайных, какие-то нездешние цветы и васильки, но почему-то розовые. Приехала оплакать любимого человека, наставника в философии. Не успела на похороны. Слезы дрожат на черных бархатных ресницах, черные глаза вопрошают горестно, обнимаем, целуем друг друга, вместе плачем.
На следующий день снова на кладбище, к свежей могиле с еще живыми цветами. С нами Вл. К. Бакшутов из Свердловска, трогательный человек, философ, Миша Нисенбаум, сестра моя, Оля и Саша. Припала к могильному холму Денеза, шепчет молитвы, крестится, украшает крест (пока временный) своими дарами. Блаженно улыбаются розы под жарким солнцем – совсем как на родине. Снова на кладбище, 29-го опять все вместе, и мой старший брат Хаджи-Мурат[361] (младший давным-давно в неизвестной могиле, совсем юный). Стоим, вспоминаем каждое слово, каждый вздох, припадаем с молитвой к кресту, прощаемся, чтобы снова и снова возвращаться.
Денеза меня не покидает все сорок дней. Испросила разрешение грузинского католикоса Илии II, звонила в его московскую резиденцию, – приехал, как и другие высшие иерархи, на празднование Тысячелетия Крещения Руси. К удивлению москвичей – священники, монахи и монашки в полном облачении, впервые открыто, свободно на улицах, площадях советской столицы. Но среди всех выделяется Денеза своей статью, строгой иверской красотой, небывалым одеянием – не поймешь, кто же она – монахиня, важная игуменья, глава какого-нибудь ордена эта явно заморская гостья.
Так среди молитв и псалмов (читали их все сорок дней, обычно вечером) идут дни. Приходит Алеша Бабурин, вместе читают «Отче наш». Она – по-грузински, он – по-церковнославянски.
Записывает грузинские слова русскими буквами, учится их произносить. По вечерам и Егор Чистяков беседует с нашей Денезой, не может удержаться – снимает ее и меня многократно. Здесь же Володя Лазарев, писатель и поэт, очарованный прекрасной грузинкой. Человек православный, вступает он с ней в теологические споры. Сестры Постоваловы приводят своих друзей по домашнему совсем неофициальному богословскому семинару, приносят какие-то машинописные лекции, обсуждают, дискутируют с Денезой. Я в этих беседах присутствовала пассивно, мне все эти новые духовные руководители не по душе. У меня есть свой твердый авторитет – Алексей Федорович. Спрашиваю себя каждый раз, а как он отнесся бы к решению этого вопроса, другого, третьего. Больше угощаю за большим столом. Теперь он свободен, там уже никогда не соберутся аспиранты. На столе портрет Алексея Федоровича, около него каждый день свежие цветы, несут все, кто приходит.
Вокруг горы книг, интересующие Денезу. Она почитательница Дионисия Ареопагита, изучает ареопагитский корпус, где так много неоплатонических элементов, преображенных христианством. Она – глава Ареопагитского центра, почетными членами которого были избраны мы с Алексеем Федоровичем, издательница «Ареопагитских разысканий» (1986).
В Грузии со Средних веков неоплатонизм – актуальнейшая проблема. Еще ученый-монах Иоанн Петрици переводил «Первоосновы теологии» неоплатоника Прокла, снабдив перевод своими комментариями. Лосев же, как мы знаем, перевел для грузин этот знаменитый трактат Прокла со своими комментариями, создал важное философское подспорье для грузинских исследователей.
Алексей Федорович глубоко ценил грузинский средневековый неоплатонизм. В «Эстетике Возрождения» он посвятил ему особую главу, а на склоне лет, по просьбе грузинских друзей, произнес «Слово о грузинском неоплатонизме», записанное Давидом Джохадзе и отосланное в Тбилиси. Замечательное, вдохновенное слово, но и необычайно логически расчлененное, где в тезисной форме дана тонкая характеристика специфики грузинского неоплатонизма, одним из проповедников которого был великий Руставели, закончивший свою жизнь в монашестве.
Денеза рассказала нам, как в знаменитом Гелатском монастыре (основал его Давид Строитель), там, где процветала некогда неоплатоническая Академия, в день рождения Дионисия 16 октября (нового стиля) слушали с трепетом речь русского православного неоплатоника Алексея Лосева. А ведь Денеза, собственно говоря, и есть Дионисия. Не зря носит это имя.
Приближался девятый день со дня кончины Алексея Федоровича. Дня за два до этого неожиданный звонок от Пети Палиевского, зам. директора Института мировой литературы АН СССР. Обращается с настоятельной просьбой – выступить на международной конференции (приехали выдающиеся иностранные богословы), посвященной Тысячелетию Крещения Руси. Я в полной растерянности. Какое выступление? Умер Алексей Федорович, близится девятый день. Разве я римская вдова, чтобы выступать с ораторской речью у погребального костра своего супруга (пришлось прибегнуть к преувеличению). Нет, это невозможно. В ответ Петя твердо и строго говорит – возможно и обязательно, «в память Лосева», именно теперь. Ничего не поделаешь. Когда говорят: «В память Лосева», я не смею молчать. Какое слово произнести? Не мое, это очевидно. Я только сделаю небольшое вступление, чтобы понятно было место Лосева в русской мысли, а потом прочитаю замечательное лосевское размышление о святых Кирилле и Мефодии, которое он назвал «Реальность общего», не имея возможности сказать «реальность высшей идеи». Он написал это краткое слово по просьбе болгар – главных почитателей Солунских братьев. Его никто не знает, никто не слышал, и оно так подходит к нынешним торжествам, без славных просветителей мы бы не имели наших главных православных книг. Итак, решено.
Через два дня, 3 июня 1988 года (канун этого дня – обретение мощей святого Алексия, митрополита Московского и всея Руси, в честь которого назван Алексей Лосев), еду я в сопровождении друзей в институт. Он – рядом, на Поварской (не хочу называть, как было тогда, улица Воровского, или, в просторечии, Воровская), но сил нет идти по жаре. Платье черное у меня теплое, шерстяное – не выдержу. Надеваю свой вечный темненький костюмчик, а сверху старинную черную шаль, из запасов матери Валентины Михайловны, покойницы Татьяны Егоровны.
У здания института полно народа, ожидают, беседуют, греются на теперь уже летнем солнце. Первым встречает меня Г. К. Вагнер, преданный лосевским идеям, благородная душа. Сначала в кабинет директора, Ф. Ф. Кузнецова, благообразного, с внушительной бородой. Там уже сидят иностранцы, в основном немецкие богословы, там же академик Б. В. Раушенбах, в интересы которого входит и тринитарная проблема, а не только ракеты, здесь же и митрополит Филарет.
Народ прибывает, вся лестница наверх запружена так (большей частью молодежь), что пробиваемся с трудом. Зал полон, стоят около зала, на лестничных площадках – туда провели динамики, как бы раздвинули зал заседаний. Нас, докладчиков, приглашают в президиум, где уже восседает благостный директор – еще бы, в его ортодоксальном Институте имени Максима Горького такое событие, поистине наступают новые времена. Сажусь подальше, но меня выдвигают в первый ряд, за стол с традиционным зеленым сукном. Рядом академик Б. В. Раушенбах, академик Н. И. Толстой, Вячеслав Всеволодович Иванов (он же всем известный Кома), его Высокопреосвященство Филарет (митрополит Минский и Белорусский), ученые батюшки, иеромонахи, иностранные богословы.
Улыбаются мне с первого ряда друзья (успели захватить места), и с ними Денеза, на которую устремлены все взгляды. Петр Васильевич Палиевский – спокойно-важен, улыбается мне понимающе. В зале, среди светской публики, – рясы, клобуки, мантии – православные иерархи славянских стран.
Жду своей очереди, и когда произносят мое имя, как-то странно со стороны смотрю на себя, как будто это не я иду на кафедру и не мой голос раздается в тишине зала.
Что могу я сказать? То, что Лосев завершил свои земные дела, ничто его не удерживало с нами, и скончался он провиденциально в день почитаемых всеми православными народами святителей Кирилла и Мефодия и, более того, в канун торжества Тысячелетия Крещения Руси. И умер он вовремя, в конце XX века, потому что мы не знаем, какие страшные испытания нам предстоят. Говорю о его кровной связи с прошлой философской Россией, с великими своими учителями, которых знал не по именам, а лично, общался с ними, что ему дороги были глубины православной догматики, особенно проблема троичности, страшные бездны диалектического триединства Божества и что самое дорогое для него была реальность идеи родины, церкви и гимназии с храмом в память святых Солунских братьев. Читаю, почти не глядя на текст (я уже сроднилась с ним), лосевское слово, пронзительно-интимное, такое, что плакать хочется – родная, родная гимназия, родная домовая церковь – вот какие святыни жили в душе замученного советами философа Лосева, что давало ему силы жить и писать книги. Несмотря ни на что. Заканчиваю слово тропарем в память святых с просьбой подать душам нашим «велию милость». «Аминь», – произнесла я, и зал задохнулся от аплодисментов. Владыка Филарет, митрополит Минский и Белорусский – он выступал после меня – сказал: «С Азой Алибековной трудно состязаться. Она произнесла блестящую проповедь», – и опять грохот аплодисментов в зале, а передо мной уже лежит огромный букет свежей сирени.
Кончились доклады, подходят благодарить, обнимают, целуют, мне кажется, что это не я, это его, Лосева, голос звучал в зале. Незнакомый иеромонах подходит, благословляя, и убежденно говорит: «Святость его свидетельствуется». Кто он, этот человек? И почему святость? Я ведь еще не знаю о тайном постриге супругов Лосевых, это мне еще придется пережить.
На следующий день приезжает ко мне молодой человек с записью моего и лосевского слова, его уже переписывают многие, и мне тоже подарили запись, хранится в музыкальном шкафу с горельефом святой Цецилии. Просят прислать текст для сборника конференции, посылаю, но сборника ни разу не видела, думаю, что не издали. Зато вышел том «Альманах библиофила», юбилейный, к Тысячелетию Крещения Руси, и там мое выступление напечатано (М., 1990, № 26).
Быстрее всех, как и положено, отозвалась «Литературная газета». В ней 8 июня напечатали отчет о конференции и полностью мое выступление. Газету с лепестками цветов, мне поднесенных, положила я в прозрачную папку, в правый ящик письменного стола Алексея Федоровича – доказательство, может быть, суетное, о живой памяти.
С тех пор на письменный стол, с той стороны, где всегда сидел Алексей Федорович, стала я складывать по одному экземпляру все его сочинения, статьи, заметки, книги, что выходили после 24 мая 1988 года. В шкафчике рядом – все, что пишут о нем или где упоминают его в разных контекстах (конечно, что могу обнаружить). Лежит гора на письменном столе, лежат в шкафчике пачки с вырезками. Может быть, пригодится для будущего.
После моего выступления из «Литгазеты», от С. Д. Селивановой, поступило предложение написать на всю полосу статью об А. Ф. Лосеве и открыть тем самым серию статей о русских философах Серебряного века, сопроводив их портретами Ю. И. Селиверстова. Предложение я приняла, но с внутренней боязнью и неуверенностью в своих силах. Номер поставлен на октябрь. Газета выходит по средам. Последняя среда – 26 октября, мой день рождения и день памяти Иверской Божией Матери. Редакция согласилась поместить статью именно в этот день.
Все лето, уехав после сорокового дня (2 июля – опять огромное собрание гостей у нас дома) и после отъезда Денезы, числа, по-моему, 15-го, на дачу в «Отдых», мучилась я статьей о Лосеве.
Мне издавна близка внутренняя неуверенность, почему всегда возмущался Алексей Федорович, когда я на любое предложение отвечала в первую очередь «нет». Подумав и поразмыслив, потом я тихо принималась за дело, и все как-то получалось само собой. Никаких планов никогда не строила, не писала, нужен был только фактический материал, и, главное, идея. Если идея есть и факты собраны для заказанной статьи, надо несколько дней, чтобы не отходить от стола, и к вечеру усталая, красная и растрепанная – напряжение большое – настроение хорошее, дело идет. Но здесь такая ноша, все лето нет-нет да и посещает недовольство собой.
Призвала Сережу Кравца. Он знает законы журналистики. Решили сделать диалог. Он спрашивает, я отвечаю. Сделали, и я его отложила пока в сторону (он и сейчас у меня есть). Езжу на работу в университет в сентябре, а в голове все вертится зачин для статьи, копошатся мысли, ведь важно именно начать. Еще вопрос – как же соединить биографию и творчество, чтобы скучно не было. Скуку ни в книгах, ни в лекциях мы с Алексеем Федоровичем не терпели. К тому же исключить обязательно назидательный тон. Когда готовили вместе «Платона» (1977) и «Аристотеля» (1982), это была моя главная задача – без скуки и назидания, чтобы живая личность. Когда сочинила свою «Греческую мифологию» («Искусство», 1989), больше всего опасалась сухости и псевдоучености, уж очень это скучно.
И вот как-то, вернувшись на дачу, села на веранде за стол и стала писать. Чувствую, выходит, но твердости нет. Нет главного советчика и ценителя – Алексея Федоровича. Бывало, как скажет, так и сделаю, каждый раз послушание. Теперь же я как будто сама себе старшая, тяжелое ощущение. Мне бы прислониться к другу, а друга-то и нет.
Помог случай, хотя случайного ничего не бывает. Как-то раз Алексей Федорович рассказывал семинарский анекдот. «С колокольни однажды упал звонарь и не разбился. Говорят – чудо, упал в следующий раз – не разбился. Говорят – случай. Упал в третий раз – не разбился. Сказали – привычка». Так чудо и случай соединились. И чудо случилось. Пришел ко мне в гости Ю. И. Селиверстов, да не пришел, а забежал, собирая материал для будущей книги «Из русской думы» (вышла посмертно, в 1995 году), – просил текст из книг Алексея Федоровича. Разговорились, и я погоревала, что ничего со статьей у меня не получается. «Как это, – вскинулся Юрий Иванович, – а ну-ка покажите. – Стал читать, схватился за голову. – Господи, да как хорошо, да лучше нельзя. Что вы горюете, сейчас позвоню Светлане Селивановой». Звонит, и она (тоже неслучайно) на месте. Начинает читать ей, а та уже кричит в трубку: «Подходит, приносите скорее, давайте срочно!» Так статья благодаря помощи Юрия Ивановича попала в «Литературку».
Мне же уезжать в Тбилиси. Уже условились с Денезой – в память Алексея Федоровича она собирает его почитателей с разных концов по благословению католикоса. Договариваюсь с В. В. Радзишевским, что в начале 20-х чисел октября, перед отъездом в Москву, буду в Орджоникидзе (ныне опять Владикавказ), в гостях у моей сестры, в нашем старом доме. Туда можно позвонить, если возникнут вопросы.
Собралась нас большая компания ехать в Тбилиси. День Ангела Алексея Федоровича – 18 октября. Все приурочено к нему. Ехали дружно, приподнято, с веселием духа – наша молодежь: Игорь Маханьков, Саша Столяров, Юра Панасенко, Миша Гамаюнов с матерью Маргаритой Тихоновной, Нина Рубцова, Оля Савельева, Валя Завьялова, Гасан Гусейнов, Олег Широков. Конечно, сестры Постоваловы, Алеша Бабурин с Валерием Павловичем, профессор Ю. Н. Холопов из Московской консерватории, о. Александр Салтыков с женой Таней, профессор С. С. Хоружий, математик и богослов, Виктор Бычков и Давид Джохадзе из Института философии, Галя Москвина из Жуковского, с философского – А. Н. Чанышев (далее непременный участник лосевских конференций – в Ростове, в Уфе) и еще некто Вячеслав Михайлович Соколов – физик, математик, ходит с косичкой, под семинариста, работает в издательстве – в общем, всюду не по профилю, много фантазирует, пишет рассказы, вот-вот станет праведником.
Кто поездом, кто самолетом собрались из разных городов. Денеза забрала меня к себе домой, сочла неудобными гостиницы с хорошими номерами. А у нее дома ремонт всех хозяйственных служб.
Срочно приходят рабочие. Денеза платит за скорость бешеные деньги, они торопятся, еле-еле лепят кафельные плитки, в общем, полный хаос. Зато гостеприимно, по-домашнему и с утра до вечера гости. Мне отвели отдельную комнату с камином (еще тепло, не топится), едва нашли настольную лампу, читать не могу при верхнем свете. Допоздна спорят о православии, монастырских уставах, возмущаются свободомыслием Денезы: почему нет женщин-священников? Она – готовый реформатор и слишком свободомыслящая личность к ужасу многих. Мудрый католикос снисходительно улыбается, глядя на ее горячность. Все пройдет. По-моему, ей нравится эпатировать ортодоксов, и ее настоящая скрытая мечта – стать игуменьей в строгом монастыре.
Читают доклады в одном из институтов АН Грузии, где перед началом заседания с вниманием прослушала записанное на кассету «Слово о грузинском неоплатонизме» А. Ф. Лосева. Все готовятся к главному – поездке в Гелати.
Поездка оказалась феерическая. На автобусе через Сурамский перевал, в Западную Грузию, на гору, в монастырь. Вспоминаю, как давным-давно с моей подругой детства Ниной мы пешком, через виноградники, в страшную летнюю жару поднимались в Гелати. Там, на горе, среди древних небольших храмов, в одном из служебных помещений музея, Денеза делает доклад, к которому готовилась день и ночь, да еще с переводом на грузинский. Но перевод синхронный не получается, приглашенная грузинская публика негодует, не понимает. Тогда Денеза переходит на грузинский, русские негодуют. Рядом становится переводчик, но это удлиняет и так большой доклад. Народ сидит покорно, но из последних сил. Явно не по нутру пришлась ареопагитская тематика вражьим силам. Страшная буря сотрясает крышу и стены, как будто тысячи бесов вторглись в святое место и рады его беззащитности. Мы так и решили – вражья сила справляет шабаш. Обстановка накаляется. Наконец все с облегчением выходят на осенний воздух и видят синее небо, солнце, полную безмятежность, бури нет и в помине.
В маленьком храме идет заупокойная служба. Поминаются русские философы – Алексей Лосев, Сергей Булгаков, Павел Флоренский, Николай Бердяев. В этом – вся Денеза. Ах, какой в этом маленьком храме сумрак, как нависают каменные своды, как рядом все святыни, и свечи мерцают, и тени ходят по голым стенам, здесь еще нет обычного убранства, еще только заря будущего подъема церкви и веры.
На обратном пути в Кутаиси нас ожидает вечером великолепное пиршество на несколько сот человек, во главе с грузинскими высшими иерархами и Владыкой Западной Грузии.
Боже, сколько выпито и съедено роскошных блюд, да все свежее, вкусное, сколько выпито вина и съедено ароматных фруктов, сколько речей сказано в память великого философа и друга грузинской культуры, сколько спето чудесных, стройных и строгих грузинских хоралов (да и наши не отставали).
Ночью приехали в Тбилиси, чтобы назавтра опять собираться, праздновать. Нас ждала служба в Сионском соборе, где католикос Илия II возглашал вечную память великому философу («диди философ») Алексею Лосеву и служил по нему торжественную панихиду. Древние стены, каменный выщербленный пол, мрак и сияние свечей, икон, паникадил, облачений.
А потом прием у католикоса, где нас ждал давно друг, профессор Николай Зурабович (Нико) Чавчавадзе и где нас угощали вином, шоколадом и бисквитами, пока шла беседа с католикосом, одаренным богословом, европейски образованным, знатоком духовной и светской литературы, простым в обращении, ласковым с нами и снисходительным, как с несмышлеными детьми, пускающимися по наивности в догматические споры. Запомнилась мне скромность и доступность католикоса. Он хотел принять 15 именитых гостей, и был накрыт для них, то есть для нас, избранных, особый стол. Пришло же столько народа (нельзя было не впустить), что он принимал и угощал по-простому всех званых и незваных, сидя рядом со всеми без всяких церемоний. За столом католикоса восседал его друг, Нико Чавчавадзе. Я храню несколько писем ко мне от Его Святейшества и высоко ценю его доброе и трогательное отношение к памяти А. Ф. Лосева, книги которого он читал с большим интересом. Еще последний прощальный банкет, подарки, «Дон Жуан» в оперном театре на итальянском языке, посещение друзей, обеды, ужины, прогулки по вечернему, благоухающему осенними плодами и цветами городу.
И наконец, усталые, довольные, перегруженные впечатлениями и добротой грузин, возвращаемся в Россию. Я с Игорем и Лидой – через Крестовый перевал Военно-Грузинской дороги сначала в город Владикавказ, побыть несколько дней у сестры, повидать места далеких счастливых дней – и назад в Москву. Здесь, в доме на Осетинской, 4, меня поймал междугородный звонок В. В. Радзишевского, уточнявшего некоторые детали моей статьи. Москва встретила морозцем, ноги в лакированных на каблуке туфлях скользили по тонкому арбатскому льду. Это вам не блаженно-теплый южный город. Вот и наш, все еще наш, общий с Алексеем Федоровичем, дом.
На столе собираются листочки из газет и журналов. Поминают Лосева. Первым – 27 мая Владимир Лазарев прямо назвал Лосева (чего уж скрывать) русским философом («Московский литератор», статья «Памяти русского философа»), а там целый поток статей, воспоминаний, обращений сохранить наследие Лосева (были сотни подписей), заметок, раздумий о судьбе русского ученого. Привыкла все записывать, заносить в особые тетради. Для памяти.
Далее 1989 год. Осень. Всесоюзная конференция в Ростове. «Донские Лосевские чтения», куда опять отправляется наша большая делегация, чтобы выступать в университете, а затем навестить Новочеркасск, о чем я уже писала выше.
А далее, в канун Введения Богородицы во храм, 3 декабря 1989 года в Московской духовной академии в Троице заседание, посвященное жизни и творчеству А. Ф. Лосева, организованное Н. К. Гаврюшиным и М. Е. Козловым (наш выпускник, филолог-классик, потом принял сан священника), куда отправилась наша делегация во главе с о. Алексеем Бабуриным, вместе с В. П. Ларичевым (вскоре станет тоже батюшкой), с Егором Чистяковым (тоже станет священником), Мишей Гамаюновым, Олей Савельевой, Валей Завьяловой, Ритой Ларичевой, сестрами Постоваловыми, с Ильей, Сашей Жавнеровичем и еще рядом лиц. Выступила с докладом, как и мои друзья. На вопросы отвечал Н. К. Гаврюшин, сравнивал о. Павла Флоренского и А. Ф. Лосева, выставил тезис об исповедничестве Лосева.
Уже Ю. Ростовцев подал идею общества памяти Лосева. Основали мы общество в 1990 году, а Вл. Лазарев дал ему характерное название «Лосевские беседы».
Уже вышел документальный фильм В. Косаковского «Лосев», завоевал он «Серебряного кентавра» на Международном кинофестивале в Ленинграде. Уже О. В. Кознова сняла трехсерийный телевизионный фильм «Лосевские беседы», где приняли участие видные ученые, друзья Лосева.
На Арбате идет перепечатка лагерных писем Алексея Федоровича и Валентины Михайловны, знаменитая лагерная переписка, которую я, обнаружив в 1954 году после смерти Валентины Михайловны, поклялась Алексею Федоровичу напечатать. Много найдено в правом ящике письменного стола философской беллетристики Алексея Федоровича, скрытой среди ученых программ и старых тетрадей. С 1933 года к этим рукописям никто не прикасался. Саша Столяров, Миша Нисенбаум, Лида Постовалова, Саша Жавнерович, Люба Сумм усердно печатают на машинке, сменяя друг друга, письма, повести и рассказы. Вышел «Контекст-90» с письмами Лосева о. Павлу Флоренскому, со статьей Аверинцева «Памяти учителя» и беседой А. Ф. с Ростовцевым и Павликом Флоренским о его деде. Прошли первые «Лосевские чтения» в Москве, издан сборник «А. Ф. Лосев и культура XX века» (1991).
Наступает юбилейный год. Столетие А. Ф. Лосева с Международной конференцией под эгидой ЮНЕСКО. В МГУ, в огромном актовом зале гуманитарного корпуса, ректор В. А. Садовничий открывает первое пленарное заседание. Докладчики со всех концов России начиная с 18 октября (день именин Алексея Федоровича) всю неделю выступают на секциях и семинарах. Приехали иностранцы – Америка, Англия, Франция, Германия, Италия, Япония – все участвуют в проблемах, когда-то поднятых Лосевым. В храме преподобного Сергия, что в Крапивниках (близ Петровки), 18 октября служат панихиду по монахам Андронике и Афанасии. Наконец я осмелилась, удостоверившись в скрытых от посторонних фактах, огласить тайный постриг супругов Лосевых. В этот же день радио «Свобода» сообщает об этом факте. А на кладбище Ю. Ростовцев поставил черный мраморный крест с примечательной надписью (мой выбор – из 53-го псалма): «Во имя Твое спаси мя», как подобает философу Имени.[362]
Уже родилась идея «Дома Лосева» как Центра русской философской мысли[363] и разгораются страсти вокруг нашего старого бедного дома. Издательство «Мысль» сдержало свое обещание, данное мне в годовщину кончины Алексея Федоровича, – издать его собрание сочинений: старое восьмикнижие с новыми находками из сохранившегося архива 20-х и 30-х годов. Один за другим девять томов: «Бытие. Имя. Космос» (1993), «Очерки античного символизма и мифологии» (1993), «Миф. Число. Сущность» (1994), «Форма. Стиль. Выражение» (1995), «Мифология греков и римлян» (1996), «Хаос и структура» (1997), «Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения» (1998), «Личность и Абсолют» (1999), «Эллинистически-римская эстетика» (2002). Мог ли мечтать Алексей Федорович о таком роскошестве? Неожиданно добавляются 2350 страниц рукописей Алексея Федоровича, переданных мне 25 июля 1995 года из недр Лубянки. Сколько работы предстоит, лишь бы печатали, лишь бы были живы издательства.[364]
Недаром я так спешила летом 1994 года, когда ровно месяц (с 18 июля по 18 августа) дописывала свои воспоминания, несколько сот страниц, не считая бесчисленных заметок, которые еще надо проверять и уточнять. Да, спешила. И ведь действительно не присаживалась целый год. Не могу писать в суете. Здесь душа болит и сердце ноет, и видеть никого не хочется, чтобы одной быть с воспоминаниями, с этим «пространством в скорбех», где реют милые тени.
А год оказался, как любил говорить Алексей Федорович, «чреват смыслом» и «зацвел символом».
Собиралась я давно уже найти «Дело» арестантское Алексея Федоровича. Но как-то тяжко было думать о Лубянке. Чувствовала, что сама никогда не доберусь, не дойду до этого зловещего места, Кузнецкого Моста. Сколько раз я туда ходила в юности, об отце узнавала, матери, брате. Разве можно забыть, как зимой 45-го года мне там вежливо сообщили, что отец умер 23 февраля 1944 года. Подумать только, всё узнали: и число, и год, и даже болезнь – воспаление легких. Как я рыдала, почти бегом несясь с Кузнецкого на Арбат, к «взросленьким». А ведь оказалось проще – расстрелян отец 9 октября 1937 года, а мы и дух перевести не сумели после дня ареста 22 июня – зловещий, памятный день или скорее предутренняя ночь. Голову морочили – десять лет без права переписки. Это уже через многие годы люди узнали истинный смысл таких безобидных слов (радость-то какая, не убили, только и всего, что без переписки на десять лет оставили!).
В мае 1941 года тоже был визит на Кузнецкий, и еще более горький. Сообщили о смерти моего брата. Да, прямо так и сказали – умер, а где? когда? Ни слова, как будто и не было человека, молодого, красивого, талантливого, одинокого, забытого, оскорбленного даже кое-кем из близких. Было это 12 мая, и в рыданиях сочинились у меня сами собой стихи: «Где его могила, я того не знаю…» Записала их, послала сестре Миночке, младшенькой, что избежала, слава Богу, детского дома, а маме – в лагерь – не решилась сразу сообщить.
Ну как же мне снова идти на Кузнецкий? Теперь, говорят, все иное, родители реабилитированы, вот книга большая об отце вышла: А. Магомедов «Алибек Тахо-Годи» (1993), где приводится почти все «Дело» отца и его последняя тюремная фотокарточка с потухшими глазами. Вместе с тем Павлик Флоренский (внук о. Павла, профессор, доктор геолого-минералогических наук) пугает рассказами, как ходил читать «Дело» своего деда, и как люди плакали, читая о мучениях близких, и как он шептал тайно в магнитофон, повторяя страницы следственного «Дела».
К счастью, среди моих друзей оказался Виктор Петрович Троицкий, не только созерцатель лосевских идей, но еще и с ясным взглядом на вещи, человек дела (все-таки математик и военный, полковник каких-то таинственных войск). Он выяснил местонахождение «Дела» Алексея Федоровича, которое, как всегда, сначала объявили пропавшим. Искали на букву Р – реабилитированный, а оно стояло на букву Н – нереабилитированный. Самое же любопытное, что на Р должно было стоять, именно на Р, не иначе, так как без всяких наших запросов (о них никто и не думал, и сам Лосев в первую очередь) реабилитировали бывшего арестанта 22 марта 1994 года, как раз за год до наших начавшихся поисков.
Ксерокопию этого замечательного реабилитационного заключения привез мне на дачу в «Отдых» 24 июня Геннадий Владимирович Зверев, мой помощник по обществу «Лосевские беседы». Оказывается, Лосев не виноват, осудили его по политическим мотивам, а поскольку в «Деле» бывшего арестанта не было сведений о его родных (это и естественно: дело заводили в 1930 году – сколько воды утекло с тех пор, и Лосеву исполнилось сто лет в 1993 году), то «Заключение» подшили к «Делу». Мне же – ксерокопию. Но справка – это потом, в июле, на даче.
У нас же с Троицким еще только весна, и мы идем 11 апреля 1995 года вдвоем на Кузнецкий, 22, где чисто, пусто и скучающие стражи беседуют с какой-то своей же секретаршей о приготовлении неких блюд. Тишина, прохлада, и в маленькой комнате человек, который хочет, чтобы его считали важным. Дает бумагу писать заявление, расспрашивает, хотя все уже написано. Но ему скучно, и мы – это маленькое разнообразие в служебные пустые часы. Но когда я прошу выдать и дело Валентины Михайловны Лосевой (я еще не знала, что было одно «Дело», «А. Ф. Лосев и др.»), он сразу становится неумолим. «А она вам родственница?» Я, видимо, не до конца осознаю, с кем веду беседу, и отвечаю: «Она мне больше, чем родственница». Но человечка (он невелик ростом) такой оборот не устраивает. Куда-то звонит, потом выдает еще лист, писать новое заявление. «Вам сообщат». Я опять глупо интересуюсь – пришлют письмо, позвонят… «Я говорю, вам сообщат», – коротко и загадочно отвечает вершитель судеб, и мы уходим с надеждой. И, знаете, действительно позвонили 11 мая 1995 года – мягкий, немного картавый, приятный голос. Приглашает на встречу на Кузнецкий, 22, дверь рядом с читальным залом ФСБ, что на втором этаже.
Май кончается, дни летят, а мне все некогда – дипломные работы, издатели, уже июнь подступает, последний перед дачей московский месяц. Решаюсь на 8 июня, жду Троицкого, его звонка из-под Москвы, из Софрина, человек он подневольный, зависит, хоть и сам с чином, от начальства. Звонит утром – приехать нет возможности. Что же делать? Одна не пойду. Звоню к Геннадию Звереву узнать, свободен ли. Слава Богу, свободен. И вот мы вдвоем, по страшной жаре, на безумном Кузнецком, после которого наш Арбат кажется мне тихой провинцией. Входим в прохладу вестибюля, и нам навстречу круглолицый, белолицый русый Молодой Архивист.
Вместе идем в читальный зал. Железная мощная дверь, звонок, вывески никакой, крутые ступени старого дома.
Внутри чисто, уютно, цветы, прохлада от кондиционера, столики, лампы и приветливая дама. Смущаясь, с какой-то вежливой улыбкой просят, таков порядок, показать мой паспорт. Чем я только не запаслась – и копией свидетельства о браке, и бумагой о наследовании, и университетским удостоверением, ну, конечно, и паспортом. Беглый взгляд на печать (а вдруг бы ее не поставили в милиции?) – и паспорт спрятан в сумочку. Взяла маленькую, боялась, что с большой не пустят, а смотрю, люди сидят с огромными хозяйственными сумками – вот уж наша запуганность! Потом дали подписать какую-то бумажку. Что-то я не должна нарушать, а что – не помню. Подписала и забыла тотчас, что подписала. А нам уже несут толстую папку в картоне. Томов-то оказывается одиннадцать. Некоторые – 2-й и 8-й, которые больше всего касаются Лосева, кто-то затребовал в Петербург, и их должны получить на днях. Ну что же, начнем с 11-го.
Самое интересное, что в нем как раз начало – списки привлеченных по делу, ордера на арест, протоколы обысков, анкеты, допросы. Почему-то во 2-м томе, как увидим позже, окажется завершение «Дела», приговоры на каждого, краткие биографические сведения. Как-то все наоборот, но там, на Лубянке, наверное, своя логика работает, и нам ее не понять. А какое замечательное название у этой сфабрикованной ОГПУ «организации»: «Политический и административный Центр всесоюзной контрреволюционной организации церковников „Истинно-Православная Церковь“».
Странное впечатление от этой серой, пожелтевшей бумаги, от этих почти не выцветших фиолетовых чернил и печатей «Хранить вечно», «Совершенно секретно». А что они понимали под вечностью? Вот прошло 65 лет с 1930 года, уже и Лосев в вечности пребывает, уже все поумирали, кроме одного участника этого давнего процесса. Но папки живы, бумага выдержит еще много лет. Скажете – никто не читал, не листал? Ошибаетесь. Проверяли. Печати с подписями стоят. Шла проверка через десятки лет, все ли на месте. На месте ли подпись Ягоды, или Полянского, или Герасимовой, которую в письмах из лагеря[365] Лосев называл «ласковою коброю» (из стихов 3. Гиппиус). Сколько еще пролежит в хранилищах Федеральной службы безопасности это наследие ОГПУ. Может быть, и правда целую вечность.
…Так мы с Геннадием несколько дней посещали читальный зал Лубянского архива, лихорадочно, в две руки, переписывая необходимые сведения, заказывая ксерокопии (денег за них с нас не брали) в достаточно большом количестве и даже получили разрешение сфотографировать меня с «Делом» в руках в отдельной небольшой пустой комнате. Геннадий едва успел сделать четыре кадра, как в дверь шумно вошел огромного роста мужчина, мало похожий на архивиста, и зычным голосом напомнил, что пора кончать. А мы уже и кончили.
Мы не только сидели и переписывали, мы еще и думали о некоторых важных вещах – хотя бы о рукописях и книгах, конфискованных у Лосева. Решили, я написала о розыске рукописей. Свершилось поистине чудо.
В день памяти двенадцати апостолов, на следующий день после дня святых Петра и Павла, то есть 13 июля, стало известно, что рукописи Лосева обнаружил Молодой Архивист. В письме от него, мне переданном, говорилось, что его начальство хочет устроить передачу этих рукописей мне в торжественной обстановке там, где мы сами решим, то ли у них в читальном зале, а то и в нашем доме.
Опять пришлось писать записки с просьбой устроить встречу в нашем доме, так называемом «Доме Лосева», где Алексей Федорович жил более полусотни лет, где он во дворике выходил по вечерам на прогулку и где скончался. Он всегда мне говорил: «Отсюда меня вынесут только вперед ногами». Намечали торжество на 20-е, но не успевали. Дом наш в плохом виде, ремонт не начинался,[366] все еще проекты и подготовка. Однако на втором этаже есть несколько более приличных комнат (вход с Калошина переулка), где работают наши проектировщики. Там лампы дневного света, столы, стеллажи. Окна выходят на угол Арбата. Из них виден Театр Вахтангова и филатовский дом. Когда смотришь с арбатского перекрестка на эту часть дома, то она производит впечатление носа корабля, плывущего вперед.
Днем 22 июля приехал Геннадий предупредить, что мы отправимся в Москву 24-го.
Волновалась я очень, и все больше из-за того, как оставлю на даче белую кошечку, своенравную Игрунью, в просторечии Груняшку. Она действительно помчалась за нами прямо по дороге к станции. Едва поймала ее, отнесла и закрыла в доме. Вот такие были наши проводы.
А первая встреча произошла во дворе нашего дома не с кем иным, как с Колей Александровым, Николаем Дмитриевичем Александровым – директором Музея Андрея Белого на Арбате и сотрудником «Эха Москвы». Коля как-то неожиданно наскочил на нас и потребовал интервью, срочно, для «Эха». Хотел явиться часа через два, когда я отдохну, но решили, что интервью надо дать сейчас же, сгоряча, пока есть напряжение сил. И мы побеседовали с Колей внизу, в нашем обшарпанном страшном вестибюле, поставив на каменные плиты купленный по дороге торт. На следующий день «Эхо Москвы» вместе с последними известиями сообщало о передаче рукописей Лосева в 16 часов 25 июля.
До ночи возились, доставая большой портрет Алексея Федоровича (спасибо нашему другу Косте Атарову, устроившему его пересъемку еще в 1988 году), книги, статьи и новые издания, фотографии, журналы, составляли списки. Спала плохо, но утром силы были. Видимо, спасало напряжение. Все зависело от духа, а дух приподнят и как-то весел.
Не я одна была в напряжении. Молодой Архивист звонил мне трижды, волновался очень, как все пройдет, все ли в порядке. Он едет со своим начальством и везет рукописи – 2350 страниц.[367] С вечера обещал прислать своего фотографа Григорий Калюжный (сам улетел в Севастополь к тяжелобольной матери). Беспокоился и Ю. А. Ростовцев, Павел Флоренский только приехал с Соловков и сразу попал «с корабля на бал». Молодец, не подвел; и даже Танечка Шутова, только что вернувшаяся из Чечни (военный корреспондент), как всегда, живая и очаровательная, тоже прибыла к нам в дом.
Приехала Мила Гоготишвили, и мы втроем отправились на встречу, где уже народ ждал, и в том числе гости из ФСБ. Как-то само собой получилось, что сразу, еще перед входом в зал, я подошла к двум незнакомцам. Оказалось, это сам генерал и один из его помощников – оба в штатском. Сразу прошли в наш маленький зал, где почти не было стульев и все стояли. Тут же оказались помощники А. И. Музыкантского, зам. премьера Московского правительства и нашего префекта – Ю. М. Косой и В. И. Сирота. Сам А. И. Музыкантский присутствовал на открытии памятника Высоцкому.[368]
В креслах сидели профессор В. Н. Щелкачев; наш друг, режиссер телевидения, делавшая передачи о Лосеве, О. В. Кознова вместе с супругом Дмитрием Георгиевичем – трогательная пара. Владимир Лазарев, писатель, поэт и поборник «Лосевских бесед», с супругой, моей кузиной Ольгой Тугановой. Виталий Рубцов, бородатый, грузный, вместе с женой Ниной и цветами – так и не присел. Батюшка о. Алексей (Бабурин), близкий наш друг еще при жизни Алексея Федоровича, в облачении, светлый ликом, красивый, присоединился к обществу. А сколько еще незнакомых. И кто-то улыбается. Кто это? Елена Сеславина из еженедельника «Россия» (она первая напечатала в «Дружбе народов» повесть Алексея Федоровича «Встреча»), Л.В.Литвинова из издательства «Мысль», А. Т. Казарян, издатель журнала «Начала», Наташа Иванова-Гладилыцикова из «Литгазеты», а там и Коля Александров – «Эхо Москвы». Руки по швам, стоит навытяжку Молодой Архивист, круглолицый, взволнованный, и многие, многие, кого не знаю, но все радостные, приподнятые. Суетятся телевизионщики и фотографы.
Открыл наше заседание, испросив у меня разрешение, генерал, глава Центрального архива ФСБ России, произнеся краткую красноречивую речь, отметив гуманную роль сегодняшней акции. А потом говорила я. А за мной стоял огромный портрет Алексея Федоровича с цветами по бокам, с иконой «Живоначальной Троицы» посередине, и лампы горели ярко, а по стенам смотрели дорогие мне лица, окружали меня дорогие мне книги. Оказывается, еще до моего прихода шла съемка расставленных по стеллажам книг, портретов, журналов, рукописных листочков Алексея Федоровича.
Ничего не могла я сказать кроме того, что здесь происходит чудо. По терминологии Лосева, в мифологическом мире, где мы живем, полно чудес и каждое чудо воспринимается как реальный факт. Да, чудеса творились все время с книгой Лосева «Диалектика мифа». Ее арестовали, а она продавалась из-под полы. Ее в Мюнхене в 1969 году купил профессор Джордж Клайн из США (колледж Брин-Мор). Недавно в одном из интервью о своих встречах с Алексеем Федоровичем (в журнале «Начала» № 2–4, 1994) он сообщил о факте покупки этой книги. Да и профессор А. В. Гулыга, наш друг, сделал ксерокопию именно с этого экземпляра. Я рассказала о письмах Н. Н. Русова к Алексею Федоровичу, который в 1942 году сообщает, как он читал недавно в Ленинской библиотеке «Диалектику мифа». Совершенно свободно. И не только читал, но и переписывал ее всю от руки, а потом дал перепечатать машинистке. Вот вам и арестованная книга! Теперь новое чудо – в «Дом Лосева» возвращается единственный подлинный экземпляр «Диалектики мифа». Ведь у Алексея Федоровича была только фотокопия (сделали в 70-е годы) своей «злосчастной» (как он ее называл) книги. А «Дополнение» к «Диалектике мифа» (того повода, из-за чего арестовали Лосева) так и не нашли. В «Деле» оказалась только обложка. Текст же исчез. Где он, никто не знает. Есть только краткие выписки, сделанные следователем. Сказала я и о тех внутренних трудностях, которые пришлось мне пережить, пока добралась я до Лубянки. Не могла умолчать о моих страданиях перед сидящими здесь доброжелательными людьми. Не могла и не поблагодарить тех людей из Архива ФСБ России, которые возвратили мне 2350 страниц А. Ф. Лосева. Теперь время изучать полученный мной дар, который считался навеки погибшим. «А корзина с письмами? – раздается возглас из зала. – Там, говорят, была еще и она». – «Если найдем, то вернем с корзиной», – улыбаясь, отвечает генерал.
Даю слово профессору-математику В. Н. Щелкачеву, который, твердо стоя в свои 87 лет, повествует о тюремных днях и ночах после ареста по делу контрреволюционного «Центра Истинно-Православная Церковь». Он даже не осуждает тюремщиков. Он благодарит за школу испытаний и школу жизни, давшую ему примеры настоящей дружбы, мужества и великодушия.
Володя Лазарев читает стихи, в которых философ поздним вечером во дворе своего дома мысленно обращается к огромному старому развесистому тополю – своему единственному собеседнику.
Слово о Лосеве, философе и психологе, горячо произносит Рубцов, горя желанием опубликовать большую философско-психологическую рукопись с посвящением Г. И. Челпанову.
Павел Флоренский просит поторопиться с печатанием. Времена могут измениться. «Печатайте скорей», – взывает он.
Отец Алексий поступил правильнее всех. Он пропел благодарственный тропарь перед ликом «Живоначальной Троицы». Он посулил чинам ФСБ, что их доброе дело зачтется на Страшном суде, который, правда, ждет также и всех нас.[369]
Да, было совсем неофициально, искренне, горячо, и вылилась эта акция, как потом говорили, в настоящий праздник.
Газеты, в свою очередь, старались. Сначала «Известия», потом «Вечерняя Москва» на первой полосе дала фотографию нас с генералом, статью А. Панфилова и броский заголовок «Рукописи не горят. Сенсационная находка в архивах Лубянки» (27 июля), «Наследие Лосева возвращается» («Россия», 2–8 августа), «Рукописи вернулись в дом автора» («Сегодня», 27 июля), а потом «Литературная газета», «Русская мысль», «Утро России» и «Вести» по телевидению, и радио…
Опять не спала. Не могла удержаться. Стала смотреть рукописи, раскладывать книги по местам, ошущала непрестанное стремление что-то делать.
Стала смотреть папки, обнаружила там большое сочинение, куда входит напечатанная мной в «Символе» (№ 27) «Первозданная сущность». Видимо, Алексей Федорович писал свою «Абсолютную мифологию», которая должна была следовать за «Диалектикой мифа».
Нашла какую-то большую работу о числе в античности, мне тоже неизвестную. Напечатанное нами сочинение «Вещь и имя» оказалось здесь в особой редакции, со своим подзаголовком, о котором я не подозревала: «Опыт применения диалектики к изучению этнографических материалов». Более того, в сложенном пополам виде пролежала 65 лет замечательная IV глава из этой работы под названием «Из истории имени», занимающая большие нестандартные 72 страницы машинописи с рукописными вставками самого Алексея Федоровича. Таким образом, только одна эта глава равняется всей работе «Вещь и имя», опубликованной в томе «Бытие. Имя. Космос» (М.: Мысль, 1993).[370]
В папках спрятаны полные экземпляры «Философии имени», «Диалектики мифа», «Античного космоса». Теперь можно сличать их с нашими изданиями. Там же музыкальные вещи: «О понятии ритма в немецкой эстетике первой половины XIX в.», «Вагнер, Скрябин и гибель европейской культуры». Интересно будет узнать, как отличается находящийся здесь «Критический обзор основных учений и методов Вюрцбургской школы» от того экземпляра, что хранится в архиве Московского университета в деле А. Ф. Лосева. А что это за «Эстетические исследования»? Предшествуют ли они консерваторскому курсу по эстетике или это есть один из его вариантов? Следует проверить и переводы – Николая Кузанского, Дионисия Ареопагита. Многое без названий, страницы перепутаны, иные повторяются по нескольку раз. В так называемом Списке книг и рукописей, отобранном при обыске обвиняемого по делу № 100256 Лосева А. Ф., очень небрежные и малограмотные перечни, с ошибками в именах. А то и просто указано: «Рукописи церковно-догматического содержания».
Лежит в папках и дневник Алексея Федоровича за 1914 год в черном коленкоровом переплете, тетрадь из 200 страниц. Только последние несколько относятся к 1915 году, потом перерыв – и сразу запись 1918 года – политического характера, вся подчеркнутая красным карандашом следователя, а потом чудный этюд под названием «Артист» в типичном лосевском духе высокого напряжения мысли об искусстве, жизни, космосе и божественном призвании Артиста. В дневнике никаких особых сенсационных фактов. Нет, в нем история духовного, внутреннего становления молодого человека начала XX века. Перед нами юноша, погруженный в музыку, философию, в идеи высокие, в молитву и чувствующий себя совершенно одиноким, весь в мечтах о будущей подруге, тоже духовно одаренной, с которой рука об руку можно подниматься к мирам иным, найти путь высокого служения истине. Наивно вспоминает молодой Лосев любимого своего Фламмариона и его героев. В каждой новой встрече с какой-нибудь милой гимназисткой или курсисткой ему мерещится настоящая избранница. Их, этих разочарований, множество. Так оно и должно было быть. Лосев еще не знал, что его ждет душа, предназначенная ему судьбой, посланная самим Господом Богом, та, которая разделит с ним все тяготы града земного и с которой войдут они в град небесный в духовном браке как Андроник и Афанасия.
В 1915 году, окончив университет и сдав кандидатское сочинение «О мироощущении Эсхила», Лосев вступает в настоящую творческую пору. Он начинает писать уже не письма-исповеди, а статьи и книги, вобравшие в себя все мощное напряжение мысли молодого ученого, его духовных переживаний, душевных страстей, горячности сердца. Книги – вот подлинная история мысли и чувства Лосева, его подлинное жизнеописание, исполненное глубочайшего смысла. Вот их и надо читать.
А пока, ни о чем не рассуждая и не вынося никаких заключений, углубилась я все-таки в дневник молодого Лосева и пребывала в мире давно ушедшем, но в котором билось сердце до боли знакомого мне человека. Его пристрастия, интересы, беседы с самим собой, с воображаемым собеседником, обмолвки, словечки, мимолетные зарисовки, стремление dahin, dahin – все это радость встречи на «заре туманной юности», в которой уже узнаются черты зрелого и мудрого, но всегда молодого Лосева.[371]
Так неожиданно в мое неспешное воспоминательное повествование ворвались летом 1995 года непредвиденные обстоятельства. Однако эта неожиданная интермедия дала мне теперь возможность начать подготовку к печати никому не известных рукописей Лосева, новых немаловажных страниц его жизнеописания.
В творчестве Алексея Федоровича читателя всегда поражает его многогранность и вместе с тем целостность. В чем же здесь дело? А дело в том, что и для молодого, и для зрелого Лосева идея «всеединства» оставалась неизменно актуальной. Мир для него был единораздельным целостным универсумом, все части которого несут на себе печать этой целостности. Сущность же частей может изучаться во всех их внешних проявлениях и формах, математических, словесных, музыкальных, временных, символических, мифологических и др. Отсюда необъятность научных интересов Лосева, изучавшего проявления сущности целого в его частях. Заметим, что это изучение шло путем особой, лосевской диалектики, основанной не на антиномическом противопоставлении материи и духа, а именно на их единстве, когда идея одушевляет материю, а эта последняя придает идее плоть, овеществляет ее. Вот почему диалектическое саморазвитие единого живого телесного духа становится для зрелого Лосева единственной известной ему реальностью.
Как видим, принцип целостности бытия, высшего синтеза всех его составляющих – основной для философа. Ростки же его мы находим еще в его юношеской работе «Высший синтез как счастье и ведение», которая, однако, так же привлекает к себе сердца, как и знаменитая «Неоконченная симфония» Шуберта, столь любимая Лосевым.
Автор, как настоящий древний демиург (ведь он философ мифа), свободно распоряжается в бескрайнем пространстве своих исследований, то создавая органическое единство философских, эстетических, мифологических проблем, то дифференцируя их, подробно обсуждает каждую, вдается в мельчайшие детали, пристально исследуя, казалось бы, мелочь, а на самом деле важнейшую, характерную черту.
Здесь переплетаются космология и астрономия, математика и геометрия, числовые и музыкальные интуиции пифагорейцев и неоплатоников. Не забудем, что перед нами философ числа.
Но ведь Лосев еще и философ имени. Каждое понятие, общежитейское или научное, выражено в имени, в слове. С особым упоением набрасывается Лосев на изучение словесного образа философско-эстетического мифологического понятия. Раскрывается огромный мир, в котором – истоки нашей современной научной мысли.
Всегда не только общее, но специфическое для определенного типа культуры притягивает к себе ученого. С молодости мечтал он вылепить (ему близка античная пластика) тот или иной культурный тип. Одно – успел, другое – не удалось. Жизнь, даже если живешь 95 лет, – коротка, а наука – бесконечна. Античный тип создал в ИАЭ. А ведь это полторы тысячи лет. Культурный тип эпохи Возрождения создал, хотя и много страдал за свои крамольные мысли – как же, опровергал одного из классиков марксизма, Энгельса. Хотел написать о Средневековье – не успел. Начал историю средневековой диалектики – не дали кончить. Мечтал о романтизме – времени отпущенного не хватило. Остался подробный, но все-таки конспективный очерк – античность, средние века, Возрождение, романтизм. Основа для будущей книги, которую кто-нибудь еще напишет.
Лосева надо читать обдуманно, умело. Если вы изучите «Историю античной эстетики», то узрите пути, которыми человек пробивался от языческого пантеизма и политеизма к монотеизму и христианству. Недаром Алексей Федорович в последнем томе ИАЭ «Итоги тысячелетнего развития» наряду с основными мировоззренческими принципами античной культуры, такими как хаос, космос, судьба, миф, выдвинул учение об «идее идей», «Уме-Перводвигателе», пока еще не имеющем имени, а только числовое обозначение – Единое, но ведь это великие прозрения будущего мира с его Абсолютом, божественным личностным началом, с Именем – источником жизни.
Настало время, когда открываются читателю добытые из архивов богословские работы Лосева, вынужденного в давние годы то зашифровывать свои догматические идеи (а он глубоко понимал именно православную догматику), как в «Философии имени», а то с отчаянной откровенностью бросаться в гущу жизни, заплатив за это свободой («Очерки античного символизма и мифологии» с глубокой критикой католицизма и его главных принципов, «Диалектика мифа» с апологетикой православного монашества и разоблачением социализма).
На склоне лет, на девятом десятке, снова забрезжили дорогие образы молодости. К ней, своей любви, обратился старый Лосев, к Владимиру Соловьеву, сочинения которого получил гимназистом в награду. Вспомним, что среди книг юности и Платон соседствовал с русским философом. Снова с молодым пылом высказал Алексей Федорович свои мысли о Вл. Соловьеве, не устрашаясь гонений. Так соединился конец его жизни с ее истоками. Никакого хаоса, которого Лосев не терпел ни в жизни, ни в творчестве. Прошлое и настоящее соединилось у Алексея Федоровича в гармоническое единство.
Лосев никогда не был сухим, абстрактным интеллектуалом, рационалистом-эмпириком. Это было для него бесплодно и скучно. Он был охвачен высокими, умными (его любимое слово) идеями, которым его виртуозная диалектика придавала пульсирующую жизнь. Он был истинный виртуоз мысли, задорной, напористой, увлекающей читателя.
Вот почему ученость и артистизм в нем были неразрывны. Отсюда дар языкового мастерства переводчика, достигающего небывалой ясности и отточенности в своих размышлениях, формулировках, комментариях. Стоит только почитать его переводы Платона, Аристотеля, Плотина, Прокла, Секста Эмпирика, Ареопагитик, Николая Кузанского и, конечно, комментарии к ним.
А его портретная галерея поэтов, философов, писателей, ученых – Гомер и Эсхил, Сократ, Платон и Аристотель; Лукреций и Вергилий, Плутарх и Синезий; Диоген Лаэрций; Плотин и его ученики; Юлиан и Прокл. Здесь нет счастливых и благополучных. Все бьются в узах неизменных коллизий, прислушиваются к таинственному голосу судьбы, погружены в страсти, брошены в безвыходную тоску, в трагическое одиночество.
За каждым из этих героев ощущается собственная судьба автора, его покинутость, его одиночество, от которых спасают наука и вера.
Лосев не любит повторять избитые знакомые истины. Зато его страсть – вдалбливать слушателю и читателю свои личные мнения, рожденные им идеи. Они у него всегда первичны, и огромная эрудиция исследователя (он оперирует тысячами фактов) с опорой на современную научную мысль (отнюдь не псевдонаучные формальные ссылки) не затемняет собственного видения предмета, отнюдь не традиционного, но в лучших традициях подлинной науки. Такая наука создает свои первопринципы, свои первоидеи, свои модели, служащие источником рождения новых теорий и направлений. Именно эта первичность мысли со всей строжайше продуманной логикой создает особый стиль трудов Лосева, который никогда не спутаешь с каким-либо иным стилем.
Лосев осуществляет свою индивидуальность, которую, по его словам, «ничем объяснить нельзя». «Индивидуальность объяснима только сама из себя».[372]
Алексей Федорович оказался в своих исследованиях, по собственному признанию, «ни идеалистом, ни материалистом, ни платоником, ни кантианцем, ни гуссерлианцем, ни рационалистом, ни мистиком, ни голым диалектиком, ни метафизиком». Оставалось сказать только одно: «Я – Лосев».[373]
Алексея Федоровича Лосева много издают, переиздают, изучают. Все это пришло после его кончины. Как будто спохватились, опомнились. Стало правилом хорошего тона ссылаться на его труды. Просматривая газеты и журналы, я обязательно нахожу на него ссылки в самом разнообразном, даже удивительном контексте, в одном (наверное, не очень продуманном) ряду с великими именами.[374]
Кого тут только нет: философы древние – Платон, Гераклит, Плотин, Прокл; философы и писатели XIX–XX веков – К. Леонтьев, Вл. Соловьев, Н. Бердяев, о. С. Булгаков, С. Л. Франк, Л. П. Карсавин, Вл. Эрн, Б. Вышеславцев, В. Зеньковский, о. П. Флоренский, П. Сорокин, В. В. Розанов, Е. Замятин, Г. Федотов, А. Ахматова, М. Цветаева, Г. Шпет, Гуссерль, Хайдеггер; ученые – Эйнштейн, А. Чижевский, Н. Вавилов; профессора Московского университета – Жуковский, Петровский, Богомолов, Соболев (точные науки), историк Ключевский. Лосев – в ряду своих современников-античников П. Блонского, С. Я. Лурье, А. О. Маковельского, О. Ю. Фрейденберг, В. Сережникова. Лосев в ряду с Д. С. Лихачевым, М. М. Бахтиным (есть бахтинисты, изучающие одновременно Лосева), с выдающимся индологом академиком князем Ф. И. Щербатским. Мне известно, что он, понимая глубину лосевского учения об имени, прислал ему свою новую знаменитую книгу о буддизме, на что молодой Лосев послал ответный дар – «Философию имени». Лосев в ряду с Пушкиным, Л. Толстым. Его судьба сравнивается с судьбой Чаянова и Туполева. Его соединяют с Данте, Ницше, Гофманом, Шопенгауэром. Музыковеды пишут о Лосеве и Моцарте, Скрябине, Вагнере, Рахманинове, Бузони, Асафьеве. Письма Лосева из лагеря сопоставляют с творчеством Шаламова, Мандельштама, В. Гроссмана, Ф. Абрамова, Д. Андреева. Известный музыковед А. Фарбштейн даже сделал в Лейпциге доклад «Два портрета. Аршак Адамян и Лосев».
Как только не именуют Лосева! Я уж не говорю о великом и гении, последнем классическом философе, последнем русском философе, последнем философе Серебряного века. Есть гораздо более выразительно: скованный Прометей, мудрец и провидец, святое имя, не узнанный при свете дня, один на один с Богом, православный философ эпохи ленинизма, последний из могикан, служитель чистого ума, великий узник, краеугольный кирпич русской философии, философ трагической свободы, подвижник жизни и веры, русский словомудр, незаслуженно забытый, великий сын Дона, духовный учитель, источник мысли, одинокий мастер. Если разобраться, то в итоге вырисовывается интересный портрет и, надо сказать, правильный. Пытаются разгадать «феномен Лосева», «загадку Лосева», «тайну Лосева».
Лосев попал в разного рода нынешние философские энциклопедии (я не говорю о большой пятитомной 1960–1970 годов, там он тоже есть, или о Большой Советской, Литературной и т. д. – это все маленькие внешние статьи) с достаточно содержательными характеристиками: «Русская философия. Малый энциклопедический словарь» (большая статья о Лосеве), «Сто русских философов», «Русская философия», «Философия России XIX–XX столетий», «Современная философия».
Приводят афоризмы Лосева, как, например: «Верую, потому что максимально разумно».
И предел популярности – Лосев попал в кроссворд. В сборнике «Кроссворды» за 1989 год составитель задает вопрос: кто сказал: «Если человек знает очень много и ничего больше – это страшный человек»? Все, выше мной приведенное, не столько серьезно, сколько трогательно.
Но вот что действительно серьезно. На Арбате, во дворе дома, где философ прожил полвека (после уничтожения дома на Воздвиженке 12 августа 1941 года фашистской фугасной бомбой), по постановлению Правительства Москвы при большом стечении народа состоялось открытие памятника А. Ф. Лосеву. Бронзовый бюст размещен на пьедестале карельского гранита, к которому ведут три, тоже гранитные, ступени, под сенью любимых Лосевым деревьев. На постаменте слова: «Великий русский философ Алексей Лосев». Это важное событие было приурочено к 23 сентября – дню рождения философа. Оказалось, что в России до настоящего времени нет ни одного памятника русским философам, хотя музыканты, поэты, писатели и художники не забыты. Характерно – видимо, философия и в советском прошлом, и в постсоветском настоящем рассматривается как что-то опасное (мало ли к чему может привести свобода строгой логической мысли!), о чем лучше не напоминать. Несколько лет тому назад я опубликовала в газете «Известия» призыв-обращение: монументально запечатлеть память о русских философах, пострадавших от тоталитаризма (высланных, расстрелянных, погибших на каторжных работах, прошедших аресты, одиночки, концлагеря…), однако официального отклика так и не последовало. Зато культурная общественность Москвы поддержала эту инициативу, результатом чего стало коллективное письмо в высокие правительственные инстанции. Вполне возможно, что подобные обращения наряду с масштабными публикациями, привлекающими внимание не только представителей научных кругов, но и широкой общественности, сыграли свою роль в восстановлении историко-культурной справедливости и не позволили нанести ущерб традиции русской философской мысли и отечественной культуры в целом.
Во всяком случае, открытие памятника А. Ф. Лосеву вылилось в настоящий праздник науки вообще, а не только философии. В своем выступлении я сказала: «Скульптор, профессор, заслуженный деятель искусств В. В. Герасимов сумел создать не рядовой, скучный, натуралистический бюст, а подлинно реалистический символ мощи русской философской классической мысли, которую продолжал и замкнул А. Ф. Лосев. Но советской власти не нужно было никаких свободных философских мыслей. И судьба А. Лосева после публикации его „восьмикнижия“ была предрешена: арест, лагерь, проклятия с трибуны XVI съезда ВКП(б), запрет на „философию“ и невозможность печатать свои труды на долгие годы. Но А. Ф. Лосев не озлобился, считая, что Родина – Мать и ей надо приносить любые жертвы. Те, кто вдумчиво читал его повесть „Жизнь“, хорошо это понимают. А. Ф. Лосев знал и верил, что есть свет, который не может объять никакая тьма, что дух дышит где хочет, даже если его пытаются заключить в узы. Творческую деятельность А. Лосева известный философ и математик С. С. Хоружий оценил как „арьергардный бой русской христианской культуры“, а самого Лосева – как „пленного православного воина“. Вот какой образ – мощь и плен, – символический и вместе с тем реалистический, сумел создать скульптор».
Памятник – это память, та самая память, которую древние греки считали матерью всех творческих сил человека, всей его жизнедеятельности. Греки – мудрецы, и А. Ф. Лосев, создавая свою грандиозную «Историю античной эстетики» (восемь томов в десяти книгах), сумел представить весь путь античного человека от культуры языческой к культуре христианской, от политеизма к монотеизму. Греки понимали память не как нечто застывшее и пассивное. Для них она – сила действенная. Ее так и называли – «эргана», или «эргатис», то есть попросту «работница», вечно побуждающая человека к деятельности. Поэтому и памятник философу – это напоминание о неустанной творческой активности мысли, и можно надеяться, что это напоминание сыграет свою положительную роль.
Факт своеобразного интеллектуального праздника на Арбате, во дворе дома, где жил А. Ф. Лосев и где ныне расположена «Библиотека истории русской философии и культуры „Дом А. Ф. Лосева“» (Государственное учреждение культуры), широко освещался в СМИ – в газетах и на телевидении, запечатлен в десятках фотографий и кинолентах (из Санкт-Петербурга для съемок прибыл известный кинодокументалист, лауреат премии «Триумф» В. Косаковский). На торжественном открытии памятника выступали: префект ЦАО С. Л. Байдаков, А. И. Лебедев (Комитет по культуре г. Москвы), директор ИФ РАН академик РАН А. А. Гусейнов, академик С. О. Шмидт, А. П. Козырев (философский факультет МГУ им. Ломоносова), профессор А. И. Музыкантский (МГУ им. Ломоносова, бывший префект ЦАО, советник мэра). Я выступала последней.
В этот же день на первом этаже Библиотеки открылась постоянная музейная экспозиция, посвященная А. Ф. Лосеву. В ее подготовке активное участие принимали исследователи его творчества Елена Тахо-Годи и В. П. Троицкий, а непосредственно создавали эту экспозицию известные московские художники-оформители. Книги, личные вещи А. Ф., фрагменты рукописей, редкие фотографии представлены здесь в хронологическом и тематическом порядке.
21 ноября 2006 года вышел из печати красочный каталог, в котором представлена эта музейная экспозиция, открывшаяся для посетителей 23 сентября 2006 года.
Обозревая наследие А. Ф. Лосева, мы сталкиваемся с огромными трудностями. Если вдуматься, Лосева у нас никто по-настоящему еще не изучал, хотя есть отдельные серьезные работы, диссертации, сотни статей, сборники. Большие книги только начинают выходить.[375] Писать книгу о таком ученом – труд тяжелый. Сначала, видимо, надо исследовать отдельные грани его творчества, но имея в виду общее, все связующее. Тут одной книги не хватит.
Лосев слишком глубок, труден (особенно ранние книги), объемен (одна ИАЭ чего стоит), он писал в условиях жестокой цензуры. Еще удивительно, что смог столько выразить, хотя приходилось не раз ссылаться на авторитет «классиков», чтобы довести до читателя дорогие автору идеи.
Нет, видимо, придется оставить пока эту благородную и трудную задачу – помочь книгам Лосева приблизиться к читателю, приоткрыть их тайны, разгадать их символы и мифы. Передадим ее новым поколениям XXI века, не столь отягощенным проклятым прошлым пролетарской диктатуры, что оставила ощутимые рубцы в умах и сердцах наших современников. Надо пережить и забыть это прошлое, чтобы непредвзято, с чистыми руками и чистыми мыслями приняться за наследие Лосева.
Но и наши общие нынешние усилия, как они ни скромны, не останутся тщетными. Нас не станет, а первые камешки уже положены в основание. Может быть, и моя скромная книга принесет пользу, чтобы еще раз вспомнили человека, столько страдавшего за свои идеи и все-таки выстоявшего.
Философ Имени, Алексей Федорович Лосев не может быть предан забвению, ибо Имя – есть жизнь, а значит, вечная память.
Из воспоминаний об Алексее Федоровиче Лосеве Елена Тахо-Годи «ГИГАН»[376]
Не знаю, почему именно сегодня, 24 августа 1993 года, я решила это написать. С сегодняшним днем не связано никаких конкретных воспоминаний, никаких ярких событий в прошлом. Но память не приурочена к тем или иным датам. Она или есть, или ее нет.
Память родных – это и самая благодарная и самая неблагодарная память. Благодарная потому, что в памяти близких человек живет таким, каким он был в своей простой, глубоко интимной, незащищенной и слабой жизни. Память близких – это память мелочей и несущественных подробностей, это память о привычках и быте, это память о голосе, взгляде, манере держаться и говорить. Это та память, которой лишены дальние – чужие и потомки. Но именно поэтому память близких – это самая неблагодарная память. Все эти событийные мелочи, все эти мелкие подробности, вся эта важность второстепенного чаще всего заслоняет для ближних душу того, кто рядом. Ту душу, без которой человек никогда бы не был именно этим человеком, именно этой личностью. Поэтому слишком часто, как это ни печально сознавать, те презираемые и отвергаемые близкими «чужие» видят то, что мешает видеть близким их «нутряная» любовь – любовь, когда человек дорог pour rien, когда смотришь и ощущаешь только одно: «с благодарностию: были».
Но что же такое сам человек? Что для него быт и его душа? Чему он отдаст предпочтение? Но такого предпочтения нельзя и отдать, хотя это было бы и проще, и соблазнительнее. Человек, если это действительно личность, всегда раздираем между этими двумя безднами высокого и низкого. И как бы он ни был сам высок или низок, он не может абсолютно отказаться от одной из этих крайностей во имя другой.
Радина в лосевском романе «Женщина-мыслитель» сетует, что в ней никто не хочет увидеть за великой пианисткой обыкновенную несчастную женщину. Но беда ее на самом деле не в этом, а в том, что Радина сама, в себе самой не может примирить эти две стихии – высокую и низкую. И уже одно это предопределяет ее гибель.
Но человек тем и человек, что в нем – в этом лучшем и совершеннейшем творении – трепещет и бьется его слабая, живая душа, ежеминутно обрекаемая на взлеты и падения, на вечное бытие и на моментальное уничтожение. И то, что Лосев писал в «Трио Чайковского» о музыкальном субъекте, вполне можно отнести к человеку вообще и к нему самому в частности, потому что музыкальный ли, философский ли субъект здесь не суть важно: «Человеческая личность есть организм, дышащий, теплый, трепетный, дрожащий над безднами мира; ей меньше всего свойственны устойчивость, абсолютность, твердыня и непоколебимость. Она то расцветает и воспаряет, то вянет и падает… Это – живое, живое, интимно-живое! И вот, когда льется энергия становящихся тайн бытия и ощущаются личностью человека эти просторы абсолютного освобождения, где ясны все тайны зачатий и смертей бытия, – тогда-то и становится она музыкальным субъектом, тогда-то и живет в человеке музыка, тогда-то он и наполняется откровениями и умозрениями текуче-сущностного Абсолюта. Представьте только себе, что нет этого дрожащего, слабенького, получеловеческого, полуживотного сознания в человеке, представьте только себе, что музыкальный субъект действительно есть только музыкальный субъект, и больше ничего, – вы утеряете самое главное, и перестанет быть понятным энтузиазм и восторг музыканта, исчезнет ажур и глубина его вдохновений».[377]
Вот почему, когда с высоты нынешнего понимания (а теперешнее, какое бы оно ни было, это понимание, всегда почему-то кажется чем-то несравнимым с прошлым, превосходящим его) хочется отмахнуться от всего отошедшего вдаль, когда это отошедшее – и тогда-то мелкое – стало теперь еще менее заметным и почти неразличимым – тает, растворяется, сливается где-то у линии горизонта и вот-вот перейдет и вообще скроется за этой линией, – надо отрешиться от своего предубеждения.
В этой жизни нет ничего мелочного, ибо и вся жизнь состоит из мелочей. Только разные люди в них видят совершенно разное и относятся к ним по-разному. Но ведь это ничего не меняет, ведь они все-таки эти мелочи, эта жизнь, эти люди, эти судьбы – были.
Поэтому меня мало волнует, нужны ли мои воспоминания. Они в первую очередь нужны мне самой. Гораздо больше волнует меня другое – что я помню. И тут становится страшно – какой калейдоскоп незначительных событий – ничего глобального. Что это – внутренняя слепота или глухота к личности другого человека? Глубокая самовлюбленность и поглощенность исключительно миром собственных проблем? Ведь в день смерти Лосева мне был почти 21 год. Неужели моя память так странно устроена, что все в ней как бы сфокусировано не так, как должно; что в ней изменены все акценты и искажены все перспективы; что все в ней существует только через мое «я», как в кривом зеркале? Почему я такая и в чем моя вина и беда?
Но проходит время, и я понимаю, что нет в этом моей вины – есть одна беда – моя память – память родных.
Конечно, все, что было, никто никогда уже не вспомнит и не восстановит. Какие-то семейные предания, фотографии, обрывки каких-то сцен и разговоров… Что же из этого можно рассказать, о чем можно написать? Выбора у нас нет – мы должны писать все, что помним, потому что без нас этого не напишет никто.
Я приехала в Москву на дачу в Отдых впервые в жизни двухлетней девочкой. Мне очень понравилось долгое путешествие в поезде из Владикавказа (тогда Орджоникидзе), но и здесь, в этом дачном мире, хотелось найти что-нибудь знакомое и привычное. Такое знакомое я увидела в своей тетке, Азе Алибековне Тахо-Годи, – она была очень похожа на свою мать, мою бабушку, и я ей тут же присвоила имя «Баба». Что же касается Лосева, то он не вписывался ни в какие мои прежние домашние модели. Это было нечто абсолютно новое. Это новое тоже надо было как-то назвать – так вошли в мою жизнь новые имена: «Алеша» (привилегией называть так Лосева из всех домашних пользовалась только я) и «Гиган» (букву «т» я еще выговорить не могла, чтобы произнести просто «гигант»). Откуда и почему появился этот «Гиган», я не знаю. Скорее всего, внешний облик: могучая, высокая фигура – вызвал во мне, двухлетней, ощущение грандиозности, требующей почтения. Правда, в два года (да и многие годы спустя) это ощущение меня мало смущало или сковывало. «Гиган» и должен был быть таким, это было естественно, а у меня, кроме него, было слишком много и других впечатлений: резиновый бассейн на портале (центральном входе); бычок Морячок, пасущийся на берегу речки Хрипаньки; сама дача, с ее соснами и заросшими аллеями, дядя Ваня (брат дачного хозяина), с которым мы что-то мастерили.
В то время дача мне казалась чуть ли не больше всего мира: сад – непроходимыми дебрями, сам дом – замком, в котором, как и полагалось, жила колдунья (старушка – мать дачной хозяйки) – добрая или злая – я разобрать не могла, но боялась ее чрезвычайно. Время от времени я призывалась к ней в комнату на второй этаж играть в лото, но почему-то сама игра воспринималась мною как некая мистификация, и я все время ожидала чего-то ужасного. Это ужасное почти однажды и произошло, когда я была поймана старой дамой за сбором земляники. До сих пор помню ужас, который я испытала, когда она потребовала продемонстрировать ей, что у меня зажато в кулаке, и я с трепетом приоткрыла ладошку, на которой лежало несколько красных ягод. Я думала, что сейчас меня обязательно накажут – как-нибудь заколдуют. Но мне только приказали вымыть ягоды и руки, прежде чем есть.
Но если на даче жила колдунья, то почему там не должно было быть и гномов? Они вполне могли жить в своих подземных комнатах под сводчатыми потолками из мощных сосновых корней. И я бродила между сосен и просила (в чем активно помогала мне тетка): «Гномик, гномик, принеси Леночке золотые сережки». Но гномы упрямо отсиживались под землей и ни разу не показались, да и сережек не принесли…
Потом на даче были собаки, потом на даче была домработница Оля… И это тоже эпопея…
Никто и никак не мог меня в том возрасте приучить есть. Да, просто есть то, что едят все. Я отказывалась решительно от всего. Я бегала по дачному участку, держа в руках бутылку с соской. В бутылке был «кихирчик», то есть кефирчик. Вот этот-то «кихирчик» я только и признавала. И вот однажды за общим обедом Ольга Соболькова, которая великолепно готовила и от этого еще больше негодовала на мои застольные капризы, замахнулась после очередного моего отказа на меня половником. Ребенок исчез. Ольга и все присутствующие были в панике. Ольга рыдала, что убила младенца. Но вскоре «обеденная жертва» была извлечена из-под стола, куда она предусмотрительно сползла, когда карающий половник еще только заносился. Мрачно обозрев поле битвы, малютка произнесла исторические слова: «Ах ты Олька Собольковка». Это была наивысшая степень негодования, которое я испытала тогда впервые по отношению к своей мучительнице. Я считала себя вдвойне оскорбленной, потому что, во-первых, есть или не есть – это было мое личное дело, а во-вторых, мы с Олей дружили, вместе пели «Ромашки спрятались, поникли лютики… Зачем вы, девушки, красивых любите, / Одни страдания от той любви». А обида от человека «духовно близкого» всегда особенно остра.
Но обычно дело не доходило до рукопашного боя. Обычно меня сажали за стол на веранде, а «Гиган» уходил сражаться со злыми волшебниками: в соседней комнате раздавался страшный грохот и завывание. Надо было все же что-нибудь успеть съесть, чтобы чудовище не смогло победить «Гигана». Иногда в стеклянной двери, отделяющей веранду от внутренних комнат, являлось «оно». Это «оно» больше походило на медведя, но рассматривать подробности было выше моих сил. Тут съешь что угодно, когда рядом такое чудище! То, что это был все тот же «Гиган», специально надевший маску медведя и какой-то плед, я в те дни не подозревала.
Да и вообще у нас с «Гиганом» были разные интересы и заботы. К нему приходили и в тот год, да и потом, когда я бывала там снова и снова, какие-то дяди. Дяди назывались «секретарями». Честно признаться, долгое время они были для меня почти неотличимы друг от друга. Да и имя у них у всех было одно – «секретарь». Дяди пили кофе, брали какие-то бумаги и уходили вместе с «Гиганом» «под клены» заниматься. И «Гиган» сидел там, «под кленами», в кресле-качалке и что-то говорил, а они что-то писали. Постепенно лица этих «секретарей» стали как-то проявляться в моем сознании с течением времени, но, конечно, не тогда, когда мне было два, а несколько позже. Человек лысоватый, в очках – Бибихин, человек в очках и с черной бородой – Шичалин, человек в очках и с белой бородкой – Столяров. Когда они появились как отдельные самостоятельные личности, когда обрели свои имена в моем сознании – в пять, шесть, девять лет, – это я уже не помню. А в тот, теперь такой далекий 1969 год, может быть, еще никого из них и не было среди тех «секретарей», но для меня тогда было это малосущественно. Меня интересовало другое: кресло-качалка, на которой сидел «Гиган» и на которое можно было забраться сзади и качаться, как на качелях.
И долгие-долгие годы все так и было. Впечатления и мелочи добавлялись, множились, но у каждого из нас была совершенно своя самостоятельная жизнь.
Нет, конечно, и в дни моего детства мы встречались и говорили, но все это было как-то не так. Ну как можно разговаривать с этим огромным человеком в темном, серовато-черном костюме с галстуком, в черной шелковой шапочке и круглых очках, когда ты приходишь к нему как взрослый человек (тебе, может быть, уже и пять лет – кто сейчас точно вспомнит, сколько?) к взрослому человеку и совершенно как взрослый человек говоришь то, что тебе велели мама и тетка спросить: «Алексей Федорович, вам что-нибудь нужно?» – и тебе в ответ говорят «да» и ты замираешь; «наконец-то ему что-то нужно, сейчас я…» и в этот момент, когда ты готова осчастливить все человечество, тебя словно обливают холодной водой слова: «Почитай-ка мне „Дочь падишаха“!» Ну что тут будешь делать?! Остается только с воплем: «Хитренькие вы какие!» – бросаться наутек, чтобы спастись от этой мерзкой, ужасной, занудной книжки.
Нет, все же гораздо приятнее жить без «Дочери падишаха»! Просто сидеть за длинным массивным столом на ярко освещенной теплым летним солнышком веранде; смотреть, как Он заправляет за воротник привычным движением белую с синими полосками салфетку, как мешает серебряной ложечкой розоватую ряженку в голубой гжельской чашке; есть вместе «сено» – горячую рассыпающуюся картошку с помидорами и огурцами, посыпанными тонкими колечками лука и политыми подсолнечным маслом; бежать по аллее «под клены», прижимая к себе блюдце с фруктами, которые «Алеша» будет есть часов в пять, перед обедом. И вообще хорошо жить на этой даче, в двухэтажном деревянном зеленом доме среди золотисто-розовых сосен и золотого песка, сниматься вместе с Алешей, мамой, Бабой, дядей Сашей Спиркиным на фотографии, когда вдруг приезжают с фотоаппаратом Миша Овсянников и Вася Соколов (так их все называют, и ты не думаешь еще, что у них есть отчества). И пусть тебе в это время уже не два года и ты уже давно не носишь под качалку «Гигана» (самое надежное место) «сусыть» (сушить) свои мокрые туфельки, пусть тебе уже семь лет и на дворе уже 1974 год, но ты еще тот же двухлетний ребенок, ты устраиваешь живую кариатиду, залезая на выступ под балконом, и думаешь, что всё и всегда будет точно так же: и лето, и 74-й год, и те, кто фотографируется, и те, кто фотографирует, и ты сама, и эта дача, которую ты тогда считаешь своей и иногда с недоумением задумываешься, почему это тут живут дядя Саша Спиркин с тетей Майей?.. Ну да ладно, к ним все так привыкли, пусть живут… И ты бы очень удивилась, ты бы ни за что на свете не поверила тогда, если бы тебе кто-нибудь сказал, что наступит время и не только эта дача окажется вовсе не твоей, но и все изменится и многое навсегда безвозвратно отойдет в прошлое. И лето, и твои две тугие косички, и дача, и те, кто снимает, и те, кто снимается…
Что осталось теперь мне от того времени: фотографии, стихи, ибо какой Лосев без стихов…
Чтобы это не казалось странным, вот шутливое послание Лосева к моей маме, записанное нашим старым другом Володей Ждановым под диктовку. Послание это было сочинено как раз в Отдыхе, на даче, летом и лучше всего передаст атмосферу той весело играющей жизни:
«Мина, femina in scientiis doctissima, in rebus domesticis peritissima, in hominum relationibus diplomatissima, sapientissima, suasisissima, prudentissima, dulcissimaque!
Присланная тобою кепка прозвучала как поцелуй младенца. Она легкая вплоть до невесомости. Она – простая вплоть до умозрительности. Она – невинная и шаловливая, как игривый кутенок. И она – мудрая вплоть до структурного изоморфизма с моей головой. Но твои поцелуи все-таки сильно отличаются от кепки – глубинно изысканной роскошью твоих трансцендентально-недоступных, изивных и манящих прохлад, неизбывно тоскливыми зигзагами твоих безотчетных откровений, всегда теплых и простых, всегда уязвляющих и непонятных, твоей вертлявой дипломатией, всегда наивной, всегда прозрачной. И все-таки кепка твоя хороша уже тем одним, что в ней соединяется и шапка Мономаха и детский бумажный колпачок. Конечно, тут требовалось от меня послать тебе свое вежливое «спасибо» и свою учтивую благодарность, как этого требует ваша буржуазная мораль. Но я рожден не буржуем, а, наоборот, рожден эпатировать буржуазию, поэтому я всегда либо разоблачал буржуазную мораль с ее кухонно-служебным благополучием, либо подхалимствовал ей, но удивительным образом это мое подхалимство почему-то всегда принималось как издевательство. Поэтому я шлю тебе не благодарность за кепку, а сравнение ее с поцелуем младенца. А уж нравственно это или безнравственно, это, дорогие мои буржуи, определяйте сами. И вообще для буржуазной морали я слишком хулиган, и меня всегда какая-то невидимая сила подмывает издеваться над вашим буржуазным благополучием. И, кроме того, хотя я мужик себе на уме, но люблю срывать покровы и лезть с ногами в тайны ваших буржуазных секретов.
Обычно море то приливает, то отливает. Поэтому естественно было действительно не верить измене моря и после отлива – ждать прилива, но я знаю одно море, которое только и делает одно; а именно, только отливает и никогда не приливает.
Для такого моря (а для меня особенно) возникает опасность вообще удалиться в бесконечность, то есть перестать быть морем. Что же это за море, которое только и знает что отливает? Ведь это уже не море, а какая-то бездонная и притом сухая пропасть, какая-то безводная яма, в которой уже невозможно плавать, а в которой только возможно разбиться вдребезги. В этом случае меня только и спасает критика буржуазии; и критика эта, как ты прекрасно понимаешь, не слева, а справа. Поэтому раз уж не выходит никакого толку со стихами о море, а Лосев немыслим без стихов, то пусть будут другие стихи, и притом для твоего буржуазного удовлетворения с твоим же собственным комментарием.
«То было раннею весной
(твой комментарий: «Не весной, а поздним летом»),
В тени берез то было
(твой комментарий: «Никаких берез не ночевало, а было просто темновато»),
Когда с улыбкой предо мной
(твой комментарий: «Слыша глупости, я никогда не улыбаюсь, а улыбаюсь тогда, когда слышу серьезное. Кроме того, это для вас улыбка есть умозрительная ласка, а для меня она только бытовой пустячок»),
Ты очи опустила»
(твой комментарий: «Не очи, а глаза и не опустила, а подняла кверху. А в-третьих, если бы даже и опустила, то что тут особенно ужасного?»)
Ну, тут я вижу твой комментарий слишком уж нравственный, так что продолжать писать стихи дальше, пожалуй, и не стоит. А то еще наткнешься на какой-нибудь твой еще худший комментарий, хотя все эти твои комментарии есть только поза, маска и дипломатия. На самом же деле, выражаясь мягко, вопрос гораздо сложнее да и корявее, т. е. и глубже, и серьезней, и ласковее, и безвыходнее.
Мина! Приезжай к нам летом на дачу. Обещаю тебе самую дотошную и самую противную мораль. Ну, уезжая с нашей дачи, ты скажешь: «Вот этот черт, Лосев. На своей даче он все легкое для меня сделал таким простым, нетрудным и доступным; а все трудное для меня сделал ненужным».
Итак, с высоконравственным, буржуазно-чистеньким и комильфотным приветом
А. Л.
4 июля 1973 года. «Отдых».
P.S. Уже после написания этого письма, но до его запечатывания я встретил на аллее Спиркина, который сказал: «Ну и кепка. Она сидит на вас как на Гегеле». Я ему в ответ: «А ведь Гегель был сравнительно неглупый человек». Он сказал: «Но ведь тут же все дело в кепке»».
Сохранилось у меня и несколько стихотворений Лосева ко мне. Вот одно, записанное моей теткой:
5 августа 1974 г.
Только тебе мои стихи Только ты – моя радость. Семилетие твое все мы От души празднуем. Только Лене – и никому.Вот еще листик:
Лене в день рождения 27 июля 1974 г.
– 7 лет.
Родные глазки вы мои, Любовь моя святая, И семилетней всход зари, Моих молитв тропа седьмая.Примечание: эти стихи были сочинены профессором Алексеем Федоровичем Лосевым на даче под Москвой в Отдыхе в честь дня рождения его маленькой любимой племянницы Леночки Тахо-Годи.
Храни и помни.
Баба Айа.
(она же проф. А. А. Тахо-Годи).
А эти записаны уже моим детским почерком (орфографические ошибки я исправляю):
А. Ф. Лосев
Елене Тахо-Годи.
Святое десятилетие.
Уж десять лет прошло с тех пор, Когда, двухлетнее зерцало, Презревши ханжеский затвор, Ты теребить усы мне стала. О, тайна юных чистых лет! Улыбок ласковая вечность, Высоких дум святой обет, Твоих глазенок бесконечность!26/III 1979 г. Москва.
Обмен стихотворными посланиями стал чем-то вроде традиции. Есть у меня и мои весьма корявые детские сочинения, которые не имеют никакого другого значения, кроме того, что они были адресованы Лосеву и ему прочитаны. Вот одно из таких посланий:
Дорогой Алеша.
Поздравляю Вас с днем рождения!
Мы с Вами уж давно знакомы Двенадцать лет – немалый срок, Но и поныне Ваш знакомый — Всегда Вам преданный дружок. Готова с Вами и играть я, Готова Вас я целовать: С утра до вечера мечтаю К Вам на Арбат скорей попасть. Вам, может, даже надоела, Болтать готова целый день, А все люблю к Вам забираться Под кленов сказочную тень. Но мы не будем забываться — Все поздравляем Вас, друг мой, Ну а теперь нам распрощаться Пора! Целую, дорогой.Е.
Можно было бы, конечно, вспомнить и то, как на дачу приезжала моя тетка Ольга Туганова и ее муж Володя Лазарев читал Лосеву свои стихи о консерватории, а я с замиранием слушала – это был живой поэт (сам он об этом уже ничего не помнит)…
Можно было бы вспомнить, как в арбатской квартире в Москве появлялся коренастый среднего роста мужчина в клетчатой рубашке и шел в лосевский кабинет. Все говорили: «Пришел Данилыч», – и от этого имени исходило что-то таинственное, почти детективное. Наверное, уезжать навсегда за границу в те годы, как это сделал Юрий Данилович Кашкаров, и было почти детективное предприятие…
Можно было бы вспомнить о двух Олях – Савельевой и Смыке, которых я почему-то в те годы путала, может быть, потому, что обе они, прежде чем войти в кабинет, как бы замирали на мгновение, словно собираясь с духом, перед тем, как зайти в святилище…
Можно было бы вспомнить и то, как после моего возвращения из театра, где я впервые одиннадцати лет слушала «Севильского цирюльника», Лосев с молодым задором пел мне отрывки из этой оперы Россини, которую он очень любил…
Можно было бы вспомнить, как в начале лета 1981 года, когда в квартире на Арбате царил полный разгром из-за ремонта, мы вчетвером: Алексей Федорович, мама, я и мой троюродный брат Володя Семенов ютились сбоку знаменитого арбатского круглого стола, всегда вмещающего неограниченное число гостей, и Лосев мучил только недавно вернувшегося после двухлетней службы военным переводчиком из Аддис-Абебы Володю столь ехидными и меткими вопросами на тему: «Как Советский Союз помогает братской Эфиопии строить коммунизм», что тот лишь запинался и отнекивался, потому что даже самые невинные факты начинали выглядеть уж как-то больно антисоветски…
Можно было бы вспомнить о лосевском юбилее 1983 года, на котором я была, и о впечатлениях от речей самого Лосева и выступавшего там Сергея Аверинцева…
Можно было бы вспомнить многие летние дни разных годов, когда я, уже совсем взрослая, «охотилась» на даче с фотоаппаратом: на Лосева, занимающегося с Игорем Маханьковым – то самоуглубленно-задумчивым, то неожиданно простосердечно веселым; на Лосева, беседующего со своим «дружком Мишуткой» – немного нервным, но всегда солидным, колким, но при этом весьма серьезным стихотворцем и живописцем Мишей Нисенбаумом; на Лосева и навещающих его Таню Шутову и Павла Флоренского – всегда буйного и громогласного, но как-то утихающего рядом с Лосевым…
Можно было бы вспомнить «налеты» всегда спешащего, но всегда вооруженного блокнотом или магнитофоном Юрия Ростовцева, только что вернувшегося «из-за бугра» и снова готовящегося в очередное турне, с его рассказами Лосеву о корейской кухне…
Можно было бы вспомнить, как я, размышляя, о чем же мне писать свою курсовую работу, долго беседовала с Лосевым о семантической роли приставок в русском языке – эта тема его очень интересовала в связи с его книгой о языковых структурах. Помню, когда книга вышла и ее принесли на Арбат, мы в доме были вдвоем. Лосев интересовался, какая она, эта книга, как она выглядит, какое производит впечатление чисто внешне.
И тогда я впервые за всю жизнь с каким-то мучительным ощущением вдруг поняла, как это невыносимо – не иметь возможности просто увидеть глазами плод своих трудов. Сколько лет я знала Алексея Федоровича, но никогда не воспринимала его как слепого: слишком сильным было его внутреннее зрение, слишком сильным человеком был он сам, ничего не было в нем от слабого, что называется «несчастненького» человека, который нуждается в чьем-то сочувствии. Ничего не было в нем жалкого и жалостного, но много было горького и трагического: в его замкнутости, в его заваленном книгами кабинете; в его бессонницах, во время которых он обдумывал новые страницы, которые следующим днем надо было диктовать; в его чуть склоненной набок, по-птичьи, голове; в его иронической, а порой саркастически-злой усмешке, в его невероятно громадной бамбуковой дачной качалке; в его старом клетчатом пледе; в его черной шелковой шапочке и круглых очках…
Я помню последнюю зиму 1988 года. Как-то особенно тихий арбатский дом – тихий оттого, что здесь поселилась болезнь, тихий оттого, что все время слышишь или ожидаешь услышать из-за двери «кабинета» трудный, тяжелый кашель. Нам с мамой в этот раз пришлось жить не как обычно на Арбате, а в квартире в переулке Станиславского, которую нам нашел тогда еще не священник Алексей Бабурин, а просто Алеша Бабурин. На Арбат мы приходили, но на Арбате было тихо и непривычно грустно. Лосев, несмотря на воспаление легких, каждый день поднимался, одевался как обычно в свой старый костюм, как обычно садился в кресло за письменным столом в кабинете, а иногда в качалку – маленькую, новенькую.
Таким я его и помню. Я зашла в кабинет – он сидел в качалке в середине кабинета, похудевший, как-то истончившийся, истаявший. Взял мою руку в свою – белую, с мелкими коричневатыми, словно веснушки, пятнышками, оставшимися с детства после страшного ожога, с продолговатыми пальцами (пальцами скрипача —?), с ногтями-лопаточками – в такую знакомую, но непривычно ослабевшую руку. Я стояла рядом, он сидел, молча сжав мои пальцы. Это было так обычно, как всегда, – мы часто так сидели рядом молча. Алексей Федорович говорил, что так беседуем не мы, а наши души, но и так невыносимо прощально… А потом его почти рыдающий, но и в то же время как бы негодующий возглас: «Я умираю, я умираю! Жизнь погибла, погибла жизнь!» И мои совершенно бессмысленные слова о том, что нет, что он не умирает, – слова, которые говорят всегда и всем, но в которые я тогда верила безусловно, потому что я боялась в них не верить, потому что не верить в них казалось безумием – так несовместимы были эти две фигуры: сама жизнь и энергия, Лосев – и пустота смерти. Я стала говорить о том, что если есть столько написанных книг, столько учеников, столько просто любящих людей, то ни в коем случае нельзя думать, что жизнь погибла. Какие глупые это были, какие банальные и пошлые слова!.. Но страх, как, впрочем, и счастье, делает человека слишком часто непростительно глупым… «Нет, ничего не сделано, ничего не успел сделать!.. Погибла жизнь», – ответил он мне и безвольно отпустил мою руку. Я вышла из кабинета потрясенная.
Мы виделись еще несколько раз. Потом мы с мамой уехали домой во Владикавказ. И там начались сны. Страшные сны, в которых мы – я и Алеша – бесконечное число раз пытаемся подняться по старой, давно прогнившей лестнице в каком-то заброшенном доме. Он тяжело опирается на мою руку, и я все время пугаюсь, что вот сейчас мы упадем вниз, потому что не только он слаб и с трудом идет, но и все рушится вокруг нас: валятся гнилые перила, проваливаются с душераздирающим скрипом под ногами ступеньки. И все же каждый раз, уставшие и измученные, мы взбирались вверх по этой проклятой лестнице. Но однажды во сне мы вышли из этого ужасного дома, вышли на светлую, широкую улицу, и было так легко и хорошо по ней идти, под веселые гудки машин и звяканье трамваев. И вдруг Алеша легко и молодо подскочил на подножку проезжающего мимо трамвая, оглянулся и помахал мне рукой – мол, все хорошо. А потом 24 мая 1988 года рано утром в нашем доме раздался звонок – Алеши больше нет.
Я не была на похоронах. Но если я о чем и не жалею, то об этом. Я не видела его мертвым, и я не прощалась с ним навсегда. Для меня он остался таким же живым, как и был. Когда на сороковой день я должна была подойти к этому желтому холмику песка на Ваганьковском кладбище, я не могла это сделать: меня душили рыдания, и в моих слезах этот холмик расплывался, исчезал, и передо мной опять золотился привычный песок дачных аллей, а над головой вместо кладбищенских ясеней шумели старые клены, человек в черной шапочке и круглых очках мерно покачивался в старом бамбуковом кресле-качалке… Мой «Гиган» был жив, он не мог умереть, не мог уйти в бездну небытия, уйти в этот песок…
Это же ощущение я испытала вторично, сидя в темном зале в Третьяковской галерее на фильме Вити Косаковского «Лосев». Я слушала знакомый голос, говорящий о трагедии человека, пришедшего в этот мир не по своей воле, но которому предстоит пройти весь путь жизни от начала и до конца. Слушала и плакала. Мне казалось, что я слышу тех кладбищенских соловьев, которые пели на Ваганьковском во время похорон. Я видела это страшное солнце, встающее над городом мертвых; эту всепоглощающую тьму земли, этот непроницаемый мрак бессмысленной материи, надвигающейся, наваливающейся всей своей тяжестью – тяжестью Рока. Я смотрела, слушала, видела и думала, что этого не может быть, что это только мираж, что это только внешнее, видимое. Тогда же возникли те строчки, которыми я и хочу кончить эти несколько страниц – кончить их стихотворением именно потому, что «Лосев немыслим без стихов»:
Мятется дух, не кончив путь земной, Но плоть слаба, она сдается смерти… Но вы в разлуку ни за что не верьте, Настанет час: я к вам вернусь живой. Не надо горько плакать надо мной — Бессильны ваши слезы и рыданья. Вы говорите: мертвый и чужой, Лежит он перед нами без дыханья. Но вспомните, что есть иное знанье — Не всем оно даровано судьбой — И, независимо от вашего желанья, Настанет час – я к вам вернусь живой.P.S.
Эти воспоминания были написаны 12 лет назад. Ровно 10 лет, как они были напечатаны в парижском журнале «Символ». Многое изменилось. Больше не существует дачи в Отдыхе, нет столика под кленами, за которым долгие годы каждое лето работал Лосев. Нет Спиркина и его жены, умерли Михаил Овсянников, Юрий Кашкаров, Сергей Аверинцев, Владимир Бибихин, Владимир Семенов… Другие уехали за тысячу верст – в Японию Владимир Жданов, в Америку Ольга Туганова и Владимир Лазарев… Третьи предали, как Игорь Маханьков, занявший по рекомендации моей тетки, Азы Алибековны Тахо-Годи, пост директора Библиотеки «Дом А. Ф. Лосева» и осенью 2003 года без лишних церемоний шантажом пытавшийся заставить ее, тогда тяжело болевшую, поставить подпись под сфальсифицированной им описью коллекции книг Лосева, часть из которых так бесследно и пропала в период его «заинтересованного» директорствования… А те, что здравствуют и остались верны, за эти 12 лет не стали моложе. И сама я только с трудом сознаю, что улыбчивая девочка с двумя косичками на фотографиях 70-х годов или та, писавшая в слезах своего «Гигана», и я теперешняя, не смеющаяся и даже уже не плачущая, – одно лицо…
Меняется мир, меняются люди, и кажется: одно остается неизменным – наши воспоминания. В них тот, кто предаст, – еще честен и добр; тот, кто состарится, – еще весел и молод; тот, кто уедет навсегда, – по-прежнему рядом; тот, кому суждено умереть, – еще жив.
24 ноября 2005 года.
Приложения
«Дом А. Ф. Лосева». Краткая хроника создания
Мне, автору этой книги, в ее новом, дополненном издании хочется в кратком очерке рассказать о непростой судьбе дома А. Ф. Лосева уже после кончины философа. Идея создать центр или библиотеку истории русской философии и культуры на Арбате, в доме, где прожил последние 50 лет своей долгой жизни А. Ф. Лосев (1893–1988), возникла в Культурно-просветительском обществе «Лосевские беседы», председателем которого я являюсь, сразу же после его основания (18 апреля 1990 года). Эта идея была поддержана московской научной общественностью и зарубежными учеными. Однако прошло много лет, пока она смогла воплотиться в жизнь, хотя всем хорошо было известно, что в Москве нет ни одного государственного музея или библиотеки, связанных с русской философской мыслью. А ведь именно на Арбате, в соседних улицах и переулках жили неподалеку от Московского университета известные русские философы, писатели и деятели искусства, о чем можно прочитать и в трехтомных мемуарах Андрея Белого, и в других многочисленных воспоминаниях. В особняке М. К. Морозовой на Новинском бульваре или в Мертвом переулке собирался весь цвет интеллектуальной Москвы на заседаниях Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева. В квартире Н. А. Бердяева в Большом Власьевском (а потом в Мерзляковском переулке) собирались члены Вольной Академии Духовной культуры. А. Ф. Лосев со студенческих лет, с 1911 года, был непременным участником этих собраний, пока они не были закрыты большевиками.
Однако прежде чем открыть такой философский центр или библиотеку, необходимо было отвоевать дом по Арбату, 33/I2, где была квартира А. Ф. Лосева, которую он получил от Моссовета после того, как его дом на Воздвиженке, 13 уничтожила фашистская фугасная бомба в ночь на 12 августа 1941 года.
Главные события развернулись в 1991 году, когда 17 июля вышло распоряжение вице-мэра г. Москвы Ю. М. Лужкова (№ 56-РВ-М) о реконструкции квартала № 178 по ул. Арбат и передаче некоей ПСО в аренду дома 33 для организации там центра по лечению онкологических больных. За дом 33/I2 по Арбату началась самая настоящая борьба сразу, как вице-мэр подписал 22 августа ордер № 005089, по которому дом 33/I2 по Арбату переходил в собственность для эксплуатации с правом перепланировки этой хозорганизации (генеральные директора Я. А. Коган и Г. И. Чулкин). Московские научные круги горячо поддержали обращение «Лосевских бесед». Еще до этого фатального числа зарубежные университеты присоединились к инициативе «Лосевских бесед» о создании философского центра. С 8 августа 1991 года документы, собранные в дело № М05-782/1, уже находились в комиссии по приватизации Моссовета во главе с Е. В. Котовой. Конечно, события 22 августа заставили всех усилить свою деятельность. В парижской «Русской мысли» 29 ноября 1991 года (№ 3906) в статье «Моссовет решает судьбу „Дома Лосева“» выражалось беспокойство по поводу молчания мэра Москвы Г. X. Попова. К Г. X. Попову обращались с ходатайствами Его Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, акад. Д. С. Лихачев, акад. Н. И. Толстой, чл. – корр. С. С. Аверинцев, писатель, главный редактор «Нового мира» С. П. Залыгин, критик И. П. Золотусский, председатель Научного совета по истории мировой культуры при Президиуме АН СССР акад. Б. В. Раушенбах, директор Института философии чл. – корр. В. С. Степин, директор Института мировой литературы АН СССР Ф. Ф. Кузнецов, председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании О. М. Попцов, первый заместитель председателя Еоскомитета РСФСР по делам науки и высшей школы А. Н. Тихонов. Я лично обратилась к народному депутату Верховного Совета акад. Ю. А. Рыжову, который в свою очередь обратился к мэру Москвы (26 ноября 1991 года – 10 декабря 1991 года). С. С. Аверинцев, народный депутат Верховного Совета СССР, также послал запрос к мэру Г. X. Попову. Мне пришлось дважды выступать по телевидению с обращением к Г. X. Попову. В 1991 году вышел трехсерийный фильм (Российское телевидение, творческое объединение «Лад», режиссер О. В. Кознова) «Лосевские беседы», имевший вместе с документальным фильмом В. Косаковского «Лосев» большой успех. Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова А. А. Логунов отправил письмо в поддержку «Лосевских бесед» к мэру Москвы. Телеграммы посылали Б. Н. Ельцину, председателю Моссовета Н. Н. Гончару, вице-мэру Ю. М. Лужкову, первому заместителю председателя Правительства РСФСР Г. Э. Бурбулису.
«Лосевские беседы» поддержала большая пресса: «Независимая газета», «Московские новости», «Литературная газета», «Известия» и многие другие. Огромную роль сыграл академик Б. В. Раушенбах. Наше дело попало к главному контролеру мэрии В. П. Миронову, заместитель которого А. С. Бойцов стал реально содействовать запросам «Лосевских бесед». Следует отметить особую активность ряда членов нашего культурно-просветительского общества: о. Алексея Бабурина, В. В. Бычкова, Л. В. Голованова, Д. В. Джохадзе, А. Л. Доброхотова, В. П. Завьяловой, В. Я. Лазарева, Ю. Ф. Панасенко, Ю. А. Ростовцева, В. В. Рубцова, О. М. Савельевой, А. А. Столярова, А. А. Яковлева и др. В 1993 году прошло празднование столетия А. Ф.Лосева под эгидой ЮНЕСКО и в МГУ им. М. В. Ломоносова. Более 300 человек, ученые России, европейских стран, Японии, США во главе с новым ректором В. А. Садовничим поставили свои подписи под обращением к правительству. Обращение к мэру Г. X. Попову направили министр культуры СССР Н. Н. Губенко, министр культуры РСФСР Ю. М. Соломин. Свое мнение в записке Г. X. Попову дважды высказал А. Н. Яковлев, направляя ему в поддержку «Лосевских бесед» пакет документов. Стали поступать протесты зарубежных организаций и ученых: университеты Вестфальский, Мюнстерский, Мюнхенский, Фрейбургский, Берлинский, Баварская академия наук, Международная ассоциация ученых «Convivium», объединяющая специалистов из знаменитых университетов Европы и США, Ассоциация славистов Рима и Неаполя, лично Дмитрий Вячеславович Иванов (сын поэта Вячеслава Иванова) и внучка Л. Н. Толстого, Татьяна Альберти-Толстая. В результате всеобщих действий в защиту «Лосевских бесед» 28 февраля 1992 года вышло распоряжение № 108-РВ-М Ю. М. Лужкова о передаче дома по Арбату, 33/I2 в аренду КПО «Лосевские беседы» и об утратившем силу предыдущем распоряжении вице-мэра от 17 июля 1991 года № 56-РВ-М. Любопытно, что один из гендиректоров ПСО Я. А. Коган в своей записке Ю. М. Лужкову (копия ее хранится в нашем архиве) объявляет себя главой советско-американской компании, собиравшейся открыть в якобы «пустом» доме 33/I2 по Арбату продмагазин (а отнюдь не центр для онкологических больных) и просит взамен этого дома, отданного «филологам», получить соразмерную площадь в соседних переулках.
Наконец, 24 сентября 1993 года за № 873 вышло постановление Правительства Москвы за подписью Ю. М. Лужкова о передаче строения 1 по улице Арбат, дом 33/I2 в аренду КПО «Лосевские беседы» на 25 лет. Таким образом, в 1993 году «Лосевские беседы» получили в аренду арбатский дом 33/I2. Еще в 1992 году дом был признан памятником истории культуры и поставлен на государственную охрану. Наступало время решать вопрос об эксплуатации здания, о его капитальном ремонте, а, как известно, у общественной организации ученых никаких денежных средств не бывает.
Тем временем свои услуги начали предлагать многочисленные организации, желавшие получить в обмен за помощь большую часть здания в так называемую субаренду. Предлагал помощь глава отдела катехизации Московской патриархии игумен о. Иоанн (Экономцев), бывший выпускник классического отделения МГУ, которым я заведовала. Он решил устроить в доме помещения для ректората Православного университета им. Иоанна Богослова, среди учредителей которого были «Лосевские беседы». Однако оказалось, что в проекте о. Иоанна места для «Лосевских бесед» вообще не оказалось, осталась лишь площадь для моей квартиры. Пришлось отказаться от такой помощи. Предлагал свои услуги «Толстовский международный фонд» в лице князя Урусова (США), «Дягилев-центр» (Ю. Я. Любашевский) вместе с Трансэкспобанком, Союз женщин бизнесменов (председатель Т. Г. Малютина), Фонд «Возвращение в дом отчий» (председатель А. С. Церетели), строительная фирма, связанная с реконструкцией памятников старины МАЭР – Международная академия экологических реконструкций (глава Ю. Н. Соханенков), химическое предприятие «Интеркор» (генеральный директор Н. Я. Савельева), Фонд Горбачева в союзе с американскими предпринимателями, «Инкомбанк», банк «Империал», Союз объединенных кооперативов СССР (А. П. Костяев), банки «Фонон» и «Электроника» (президент концерна «Фонон» В. С. Мамедов), австрийская фирма (О. Ческотти), Фонд международной философской культуры (Швейцария и Израиль), Центр итальянской культуры (его возглавлял известный итальянский публицист и общественный деятель, давно приезжавший к А. Ф. Лосеву и писавший о нем Витторио Страда), строительная фирма из Германии «Bautech» (С. Мюллер, X. Нойман), банк «Менатеп», «Трейдинг Алейрон» (председатель Ю. А. Акулов), торговое предприятие «Фаэтон» (генеральный директор Н. А. Шиукашвили) – список огромный. Однако ни у кого не хватало реальных сил или желания, чтобы заново реконструировать наш дом, платить аренду да еще оказывать регулярную финансовую помощь обществу «Лосевские беседы». Кроме того, у банкиров были и такие намерения – дом сломать и построить новый, по своим вкусам, что противоречило нашим планам.
Наконец, за дело взялся префект ЦАО и министр Московского правительства А. И. Музыкантский, с которым «Лосевские беседы» вступили в тесный контакт. А. И. Музыкантский действовал последовательно и решительно. Он начал готовить летом 1994 года постановление Правительства (29 июля 1994 года) о нашем доме и поручил главе арбатской управы В. И. Голованову начать выселение всех коммерческих структур из нашего дома, который уже во всех официальных бумагах именовался «Дом А. Ф. Лосева». Был найден банк, входивший в первую десятку больших банков, «Межкомбанк» («Межотраслевой коммерческий банк», председатель правления С. К. Овсянников), строительная организация «Росконитстрой» (глава Д. М. Беньяминов), которая в свою очередь привлекла другие строительные организации, в том числе югославские. Однако необходимо было утвердить очередным постановлением инвестора реконструкции «Межкомбанк»: к Ю. М. Лужкову обратилась группа ученых, а именно ректор МГУ им. М. В. Ломоносова акад. В. А. Садовничий, председатель Совета по истории мировой культуры РАН акад. Б. В. Раушенбах, директор Института философии РАН акад. В. С. Степин, директор Института психологии Академии образования России акад. В. В. Рубцов, главный научный сотрудник ИФ РАН доктор философских наук В. В. Бычков, ректор Богословского Свято-Тихоновского института протоиерей о. Владимир Воробьев, декан того же института о. Валентин Асмус, зав. отделом теории литературы ИМЛИ РАН доктор филологических наук, проф. А. В. Михайлов. 13 июля 1994 года был подписан предварительный договор «Межкомбанка» и «Лосевских бесед» о совместной деятельности и передаче после реконструкции банку большей части дома в субаренду. Состоялось общее собрание главы банка и председателя «Лосевских бесед» у А. И. Музыкантского (31 августа 1994 года) в связи с подготовкой постановления Правительства Москвы. Постановление было подписано Ю. М. Лужковым 13 декабря 1994 года. С января 1995 года «Лосевские беседы» и «Межкомбанк» вступили в деловое партнерство, и 25 марта 1995 года обе стороны подписали договор о совместной деятельности. Летом 1995 года начались реконструкция и капитальный ремонт «Дома А. Ф. Лосева». Во дворе в солнечный прекрасный день собрались служащие «Межкомбанка», инженеры, главы строительных фирм, члены «Лосевских бесед». Батюшка о. Алексей Бабурин вместе с о. Александром Жавнеровичем отслужили молебен, окропили святой водой всех присутствующих и будущую строительную площадку. В нашем переулке собралась толпа зевак – удивлялись, слишком все было необычно. Тут же телевидение снимало эту торжественную церемонию, и известная телеведущая Светлана Сорокина передала в эфир первую информацию об этом важном событии в культурной жизни Москвы. На первом этаже, где «Лосевские беседы» развернули выставку, посвященную А. Ф. Лосеву, стенды с его фотографиями и книгами, главы фирм и отделов «Межкомбанка» произносили тосты, пили шампанское (привезли хрустальные бокалы и посуду), закусывали, поздравляли с началом большого дела.
Реконструкция дома со всеми ее бесчисленными сложностями завершилась в 1998 году.[378] Но в августе 1998 года во время дефолта рухнул мощный «Межкомбанк», и постановление Правительства Москвы от 5 мая 1998 года № 355, где возлагалась на «Межкомбанк» ответственность за создание Центра по истории русской философии и культуры, не могло быть выполнено. Следовало думать о дальнейшей судьбе Дома. Кто будет его содержать, если нет финансовой поддержки? Была сделана еще одна попытка найти надежных партнеров для создания «Лосевскими беседами» Центра истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». К А. И. Музыкантскому было направлено письмо (14 апреля 1999 года), подписанное ректором МГУ им. Ломоносова и председателем правления «Лосевских бесед» А. А. Тахо-Годи, в котором предлагалось совместное создание центра с передачей в собственность МГУ площади, выделенной постановлением Правительства в аренду «Лосевским беседам», для размещения Института культуры при университете и создаваемого центра. Институт должен был носить имя А. Ф. Лосева, предусмотрен сектор по изучению наследия философа.
Однако этот проект после долгих переговоров обеих сторон не смог осуществиться в связи с отставкой А. И. Музыкантского с поста префекта ЦАО (21 февраля 2000 года). Тогда нашему КПО было предложено Комитетом по культуре Правительства Москвы в лице Р. Р. Крылова-Иодко быть одним из учредителей государственной Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева», передав в муниципальную собственность арендуемую «Лосевскими беседами» площадь. Для этого требовалось новое постановление Правительства Москвы, тоже связанное с судьбой «Дома А. Ф. Лосева». Так как выпуск постановления запаздывал, видимо, затерявшись в комитетах и департаментах, я обратилась с письмом (26 сентября 2000 года) к мэру Москвы Ю. М. Лужкову с просьбой ускорить выпуск постановления о создании в доме, где жил А. Ф. Лосев, Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». В письме указывались причины, по которым именно здесь, где жил и писал свои труды А. Ф. Лосев, должна открыться библиотека его имени, для которой я жертвую около 10 тысяч книг из лосевского собрания.
Наконец, 26 декабря 2000 года за № 1012 вышло постановление Правительства Москвы о создании государственного учреждения культуры г. Москвы «Библиотека истории русской философии и культуры „Дом А. Ф. Лосева“». В этом постановлении говорилось «о создании благоприятных условий в „Доме А. Ф. Лосева“ для проведения библиотечной, научной и выставочной работы, направленной на изучение творческого наследия А. Ф. Лосева, а также русских историков, философов и богословов, и во исполнение постановления правительства Москвы от 5 мая 1998 г. № 355 „О капитальном ремонте здания по улице Арбат, д. 33/I2“». Комитет по культуре города Москвы, в свою очередь, издал приказ № 22 от 26 января 2001 года о создании Библиотеки, которая должна была открыться в 2002 году.
Однако Библиотека, претерпев ряд тяжелых событий в связи с неблаговидной деятельностью директора И. И. Маханькова (при нем исчезло бесследно несколько сот книг; он был снят к 1 июня 2004 года и переведен в другое место), открылась для читателей только 23 сентября 2004 года (в день рождения А. Ф. Лосева) при новом директоре В. В. Ильиной в торжественной обстановке. Через месяц, 18 октября (именины А. Ф. Лосева), в Библиотеке был отслужен молебен и совершено ее освящение.
23 сентября 2006 года (день рождения А. Ф.) во дворе Библиотеки «Дом А. Ф. Лосева» был торжественно открыт памятник философу с надписью: «Великий русский философ Алексей Лосев» (скульптор проф. В. В. Герасимов). Открыта постоянная музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству А. Ф. Лосева.
Виктор Троицкий О Лосеве (заметки ad marginem)[379]
Для начала следует разъяснить подзаголовок. Он в равной мере относится как к форме, так и к содержанию «Заметок».
Темы для повествования взяты преимущественно с обочины того обширного поля, где в результате труда прилежных исследователей уже во множестве скопились редко замечаемые факты и подробности. Разглядывая их, мне все-таки хотелось «судить о Лосеве» по возможности совокупно, от края до края. Прием понятный, поскольку поле это чрезвычайно велико и за малое время, одолевая пядь за пядью, его никак не пройти, а потому приходится искать – буквально – обходные пути. Но прием этот и оправдан только в том случае, если предмет исследования составляет единое целое, потому-то с ним можно соприкасаться даже через малости. Жизнь и творческое наследие А. Ф. Лосева – цельны.
Помета ad marginem относится, как уже сказано, и к форме. Каждая из предлагаемых миниатюр (или, если угодно, эссе) почти сама собой сложилась на смешанном языке, строилась на пересечениях и зацеплениях языка философии, языка истории, языка культурологии, языка художественной литературы. Кажется, иным способом, то есть с помощью одного какого-либо специального средства выражения – особенно при обязывающей лапидарности, – попросту нет возможности охватить и удержать эти самые «мелочи». Да еще если таковые относятся к выдающейся личности, оставившей заметный след в каждой из перечисленных сфер человеческой деятельности, а на своей судьбе приявшей отсветы большой трагической эпохи.
В итоге если и получилась правдоподобная (либо живописная – жизни подобная) картина, то, конечно, только мозаичная. Впрочем, мне больше по душе иное художественное уподобление. Можно представить не одну картину, а серию небольших офортов (характерны одинаковый формат, сходное колористическое решение, скупая манера графики), которые размещены в ряд на стене картинной галереи. Тут всякий зритель волен или ускоренно пройтись вдоль всей последовательности от начала до конца, или надолго останавливаться возле каждого изображения, или всего лишь отметить для себя несколько особых касаний иглы по металлу.
Ширь и Высь
Каждый из нас наделен обязательной ношей генетической памяти. Прежде всего – родители, их вклад. Вот и А. Ф. Лосев уже в конце жизни с полным основанием констатировал: «Отец, сначала народный учитель, а потом учитель гимназии по физике и математике, был страстный музыкант, виртуоз, скрипач и дирижер оркестров. Однако он скоро бросил учительство и погрузился в богемную жизнь бродячего и вечно странствующего музыканта. Его богема ко мне не перешла. Но ко мне перешел его разгул и размах, его вечное искательство и наслаждение свободой мысли и бытовой несвязанностью ни с чем. Эта полубогемная стихия отца столкнулась со строгими установками матери, с ее полной погруженностью в старый устойчивый быт и в этом смысле с бытовым и общественным консерватизмом. Так эти две стихии и остались во мне на всю жизнь, переплетаясь и смешиваясь самым причудливым образом».
Родители составляют исток того ручья ли, реки ли, что называется жизнью имярек. А вот по какому руслу пойдет поток далее, во многом определяется еще общим характером водосклона, с которого суждено ему взять свой разбег, и даже иногда – в случае Лосева как раз так – напрямую зависит от самого рельефа того, что называют малой родиной. Есть еще вклад топоса детства, генетика родимого пространства, память о системе координат в точке появления на свет.
Начальное эйдетическое узрение этих мест при желании можно обрести, если по пути в Новочеркасск, на родину Лосева, взять и с полдороги от Ростова-на-Дону свернуть в сторону, двинувшись до Старочеркасска. Здесь когда-то располагалась прежняя столица донского казачества (Новочеркасск же был столицей новой) и доныне гарантировано примерно такое наблюдение: во чистом поле, горизонтально ровном – буквально шахматная доска, – вдруг видишь, как перед твоим изумленным взором ползет пароход… нет, вовсе не паровоз в номинации старинной «Дорожной песни», а именно пароход, вернее, пароходы, еще вернее сказать, баржи с буксирами. Яко по суху идут! Столь низки берега и велика ширь окрестная, водная поверхность Дона даже вблизи не различима. Такое вот землепашных или полеходных транспортов зрелище.
Гость закрепит неожиданный пространственный опыт, если еще пройдется по Старочеркасску. Ему обязательно расскажут и покажут, откуда взялся известный фразеологизм «маланьина свадьба». Оказывается, Степану Ефремову, атаману Войска Донского, пришлось здесь шибко ублажать станичников. Его мезальянс с Меланьей, простой девой, которая торговала пирожками на базарной площади, следовало искупить небывалым угощением. Расстояние от базарной площади до главного Вознесенского собора (казачки по обету выстроили за взятие Азова) доныне составляет 600 шагов, на столько же четверть тысячелетия назад раскинулись и столы с яствами той знаменитой свадебки. Путь этот лучше пройти самому – широту казачьей души вполне реально померить шагами, на пространственные единицы перевести.
Подготовка завершена, теперь можно ехать в Новочеркасск. Нас встретят просторные бульвары и невысокие дома, только подчеркивающие вездеприсутствие все той же шири. Здесь необъятна, как сама степь, Соборная площадь. А на ней воцарилась и над окрестностями – от горизонта до горизонта – возвысилась легкая громада Вознесенского собора. Единая всем, всем общая вертикаль. На Руси только два столичных храма ему первенствуют по величине, Исаакиев в Петербурге и Христа Спасителя в Москве. Эту ширь, эту высь и вобрал в себя будущий философ.
Трудные дроби
«Жизнь есть прежде всего непрерывный континуум, в котором все слилось воедино до неузнаваемости» – вполне отрезвляюще звучат эти слова Лосева. И все же, предупреждение получив, рискну-таки проследить в этом всюду плотном, как скажут математики, континууме только одну ниточку судьбы, не единственную, конечно, да и не особенно вроде бы заметную.
Вот завязка. Мы видим не слишком успешного ученика младших классов гимназии, оценки его табеля из года в год безрадостны. В курсе арифметики, к примеру, не может толком усвоить операции с дробными числами. Скучно, в самом деле: числитель первой дроби умножить на знаменатель второй… потом сделать нечто такое наоборот… Вдруг все изменилось. Начиная с какого-то класса (по нашему нынешнему раскладу – с шестого), Алеша Лосев неузнаваемо преобразился, быстро стал первым учеником. И дроби вполне уяснились. С чего, спрашивается, мучился и учителей мучил?
Многие последующие эписодии, начертанные незримым Драматургом, приходится опускать. Минуло почти три десятилетия, и вот еще картина. Елухая ночь. Яркие созвездия низко нависают и вместе с луной, сомасштабной пейзажу, странно подсвечивают низкие берега. Река Важинка, по которой так удобно сплавлять лес с верховий, впадает здесь в Свирь, а на месте их встречи расположился старинный поселок Важины вместе с недавним советским приобретением, концлагерем у деревушки Олесово. Сухо скрипит снег под сапогами, временами разносится, подчеркивая царственную тишину, эстафета ленивого собачьего лая. И над всей этой северной пустыней возвышаются темные громады пирамид. Воздвигнуты тем же рабским трудом, каким когда-то строили при фараонах для победы над временем. Но здесь не Египет, здесь Россия, пирамиды составлены из отборной древесины, да и предназначена она отнюдь не для вечности, а на экспорт. Вот кто-то дежурит, он из заключенных, из «политических». Прислонился к ровному срезу ствола циклопической сосны, сквозь толстые линзы очков задумчиво смотрит вверх, на звезды – высокий, худой, мыслью далеко отлетевший. Книгу в уме сочиняет.
Так и было: не только общая концепция фундаментальных «Диалектических основ математики», но и отдельные главы этой работы были составлены А. Ф. Лосевым в неволе. О чем они? Как раз о первичных структурах, которые лежат в основаниях простейших арифметических действий – сложения, вычитания, умножения, деления.
После возвращения из сталинского лагеря философ стремительно закончил рукопись. Она среди прочих бумаг дождалась той августовской ночи 1941 года, когда фашистская авиабомба точно угодила в дом на Воздвиженке, где была квартира Лосевых (супруги случайно оказались в это время за городом). Жалкие останки уцелевшего многие годы потом оставались нетронутыми в далеких ящиках и углах нового жилища Лосева, теперь уже на Арбате.
А вот вроде бы и развязка. После кончины философа, когда Аза Алибековна Тахо-Годи приступила к последовательному разбору и изучению архива, пришла пора находок и обретений. Нашлась и рукопись той книги, с многочисленными нехватками и следами огня и воды, некоторые страницы буквально слились воедино под напором стихий. Помнится, как после длительной их разборки горели ладони, приходилось то и дело мыть руки. Едкая известка и пыль, пропитавшие бумагу, вполне убедительно свидетельствовали о непреходящей реальности прошлого. Найденного хватило на публикацию целой большой книги.
Или до развязки далеко? С появлением на свет Божий «Диалектических основ математики» не устремился ли наш сюжет в будущее? Как и юному Лосеву, не пора ли теперь и современным математикам снова задуматься о дробях в частности, о природе своего предмета вообще?
Два билета
В одном из многочисленных шкафов домашней библиотеки Лосева хранится настоящее сокровище. Под потолком, на самой верхней полке, во втором ряду ближе к стене, в заветном уголке, закрытом от посторонних глаз внушительным строем дореволюционных изданий, тут она лежала всегда, тут и сейчас лежит – небольшая пачка изрядно потрепанных книг в мягких обложках. Для целости увязаны бечевкой. Так объединились «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Интеллигенция в России» (1910), «Из глубины» (1918). Еще недавно только за хранение подобной литературы можно было, что называется, иметь крупные неприятности.
Однажды с позволения Азы Алибековны мне пришлось извлечь пачку для дел насущных. Было 12 апреля 1997 года; понадобился сборник-раритет «Из глубины», а в нем, между прочим, статья Вяч. Иванова «Наш язык». Где-то в середине сборника неожиданно обнаружились два старых театральных билета: Государственный Академический Большой театр, концертный зал имени Бетховена, два места в ряду № 3, штемпель «22 апр. 1921». Нет сомнений, эти памятные билетики вложила бережная рука. Чуть больше года спустя после того концерта Алексей Федорович и Валентина Михайловна поженились. А невзрачные кусочки бумаги многое сообщали и обещали им. Впереди ждали многочисленные испытания и беды, о которых они, наверно, не догадывались и не могли догадываться, но главное, самое главное знали уже тогда: будем вместе.
Помнится, в тот отмеченный день 1997 года один из присутствовавших при разборе раритетов с верхней полки со смехом сказал:
– Ну, теперь Виктор как заядлый архивист немедленно бросится узнавать, какой именно концерт тогда шел…
Почему-то бросаться не захотелось. Хотя и не слишком трудное было бы деяние – в Москве более чем достаточно музеев, архивов и частных коллекций, где можно отыскать нужную афишу 1921 года. Не захотелось, вернее, не смог себя заставить. И долго не осознавал, почему. А ответ нашелся четыре года спустя при посещении музея о. Павла Флоренского (на Плющихе), того самого священника, который венчал молодую чету Лосевых в Сергиевом Посаде.
Среди многих фамильных реликвий музей хранит давно засохший листок клубники с единственной едва приметной особенностью. Вместо обычных трех лепестков-лопастей у него в наличии четыре. Когда-то о. Павел загадал «на счастье», пошел судьбу под ногами высматривать. Мол, найду с лишним лепестком, быть загаданному. И нашел.
Тем подтверждается: судьбоносными символами могут стать самые простые вещи. Но становясь таковыми, они не терпят изменений, дополнений и пересмотров. Всякая бесконечность (а символ – бесконечен) незыблема. Попробуй-ка, к примеру, оторвать тот лишний лепесток!
Ничего не добавляла к большому и эта малость, выяснять или нет старый репертуар концертного зала. Где-то во глубине, перед внутренним взором надежно встал и всему довлел образ вполне заданного жеста билетерши: сложить билетики вместе, привычно согнуть их по верхнему левому углу и тут же слегка надорвать. Сразу оба и навсегда. Всякий символ – соединение, а здесь явлен еще и символ соединения.
…А, правда, надежды – реальность? И верно – нет знаков без смысла? Пути в океанах разлуки, следы по воде – на века останутся. В этом и хитрость. Поэтому слышно, как близко сходились не руки, а звуки и таяли, как облака.
Скобки понимания
«Поближе к древним грекам и римлянам, подальше от табу и тотема» – многие ли принимали да и сейчас принимают ли этот «окрик» Поля Фукара, адресованный исследователям античности? Как мало кто другой, Лосев потратил огромные усилия именно на то, чтобы отнестись к наследию прошлого бережно и всерьез, по существу, а не довольствоваться пустыми побасенками либо свысока и просвещенно («просвещенски» – ходовое лосевское ругательство) бросать предшественникам упреки в недосмотрах и заблуждениях.
Лосев выискивал ценное зерно даже тех древних построений, к которым современные мыслители часто не знают как и подступиться. Например, он убедительно показал (подобных находок на его счету много), какой смысл имеет загадочное утверждение Платона о том, что удовольствие, испытываемое тираном, ровно… в 729 раз меньше удовольствия законного царя. «Во всякой фантастике есть своя внутренняя логика, которую надо вскрыть и точно проанализировать, – этим энергичным лозунгом, провозглашенным еще в первой книге 1927 года, исследователь руководствовался всю свою долгую жизнь.
Всю свою долгую жизнь твердил Лосев об автономии и самоценности мифа, как античного, так и любого нового, например, социалистического или позитивистского (думаете, шли от мифа к логосу и потом к логике? от мифа к мифу наш путь!). Миф объясняется из мифа же, миф надо видеть сам по себе в пределах определенной культуры. А если выносится некое суждение о частном факте, то всегда следует трезво учитывать, от имени какой мифологии или в рамках какой мифологической общности выступает сам рассуждающий.
Сколько крови стоила Лосеву эта прозрачнейшая методология! И сколько раз на протяжении жизни ему пришлось в разных вариациях ребром ставить один и тот же вопрос, – как он однажды задавался в «Дополнении к „Диалектике мифа“», в книге, лишь отчасти уцелевшей под натиском очередной тотальной мифологии: «Мыслим ли Сократ в трамвайном вагоне, Платон на аэроплане и Фома Аквинский на велосипеде? Мыслимо ли вместо церковной лампады и восковой свечи электричество, вместо ладана – табак или одеколон, вместо рясы – френч и толстовка? Мыслим ли немецкий профессор в Диогеновой бочке, современный дарвинист – как участник в радениях дервишей, русский большевик – в качестве Фиваидского старца?»
Кажется, яснее всего лосевское отношение к «чужой» культуре выступало в его новаторских переводческих приемах (теперь-то они используются многими). Можно же идти прямолинейно, переводя некоторое сочинение филологически точно, максимально дотошно и в итоге, как правило, не всегда понятно. А можно пуститься кружным философски-интерпретаторским путем, тогда достигается кажущаяся понятность, но лишь потому достигается, что на деле выходит не перевод, а в лучшем случае пересказ или, паче чаяния, отсебятина. Лосев хочет по возможности совместить преимущества обоих путей. Для этого, во-первых, исходный более-менее буквальный перевод по необходимости уснащается дополнениями переводчика, причем они прямопоказывающе выделены квадратными скобками. Во-вторых, для «анализа хода мыслей», по выражению Лосева, полезно вводить «многочисленные разделения и подразделения, разрядки и курсивы, дающие возможность читать и понимать текст с разной степенью детализации». В таком трансформированном переводе, сработанном, как видим, по весьма щадящей технологии, вполне разборчиво и вполне достаточно указывается, где чей голос и вклад.
Простые квадратные скобки, как и нехитрые приемы членения текста, если они в умелых руках – это надежная «машина времени», орудие понимания, действенный метод борьбы против мертвящей редукции и выравнивания культур.
Диалектика тиража
Почти весь тираж «Диалектики мифа» издания 1930 года, как известно, был изъят и уничтожен сразу после выхода книги из типографии. Почти – удивительным образом все-таки уцелело несколько экземпляров. Проследить путь каждого из них было бы, думается, интереснейшей и едва ли не детективной, но уж точно поучительной задачей. И задачей, вместе с тем, весьма не простой: в биографию этих гонимых книжек наверняка будут вплетены многие людские судьбы с их горькими событиями личного опыта на фоне общей (запутанной и трудной) истории XX века.
Много легче, но тоже поучительно заняться несколько иным поиском, вернее, подсчетом. Что, поинтересуемся, произошло с книгой, которая планировалась к выходу количеством всего-то 500 экземпляров и в итоге вообще была обречена уйти в небытие? Случилось так, что пусть и не целиком, но в отдельных своих положениях она вполне дошла до самого массового читателя. Цитаты из «Диалектики мифа» многократно умножились на страницах советских газет и в специальных изданиях материалов XVI съезда ВКП(б). Цитировали и автора книги отнюдь не дружественно поминали, напомним, тов. Каганович («Организационный отчет Центрального Комитета») и тов. Киршон и тов. Стецкий (прения по «Отчету»). Тираж цитат мы теперь и подсчитаем.
Начать естественно с газеты «Правда», которая изо дня в день публиковала доклады и выступления очередного партийного форума. Непосредственно в самих изданиях привычные нам теперь выходные данные указывать тогда не было принято. Однако делу сможет помочь доклад все того же Кагановича, между прочим сообщающий о росте тиражей центральных газет СССР. В частности, читаем в «Отчете», тираж «Правды» увеличился с 864 000 (январь 1930 года) до 1 500 000 (июнь).
Кроме того, все материалы съезда оперативно публиковались отдельными выпусками специальных «Бюллетеней» для делегатов съезда, это составило 13 500 экземпляров. Затем вышел итоговый том «Стенографического отчета» еще в 60 000 экземпляров. Наконец, «Отчет Центрального Комитета» был напечатан и отдельно, надо принять в расчет ни много ни мало еще 2 500 000 брошюр.
Итого: 4 073 500. Поставим рядом наши «стартовые» 500 или «финишные» несколько единиц… И здесь шла речь только о центральной партийной печати. А еще материалы XVI съезда (как и прочих съездов тоже) могли воспроизводить и другие советские газеты, как центральные, так и местные. На сколько при этой оговорке следует увеличить полученную сумму, что-то уже и не интересно высчитывать. Понятно, что на много. Даже одна только прибавка за счет «Известий», которая, между прочим, равна 800 000, заведомо превышает первоначальные 500.
Вряд ли такого рода «всесоюзная известность» могла радовать А. Ф. Лосева. К началу съезда он был уже арестован и давал показания во внутренней тюрьме Лубянки. Положение его было слишком шатко. Но и удивлять – тоже вряд ли могла. Для философа никогда не смолкала, позволяла жить и выжить и, следовательно, осмыслить материал жизни и, в частности, мрак истории с этой фатальной книгой вполне освещала – именно она, излюбленная лосевская диалектика «одного» и «иного». Ибо если есть какое-либо «одно», то обязательно и полагание «иного». Взять наш пример, далеко не ходя. Вздумали, товарищи, ликвидировать «Диалектику мифа», а ее автора заставить замолчать? Да будет так: всей мощью своего же гигантского механизма подавления и пропаганды суждено вам служить во славу отечественной философии! С тиражированием запрещенных высказываний в тысячи крат! Подтверждая на практике лосевскую теорию мифа сразу по многим пунктам!
Почти по Бахтину
Место действия: Советская Россия. Время: «великий перелом». Несколько выдержек из давней периодики.
…Гражданин Лосев издевается над материализмом и материалистами, в простоте душевной полагая, что его мистический бред может нанести ущерб материализму… Нет сомнения, что лосевская идеология отражает настроения самых реакционных элементов нашей страны (А. Деборин, 1929);
…Идеализм в произведениях Лосева выступает в неприкрашенном, открыто враждебном марксизму виде как учение, глубоко проникнутое ярко антисоветским настроением… Черносотенным и антисемитским духом веет от определения марксизма у Лосева (А. Сараджев, 1930);
…Но последняя книга этого реакционера и черносотенца под названием «Диалектика мифа», разрешенная к печатанию Главлитом, является самой откровенной пропагандой наглейшего нашего классового врага… О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас все еще недостаточно бдительности (Л. Каганович, 1930);
…Коммунист, работник Главлита, пропустивший эту книжку, в которой нас в лицо называют капиталистическими гадами и шакалами, мотивировал необходимость ее разрешения тем, что это «оттенок философской мысли». А я думаю, нам не мешает за подобные оттенки ставить к стенке (В. Киршон, 1930);
…никогда идеализм не выступал в столь реакционной, претенциозной и воинственной форме, как теперь в лице Лосева… прямое нападение на социализм, ибо кто же «злобствует против всякого ума», согласно Лосеву, как не пролетарская революция (X. Гарбер, 1930);
…этот современный проповедник астрологии и алхимии поистине с изуверским бешенством говорит о материализме, эмпиризме, науке… В период, когда задачи социалистического строительства решаются в условиях ожесточенного сопротивления кулачества, особенно резко проявляется контрреволюционная роль религиозно-поповского мракобесия, проповедуемого Лосевыми в рясах и без ряс (Г. Баммель, 1930);
…стремится в глазах читателя изобразить марксистскую эстетику, как какую-то недоумочную теорию… Вы опоздали, Лосев, со своей теорией десятка на два лет. Два десятка лет назад вы получили бы признание и вам уготовано было бы почетное место в «Новом времени» между Меньшиковым и Розановым (М. Григорьев, 1930);
…профессор этот явно безумен, очевидно малограмотен, и если дикие слова его кто-нибудь почувствует как удар, – это удар не только сумасшедшего, но и слепого (М. Горький, 1931).
Время и место те же. Несколько цитат из работ А. Ф. Лосева.
…Иной раз вы с пафосом долбите: «Социализм возможен в одной стране. Социализм возможен в одной стране. Социализм возможен в одной стране». Не чувствуете ли вы в это время, что кто-то или что-то на очень высокой ноте пищит у вас в душе: «Н-е-е-е…», или «Н-и-и-и-и-и…», или просто «И-и-и-и-и-и…» (Диалектика мифа);
…Диалектика, повторяю, есть наука, и жизненность ее не в том, что она лечит ваш желудок от расстройства или помогает вам в ваших приключениях с «комсомолками» (Философия имени);
…Только человек без роду и племени, ненавидящий все родное и интимное, убийца близких и родных, может уничтожить догмат о троичности (Дополнение);
…Лжеумствующим же, что имя отделимо от сущности и не есть сама сущность… – таковым ономатомахам, в суете мнящим ниспровергнуть древнюю ономатодоксию, трижды анафема да будет (Античный космос и современная наука).
Вот такой безнадежный получился диалог, карнавал и хронотоп одновременно (простите, Михаил Михайлович).
Черная шапочка
Головной убор, как и прочее подобное, – не пустяк. Любая вещь суть настолько вещь еще и живая, вещь живущая, насколько она что-то сообщает и нечто символизирует. Кстати вспомним рассуждение из гл. II «Диалектики мифа» («надеть розовый галстук или начать танцевать для иного значило бы переменить мировоззрение») и зададимся неизбежным вопросом: а что же тогда означала черная шапочка, покрывавшая голову автора «Диалектики мифа»?
Шитая из шелка или, в облегченном варианте, из крепдешина, по форме она была близка к той, что описана у В. И. Даля как «ермолка»: сие есть «легкая шапочка вплоть по голове, без околыша или какой-либо прибавки». Вернее, она являла нечто среднее между простонародной ермолкой (еще старинное наименование – мурмолка), профессорско-академической шапочкой и монашеской скуфьей. Пустяками мы решили не ограничиваться. Потому не будем говорить просто о предмете домашнего обихода, надеваемом для тепла, или о свидетельстве тех или иных научных заслуг. Кому все-таки люб пустячный второй вариант, тому возразим: Лосев никогда не состоял в Академии, а профессорское звание получил еще в 1919 году, тогда как черная шапочка появилась десятилетием позже. Остается монашество? Теперь мы знаем – да: летом 1929 года Валентина Михайловна и Алексей Федорович Лосевы приняли тайный монашеский постриг. В лосевском архиве этому факту нашлись прямые подтверждения. Шапочка тоже свидетельствовала о монашестве, знаменовала его.
Иной оттенок смысла интересующего нас головного убора мы уясним, если обратимся к роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и сразу скажем: черная шапочка мастера есть та же шапочка Лосева. Принципиальных возражений такое уравнение не должно вызывать уже хотя бы потому, что шапочка булгаковского героя манифестировала подвижнический труд и творчество, служение и мастерство, и такой символ духовного подвига целиком соединим, конечно, с обликом А. Ф. Лосева. Не случайно один современный писатель, придя однажды на Арбат за интервью и впервые увидев философа в черной шапочке, не смог удержаться от очевидной булгаковской аллюзии:
– Только вышитой буквы «М» не хватает!..
Возможна и более тесная связь шапочки Булгакова и шапочки Лосева. Дело в том, что та самая (вторая по счету) редакция романа, где были впервые выведены Маргарита с ее желтыми цветами в руках и безымянный Мастер с его неизменным атрибутом избранности на голове, редакция эта появилась как раз в 1933 году, когда в круг хороших знакомых Булгакова вошел один человек, вскоре ставший другом. Его звали Павел Сергеевич Попов. Он-то хорошо знал чету Лосевых и мог о них поведать писателю много интересного. Начиная с черной шапочки… Однако, оставляя данную гипотезу благодарным булгаковедам, мы на пути за смыслами двинемся дальше в прошлое.
Подобная шапочка на голове философа примерно за век до Лосева уже отмечала определенную веху в истории Отечества. Она была тоже во имя идеи. Напомним, как Герцен в «Былом и думах» констатировал, что «во всей России, кроме славянофилов, никто не носит мурмолок», и всегда начинал что-нибудь едкое о «не наших» (для него не наших) так: «К. Аксаков с мурмолкой в руке вещал» и т. д. Но он же отдавал должное своим давним оппонентам и констатировал, что «с них начинается перелом русской жизни». Когда А. Ф. Лосев в свой черед обрел черную шапочку, на Руси, напомним, шел 1929 год – тоже год «великого перелома» (сталинская формула). Право же, тут нечего комментировать.
Смыслы не прибавляются и не убавляются, они лишь постепенно проступают и проявляются.
«Джоконда» и фокстрот
Странное на первый взгляд «и». Знаменитый портрет Моны Лизы, жены флорентийского дворянина Франческо дель Джокондо (доверимся Вазари в указании этих деталей), завершен великим Леонардо около 1503 года. Не менее знаменитая улыбка, тиражированная за полтысячелетия миллионами воспроизведений. А рядом почему-то возникла некоторого рода «легкая музыка» уже начала XX века. Как раз о фокстроте судил Лосев, пользуясь словами героя своей повести «Из разговоров на Беломорстрое», судил наблюдательно и сердито: «Эта штука вся состоит из однообразной ритмической рубки, как бы из толчения на одном месте, но вся эта видимая бодрость и четкость залита внутри развратно-томительной, сладострастно-анархической мглой, так что снаружи – весело и бодро, а внутри – пусто, развратно, тоскливо и сладко, спереди – логика, механизм, организация, а внутри – дрожащая, вызывающая, ни во что не верящая, циничная и похотливая радость полной беспринципности».
Volens nolens, рассматривать «Джоконду» рядом с фокстротом заставляет нас еще одно оценочное суждение А. Ф. Лосева, которое дано в «Эстетике Возрождения». Оно – специально о той гранд-улыбке: «Ведь стоит только всмотреться в глаза Джоконды, как можно без труда заметить, что она, собственно говоря, совсем не улыбается. Это не улыбка, но хищная физиономия с холодными глазами и с отчетливым знанием беспомощности той жертвы, которой Джоконда хочет овладеть… Мелко корыстная, но тем не менее бесовская улыбочка»… Ничего похожего на стандартные дифирамбы, скорее тут разоблачение и приговор.
Общий подход и типическое в лосевских суждениях о творении Леонардо и о танцевальной американской музыке найти не трудно. Сначала – о подходе. Методика вроде бы доступная и хорошо известная в истории эстетики: различать во всякой вещи не только внешнее, но и внутреннее, сопоставлять внешнюю сторону явления с внутренней сущностью учили еще Гегель и Шеллинг. Но вот как именно увидятся эти две стороны, что жизненного извлечется в результате их сопоставления, узнаешь ли ты правду или заподозришь обман – сие зависит не от методик и теорий, но от собственного состояния или обстояния в культуре. От того, кто ты и где ты на самом деле.
Тут-то и возникает большой вопрос (через него мы придем к типическому), вопрос о прогрессе. Есть ли он? Имеет ли культура единый во времени и пространстве ход, а следовательно, эволюцию и прогресс? Или же существуют принципиально различные культуры, в круговороте вытесняющие одна другую?
Второй вариант ответа принадлежит о. Павлу Флоренскому. Он утверждал, что европейская история подчиняется «ритмически сменяющимся типам культуры средневековой и культуры возрожденской», средневековый тип характеризовал «органичностью, объективностью, конкретностью, самособранностью», тип возрожденский же – «раздробленностью, субъективностью, отвлеченностью и поверхностностью», а себя самого видел «соответствующим по складу стилю XIV–XV вв. русского средневековья» (цитаты из «Автореферата» для Энциклопедического словаря Гранат). Думаю, к тому же типу культуры принадлежал и Лосев – монах Андроник («всякий монах – это монах средневековый»), определенно считавший себя «сосланным в XX век». Отсюда и типическое родство суждений этих двоих об улыбке Джоконды и вообще о путях новой истории.
Увы, путь таков: от бесовской улыбочки к бесовской музычке. Можно подумать, что бес мельчает или, как в фокстроте, толчется на одном месте. Но это мы временно забыли, что «прогресс» в XX веке породил не только фокстрот, но и термоядерное оружие.
Восьмеричный путь
Почему-то действительно тремя группами и действительно по восемь книг в каждой выходили в свет основные труды А. Ф. Лосева. Первое восьмикнижие появилось в пору его молодости с 1927 по 1930 год, к концу жизни (на протяжении почти тридцати лет) напечатали второе восьмикнижие, «Историю античной эстетики». Уже посмертно с 1993 по 1999 год издательство «Мысль» выпустило еще восемь книг. Эти увесистые тома в серых обложках с нарядным тиснением представили некоторые прежние издания, включая первое восьмикнижие, а также архивную, прижизненно не публиковавшуюся часть наследия философа.
Три – это утешительно, это понятно, это, в конце концов, справедливо по отношению к певцу триад и Троицы. А вот почему и зачем, спрашивается, столь неотступно воспроизводилась еще и октада, восьмерица?
Вопрос существенно заостряется, если принять во внимание тот неоспоримый факт, что так называемый случай неизменно учинял препоны перед каждой из этих восьмериц. В первый раз, как мы теперь знаем, существенную роль сыграли драматические внешние обстоятельства, и прежде всего арест автора восьмикнижия в 1930 году. Он отрезал путь к печатному станку книгам «Вещь и имя», «Дополнение к „Диалектике мифа“» и «Николай Кузанский и средневековая диалектика». Спустя десятилетия устроению второй восьмерицы собственноручно содействовала Аза Алибековна: по ее инициативе для «разгрузки» слишком разросшегося V тома «Истории» родилось самостоятельное, а не в виде очередного тома, издание «Эллинистически-римской эстетики». Да потом, надо сказать, и само это многотомие по-своему – единственно возможным для толстых книг способом, – балансировало на заветной черте. Стоит ли верить, что только по техническим соображениям тома VII и VIII стали двойными, состоящими из двух книг каждый? Нет, здесь царствовал именно «случай». То есть базовые числовые структуры, скрытые до поры.
На новые времена пришлись испытания третьего восьмикнижия, оно по-прежнему, как два других, стремилось уйти от предначертанной числовой границы. Не трудно засвидетельствовать, сколь долго оставался под вопросом восьмой лосевский том «Личность и Абсолют». Отечественную экономику чувствительно пошатнул тогда «дефолт» 1998 года. А через несколько лет после издания книги, когда все уже попривыкли к новому восьмикнижию как к факту свершившемуся, издатели решили продолжить (и теперь уже, кажется, завершить) серию новым выпуском. В основу девятого тома легла, не нужно удивляться, все та же «Эллинистически-римская эстетика», когда-то перешедшая границы второго восьмикнижия и теперь уже третьего – тоже. Книга об известном переходном периоде культуры сама, получается, явила некий перманентный культурный переход…
Можно и дальше собирать биобиблиографические оговорки относительно размера восьмикнижий. Все равно результат незыблем – три и восемь. Остается инвариант. Еще Ямвлих знал, что троица есть смысловой центр и принцип совершенства, а восьмерица как третья степень двоицы «охватывает в качестве матери весь космос», она «всегармонична». Кто не доверяет интуициям античной натурфилософии, тому придется учесть свидетельство современной физики. В знаменитой классификации элементарных частиц (речь идет о теории унитарной симметрии адронов в кварковой модели М. Гелл-Мана и Ю. Неемана) возникают именно три различного рода восьмерки. Авторы теории даже недвусмысленно называли свое детище «восьмеричным путем».
Формула лосева
Попробую взять на вооружение одно из основных правил арбатского философа: «Пока я не сумел выразить сложнейшую философскую систему в одной фразе, до тех пор я считаю изучение данной системы недостаточным».
Сам-то А. Ф. Лосев это правило всегда соблюдал и поэтому уснащал свои многотомные исследования всяческими резюме, сводками тезисов, теми же «формулами в одной фразе». К примеру, ключевую мысль из «всего многотрудного и бесконечно разнообразного Платона» он любил выражать так: «Вода замерзает и кипит, а идея воды не замерзает и не кипит, то есть вообще не является вещественной».
Или вот из VII тома «Истории античной эстетики» возьмем образец еще одной фразы-формулы. Выстраивая основные философские течения античности в аспекте их отношения к мифу и разглядывая сквозь призму этого интегрального представления весь длинный ряд, автор «Истории» так характеризовал, в частности, позицию Прокла: «Миф есть субъект-объектное, то есть личностное тождество, данное как универсальная диалектика всеобщей теургии, построяемая с помощью понятийно-диффузной (или текуче-сущностной) методологии». Перед нами действительно точная формула, где всякий элемент работает, необходим и занимает строго свое место. Если, скажем, упомянутое тождество дано как «конструктивно-диалектическая структура», да еще без теургийного момента, то речь пойдет уже о Плотине. Или оформляется точка зрения Порфирия, если теургия наличествует, но она только «умозрительно-регулятивна». А если тождества субъекта и объекта философы почему-то не видят, миф же понимается только объективно, то ни о каком неоплатонизме (все названные выше были неоплатониками) уже нет речи, перед нами – воззрение классического периода, к примеру, досократиков («миф как материальная стихия»). И так далее, вариаций великое множество.
Изыщем же определенную формулу для самого А. Ф. Лосева, для его культурно-исторического облика. Задача не слишком безнадежна уже потому, что в лосевском наследии представлено довольно много самохарактеристик. Их следует теперь использовать и сжать в одну фразу или даже, если получится, довести до плотности двух-трех ключевых слов.
Елавным инструментом для Лосева всегда был диалектический метод. «Русский диалектик», – когда-то верно сказал о нем Р. О. Якобсон. Конечно, надо иметь в виду не «диамат», в рамках которого дозволялось рассуждать советским философам. Лосев прошел школу философии у Николая Кузанского, Еегеля, Шеллинга, Владимира Соловьева, но еще обязательно добавить – у греков периода высокой классики и особенно у античных неоплатоников, а также у Арсопагита. Недаром сказал однажды о себе и о своем поприще: «православно понятый неоплатонизм». Потому и мы в наших поисках формулы вправе итожить, переходя на имена: «русский Прокл».
Символическое сближение с Проклом (оба выступили в трудной роли завершителя, старший – античного типа культуры, младший – путей диалектики до «Серебряного века» русской философии включительно) справедливо не только на инструментальном уровне, на уровне использованного метода, но и в области содержательной. Генеральным в учении Лосева, как и у Прокла, явился Миф. И между прочим, приведенную выше формулу «мифа по Проклу» вполне удается обратить на самого автора этой формулировки, разве что вместо «всеобщей теургии» надо ввести, следуя Лосеву, «развернутое магическое имя».
В полном же наборе конституент своего мировидения Лосев называл себя философом Имени, Числа, Мифа. Обобщая эту фундаментальную триаду, он приходил сам и приводил нас к представлению о вездеприсутствии Чуда. За которым всегда стоит Абсолют или Бесконечность.
Ergo: русский Прокл, учивший о Чуде Бесконечности.
Краткая летопись жизни и творчества Алексея Федоровича Лосева
1893, 10 сентября (23 сентября по н. ст.) – в городе Новочеркасске, столице Области Всевеликого Войска Донского, на ул. Михайловской (бывш. Западенская), 47, родился Алексей Федорович Лосев. Крещен дедом, протоиереем о. Алексеем Поляковым, настоятелем храма Михаила Архангела.
1903–1911 – классическая гимназия в Новочеркасске. Пишет в июне 1909 года сочинение «Атеизм, его происхождение и влияние на науку и жизнь». Пишет в 1909 году сочинение на тему, заданную директором гимназии Ф. К. Фроловым, «Значение наук и искусств и диссертация Ж. Ж. Руссо „О влиянии наук на нравы“». Заканчивает гимназию в 1911 году с золотой медалью. Одновременно заканчивает частную музыкальную школу по классу скрипки у Ф. А. Стаджи, известного педагога-итальянца. На выпускном вечере играет «Чакону» Баха. Увлекается театром. Пишет статью «Высший синтез как счастье и ведение».
1911–1915 – Московский Императорский университет, который закончил по двум отделениям историко-филологического факультета – философскому и классической филологии.
С 1911 года начинает посещать по рекомендации проф. Г. И. Челпанова Религиозно-философское общество памяти Вл. Соловьева. Одновременно является членом Психологического института при Московском университете. Работает под руководством главы института проф. Г. И. Челпанова. Занимается экспериментальным исследованием эстетической образности. Посещает концерты, оперу, драму. Живет в «Первом студенческом общежитии им. Императора Николая II» по адресу: Б. Грузинская, 12, к. 92.
1912 – пишет статью «Этика как наука».
1913–1914 – пишет работу «Этико-социальные воззрения Платона».
1914 – научная командировка в Берлин для совершенствования в науках. Изучает средневековую диалектику. Начало Первой мировой войны. Отъезд на родину.
1915 – дипломное сочинение «О мироощущении Эсхила», одобренное поэтом-символистом Вяч. Ивановым. Начинает работу по психологии мышления, связанную с критикой Вюрцбургской школы. Оставлен 23 июня при университете на кафедре классической филологии для подготовки к профессорскому званию под руководством проф. Н. И. Новосадского. Одновременно преподает в гимназиях литературу и латинский язык.
1916–1922 – выступает с докладами по философии Платона и Аристотеля в Религиозно-философском обществе памяти Вл. Соловьева, в Вольной академии духовной культуры Н. А. Бердяева, в Психологическом обществе при Московском университете, в философском кружке Л. М. Лопатина. К 1922 году все общества закрыты.
1916– издание первых печатных статей: «Эрос у Платона», «Два мироощущения (из впечатлений после „Травиаты“)», «О музыкальном ощущении любви и природы (к 35-летию „Снегурочки“ Римского-Корсакова)».
1917, май – снимает комнату на Воздвиженке, 13, кв. 12, у М. В. и Т. Е. Соколовых. Знакомится с их дочерью Валентиной Михайловной.
Лето – последняя встреча в станице Каменской с матерью, Наталией Алексеевной.
1918, 1 августа – начинает преподавать в советской трудовой школе. Пишет статью «Русская философия», начал работу «О философском мировоззрении Скрябина» (закончил в 1921 году). Вместе с Вяч. Ивановым и С. Н. Булгаковым пытается издать серию книг по русской религиозной философии «Духовная Русь». Издание не осуществилось.
1919, 1 февраля – профессор университета в Нижнем Новгороде, куда ездит до 1921 года включительно. Апрель – завершает заново переработанную большую работу «Исследования по философии и психологии мышления», посвящая ее своему учителю проф. Г. И. Челпанову (напечатана в 1999 году). В Цюрихе (Швейцария) выходит статья «Русская философия» на немецком языке («Die Russische Pliilosophie»).
1 сентября – профессор Высших педагогических курсов иностранных языков.
1919–1925 – занят философско-богословскими проблемами имени. Выступает с имяславскими докладами и тезисами.
1921 – в Нижегородском университете выступает с лекцией «О методах религиозного воспитания».
В Московском университете закрыт историко-филологический факультет.
1 сентября – действительный член Государственного института музыкальной науки (ГИМН).
1922, 23 мая (5 июня н. ст.) – обвенчан с В. М. Соколовой о. П. Флоренским в Сергиевом Посаде. День Вознесения Господня. Регистрация 26 мая.
Действительный член Государственной академии художественных наук (ГАХН). Заведует музыкально-психологической комиссией, председатель комиссии по форме (философское отделение), заведует комиссией по изучению эстетических учений, член комиссии по изучению художественной терминологии (философское отделение). С 1924 по 1929 год прочитал 41 доклад.
1 сентября – профессор Московской государственной консерватории.
1923, 15 сентября – утвержден в звании профессора Государственным Ученым советом РСФСР (ГУС).
С этого года сближается с иеромонахом о. Митрофаном (Тихоновым) из закрытой Зосимовой пустыни, который поселяется под видом родственника у Лосевых; пытается издать новый сборник по философско-математическим проблемам, приглашая к участию о. Павла Флоренского. Издание не осуществилось.
1924, 1 июня – профессор 2-го Московского госуниверситета.
Сближается с афонским архимандритом о. Давидом (Мухрановым), ставшим духовником Лосевых.
1925 – сближается с М. А. Новоселовым, знакомится с о. Федором Андреевым, священником-имяславцем в Ленинграде, через В. М. Лосеву.
1927–1930 – начинает выходить первое «восьмикнижие». 1927: «Философия имени», «Античный космос и современная наука», «Музыка как предмет логики», «Диалектика художественной формы».
1928 – проработка А. Ф. Лосева в советской печати в связи с издаваемыми книгами.
Выходит «Диалектика числа у Плотина».
1929, 3 июня – тайный монашеский постриг, совершенный о. Давидом. Отныне Лосевы – монах Андроник и монахиня Афанасия.
Закрытие ГАХН. А. Ф. Лосев отчислен из профессоров Московской консерватории. Выходит «Критика платонизма у Аристотеля». А. Ф. Лосев избран членом «Кантовского общества» в Берлине.
1930 – выходят «Очерки античного символизма и мифологии». Готовится к выходу «Диалектика мифа» после предварительной цензуры, исключившей опасные места в книге и давшей разрешение печатать. А. Ф. и В. М. делают незаконные вставки в печатающуюся книгу. «Диалектика мифа» при выходе задержана.
18 апреля – арест под предлогом незаконных вставок в «Диалектику мифа». Обвинения в участии в монархической организации «Истинно-православной церкви». Четыре с половиной месяца одиночки и затем 17 месяцев пребывания во внутренней тюрьме Лубянки.
4июня – похороны о. Давида (Мухранова) В. М. Лосевой и проф. Д. Ф. Егоровым.
5июня – арест В. М. Лосевой (годовщина свадьбы) и о. Митрофана (Тихонова).
28 июня – речь Л. М. Кагановича на XVI съезде ВКП(б). Лосев объявлен классовым врагом.
1931, 3 сентября – вынесение приговора.
11 сентября – перевод в Бутырки.
20 сентября – объявлен приговор: А. Ф. Лосеву десять лет лагерей, В. М. Лосевой пять лет лагерей.
28 сентября – этап в Кемь. Далее – Свирьстрой на Беломорско-Балтийском канале. Поселок Важино. Сторож дровяных складов. Обдумывает в уме новые работы по математике и астрономии.
12 декабря – статья М. Горького в «Правде» и «Известиях» «О борьбе с природой» с обвинением Лосева как врага народа.
1932, 24–28 апреля – В. М. Лосева едет из Боровлянки (Сиблаг на Алтае) на станцию Медвежья гора (Белбалтлаг).
7 сентября – освобожден из заключения постановлением коллегии ОГПУ.
8 сентября – принят на службу вольнонаемным в Белбалтлаг ст. корректором проектного отдела.
Ноябрь – начал писать в лагере философскую прозу. Повесть «Театрал».
1933, 4 августа – постановлением ЦИК СССР снята судимость и А. Ф. Лосев восстановлен в гражданских правах.
3 октября – уволен со службы на Беломорско-Балтийском канале по собственному желанию.
11 октября – трудовой экспертной комиссией Московского городского совета профсоюзов признан инвалидом III категории.
1935–1940 – почасовая работа в московских вузах. По решению ЦК ВКП(б) Лосеву запрещено заниматься философией. Разрешается античная эстетика и античная мифология. Его направляют в издательство «Искусство». Он заключил договор на «Историю античной эстетики» (25 п. л.), на большую «Античную мифологию». Однако обвинения в идеализме, враждебности к марксизму закрывают ему двери издательства.
1938–1941 – поездки в провинциальные города на зимнюю и весеннюю сессии пединститутов (Чебоксары, Куйбышев, Полтава).
1940–1941 – попытка защитить докторскую диссертацию по классической филологии в Харьковском университете не удается. Возвращение из Полтавы в первые дни войны.
1941, в ночь на 12 августа – гибель от бомбежки дома по Воздвиженке, 13, где жили Лосевы и Соколовы. Переезд на Арбат, д. 33, кв. 20.
1942, 1 сентября – приглашен на философский факультет МГУ им. Ломоносова. Ведет семинар по Гегелю. Предлагают заведование кафедрой логики. Происки конкурентов и парткома. Обвинения в идеализме. Запрещают работать в МГУ.
1943 16 октября – утвержден в степени доктора филологических наук без защиты диссертации (honoris causa).
1944 15 мая – перевод из МГУ в МГПИ имени Ленина. Работа на кафедре классической филологии, далее на кафедре русского языка и кафедре общего языкознания до своей кончины.
Октябрь – в дом Лосевых приходит аспирантка кафедры классической филологии А. А. Тахо-Годи, направленная для занятий под руководством проф. А. Ф. Лосева.
Работа над «Олимпийской мифологией», «Эстетической терминологией» и другими трудами мифологического цикла. Кафедра во главе с проф. Н. Ф. Дератани пытается задержать исследования Лосева, дискредитировать его, требует «перестройки» идеалиста.
1948 – «проработка» Лосева на кафедре классической филологии в МГПИ им. Ленина под видом борьбы с космополитизмом.
1949 – А. Ф. Лосев начинает сотрудничество с Институтом философии Грузинской АН на предмет перевода Прокла и консультаций по проблемам неоплатонизма.
Проф. Н. Ф. Дератани переходит из МГПИ в МГУ на заведование кафедрой классической филологии. А. А. Тахо-Годи успевает до перехода Дератани защитить кандидатскую диссертацию под руководством Лосева. Происками Дератани изгнанная из МГПИ как дочь врага народа в 1948 году, где она преподавала, работает до своей защиты в Киевском университете, а затем в МГПИ им. Крупской (до 1958 года).
Продолжаются «проработки» Лосева под руководством Н. А. Тимофеевой, члена партбюро факультета и помощницы Дератани.
1953, 5 марта – смерть Сталина. В издательстве МГПИ им. Ленина выходит первая печатная работа Алексея Федоровича после 23-летнего вынужденного молчания – «Олимпийская мифология».
1954, 29 января – после тяжелой болезни кончина В. М. Лосевой.
30 января – отпевание покойной на дому.
31 января – похороны на Ваганьковском кладбище.
Выход в издательстве МГПИ трудами В. М. Лосевой «Эстетической терминологии ранней греческой литературы».
6 декабря – регистрация брака А. Ф. Лосева и А. А. Тахо-Годи.
1956 – начинается сотрудничество с «Философской энциклопедией» по приглашению проф. А. Г. Спиркина.
Алексей Федорович начинает работу над «Историей античной эстетики».
1957– выходит «Античная мифология в ее историческом развитии» – первая свободно написанная книга после 1930 года. С 1957 года начинается регулярное издание работ А. Ф. Лосева.
1958 – Н. А. Тимофеева настраивает администрацию МГПИ им. Ленина удалить Лосева из института. Его лишают штатной должности. А. А. Тахо-Годи обращается в высокие инстанции, Лосева восстанавливают.
1960 – выходит I том «Философской энциклопедии» (завершена в 1970 году). Намечается энциклопедическое издание «Мифы народов мира». Выход книг: «Гомер», «Античная музыкальная эстетика».
1963 – выходит I том «Истории античной эстетики» в издательстве «Высшая школа» под видом учебного пособия, так как издательство «Искусство» отказалось печатать Лосева.
1966 – Алексей Федорович на Всесоюзной конференции по классической филологии в Киевском университете им. Шевченко. Лето – с этого года каждое лето – в «Отдыхе», на даче у А. Г. Спиркина.
1968– Лосев на Всесоюзной конференции по классической филологии в Тбилиси. А. Ф. Лосеву 75 лет. Его первый юбилей в МГПИ им. Ленина. Лосев выпускает с помощью зав. кафедрой общего языкознания И. А. Василенко «Введение в общую теорию языковых моделей» в издательстве МГПИ. Он занят языковыми проблемами, продолжая свои изыскания 1920-х годов.
1968–1972 – в издательстве «Мысль» выходит собрание сочинений Платона в трех томах и четырех книгах под редакцией А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса, комментарии А. А. Тахо-Годи.
1969 – издательство «Искусство» выпускает второй том «Истории античной эстетики». Все дальнейшие тома выходят в этом издательстве.
1970 – завершение «Философской энциклопедии», где Алексею Федоровичу принадлежат 100 статей.
1974 – выход третьего тома «Истории античной эстетики»: «Платон и высокая классика».
1975 – выход четвертого тома «Истории античной эстетики»: «Аристотель и поздняя классика».
1976 – «Проблема символа и реалистическое искусство» (издательство «Искусство»).
1977 – «Античная философия истории»; «Платон. Жизнеописание» (совместно с А. А. Тахо-Годи).
1978 – «Эстетика Возрождения» в издательстве «Мысль». А. Ф. Лосеву 85 лет. Его второй юбилей.
1979 – выход пятого тома «Истории античной эстетики»: «Ранний эллинизм»; «Эллинистически-римская эстетика I–II вв. н. э.».
1980 – выход шестого тома «Истории античной эстетики»: «Поздний эллинизм».
1980–1982 – выход энциклопедии «Мифы народов мира». Алексей Федорович – член редколлегии и автор статей по греческой мифологии.
1981 – начало сотрудничества с журналом «Студенческий меридиан» (Ю. А. Ростовцев). «Диоген Лаэрций – историк античной философии».
1982 – «Аристотель. Жизнь и смысл» (совместно с А. А. Тахо-Годи).
1983 – история с запретом книги «Владимир Соловьев» в издательстве «Мысль». А. Ф. Лосев работает над большой книгой «Вл. Соловьев и его время».
A.Ф. Лосеву – 90 лет. Орден Трудового Красного Знамени. Последний юбилей и указание Комиздата задержать в издательстве его книги в связи с запретом «Вл. Соловьева».
1985 – интервью с В. Ерофеевым в «Вопросах литературы». Присуждено звание лауреата Госпремии СССР по философии за «Историю античной эстетики», тома 1–6. Указ подписан Горбачевым.
1986, в ночь на 12 августа – пожар на даче А. Г. Спиркина. Начало болезни А. Ф. Лосева.
Последний доклад на так называемых «Ленинских чтениях» в МГПИ им. Ленина.
1987, с 10 февраля по 25 марта – А. Ф. Лосев в больнице № 61.
Осень – Алексей Федорович участвует в съемках фильма «Лосев» B.Косаковского. Фильм получает «Серебряного кентавра» на фестивале документальных фильмов в Ленинграде.
1988, 23 мая – сигнальный экземпляр «Истории античной эстетики» Том VII: «Последние века», книга 1.
24 мая, день святых Кирилла и Мефодия – кончина А. Ф. Лосева на 95-м году жизни в 4 часа 45 минут утра.
26 мая – похороны на Ваганьковском кладбище.
3 июня – выступление А. А. Тахо-Годи на международной научной конференции в честь празднования Тысячелетия Крещения Руси. А. А. Тахо-Годи читает последние строки А. Ф. Лосева, посвященные родине, святым Кириллу и Мефодию, родной гимназии. Выход в свет VII тома «Истории античной эстетики» (книги 1–2). Октябрь – научная конференция памяти А. Ф. Лосева в Тбилиси.
18 октября – в день Ангела Алексея Федоровича заупокойная служба в Сионском соборе во главе с католикосом Илией П.
26 октября – в «Литературной газете» статья А. А. Тахо-Годи «А. Ф. Лосев», открывшая серию статей о русских религиозных философах XX века с рисунками Ю. И. Селиверстова.
1989, май – научная конференция памяти Лосева в МГУ им. М. В. Ломоносова. «В поисках построения общего языкознания как диалектической системы». «История античной философии в конспективном изложении».
Октябрь – научная конференция памяти Лосева в Университете Ростова-на-Дону.
1 декабря – научная конференция памяти Лосева в Московской духовной академии (Троице-Сергиева лавра).
1990 – выход книги А. Ф. Лосева «Вл. Соловьев и его время» в издательстве «Прогресс». «Страсть к диалектике».
Основано культурно-просветительское общество «Лосевские беседы».
1991 – съемки и выпуск трехчасового телефильма «Лосевские беседы» (режиссер О. В. Кознова).
1992 – выход в свет восьмого тома «Истории античной эстетики»: «Итоги тысячелетнего развития», книга 1.
1993 – А. Ф. Лосеву – 100 лет. Международная научная конференция под эгидой ЮНЕСКО в МГУ им. М. В. Ломоносова. В Московской консерватории научная конференция в память А. Ф. Лосева под председательством проф. Ю. Н. Холопова.
Выход «Античного космоса и современной науки» – начало так называемого третьего «восьмикнижия». Том под названием «Бытие. Имя. Космос». Книга «Жизнь». Повести. Рассказы. Письма. СПб.: «Комплект».
«Лосевские чтения» в Ростове-на-Дону. Установка охранной доски на доме А. Ф. Лосева. А. А. Тахо-Годи объявляет официально о монашестве Лосевых. Выход первого издания книги «Платон. Аристотель» (совместно с А. А. Тахо-Годи) в издательстве «Молодая гвардия», серия «ЖЗЛ».
1994 – выход в свет восьмого тома «Истории античной эстетики»: «Итоги тысячелетнего развития», книга 2. Завершено так называемое второе «восьмикнижие». Вышло второе издание Полного собрания сочинений Платона под редакцией А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи.
1995, 25 июля – возвращение рукописей Лосева (2350 с.) из Главного архива ФСБ А. А. Тахо-Годи в торжественной обстановке в «Доме Лосева» (так начинают называть дом по Арбату, 33, где 50 последних лет жил А. Ф. Лосев). Множество откликов в прессе, на радио и телевидении.
1996, 24 мая – в годовщину кончины Алексея Федоровича началась реконструкция «Дома Лосева» (теперь это официальное его название) по постановлению Московского правительства. Молебен и освящение строительной площадки.
1997, август – презентация книги А. А. Тахо-Годи «Лосев» (издательство «Молодая гвардия», серия «ЖЗЛ») в библиотеке «Русское зарубежье».
1999 – завершение реконструкции «Дома Лосева», включая квартиру А. Ф. Лосева – А. А. Тахо-Годи. Завершение третьего «восьмикнижия» томом «Личность и Абсолют».
2000, 26 декабря – постановление Московского правительства о создании государственного учреждения «Библиотека истории русской философии и культуры „Дом А. Ф. Лосева“». Выход дополненного издания книги «Вл. Соловьев и его время» в издательстве «Молодая гвардия», серия «ЖЗЛ».
2002 – выход книги А. Ф. Лосева «Я сослан в XX век…», тома 1–2; составители А. А. Тахо-Годи, Е. А. Тахо-Годи, В. П. Троицкий (издательство «Время»).
2004, 23 сентября – официальное открытие Библиотеки в день рождения А. Ф. Лосева.
18 октября – освящение Библиотеки в день именин А. Ф. Лосева (память Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена, митрополитов Московских и всея России чудотворцев).
2005 – выход книги: А. Ф. Лосева, В. М. Лосевой «Радость на веки. Переписка лагерных времен» (издательство «Русский путь»).
Выход книги «Высший синтез. Неизвестный Лосев» (издательство ЧеРо).
Выход огромного труда А. Ф. Лосева «Античная мифология с античными комментариями к ней» (завершен в 1937 году) (издательство «ЭКСМО»).
2006, 23 сентября – по постановлению Московского правительства во дворе «Дома Лосева» на Арбате открыт памятник А. Ф. Лосеву с надписью: «Великий русский философ Алексей Лосев» (скульптор проф. В. В. Герасимов).
В Библиотеке открыта постоянная музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству А. Ф. Лосева (художественное оформление студии Ю. Пекуровского, дизайн – И. В. Пейда).
2007– выход каталога музейной экспозиции (концепция Е. А. Тахо-Годи и В. П. Троицкого).
Краткий библиографический список работ о жизни и творчестве А. Ф. Лосева
I. Монографические исследования
Тахо-Годи А. А. Лосев. М., 1997. 459 с.
Исьянова Л. М. Феноменологическая диалектика. Искусство. Музыка. Уроки А. Ф. Лосева. Киев, 1998. 450 с.
Тахо-Годи Е. А. А. Ф. Лосев: От писем к прозе. От Пушкина до Пастернака. М., 1999. 288 с.
Сигитов С. М. Монографические очерки по философии музыки: Флоренский, Лосев, Яворский, Асафьев. СПб., 2001. 194 с.
Тахо-Годи А. А., Тахо-Годи Е. А., Троицкий В. П. А. Ф. Лосев – философ и писатель. К 110-летию со дня рождения. М., 2003. 396 с.
Данцев А. А. А. Ф. Лосев. М.; Ростов н/Д., 2005. 112 с. (Серия «Философы XX века. Отечественная философия»).
Гоготишвили Л. А. Непрямое говорение. М., 2006. 720 с. Раздел «Эйдетический язык» (реконструкция и интерпретация радикальной феноменологической новации А. Ф. Лосева). С. 220–415.
Карабущенко П. Л., Подвойский Л. Я. Философия и элитология культуры А. Ф. Лосева. М., 2007. 258 с.
Троицкий В. П. Разыскания о жизни и творчестве А. Ф. Лосева. М., 2007. 448 с.
Haardt A. Husserl in Russland: Phänomenologie der Sprache und Kunst bei G. Spet und Aleksej Losev. München, 1993. 260 S.
Жданов В. H., Судзуки Д. Лосев Алексей Федорович (1893–1988): Человек – мыслитель – писатель // Culture and Language. 1994. Vol. 27, № 2. Japan, Sapporo University. 140 p. (На яп. яз.).
Jubara A. Die Philosophie des Mytlios von Aleksej Losev im Kontext «Russischer Philosophie» // Philosophische und soziologische Veröffent-lichungen der Freien Universität Berlin. Bd. 30. Wiesbaden, 2000. 219 S.
Kube H. Metadiskursive Argumentation. Linguistische Untersuchungen zum russischen Diskurs von Lomonosov bis Losev. München, 2004. 592 S.
II. Сборники статей и антологии
Традиция в истории культуры/ Отв. ред. В. А. Карпушин. М., 1978. 279 с.
А. Ф. Лосеву к 90-летию со дня рождения. Тбилиси, 1983. 169 с.
Античная культура и современная наука. М., 1985. 344 с.
Античность как тип культуры. М., 1988. 336 с.
Вокруг Лосева. Три философско-практические встречи. М., 1990. 136 с.
А. Ф. Лосев и культура XX века: Лосевские чтения. М., 1991. 221 с.
Мысль и жизнь: К столетию со дня рождения А. Ф. Лосева. Уфа, 1993. 254 с.
Абсолютный миф Алексея Лосева//Начала. 1994. № 1, 2–4.
Ойкумена мысли: Феномен А. Ф. Лосева. Уфа, 1996. 149 с.
Философия. Филология. Культура: К столетию со дня рождения А. Ф. Лосева / Вопросы классической филологии. Материалы международной научной конференции, проходившей под эгидой ЮНЕСКО 18–23 октября 1993 г. на филологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 1996. Вып. 11. 324 с.
Лосевские чтения: Философский альманах. Краснодар, 1998. 110 с.
Лосевские чтения. Материалы научно-теоретической конференции, посвященной памяти А. Ф. Лосева. Ростов н/Д., 1998. 104 с.
Лосевские чтения. Материалы научно-теоретической конференции, посвященной памяти А. Ф. Лосева. Ростов н/Д., 1999. 84 с.
Образ мира – структура и целое: Материалы Международной научной конференции, проходившей под эгидой ЮНЕСКО 19–23 октября 1998 г. на филологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 1999. 580 с.
Культура в эпоху цивилизационного слома. Материалы Международной научной конференции. М., 2001. 824 с.
Материалы Круглого стола «Лосевские беседы» в рамках III Российского философского конгресса // III Российский философский конгресс. Рационализм и культура на пороге III тысячелетия. Тезисы докладов. Т. 4. Ростов н/Д., 2002.
Культурное наследие России. Универсум религиозной философии. Материалы Всероссийской научной конференции к 110-летию со дня рождения А. Ф. Лосева. Уфа, 2003. 224 с.
Лосевские чтения. Материалы ежегодной научно-теоретической конференции, посвященной памяти А. Ф. Лосева. Южно-Российский государственный технический университет. Ростов н/Д., 2003. 168 с.
Синтез в русской и мировой художественной культуре. Материалы Третьей научно-практической конференции, посвященной памяти А. Ф. Лосева. М., 2003. 224 с.
Лосевские чтения. Материалы ежегодной научно-теоретической конференции, посвященной памяти А. Ф. Лосева. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2004. 210 с.
Синтез в русской и мировой художественной культуре. Материалы Четвертой научно-практической конференции, посвященной памяти А. Ф. Лосева. М., 2004. 194 с.
Владимир Соловьев и культура Серебряного века. К 150-летию Вл. Соловьева и 110-летию А. Ф. Лосева. Лосевские чтения. М., 2005. 631 с.
Творческое наследие А. Ф. Лосева в контексте русской и мировой философии. Материалы Круглого стола в рамках IV Российского философского конгресса // Философия и будущее цивилизации. Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва, 24–28 мая 2005 г.). Т. 2. М., 2005.
Лосевские чтения. Материалы ежегодной научно-теоретической конференции, посвященной памяти А. Ф. Лосева. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2005. 147 с.
А. Ф. Лосев: ойкумена мысли / София: Альманах. Вып. 1. Уфа, 2005. 368 с.
Лосевские чтения. Труды Международной ежегодной научно-теоретической конференции, посвященной памяти А. Ф. Лосева. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2006. 384 с.
Алексей Федорович Лосев. Из творческого наследия. Современники о мыслителе. М., 2007. 776 с. (В разделе «Современники о мыслителе» представлены работы С. С. Аверинцева, В. В. Бибихина, В. В. Бычкова, Г. Д. Гачева, Л. А. Гоготишвили, А. В. Гулыги, А. Л. Доброхотова, В. В. Зеньковского, 3. А. Каменского, Г. Клайна, С. Л. Кравца, X. Куссе, В. Я. Лазарева, Н. О. Лосского, А. В. Михайлова, П. В. Палиевского, В. И. Постоваловой, Б. В. Раушенбаха, Ю. А. Ростовцева, Д. Скэнлена, А. Г. Спиркина, С. Л. Франка, А. Хаардта, М. Хагемайстера, Ю. Н. Холодова, К. В. Зенкина, С. С. Хоружего, Э. Чаплеевича, Д. И. Чижевского, С. К. Шаумяна, В. Н. Щелкачева, А. Юбары и других авторов, а также воспоминания, письма и стихи.)
Soviet studies in literature / On the ninetieth birthday of A. F. Losev. N.-Y., 1984. Vol. 20. № 2–3. P. 3—144.
Russian thought after communism / The recovery of a philosophical heritage / Ed. by J. Scanlan. Armone – N.-Y.; L., 1994. 228 p.
The life and thought of Aleksei Losev // Russian Studies in Philosophy / Ed. M. E. Sharpe. N.-Y., 1996. Vol. 35. № 1. 91 p.
The dialectic in A. F. Losev’s thought / Russian Studies in Philosophy. N.-Y, 2002. Vol. 40. № 3. 92 p.
Aleksej Fedorovich Losev: Philosophy and the Human Sciences / Ed. by R. Bird// Studies in East European Thought. № 56. 2004. Dordrecht. The Netherlands. 249 p.
A. F. Losev and Twentieth-Century Human Sciences // Russian Studies in Philosophy. Summer 2005. Vol. 44. № 1. 100 p.
III. Справочные издания
Краткая литературная энциклопедия. М., 1967. Т. 4.
Философская энциклопедия. М., 1967. Т. 3.
Бернандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто писал о музыке: Биобиблиографический словарь: В 4 т. М., 1974. Т. 2.
Философы России XIX–XX столетий: Биографии. Идеи. Труды. М., 1993. (Имеются новые издания. В издании 2002 г. статья «Лосев» переработана и значительно расширена.)
Русская философия: Малый энциклопедический словарь. М., 1995.
Русская философия: Словарь/ Общ. ред. М. А. Маслина. М., 1995.
Сто русских философов: Биографический словарь / Сост. А. Д. Сухов. М., 1995.
Щукин А. Н. Знаменитые россияне. М., 1996.
Блинников Л. В. Великие философы: Словарь-справочник. 2-е изд. М., 1997.
Москва: Энциклопедия. 2-е изд. М., 1997.
Культурология XX века: Энциклопедия: В 2 т. СПб., 1998. Т. 1.
Щукин А. Н. Самые знаменитые люди России. М., 1999. Т. 1.
Мусский И. А. 100 великих мыслителей. М., 2000.
Баландин Р. К. Самые знаменитые философы России. М., 2001.
Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. 2.
Тахо-Годи А. А. «Имя, число, миф – стихия нашей с тобой жизни»: Алексей Федорович Лосев (1893–1988)//Судьбы творцов российской науки. М., 2002. С. 150–157.
Отечественные лингвисты XX века. М., 2002. Ч. 1.
Тахо-Годи А. А. Русский духовный Ренессанс в лице А. Ф. Лосева // Русские мыслители / Отв. ред. И. Н. Лосева. Ростов н/Д., 2003. С. 330–344.
Enciclopedia filosofica. Venezia—Roma, 1957. Т. 3 (автор статьи – L. Gancikov); 2 ed. 1969.
Dizionario dei fflosofi/Ed. Sansoni. Firenze, 1976.
Kindlers Neues Literaturlexikon / Red. R. Radler. München, 1990. Bd. 10. S. 608–611 (автор статьи – A. Haardt).
Biographical dictionary of twentieth century philosophers / Ed. by S. Brown, D. Collinson. L.; N.-Y., 1996. P. 473–474 (автор статьи – J. Scanlan).
Routledge Encyclopedia of Philosophy. L.; N.-Y., 1998. Vol. 5. P. 828–833 (автор статьи – G. Kline).
Powszechna Encyklopedia Filozofii / Ed. A. Maryniarczyk et al. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. T. 6. 2005. S. 627–628 (автор статьи – M. Aleksandrowicz).
Encyclopedia of Philosophy. L.; N.-Y., 2006. Vol. 6. P. 573–576 (автор статьи – VI. Marchenkov).
IV. Диссертации, посвященные творчеству А. Ф. Лосева или развивающие его теоретическое наследие
Сватко Ю. И. Имя как текст и текст как имя: лингвистические и лингвофилософские основания анализа. Автореф. дисс. докт. филол. наук. Краснодар, 1994.
Дубовицкий В. В. Эстетико-онтологическая проблематика в ранних произведениях А. Ф. Лосева. Автореф. дисс. канд. филос. наук. М., 1995.
Камчатное А. М. Теоретические основы лингвистической герменевтики и опыт ее приложения к изучению языка славяно-русских переводов Библии. Автореф. дисс. докт. филол. наук. М., 1996.
Васильев Д. Ю. Идея Эроса в русской религиозной философии. Автореф. дисс. канд. филос. наук. Уфа, 1997.
РезнтенкоА. И. Философия имени: онтологический аспект (о. С. Булгаков, А. Ф. Лосев). Автореф. дисс. канд. филос. наук. М., 1997.
Тащиан А. А. Диалектика мифа А. Ф. Лосева и идея русской философии. Автореф. дисс. канд. филос. наук. Краснодар, 1998.
Чаптыкова Т. В. Философия музыки А. Ф. Лосева: онто-гносеологические основы. Автореф. дисс. канд. филос. наук. М., 1998.
Бочаров А. Б. Риторические аспекты русской философии языка: А. Ф. Лосев, М. М. Бахтин. Автореф. дисс. канд. филос. наук. СПб., 2000.
Латышева Ж. В. Феноменологические предпосылки музыкально-эстетического образования личности. Автореф. дисс. канд. филос. наук. М., 2000.
Циплаков Г. М. Диалектико-выразительная историософия А. Ф. Лосева. Автореф. дисс. канд. филос. наук. Екатеринбург, 2000.
Шичалин Ю. А. История античного платонизма в институциональном аспекте. Автореф. дисс. докт. филос. наук. М., 2000.
о. Александр Задорнов. Религиозно-философские взгляды А. Ф. Лосева. Автореф. дисс. канд. богословия. Сергиев Посад, 2002.
Барановская Т. Г. Музыка в мировоззрении А. Ф. Лосева: культурологический анализ. Автореф. дисс. канд. филос. наук. Гродно, 2003.
о. Валентин Асмус. Триадология А. Ф. Лосева и патристика. Предварительные заметки. Автореф. дисс. канд. богословия. Сергиев Посад, 2004.
Соломеина Л. А. Исторические взгляды А. Ф. Лосева. Автореф. дисс. канд. ист. наук. Томск, 2004.
Тахо-Годи Е. А. Художественный мир прозы А. Ф. Лосева и его истоки. Автореф. дисс. докт. филол. наук. М., 2004.
Мельникова Ю. В. История и миф в антиковедных трудах А. Ф. Лосева. Автореф. дисс. канд. ист. наук. Томск, 2005.
Янчаловская С. М. Проблема символа в философии культуры А. Ф. Лосева. Автореф. дисс. канд. филос. наук. Гродно, 2006.
Стульцев А. Г. Имяславие: философско-методологическая экспликация в учении А. Ф. Лосева. Автореф. дисс. канд. филос. наук. Ростов н/Д., 2006.
Лескин Д. Ю. Метафизика слова и имени в русской религиозно-философской мысли. Автореф. дисс. докт. филос. наук. М., 2007.
Djurdjevic М. Aleksey Losev у el lenguaje: Trebajo de Investigación Doctorando en Humanidades. Bienio 1998–2000. Universidad Pompe Fabra. Barcelona, Mayo de 2001. 227 p.
Указатель имен[380]
А. Воронков, священник 112.
А. Гомановский, священник 119, 145.
А. М. 128.
Абакумова В. В. 73.
Абрамов Ф. А. 464.
Аваков П. П. 316.
Августин Блаженный 394, 409, 410.
Авдукова А. М. 281, 424.
Авеличев А. К. 400, 431.
Аверинцев С. С. 327–329, 338, 380, 436, 449, 478, 481, 483.
Агафангел (А. Л. Преображенский), митрополит 117, 119, 120.
Агранов 158.
Адамян А. А. 464.
Адельгейм 17.
Айхенвальд Б. Ю. 56.
Айхенвальд Ю. И. 17, 45, 56, 60, 365.
Аккерман М. 267.
Аксаков К. С. 498.
Аксельрод Л. И. 134, 141, 194.
Акулов Ю. А. 485.
Ал. Троицкий, священник 153.
Александр III, император 8.
Александр Виноградов, священник 418.
Александр Воронков, священник 109, 129, 312.
Александр Жавнерович, священник 418, 421, 448, 449, 486.
Александр Македонский 407.
Александр Салтыков, священник 243, 418, 435, 436, 438, 446.
Александр Сидоров, священник 119, 153, 312.
Александра Кирилловна 430, 431.
Александров Г. Ф. 219, 227, 231, 293, 299.
Александров Н. Д. 455, 456.
Александров П. С. 230.
Александров С. М. 339, 341, 436.
Алексеев 122.
Алексеевы 290.
Алексей (Ф. А. Соловьев), иеросхимонах 121.
Алексей Бабурин, священник 66, 123, 312, 361, 373, 417, 422, 425, 431, 438, 440, 446, 448, 456, 458, 479, 483, 486.
Алексей Мечёв, священник 59.
Алексей Поляков, священник 7, 15, 503.
Алексидзе А. Д. 345, 347.
Алексий II (А. М. Ридигер), Патриарх Московский и Всея Руси 50, 483.
Алексий Воронежский (А. В. Буй), епископ 119, 148, 157, 168.
Алексий Московский (Е. Бяконт), святитель 6, 451, 509.
Алексий, иеросхимонах 125.
Алипия, игуменья 123 Алкей 239.
Алпатов В. М. 266, 286.
Алпатов М. В. 384.
Алферовы 57, 59.
Альберти-Толстая Т. 484.
Альтман М. С. 348, 384.
Алынванг 137.
Анаксагор 372, 373, 380, 400, 401, 409.
Анатолий Жураковский, священник 119, 140–142, 146, 148, 157, 166, 168, 169.
Андреев Д. Л. 464.
Андреева А. Ф. 146.
Андреева Ирина 344, 427.
Андреева И. С. 339.
Андреева М. Ф. 146.
Андреева Н. Н. 112, 119, 140–142, 148, 151–153, 164, 165, 241.
Андреевы 145.
Андроник, святой 129, 130.
Андроник, монашеское имя А. Ф. Лосева 128, 220, 287, 418, 449, 460, 499, 505.
Андропов Ю. В. 389, 391, 393, 395.
Аникст А. А. 338, 384.
Анненский И. Ф. 47, 238.
Антоний (А. П. Храповицкий), митрополит 115, 151.
Антонова 182.
Анциферов Н. П. 183–185, 284, 288, 289.
Анциферова С. А. 236, 288.
Анциферова Т. Н. 289.
Анциферовы 236, 277, 289.
Апулей 255.
Арбузов Н. И. 296, 300.
Арик 330.
Аристотель 33, 72, 83, 86, 87, 90, 101, 134, 229, 326, 364, 395, 400–402, 409, 411, 415, 445, 463, 503, 505, 507, 509.
Аристофан 380.
Аркадий Шатов, священник 436.
Арманд И. 70.
Арманд 68, 70.
Арнобий 246.
Арсений (А. И. Жадановский), епископ 122, 123, 126, 130.
Артамонов С. Д. 205, 280.
Артинский И. 23.
Артоболевская А. Д. 241.
Архилох 64, 65, 239.
Асафьев Б. В. 464.
Асмус В. Ф. 137, 218, 298, 324, 325, 336, 337, 418, 507, 509.
Асмус М. В. 413.
Астахов И. Б. 84, 185, 295–300, 302.
Ася, см. Смыка А. Э.
Атаров К. Н. 455.
Атеней 188.
Ауэр Л. 22.
Афанасия, святая 129, 130.
Афанасия, монашеское имя В. М. Лосевой 128, 220, 286, 287, 313, 418, 432, 449, 460, 505.
Ахматова А. А. 23, 464.
Ахчина 212.
Ашнин Ф. Д. 266, 286.
Бабайцева В. В. 243.
Бабий А. Н. 419, 424, 438.
Багалей Д. И. 288.
Баев К. Л. 78.
Базилевич Л. И. 38.
Байдаков С. Л. 467.
Байрон Д. Н. Г. 20, 40, 192, 267.
Бакланов Я. П. 12, 13.
Бакшутов В. К. 439.
Балакирев М. А. 22, 23.
Балезин С. А. 300.
Бальмонт К. Д. 198.
Баммель Г. 496.
Бандалин 252.
Барабанов Е. В. 339.
Бардыгин А. М. 145.
Барков А. С. 59.
Барсов А. А. 344.
Бартенева Т. 357.
Барятинский А. И., князь 204.
Баскаков Н. А. 207.
Баскарев В. А. 113, 117, 149, 158, 165.
Басов-Верхоянцев С. А. 136, 162.
Бах И. С. 23, 71, 419, 437, 503.
Бахтин М. М. 185, 262, 464, 496.
Бачелис И. 133.
Баш Л. М. 425.
Бекетов Н. Н. 351.
Бекман-Щербина Е. А. 39.
Белецкая Е. 226.
Белецкая М. А. 322.
Белецкая М. Р. 215–217, 220, 244, 274, 275.
Белецкая Н. А. 225, 274, 345.
Белецкая С. 225, 257.
Белецкие 215, 244, 274, 275.
Белецкий А. А. 214–217, 244, 273–276, 278, 279, 345.
Белецкий А. И. 215–219, 243, 244, 245, 251, 252, 257, 273, 298, 303, 320, 321, 331, 345.
Белецкий 3. Я. 226.
Белецкий П. А. 225, 274, 276.
Белинский В. Г. 297.
Белова Г. Д. 339, 341, 431, 437.
Белоус В. Г. 136.
Белый А. 47, 106, 422, 482.
Бенешевич В. Н. 143.
Бенуа А. Н. 334, 385.
Беньяминов Д. М. 485.
Бергсон А. 46, 134.
Бердяев Н. А. 45, 71, 72, 74, 78, 150, 151, 447, 464, 482, 503.
Бердяева Л. Ю. 151.
Бережков В. И. 160.
Беркова Е. А. 305.
Берлин 86, 87.
Бернес М. Н. 314.
Бернстрем 145.
Бернулли 94, 170.
Бескин И. М. 247.
Бетховен Л. 37, 39, 41, 71, 76, 406, 437.
Бибихин В. В. 258, 364, 370, 384, 472, 481.
Бибихина Р. В. 370.
Благово Д. Б. 123.
Блок А. А. 11, 199, 364, 421.
Блонский П. П. 47, 59, 464.
Боборыкин П. Д. 354.
Бобринская М. А. 340.
Бобринская С. В. 334, 340, 422–424, 436.
Бобринские 431.
Бобринский А. 340.
Бобринский Н. А. 340.
Бобринский Н. Н. 334.
Богданов А. А. 134.
Богомолов 464.
Бойцов А. С. 483.
Боков П. М. 84.
Бородай Т. Ю. 364, 424.
Бородай Ю. М. 334, 335.
Босс 79.
Боэций 400.
Брагинская Н. В. 304.
Браудо 30.
Бренда 378.
Бренстед М. М. 151.
Бриллиантов А. И. 111, 119, 168, 169.
Бриллиантова Е. И. 111.
Бриллинг Е. 58.
Брюллова-Шаскольская Н. В. 259.
Брюсов В. Я. 57, 239, 240.
Бубнов А. С. 207.
Бузони Ф. 464.
Булаховская Т. Д. 215.
Булаховские 215.
Булаховский Л. А. 215, 218, 228, 244, 275, 345.
Булгаков М. А. 69, 87, 138, 226, 497.
Булгаков С. Н., см. Сергий Булгаков.
Булгаков Ф. С. 157, 244, 422.
Бунины 199.
Бурбулис Г. Э. 483.
Бухарин Н. И. 135.
Бухгольц Н. Н. 112, 113, 116, 117, 158.
Бычков В. В. 394, 423, 437, 438, 446, 483, 485.
Бэкон Р. 81.
Бэкон Ф. 223.
Вавилов Н. И. 464.
Вавилов С. И. 324.
Вагнер Г. К. 339, 340, 384, 418, 419, 436, 437, 442, 464.
Вагнер Р. 37, 38, 41, 49, 71, 73, 74, 76, 97, 99, 110, 129, 324, 327, 398, 459.
Вазари Д. 498.
Ваккерман 18.
Ваксберг А. И. 139.
Вакхилид 239.
Валентин Асмус, священник 243, 418, 436, 485.
Валентин Свенцицкий, священник 119, 142, 154.
Валентина Михайловна, см. Лосева В. М.
Валерий Данилович, см. Дудкин.
Валерий Ларичев, священник 417, 423, 425, 428, 431, 438, 446, 448.
Вальтер Ф. 56.
Ванслов В. В. 301, 302.
Ванькович Г. М. 95.
Варнеке Б. В. 216.
Варфоломей (Н. Ф. Ремов), епископ 118.
Варьяш А. И. 194.
Василенко И. А. 343, 344, 348, 350, 507.
Василенко И. М. 343.
Василий, священник 312.
Василий Васильевич 345.
Василий Постников, священник 130, 150.
Василий Чернявский, священник 24, 25.
Василий Серебряников, священник 291.
Васильев А. В. 84.
Васильев Д. Ю. 450.
Васильева Т. В. 351, 377, 378.
Вашестов А. Г. 438.
Введенский А. И. 37, 47.
Вера Ивановна, см. Воронкова.
Вергилий 19, 24, 26, 57, 63, 331, 428, 463.
Вересаев В. В. 323.
Вериго А. Б. 351.
Вериго Б. Ф. 350.
Вериго-Властова М. Б. 58, 350, 351.
Вериго С. Б. 351.
Верцман И. Е. 218, 247, 248, 250–252.
Виктор, воспитанник Н. П. Семеновой 282, 283, 316.
Викторин Марий 409.
Виленский С. С. 155.
Винавер А. М. 178.
Винклер 59.
Виппер Б. Р. 34.
Виппер Р. Ю. 34, 150.
Виппер Ю. Б. 384.
Вирсаладзе С. Б. 303.
Висконти Л. 314.
Вишневская Н. А. 279.
Владимир Воробьев, священник 117, 119, 124, 157, 168, 169, 227, 405.
Владимир Воробьев, священник, его внук 243, 436, 485.
Власов Н. С. 9, 21.
Власова М. С. 9, 21.
Власова М. А. 6, 9, 21.
Властов Б. В. 29, 58, 351.
Властовы 289.
Водолагин В. М. 389.
Воздвиженская Е. С. 287, 367.
Воздвиженские 287, 367, 397.
Воздвиженский В. И. 57, 287, 367.
Волкова Н. И. 427.
Вольтер 255.
Воронин А. И. 339, 340, 382.
Воронкова В. И. 129, 312.
Воронцов-Вельяминов Б. А. 79.
Вострышев М. 167.
Вулих Н. В. 345.
Вундт В. 47.
Высоцкий В. С. 456.
Вышеславцев Б. П. 72, 464.
Г. 141.
Г. Петров, священник 11.
Габричевский А. Г. 133.
Гавриил, епископ 119.
Гаврюшин Н. К. 448.
Гайдамович Е. А. 31, 38, 40, 41, 52.
Гайденко П. П. 335, 364, 373, 384, 424.
Гайденков Н. М. 112, 199, 238, 318.
Гайденкова И. С. 199.
Галкин И. С. 231.
Гальцева Р. А. 329, 330, 345.
Гамаюнов М. М. 13, 38, 39, 100, 419, 436, 437, 445, 448.
Гамаюнова М. Т. 445.
Гамбургер 257.
Гамсахурдиа 3. К. 347.
Ганзен Ф. 30, 31.
Ганзен Ц. 21, 22, 30, 31.
Гарбер X. 133, 134, 496.
Гарбузов Н. А. 23, 95, 210.
Гарева А. А. 229, 349, 350.
Гасан М. 292.
Гасан Н. К. 292, 312.
Гаспаров М. Л. 268.
Гачев Г. Д. 418.
Гегель Г. В. Ф. 36, 37, 46, 83, 95, 109, 142, 212, 218, 226, 229, 230, 254, 263, 302, 338, 476, 499, 501, 506.
Гейко А. Д. 327.
Гексли 37.
Гелл-Ман М. 500.
Гельдерлин Ф. 238.
Гельцер 355.
Геннадий Нефедов, священник 436.
Геннадий (Е. А. Эйкалович), игумен 108.
Георгий, внук Воздвиженского 367.
Гераклит Эфесский 64, 400, 405, 464.
Герасимов В. В. 466, 487, 509.
Герасимова, см. Герасимова М. А.
Герасимова В. А. 160.
Герасимова М. А. 122, 126, 149, 158–160, 163, 454.
Герман (Г. С. Гомзин), схиигумен 126.
Гермес Трижды величайший 255.
Гермоген (Ермоген), патриарх Московский и всея Руси, святой 114, 130, 131, 165.
Гермоген (Ермоген), святитель 6, 451, 509.
Герцен А. И. 498.
Гершензон 251, 252.
Гесиод 261, 263, 294, 295, 297.
Гёте И. В. 20, 41, 175, 194, 328.
Гигаури Ц. 347.
Гиждеу 270.
Гиждеу С. П. 270, 271.
Гильдебрандт 17.
Гиндин Л. 268, 269.
Гинзбург 162.
Гиппиус 3. Н. 106, 190, 239, 464.
Гитлер А. 181.
Глинка М. А. 23.
Гнесин М. Ф. 23, 95.
Гоголь Н. В. 17, 20, 29, 74, 297.
Гоготишвили Л. А. 91, 382, 415, 421, 424, 430, 456, 467.
Голанов И. Г. 207, 208, 266, 342.
Голлербах Э. Ф. 151.
Голованов В. И. 485.
Голованов Л. В. 362, 373, 389, 422, 428, 483.
Голованов Н. С. 22.
Головченко Н. Ф. 231.
Голсуорси Д. 54.
Голубев А. Н. 428.
Голубцов П. А. 126, 233, 240.
Голубцова Е. С. 233.
Голубцовы 233.
Гольденвейзер А. Б. 23, 95, 306.
Гомер 84, 185, 212, 217, 231, 233, 237, 247, 250, 253, 261, 263, 268, 271, 277, 278, 294, 295, 321, 322, 364, 376, 400, 463, 507.
Гончар Н. Н. 483.
Гораций 266.
Горбачев М. С. 300, 398, 485, 508.
Горбунова Л. 364.
Гордезиани Р. В. 345–347.
Горнунг Б. В. 209, 240, 255.
Горожанин 157.
Горфункель А. X. 384.
Горштейн А. 267.
Горький А. М. 137–139, 155, 160, 161, 205, 255, 284, 370, 410, 496, 505.
Гофман И. 39, 186, 464.
Грабарь В. Э. 234.
Грабарь-Пассек М. Е. 52, 209, 234, 253, 290, 336.
Гречанинов А. Т. 23.
Грибоедов А. С. 60.
Григорий (А. А. Лебедев), епископ 119.
Григорий Назианзин, святой 90.
Григорий Нисский, святой 110.
Григорий Палама, святой 90, 110.
Григорьев М. 133, 496.
Грин 94.
Гринбаум Н. С. 274, 345, 411.
Грифцов Б. А. 72, 203, 207, 338.
Гришина 257.
Гришина Я. 3. 145.
Громыки 290.
Гроос К. 37.
Гроссман В. С. 464.
Грюнвальд Ж. (матушка Анна) 108, 351.
Губенко Н. Н. 483.
Губонин М. Е. 115.
Гудзий Н. К. 227, 244, 245, 275, 341, 345.
Гудиашвили Л. 347.
Гулыга А. В. 159, 337–339, 349, 373, 384, 386, 388, 389, 391, 393, 394, 396, 428, 436, 457.
Гуль Р. Б. 341.
Гумилев Н. С. 238.
Гуревич А. А. 58.
Гусев В. 394.
Гусейнов А. А. 467.
Гусейнов Г. Ч. 364, 423–425, 428, 435, 437, 438, 445.
Гуссерль Э. 46, 48, 89, 109, 134, 182, 226, 229, 378, 464.
Гусятинская В. С. 267.
Гухман М. М. 278.
Гюисманс Ш. М. Ж. 238.
Давид (Д. И. Мухранов), архимандрит 67, 111–115, 117, 128–131, 149, 176, 177, 180, 236, 504, 505.
Давид Анахт 303.
Давид Лазаревич 361.
Давид Строитель 441.
Давыдов В. Н. 17.
Давыдов Ю. В. 335, 373, 438.
Дакен Л. К. 315.
Даль В. И. 199, 497.
Дамаский 400, 410, 411.
Дамаскин (Орловский), иеромонах 149, 268.
Дамир А. М. 311.
Данте А. 20, 72,192, 464.
Деборин А. М. 133–135, 141, 194, 495.
Дебюсси К. А. 39.
Деволан Ф. П. 12.
Декарт Р. 104.
Делонэ 37.
Демокрит 294, 400, 401.
Дератани Н. Ф. 208, 209, 231, 263–269, 272–274, 277–279, 293–297, 299, 300, 319, 342, 506.
Дерибас 268.
Дерибас Л. 268.
Де Рибас О. М. 268.
Джемс У. 62.
Джимбинов С. Б. 438.
Джокондо Ф. 498.
Джохадзе Д. 337, 423, 425, 441, 446, 483.
Джуна (Давиташвили) 361.
Диккенс Ч. 216.
Дильс Г. 345, 411.
Димитрий (Д. Г. Любимов), епископ 119, 120, 122, 144, 148, 152, 153, 157, 164, 165.
Димитрий Ростовский (Д. С. Туптало), святой 126.
Димитров Е. 451.
Диоген Аполлонийский 400.
Диоген Лаэрций 401, 463, 507.
Дионисий Ареопагит 93, 108, 110, 263, 409, 425, 428, 440, 459, 463, 501.
Дмитрий, священник 440.
Добрая душа 373.
Добродомов И. Г. 350.
Доброхотов А. Л. 91, 422, 483.
Добрынин Н. Ф. 48.
Добряков Е. С. 157.
Долгов К. М. 333.
Долинская Т. Ю. 29.
Долинский Ю. 29.
Досифей (Д. А. Шонин), иеромонах 123, 180.
Достоевский Ф. М. 32, 40, 59, 60, 74, 106, 185, 192, 361, 388.
Дроздов Д. П. 157.
Дружинин Ф. С. 23.
Дружинина Е. Ф. 364.
Дубошин Г. Н. 79, 80.
Дудкин В. Д. 419.
Дулов Н. Н. 157, 158, 166, 167.
Думчев К. 22.
Дунаев А. Г. 82, 435.
Дунаев Г. С. 138, 243, 351, 384, 435.
Дурылин С. Н. 45, 73, 74.
Дынник В. А. 205.
Евклид 104.
Еврипид 20, 63.
Евфимий (Г. А. Вендт), архимандрит 108.
Еголин С. М. 231.
Егоров А. Г. 338.
Егоров Д. Ф. 93, 108–117, 120, 122, 131, 132, 154, 157, 164, 165, 176, 505.
Екатерина Всеволодовна 311, 312.
Екатерина II, императрица 340.
Елена, игуменья 123, 145.
Елизавета Федоровна 340.
Ельцин Б. Н. 483.
Ермак Тимофеевич 12, 13.
Ермаков И. Д. 134.
Ерофеев В. В. 173, 398, 400, 415, 429, 508.
Ефрем Сирин 8.
Ефремов С. 489.
Жавнерович А. В., см. Александр.
Жавнерович.
Ждан В. Н. 147.
Жданов А. А. 294, 301.
Жданов В. Н. 365, 474, 481.
Жегалкин И. И. 230.
Женя 362, 363.
Жиляев Н. С. 23, 95, 140.
Жинкин Н. И. 48, 133.
Жирмунский В. М. 276.
Житенев А. Е. 50.
Житенев Е. П. 42, 43.
Житенева Е. А. 50.
Житенева Е. Е. (Люся) 42, 43.
Житенева М. М. 41, 43.
Житенева О. Е. 42.
Житенева У. Е. 42.
Житеневы 5, 43, 50.
Житомирский Д. 141.
Жозефина 197, 366.
Жуковский В. А. 20, 43, 57, 71, 192, 238, 315.
Жуковский Н. Е. 464.
Журавлев Н. П. 300.
Жураковская Н. С. 157.
Завьялова В. П. 421, 424, 433, 435, 440, 445, 448, 483.
Залыгин С. П. 483.
Замятин Е. И. 464.
Запорожец И. В. 144.
Зверев Г. В. 392, 413, 419, 421, 422, 452–455.
Зворыкин А. А. 10, 324.
Зевалин Б. В. 157.
Зеленин Г. 423, 427.
Зелинский Ф. Ф. 25.
Зенкин К. В. 191, 451.
Зеньковский В. В., протоиерей 107, 108, 464.
Зилоти А. И. 39.
Зильберман А. Н. 76, 206, 207.
Зимина А. И. 316, 317, 321.
Зимянин М. В. 389.
Зиновьева-Аннибал Л. Д. 238.
Знаменская В. А. 24, 30–32, 36, 43, 44, 50.
Золотусский И. П. 483.
Зощенко М. М. 139.
Зубов В. П. 81.
Зумбадзе Д. Ш. 347, 349, 439–442, 444–447.
Зумбадзе И. 324.
Ибсен Г. 17.
Иван (дядя Ваня), см. Спиркин И.
Иванов, владелец типографии 86, 87, 92, 155.
Иванов Вс. В. 139.
Иванов Вяч. В. 442.
Иванов Вяч. И. 46, 47, 49, 52, 66, 71, 73, 74, 94, 112, 170, 186, 199, 238–240, 243, 244, 348, 450, 484, 491, 503, 504.
Иванов Д. В. 450, 484.
Иванова-Гладилыцикова Н. В. 456.
Игнатий (Д. А. Брянчанинов), митрополит, святой 117, 125.
Игорь, см. Маханьков И. И.
Иерофей, священник 115.
Изаи Э. 39.
Измаил Сверчков, священник 112, 145, 153, 154, 157, 168.
Иларион (Алфеев), епископ 111.
Иларион (И. И. Домрачев), схимонах 148.
Илия II, Католикос грузин 440, 446, 447, 508.
Ильенков Э. В. 324.
Ильин Иван А. 43, 72, 229, 230.
Ильин Игорь А. 298, 313.
Ильина В. В. 487.
Ильченко П. 22.
Илюша, см. Постовалов-Долгопольский.
Иоанн Артинский, священник 22.
Иоанн Итал 303, 304.
Иоанн Кедров, священник 59.
Иоанн Кронштадтский, священник, святой 117.
Иоанн Петрици 303, 304, 441.
Иоанн (Экономцев), священник 484.
Иовчук М. Т. 336, 387, 389.
Иона, святитель 6, 451, 509.
Ионисиани А. 3. 206, 207.
Иосиф (И. С. Петровых), митрополит 113, 115, 117, 119, 148, 149, 157, 166.
Ириней (Цуриков), иеромонах 89, 110, 111, 113, 148, 149.
Исаакий, святой 341.
Исакович В. 39.
Искра Степановна, см. Андреева И. С.
Ия, см. Склярская.
Йетс У. Б. 351.
Кабо 207.
Кабо Л. 244.
Каган М. И. 262.
Каган С. И. 262, 271.
Каган Ю. М. 156, 247, 262, 267, 271, 272, 436.
Каганович Л. М. 135–137, 162, 225, 255, 494, 496, 505.
Кагаров Е. Г. 215, 216, 219.
Казакова Р. Ф. 205.
Казальс П. 39.
Казанский А. В. 158, 166.
Казарян А. Т. 456.
Каллист Катафигиот, святой 377, 406.
Калюжный Г. П. 421, 424, 428, 456.
Каменский 3. А. 325, 326.
Каменский К. Н. 309–311.
Каминский Р. 22.
Кампиони А. А. 17.
Камянов В. 268, 269.
Кан С. Б. 207.
Кант И. 104, 193, 226, 229, 230, 335, 338.
Кантор Г. 46.
Кантор К. М. 358, 386.
Каразин Н. Н. 316.
Каракулаков В. В. 345.
Карамзин Н. М. 28, 59, 62.
Карвониди 377.
Карнеев Ф. Д. 363.
Карпов В. Н. 27.
Карпушин В. А. 349, 384, 385.
Карсавин Л. П. 464.
Кассирер Э. 83, 89.
Кассо Л. А. 45.
Катя, см. Смыка Е. А.
Кауль 159.
Каухчишвили 347.
Каухчишвили С. Г. 345.
Кафтанов С. В. 227.
Кацевалов 218.
Кашкаров 293.
Кашкаров Ю. Д. 339–341, 477, 481.
Кедров Б. М. 290, 293.
Кедрова М. М. 351, 428.
Керубини Л. 22.
Кессиди Ф. X. 349.
Кечакмадзе Н. 304.
Кизеветтер А. А. 150.
Кикоть Д. 413.
Киплинг Р. 168.
Кирилл, святой 13, 18, 223, 245, 402, 410, 411, 433, 441, 443, 508.
Кирилл (К. И. Смирнов), митрополит 112, 115, 117.
Киршон В. М. 136, 494, 496.
Клайн Дж. 136, 375, 377–379, 457.
Клейн Ф. 230.
Клейст Г. 238.
Клеро А. И. 94, 170.
Клыков В. М. 449.
Клюева Н. Г. 357.
Ключевский В. О. 23, 464.
Князевская Т. Б. 384–386.
Коган Я. А. 482, 484.
Коген Э. Ю. 46.
Козаржевский А. Ч. 350.
Козлов М. Е. 448.
Кознов Д. Г. 456.
Кознова О. В. 288, 416, 422, 449, 456, 483, 508.
Козырев А. П. 467.
Колмогоров А. Н. 230.
Колобова К. М. 348.
Колчак А. В. 160, 340, 351.
Кольман Э. Я. 231, 259, 260, 269, 270, 294.
Кольчужкин Е. А. 377.
Комарович В. Л. 110, 124.
Комаровская А. В. 436.
Комиссаржевская В. Ф. 17.
Кон Ф. 85.
Кондратенко Ф. Д. 381.
Кондратьев С. П. 209, 239.
Коновалов Д. Н. 209.
Констант 59.
Константин Розов, священник 345.
Константинов Ф. В. 323–325, 327, 328, 353, 359–361.
Константинова Т. Д. 359.
Константиновы 335, 356.
Конюс Г. Э. 23, 92.
Корин П. Д. 126.
Корина П. 233.
Коритко-Снитковский А. Н. 29.
Корнилов К. Н. 47, 74.
Коробков М. А. 158.
Корсунский С. Г. 141.
Косаковская Т. 435.
Косаковский А. В. 435.
Косаковский В. А. 391, 415, 418, 421, 424, 426–430, 435, 436, 438, 449, 467, 480, 483, 508.
Косой Ю. М. 456.
Косолапов Р. И. 386, 389.
Косоногов 37.
Костава М. 347.
Косткевич Ю. 146.
Костюченко В. С. 337.
Костяев А. П. 485.
Котова Е. В. 483.
Коши О. Л. 94, 170.
Кравец С. Л. 399, 424, 425, 437, 444.
Кравцов А. М. 450.
Крейн Д. 38.
Крестова Л. В. 207, 233, 234.
Кржижановский Г. М. 135.
Кривцов П. П. 428.
Круглеевская В. В. 392.
Крупп 54.
Крупская Н. К. 135, 320.
Крылов И. А. 60, 314.
Крылов СИ. 16.
Крылов-Иодко Р. Р. 487.
Ксения Петровна 214.
Кузнецов 268.
Кузнецов Д. 413.
Кузнецов К. А. 22.
Кузнецов Ф. Ф. 442, 483.
Кузнецова Г. Н. 199.
Кузьмина В. Д. 207, 233, 380.
Куманецкий К. 376.
Куманьков А. Е. 422.
Кун Н. А. 255, 264.
Купцов С. 421, 436.
Куртов Д. 413.
Кусевицкий С. А. 36.
Куфтин Б. А. 306, 307.
Куфтина В. К. 306, 307.
Кюлыге О. 33, 37.
Ладыженская Н. Д. 168, 288, 289.
Ладыженские 289.
Ладыженский А. М. 168, 288, 289, 303, 317.
Лазарев В. Я. 96, 412, 413, 438, 440, 448, 449, 456, 458, 477, 481, 483.
Ланда Н. 326.
Ландау Л. Д. 311.
Лансере Е. Е. 385.
Ларионов М. Ф. 385.
Ларичев В. П., см. Валерий Ларичев.
Ларичева М. 428, 435, 448.
Ларкин 241.
Лау В. А. 59.
Лебедев А. И. 467.
Лебедев-Полянский П. И. 84, 256, 420.
Лебедева В. Д., см. Пришвина В. Д.
Левин М. 351, 413.
Леви-Чивита Т. 78.
Лейбниц Г. В. 302.
Лемэтр Ж. 60.
Лена, см. Семенова Е.
Ленин В. И. 46, 77, 101, 134, 135, 250, 254, 263, 301, 326, 337, 392, 403, 429.
Ленцман Я. А. 380.
Леонардо да Винчи 80, 383, 498.
Леонид Лутковский, священник 436, 438.
Леонтия, монахиня 123.
Леонтович 37.
Леонтьев К. Н. 125, 398, 464.
Лермонтов М. Ю. 27, 43, 57, 60, 192, 285, 315.
Лесков Н. С. 74.
Либан Н. И. 317.
Либерт А. 180, 181.
Лида 206.
Лиорко В. Д., см. Пришвина В. Д.
Литвинова Л. В. 258, 383, 389, 393, 394, 438, 456.
Лифшиц М. А. 250, 255, 256, 302.
Лихачев Д. С. 464, 483.
Лобачевский Н. И. 132.
Логунов А. А. 483.
Лозинская Т. Б. 284.
Лозинский М. Л. 284.
Лопатин В. А. 30.
Лопатин Л. М. 34, 35, 37, 72, 503.
Лопшиц А. М. 207.
Лопыревский М. О. 291.
Лоренц X. А. 46, 88.
Лорие М. 58.
Лосев А. Ф. passim.
Лосев Ф. П. 5–8, 12.
Лосева В. М. 5, 6, 9, 14–15, 32, 66, 67, 70, 71, 75, 77–81, 84, 88, 90, 94, 110–114, 116, 117, 120–133, 143, 144, 146, 147, 149, 151–158, 161, 163, 165–167, 169–172, 174–187, 196–201, 211, 214, 215, 218, 219, 221, 222, 234–237, 239–242, 245, 252, 256, 258, 259, 261, 262, 266, 268, 269, 273, 277, 279–281, 284–288, 291–293, 295, 300, 306–313, 316, 378, 382, 405, 426, 432, 433, 437–439, 442, 449, 453, 454, 492, 497, 503–506, 509.
Лосева 3. Ф. 7.
Лосева (Полякова) Н. А. 7, 11, 20, 75, 504.
Лосский Н. О. 37, 107, 229.
Лотман Ю. М. 268, 330.
Лошкарев 275.
Лужков Ю. М. 246, 482–487.
Лузин Н. Н. 93, 229.
Лукиан 255.
Лукин Н. М. 135.
Лукреций 378, 407, 463.
Луначарский А. В. 135.
Луппол И. К. 194, 255, 256.
Лурье С. Я. 464.
Лысенко Т. Д. 58, 135, 290.
Любашевский Ю. Я. 484.
Лютер 197.
Лютик 331.
М. Лео 141.
Магдалина, монахиня 123.
Магомедов А. 44, 58.
Магомедова Д. М. 364.
Мазель Л. А. 141.
Майя Трофимовна, см. Маханькова М. Т.
Макаев Э. А. 330.
Макаревич В. М. 387.
Макаревич Г. Г. 387.
Макаревич Е. 382.
Маклорен К. 94, 170.
Маковельский А. О. 464.
Максимов В. Е. 376.
Максимов Д. Е. 364.
Малинаускене, см. Садыкова Н. К.
Мальмберг В. К. 34, 35.
Мальцева Е. А. 95.
Малютина Т. Г. 484.
Мамедов В. С. 485.
Мамин-Сибиряк Д. Н. 160.
Мамонтов С. И. 311.
Манассия (М. Я. Зенин), монах 113, 114, 149.
Мандельштам О. Э. 464.
Манн Т. 355.
Манохин А. 38.
Мансурова М. Ф. 118, 435.
Марбе К. 47.
Мари 197.
Марианна (Макаровская), игуменья 148, 149.
Мария Федоровна, императрица 8.
Марк Аврелий 245.
Марк Эфесский 406.
Марк, епископ, см. Новоселов М. А.
Маркелов В. И. 82.
Марков А. 413.
Маркович 150.
Маркс К. 250, 251, 258, 263, 264, 403.
Марто А. 39.
Маруся 198.
Марфа Алексеевна, см. Власова М. А.
Марченко 3. Д. 155.
Марченков В. Л. 450.
Маршак С. Я. 257.
Матвеев О. К. 162.
Матвеева Н. Н. 205.
Матросов В. Л. 423.
Маханьков И. И. 424, 425, 434, 436, 437, 445, 448, 478, 481, 487.
Маханькова М. Т. 371.
Мейер А. А. 183.
Мейринк Г. 238.
Мельгунов С. П. 150.
Мельхиседек, старец 110, 126.
Менделеев Д. И. 351.
Мендельсон Ф. 39.
Меньшиков М. О. 496.
Мережковский Д. С. 160.
Меркель М. И. 172.
Меркулов С. 19.
Меркуловы 19.
Металлов 204, 205.
Метерлинк М. 17, 60.
Метнер Н. К. 39.
Мефодий, святой 13, 18, 223, 245, 402, 410, 411, 433, 441, 443, 508.
Мещерская А. Н., княгиня 123.
Мещерский А. 334.
Микш В. И. 25, 29, 38.
Микш И. А. 25–27, 348.
Милюков П. Н. 54, 55, 62, 63.
Миненков А. 22.
Минералова И. Г. 451.
Миронов В. П. 483.
Митин М. Б. 162, 219, 231, 298, 342.
Митрофан (М. Т. Тихонов), иеромонах 112, 123, 126, 131, 132, 143, 144, 158, 504, 505.
Михаил, священник 12.
Михаил (В. Ф. Ермаков), митрополит 117, 120.
Михайлов А. В. 328, 329, 339, 341, 436, 438, 485.
Михайлов А. А. 78, 79.
Михайловский 266.
Михальчи Д. Е. 279, 280.
Мишина Н. А. 399.
Моавр 94.
Модест, архимандрит 16.
Модильяни А. 377.
Моисеев Н. Д. 78, 79, 93, 179.
Молодой Архивист 453, 454, 456.
Молоховец Е. 240.
Мольер 218.
Моммзен Т. 262, 382.
Мона Лиза дель Джокондо 498, 499.
Мораф 333.
Морозов А. В. 259.
Морозов М. М. 208.
Морозова М. К. 45, 113, 208, 482.
Мосальская-Рубец 316.
Москвина Г. 420, 421, 436, 446.
Москвич Г. Г. 284, 285.
Мострас К. Г. 22.
Мотылева Т. Л. 250.
Моцарт В. А. 39, 406, 430, 437, 464.
Музыкантский А. И. 456, 467, 485, 486.
Муравьев В. Н. 81, 112, 113, 116, 117, 165.
Муравьев Д. М. 24.
Мурзакова Г. В. 261.
Муриан В. М. 333.
Мусин-Пушкин А. И. 205.
Мусоргский М. П. 428.
Мюллер С. 485.
Мясковский Н. Я. 23, 95, 140.
Назаревский П. П. 15.
Наполеон Бонапарт 50.
Наппельбаум М. С. 77, 212.
Наровчатов С. С. 349.
Натали 273.
Наталия 291.
Наталия Алексеевна, см. Лосева (Полякова) Н. А.
Наторп П. 109.
Науменко Л. 364.
Наумова М. А. 254, 255.
Нафисат 204.
Нахов И. М. 145, 349, 407, 438.
Недович Д. С. 133, 253.
Недоступ А. В. 423.
Нееман Ю. 500.
Нежданова А. В. 22, 36, 38.
Нейгауз Г. Г. 23, 95, 218.
Некрасов Н. А. 314.
Нектарий, старец 123.
Немезий Эмесский 409.
Ненарокомов С. А. 318.
Нестерова Н. М. 244.
Нечуй-Левицкий И. С. 123.
Никитин А. А. 157.
Никитина Ф. 259.
Никифоров 21.
Никиш А. 44.
Николаев П. А. 384, 394.
Николай 271.
Николай II, император 8, 16, 31, 42.
Николай Дмитриевич 360.
Николай Карпович 77.
Николай Кузанский 86, 129, 220, 229, 258, 263, 384, 387, 395, 459, 463, 500, 501.
Нил Сорский, святой 125.
Нилендер В. О. 52, 209, 239.
Нилендеры 309.
Нина 284, 285, 317, 414, 446.
Нисенбаум М. Е. 392, 419, 420, 424, 435, 437–439, 478.
Нифонт, святой 122.
Ницше Ф. 59, 64, 464.
Новалис 71.
Новиков Л. А. 50.
Новикова 264, 265.
Новицкий 210.
Новосадский Н. И. 51, 54, 63, 64, 210, 216, 219, 503.
Новоселов М. А. 112, 118–117, 120–122, 124, 145, 148, 149, 151, 153–155, 157, 158, 164, 166, 167, 504.
Нойман X. 485.
Нусинов И. М. 208.
Нуцубидзе Ш. И. 134.
Ньютон И. 104.
О'Генри 379.
Образцова 59.
Обухова Н. А. 22.
Овидий 58, 64, 65, 262, 331.
Овсянников М. Ф. 10, 324, 326, 374, 375, 384, 473, 481.
Овсянников С. К. 485.
Оголевец 214.
Огородникова И. Ф. 393.
Олсуфьев В. Л. 112, 117, 154.
Ольга Николаевна, Великая княгиня 41, 42.
Оля, см. Смыка.
Онисим (Поль), иеромонах, см. Поль О.
Орленев П. Н. 17.
Орнатская Т. И. 123.
Осипова И. И. 143.
Островский Н. А. 17.
Отто 25.
Павел, священник 122.
Павел Флоренский, священник 45, 71, 73, 81, 88, 89, 106, 108–110, 113, 119, 142, 201, 238, 262, 271, 327, 329, 330, 398, 447–449, 464, 492, 499, 504.
Павлов Д. В. 29.
Павлов И. П. 135.
Павлова Н. 344, 427, 428.
Павлович В. 400.
Палиевский П. В. 18, 109, 324, 329, 373, 384, 438, 441, 442.
Палладии А. В. 215.
Панасенко Ю. Ф. 364, 424, 425, 437, 445, 483.
Панов А. 413.
Панфилов А. 458.
Панфилов Г. 320.
Пастернак Б. Л. 56, 187, 218.
Пастернак Е. Б. 56.
Пастухов Б. Н. 389.
Пейда И. В. 509.
Пекуровский Ю. Б. 509.
Пенциг Р. 59.
Перов В. Г. 359.
Петерсон М. Н. 208, 277, 278.
Петр, святитель 6, 451, 509.
Петр, священник 153.
Петр (П. Ф. Полянский), митрополит 112, 115, 117.
Петрарка Ф. 280.
Петров С. М. 231.
Петровский Н. В. 48, 112, 113, 164, 168.
Петровский И. Г. 464.
Петровский Ф. А. 247.
Пехтерева С. В. 160.
Пешкова Е. П. 155, 174, 178, 181.
Пильщиков 207.
Пиндар 239.
Пинский Л. Е. 384.
Пиотровский Б. Б. 282.
Пискунов Т. Ф. 128.
Пицкова Л. 281.
Пичинская Е. П. 57, 59.
Пичхадзе М. 347.
Платов М. И. 12, 13.
Платон 18, 27, 31–33, 48, 63, 64, 71–73, 82, 88, 89, 99, 108–110, 142, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 222, 229, 294, 302, 304, 325, 332, 333, 336–338, 380, 394, 395, 400, 401, 403–405, 409, 412, 413, 422, 445, 462–464, 493, 501, 503, 507, 509.
Платонов 295.
Плотин 46, 81–84, 86, 87, 89, 94, 134, 142, 400, 404, 405, 407, 408, 419, 463, 464, 501.
Плутарх 188, 327, 428, 463, 505.
По Э. 186.
Подколзина 257.
Позднеев А. В. 23, 24, 29, 31, 38, 40, 38, 39.
Позднеев М. В. 23, 30, 31, 38, 40.
Позднеева О. В. 30, 31, 43.
Позднеевы 29.
Покровский М. М. 64, 65, 264.
Поликлет 250.
Полефат 255.
Полковникова С. А. 423, 427.
Половинкин С. М. 54.
Половцева К. А. 183.
Поль О. 127, 145, 151.
Полянский 158, 454.
Пономарев Ф. Г. 113, 144.
Попов Н. П. 24.
Попов А. Н. 209, 247, 327.
Попов А. Ф. 23, 38.
Попов Г. X. 483, 484.
Попов И. В. 34, 35, 145.
Попов М. М. 157.
Попов П. С. 38, 48, 76, 116, 117, 144, 150, 226–229, 287, 497.
Попов Ф. И. 22–24, 38.
Попов Ю. Н. 326.
Попова А. И. 212.
Попова Л. С. 38.
Поповы 227.
Попцов О. М. 483.
Порецкая Е. С. 58, 59.
Поржезинский В. К. 34, 35, 342.
Порфирий 400, 409, 501.
Поршнев Г. И. 179.
Постников А. Г. 238, 382.
Постников Г. В. 130, 150, 238, 310, 382.
Постникова Е. С. 238.
Постовалов И. 416, 424, 436, 437, 448.
Постовалова В. И. 15, 416, 424.
Постовалова Л. И. 15, 416, 424, 448, 449.
Постоваловы 416, 435, 436, 440, 446, 448.
Походаев В. С. 339, 341, 433, 437, 438.
Приходько Е. В. 382.
Пришвин М. М. 112, 144, 145, 226.
Пришвина В. Д. 112, 118, 127, 144–147, 160, 241, 391, 422.
Прокл 81, 83, 90, 134, 142, 256, 303, 304, 395, 400, 405, 408–410, 441, 463, 464, 501, 502, 506.
Прокофьев М. А. 396.
Проценко П. 178, 242.
Псевдо-Дионисий, см. Дионисий Ареопагит.
Птолемей 81.
Пузиков А. И. 318.
Пузис Г. Б. 267.
Пуришев Б. И. 266, 273, 279, 280, 282, 384.
Пуссен 230.
Путинцев 268.
Пушкин А. С. 20, 74, 80, 85, 175, 187, 192, 297, 329, 406, 430, 437, 450, 464.
Пшибышевский Б. 140.
Пшибышевский С. 140.
Рабинович А. 141.
Рабле Ф. 383.
Радзишевский В. В. 445, 448.
Радциг С. И. 209, 253, 264, 277, 278.
Раевская М. Д. 423–425, 430.
Раздольский В. С. 185.
Раздорская В. 264.
Раздорская С. В. 282–284, 316.
Раздорский В. Ф. 58, 282, 316.
Разумовский Д. В. 23.
Расторгуев Н. А. 286.
Расторгуев П. А. 286.
Расторгуева А. А. 286.
Расторгуевы 10.
Раушенбах Б. В. 442, 483, 485.
Рахлевский М. 419.
Рахманинов С. С. 39, 171, 464.
Рачинский Г. А. 71, 72, 112, 113, 116.
Рачков Д. А. 269.
Ремпель Т. 275.
Рерберг Г. И. 429.
Рерих Н. К. 198.
Реформатская Н. А. 57, 58.
Реформатский А. А. 58.
Реформатский А. Н. 57.
Ржанов 256.
Ржевская 59.
Ржига В. Ф. 59, 266.
Ридигер Ф. В. 50.
Риккагти 94, 170.
Рильке Р. М. 238, 271.
Римский-Корсаков Н. А. 36, 38, 71, 73, 74, 76, 99, 193, 503.
Рита, см. Ларичева М.
Рихтер С. Т. 307.
Рожанский И. Д. 338.
Розанов В. В. 47, 106, 151, 224, 388, 392, 398, 464, 496.
Розанов И. Н. 59.
Розенталь 37.
Розенталь М. М. 248, 249.
Розов Н. Н. 345.
Романенко Т. 84.
Романовская Г. А. 423, 427.
Роскин Г. 357.
Россини Д. 477.
Ростовцев Ю. А. 15, 89, 395, 399, 418, 421, 424, 425, 428, 429, 433, 435, 438, 439, 449, 456, 478, 483, 507.
Рощин-Инсаров Н. П. 17.
Руббах А. Г. 76.
Рубинштейн А. Г. 38.
Рубинштейн М. М. 60.
Рубцов А. В. 358.
Рубцов В. В. 358, 456, 458, 483, 485.
Рубцова Н. 358, 422, 424, 445, 456.
Рудик П. А. 47, 59.
Руднев В. П. 269.
Руднев П. А. 268, 269, 427, 428.
Руднева Л. 268.
Русанова 62.
Русов Н. Н. 136, 457.
Руссо Ж. Ж. 18, 20, 503.
Руставели Ш. 441.
Рутенбург В. И. 384–386, 394.
Рыжов Ю. А. 483.
Ряжская 59.
Рязанова Л. А. 118, 145, 146.
Сабашников М. В. 73.
Савельева Н. Я. 485.
Савельева О. М. 424, 425, 428, 434, 435, 445, 448, 477, 483.
Савонарола Д. 383, 384.
Садовничий В. А. 449, 483, 485.
Садыкова Н. К. (Малинаускене) 10, 364.
Сазонов 219.
Саллюстий 400.
Салтыков А. Б. 112, 127, 147, 153, 157, 241, 418.
Салтыков-Щедрин М. Е. 314.
Салтыкова Т. П. 147.
Самарин P. М. 209, 321.
Самарина Ю. И. 321.
Самарцев Г. А. 425.
Самсонов Н. В. 34, 36.
Самурская К. 204.
Сапфо 239.
Сараджев А. 136, 495.
Сафонов В. И. 340.
Сахарный Н. 217.
Сахаров М. С. 157.
Свендсен Ю. С. 39.
Свенцицкая 57, 58.
Свенцицкий В. 148.
Сверчков И. А, см. Измаил Сверчков.
Свешников Г. Н. 235, 312.
Севалкин М. М. 321, 322.
Севалкина Е. А. 321, 322.
Севалкины 321, 323.
Северянин И. 199.
Севортян 254.
Сегень А. Ю. 425.
Сегюр 366.
Секст Эмпирик 220, 258, 259, 294, 428, 463.
Селиванова Е. В. 123.
Селиванова С. Д. 444, 445.
Селиверстов Ю. И. 418, 422, 438, 444, 445, 508.
Семенов В. 478, 481.
Семенов В. Ф. 207.
Семенов Л. П. 10, 200, 205, 208, 232, 234, 281, 314–316, 345.
Семенов Л. С. 283, 284, 316.
Семенов П. X. 354.
Семенов С. П. 283.
Семенова Е. П. 315.
Семенова Н. П. 24, 147, 200, 232, 271, 365, 367.
Семенова X. П. 366.
Семеновы 9.
Семчинский С. 259.
Серафим (Н. И. Звездинский), епископ 122, 123.
Серафим (А. А. Протопопов), епископ 113.
Серафим Саровский, святой 175, 417.
Серафим Угличский (С. Н. Самойлович), епископ 119, 120, 153.
Серафим Битюгов, священник 119, 153.
Сергей, брат Властовой 327.
Сергей, внук Воздвиженского 367.
Сергий Булгаков, священник 45, 73, 74, 108, 125, 244, 422, 447, 464, 504.
Сергий (Голубцов), см. Голубцов П. А.
Сергий Мансуров, священник 118,119.
Сергий Мечёв, священник 119, 127, 153.
Сергий 419.
Сергий Радонежский, святой 108.
Сергий Сидоров, священник 74, 119,334.
Сергий (И. Н. Страгородский), митрополит 112, 115, 117–123, 150–153, 166.
Серебрякова 3. Е. 385.
Сережа, внук Воздвиженского В. И. 342.
Сережников В. 464.
Серов В. А. 208.
Сеславина Е. 456.
Сидоров А. А. 119, 333, 334, 384.
Сидоров С. А., см. Сергий Сидоров.
Сидорова В. С. 334.
Сидоровы 334.
Сикорская Д. Е. 157.
Силкин Г. П. 251.
Синезий 409, 428, 463.
Синельников Н. Н. 17.
Сирота А. И. 456.
Скворцов-Степанов И. И. 134, 194.
Склярская Н. И. 354, 355.
Склярские 354.
Склярский А. И. 354.
Сковорода Г. С. 20.
Скотт В. 192.
Скребков С. С. 23, 39, 288.
Скребкова М. С. 288.
Скребкова О. Л. 39, 288.
Скрябин А. Н. 39, 71, 73, 129, 398, 425, 430, 459, 464, 504.
Славочка 274, 276.
Смирнов А. А. 42.
Смирнов В. Е. 42, 48.
Смирнов Н. 60.
Смирнова-Россет А. О. 7.
Смыка А. Э. 430, 435.
Смыка Е. А. 101, 430, 435.
Смыка О. В. 304, 357, 363, 382, 397, 421, 423, 424, 430, 434, 439, 477.
Снесарев А. Е. 168.
Собинов Л. В. 36.
Соболев 464.
Соболев Н. Н. 238.
Соболевские 269.
Соболевский А. И. 289.
Соболевский С. И. 34, 36, 65, 219, 246, 247, 264, 289, 343.
Соболькова О. С. 344, 357, 359, 367,368, 371, 378, 379, 472.
Соколов В. В. 258, 320, 324, 326, 337, 338, 374, 375, 384, 396, 436, 473.
Соколов В. М. 446.
Соколов Г. И. 384.
Соколов М. В. 70–71, 174, 234, 235, 237, 503.
Соколов Н. М. 65, 66, 81, 149.
Соколов Н. Н. 59.
Соколов Ф. Ф. 51.
Соколов Ю. М. 59.
Соколова Т. Е. 67–71, 178, 236, 410, 442, 503.
Соколовы 184, 240, 506.
Сократ 27, 64, 193, 222, 337, 400, 404, 463, 493.
Солженицын А. И. 139.
Соловьев, сотр. ОГПУ 161, 162.
Соловьев Вл. С. 18, 27, 34, 45, 64, 71, 110, 112, 125, 128, 161, 222, 223, 225, 226, 249, 250, 337, 386–388, 390–395, 420, 422, 425, 431, 450, 462, 464, 482, 501, 503, 507–509.
Соловьев Н. М. 112–117, 124, 125, 149, 165–167.
Соловьев С. М. 26.
Соловьев С. Н. 112, 114, 165.
Соломин Ю. М. 483.
Сонкина Г. А. 209, 266, 267, 331, 343.
Сорокин П. А. 464.
Сорокина С. 458, 486.
Софокл 20, 33, 63, 64.
Софья Владимировна 403, 434.
Соханенков Ю. Н. 485.
Спиркин А. Г. 10, 324, 325, 327–329, 335, 351, 353, 356–362, 364, 368,372–374, 379, 421, 438, 473–475, 481, 506–508.
Спиркин И. Г. 353, 359, 360, 368, 370–372, 397, 471.
Спиркина Е. А. 343.
Спиркина М. Н. 353, 359, 370, 396, 474.
Спиркины 356.
Спицын В. М. 207.
Стагирит, см. Аристотель.
Стаджи Ф. А. 22, 23, 503.
Сталин И. В. 29, 77, 141, 147, 187, 209, 226, 254, 260, 279, 281, 291, 301, 305, 306, 323, 326, 357, 506.
Станиславский К. С. 290.
Станюкович К. М. 354.
Старая дама 398, 430, 431, 434.
Старый хозяин, см. Спиркин А. Г.
Степанида, монахиня 112, 130.
Степанов 219.
Степанов Ю. С. 321, 325.
Степин В. С. 483, 485.
Степун Ф. Ф. 18.
Стернад А. 22.
Стефан Власов, протоиерей 6, 9.
Стеценко А. Н. 350.
Стецкий 494.
Стоке 94.
Столович Л. Н. 373, 384.
Столяров А. А. 364, 415, 424, 438, 445, 449, 473, 483.
Страда В. 376, 485.
Судейкин 214.
Сузин А. В. 112, 113, 116, 117, 165.
Сукач В. Г. 388, 366, 394.
Сумм Л. Б. 382, 436, 449.
Сухово-Кобылин А. В. 352.
Т. 141.
Тавровская Л. 365.
Тамуся, внучка Зиминой 317.
Танеев С. И. 140.
Тарабукин Н. М. 112, 198, 213, 242, 243, 245.
Тарабукина Л. И. 198.
Тарабукины 198, 288.
Тараканов Н. Г. 227, 231.
Таргонская 3. А. 178, 199.
Тассо Т. 175.
Татьяна 198, 314, 446.
Тахо-Годи Алибек А. 208, 231, 452.
Тахо-Годи Аза А. 26, 35, 48, 63, 90, 99, 121, 133, 187, 240, 270, 272, 280, 288, 309, 323, 331, 353, 367, 405, 430, 433, 443, 450, 467, 471, 476, 481, 486, 491, 500, 506–509.
Тахо-Годи Е. А. 74, 90, 145, 187, 221, 271, 329, 352, 356, 357, 365–372, 405, 435, 440, 450, 467, 476, 509.
Тахо-Годи М. А. 9, 145, 175, 205, 233, 316, 351, 353, 365–367, 369, 375, 452.
Тахо-Годи Хаджи-Мурат А. 267, 354, 440.
Тацит 64.
Тварадзе И. 347.
Тейлор Б. 94, 170.
Теперик Т. Ф. 364, 424.
Тереза Авильская, святая 238.
Терехов И. М. 318, 321.
Терновский Е. 18, 351, 376, 428.
Тиберий 64.
Тимирева А. В. (Книппер) 340.
Тимофеева Н. А. 209, 266–268, 293–295, 300, 301, 331, 342, 343, 348, 506, 507.
Тихон (В. И. Белавин), Патриарх Всероссийский, святой 114, 115, 117, 118, 167, 345.
Тихонов А. Н. 483.
Толстая А. И. 144, 150, 226, 287.
Толстая С. Н. 150.
Толстой А. К. 17, 68.
Толстой И. И. 264.
Толстой Л. Н. 74, 150, 226, 268, 315, 383, 385, 386, 388, 429, 464, 484.
Толстой Н. И. 442, 483.
Толстой С. Л. 95, 287.
Томашевская И. Н. 284.
Томашевский Б. В. 284.
Топчиев А. В. 278, 300.
Тоток В. 413.
Тренделенбург А. 230.
Трифонова Р. М. 344, 427.
Троицкий В. П. 29, 54, 74, 86, 90, 94, 134, 136, 185, 260, 382, 405, 420, 450, 452, 453, 467, 509.
Тройский И. М. 345, 347.
Трофимов П. С. 332.
Трофимова М. К. 400.
Трубецкая А. Н., княгиня 340.
Трубецкой Е. Н., князь 45, 73, 74, 226, 340, 390, 392.
Трубецкой С. Н., князь 340.
Туганов 24.
Туганов В. 24.
Туганова М. В. 58.
Туганова О. 3. 24, 233, 456, 477, 481.
Туголесов Б. А. 157.
Туполев А. Н. 464.
Тургенев И. С. 5.
Туровский М. Б. 435.
Турчанинов П. И. 23.
Тухачевский М. Н. 140.
Тучков Е. А. 122, 149, 158, 268.
Тэн И. 60.
Тюкшина Л. 26.
Тютчев Ф. И. 47, 57, 60, 62, 71, 106, 238.
Уайльд О. 60.
Удалов 295.
Удинцев Б. Д. 151.
Удинцев Г. Б. 151, 160.
Удинцева Е. А. 151.
Уколова В. И. 400.
Ульянов И. И. 157.
Ульянова М. И. 178.
Урусов, князь 484.
Урушадзе А. В. 346, 347.
Успенский А. М. 128.
Устинов И. В. 273, 296, 348.
Устинова Т. 296, 348.
Утесов Л. О. 355.
Утченко С. Л. 381.
Ушакова Е. Ф. 79, 121, 154, 157.
Уэллс Г. 186.
Уэст М. 265.
Фаворский В. А. 385.
Файер В. В. 413.
Фальк Р. Ф. 385.
Фамарь, игуменья 126.
Фарбштейн А. 464.
Фатов Н. Н. 59.
Феврония, святая 206.
Федин К. А. 257.
Федоров Н. Ф. 161, 386, 387.
Федосья Ефимовна 368.
Федотов Г. П. 464.
Федя 10.
Фейербах Л. 230.
Фельдштейн М. С. 178.
Феодор Андреев, священник 112, 119, 120, 124, 146, 147, 165, 504.
Феодор Макаровский, священник 148.
Феодор (А. В. Поздеевский), архиепископ 112, 166, 167.
Феодор Студит, святой 123.
Феокрит 267, 270.
Феофан Затворник, святитель 125.
Фесенков В. Г. 15, 78–80, 93, 111.
Фет А. А. 41, 57, 315.
Фехнер Г. Г. 37.
Филарет (В. М. Дроздов), митрополит, святитель 123.
Филарет, митрополит Минский и Белорусский 442, 443.
Филатов 241.
Филипп, святой 6, 451, 509.
Филон Александрийский 400.
Фирин С. Г. 182.
Фламмарион К. 18, 26, 32, 36, 44, 460.
Флеров А. Е. 59, 72.
Флерова Е. Н. 240, 241.
Флоренская А. М. 126.
Флоренский П. А., см. Павел Флоренский.
Флоренский П. В. 81, 89, 271, 329, 330, 364, 399, 436–439, 452, 456, 458, 478.
Фолькельт Й. 37.
Фома Аквинский 384, 493.
Фомин 123.
Фонвизин А. В. 385.
Фохт Б. А. 142, 143, 151, 218.
Франк С. Л. 45, 72, 106, 107, 464.
Франс А. 60.
Франциск Ассизский, святой 238.
Фребель Ф. 59.
Фрейд 3. 47, 134, 267.
Фрейденберг О. Ю. 464.
Фриче В. М. 85, 135, 141.
Фролов Ф. К. 16, 19, 20, 23, 24, 30, 31, 503.
Фролова В. Ф. 20, 30, 31.
Фудель И. И. 59.
Фукар П. 492.
Хаардт А. 109, 377.
Хабургаев Г. А. 281.
Хагемейстер М. 73, 109, 377, 399.
Хайдеггер М. 328, 370, 464.
Хасхачих М. 301.
Хаусдорф Ф. 230.
Хвостова 57, 59.
Хибарин И. Н. 158.
Хидашели Ш. В. 303, 304, 347, 384.
Хирземан К. 180.
Хитрово-Крамской М. Н. 112, 113, 116, 157.
Холодная В. 19.
Холодный В. Г. 19.
Холодный Г. М. 19.
Холодный Н. Г. 19.
Холопов Ю. Н. 418, 419, 446, 508.
Хомяков А. С. 340.
Хоружий С. С. 88, 446, 466.
Христина Петровна 341.
Хрущев Н. С. 228, 323.
Хюбшер А. 329.
Ц. В. А. 141, 142.
Цветаев И. В. 35, 52, 464.
Цветаева А. И. 156.
Цветаева М. И. 155, 430.
Цветаевы 262.
Цезарь 58, 64.
Цейгер А. Я. 24, 142.
Целлер Э. 109.
Церетели А. С. 484.
Цесарская Э. В. 220, 287.
Цецилия, святая 443.
Цзюй Н. В. 362, 364.
Цигенфус В. 181.
Цирес А. Г. 133.
Цицерон 58, 64.
Цыпин В. 35.
Ч. 140.
Чавчавадзе, князья 346.
Чавчавадзе Н. 3. 304, 347, 384, 447.
Чагин П. А. 239.
Чайковский П. И. 23, 36, 37, 44, 71, 76, 85, 172, 188, 189, 261, 379, 470.
Чанышев А. Н. 446.
Чаплеевич Э. 385.
Чапыгин П. И. 255.
Чаянов А. В. 464.
Челпанов Г. И. 34, 36, 37, 40, 42, 47, 51, 52, 63, 72, 74, 259, 260, 458, 503, 504.
Чемоданов Н. С. 278.
Черемухин П. А. 112, 148, 157.
Черемухина Н. М. 208, 299, 331.
Чермоев Т. 271, 316.
Чернышев Б. С. 218, 227, 229.
Чернышев С. 311.
Чернышева Т. 345.
Чертихин В. Е. 389, 407, 438.
Ческотти О. 485.
Четвериков С. С. 57, 287.
Четверикова Е. С. 57, 62.
Четвериковы 289.
Чехов А. П. 17, 268.
Чеховы 268.
Чижевский А. Л. 362, 422, 464.
Чижевский Д. И. 107.
Чикинев И. Д. 352.
Чикинева А. К. 352.
Чистяков Е. 436, 440, 448.
Чистякова Н. А. 345.
Чичерин Б. Н. 229, 230.
Чичерин Г. В. 25.
Чичеров В. И. 208.
Чубаров И. М. 450.
Чудов А. А. 324.
Чулкин Г. И. 482.
Чулков Г. И. 47, 74, 112, 113, 198.
Чулкова Н. Г. 199.
Чхиквишвили И. И. 389, 390.
Шабанов 311.
Шаламов В. Т. 464.
Шаляпин Ф. И. 34, 36, 105, 171.
Шамиль 204, 346.
Шанин Ю. В. 274.
Шанявский А. Л. 68.
Шатрова Е. М. 17.
Шаумян Л. С. 330.
Шаумян С. К. 330.
Шахназарова Н. 324.
Шедвид 184.
Шейнман Е. О. 314.
Шейнман-Топштейн С. Я. 356.
Шекспир В. 17, 384.
Шеллер-Михайлов А. К. 355.
Шеллинг Ф. В. 37, 46, 83, 95, 109, 338, 499, 501.
Шенгелия И. 345, 347, 349.
Шервинский С. В. 23, 253, 364.
Шедерега М. 413.
Шестаков В. П. 124, 259, 324, 334, 381, 383.
Шестаков С. П. 216.
Шестов Л. 46.
Шетэля В. 427.
Шетэля М. 427.
Шешуков С. И. 348.
Шиваров 143.
Шиллер И. Ф. 17, 41.
Широков О. С. 269, 356, 416, 428, 438, 446.
Шиукашвили Н. А. 485.
Шичалин Ю. А. 364, 472.
Шишов И. П. 22.
Шкаровский М. В. 150, 167.
Шмелев Д. И. 199.
Шмидт О. Ю. 135, 219.
Шмидт С. О. 467.
Шопенгауэр А. 464.
Шор Д. С. 38.
Шпенглер О. 46.
Шпет Г. Г. 72, 82, 83, 134, 229, 378, 464.
Шрагин Б. И. 376.
Штерн А. И. 382, 397, 423–425, 434, 437–439.
Штерн П. 37.
Штрангфельд 131.
Штраус Р. 7.
Штумпф К. 47.
Шуберт Ф. 37, 461.
Шуман Р. 37.
Шура 318, 321, 322.
Шутова Т. А. 364, 428, 456, 478.
Щевелева Е. 393.
Щелкачев 287.
Щелкачев В. Н. 112, 132, 147, 157, 243, 287, 312, 382, 405, 422, 424, 436, 437, 456, 458.
Щелкачева В. А. 132, 287.
Щепкин Д. И. 150.
Щербаков А. С. 212.
Щербатский Ф. И. 43, 64.
Щиголев Б. М. 79.
Щукин С. И. 47.
Щукина Л. Г. 47.
Эдинг фон 38.
Эйлер Л. 94, 170.
Эйнштейн А. 46, 88, 171, 184, 464.
Экземплярский В. М. 48.
Эмпедокл 400.
Энгельс Ф. 254, 263, 290, 291, 301, 381, 383.
Эпикур 250.
Эрдели К. А. 316.
Эригена И. С. 169.
Эр лих Р. 38.
Эрн В. Ф. 464.
Эсхил 20, 49, 51–53, 63, 65, 76, 99, 265, 426, 428, 460, 463, 503.
Эфрон А. С. 156.
Ювеналий, епископ 114, 115.
Юдин П. Ф. 247, 258–260, 327.
Юдина М. В. 95, 129, 189, 241, 262, 428.
Юлий Цезарь 54, 59.
Юлиан Отступник, император 400, 405, 409, 410, 463.
Юнг Г. 181.
Юрьева Л. М. 76.
Юстиниан, император 261.
Яблочкина А. А. 355.
Ягода Г. Г. 144, 454.
Ягодин Г. А. 415.
Якобсон Р. О. 501.
Яковлев А. А. 304, 325, 483.
Яковлев А. Н. 423, 484.
Яковлев С. В. 413.
Ямвлих 81, 82, 256, 400, 409, 500.
Яновская С. А. 250, 382.
Яриков А. 413.
Ярикова М. 413.
Ярикова О. И. 413.
Ярославский Е. М. 159, 268.
Ярхо В. Н. 345.
Яснопольская В. Н. 146, 147, 178, 241, 242.
Яснопольские 242, 243, 275, 316, 352.
Яснопольский Л. Н. 147, 217, 241, 257, 312.
Яснопольский С. Л. 146, 241, 291.
Ященко А. Л. 12.
Duddington N. 168.
Фотографии
Вознесенский собор в Новочеркасске. Открытка начала ХХ в.
Новочеркасск. Вид с южной стороны. Открытка начала ХХ в.
Н. А. Лосева с сыном. Середина 1890-х гг. (?).
Гимназист первого класса Алексей Лосев. 1903. Слева – автограф на обороте фотографии.
Гимназическая Кирилло-Мефодиевская церковь. Начало ХХ в.
Новочеркасская Донская классическая гимназия. Фото А. А. Данцева. 2006.
Ф. К. Фролов, директор гимназии. 1910-е гг.
И. А. Микш, преподаватель древних языков. 1910-е гг.
О. Василий Чернявский с гимназистами; слева от него без фуражки – Алексей Лосев. 1910-е гг.
Гимназист выпускного класса. 1911.
Камилл Фламмарион.
Новочеркасский театр. Открытка начала ХХ в.
Вл. С. Соловьев.
Платон.
Первые рукописи.
Храм Христа Спасителя. Открытка конца XIX в.
Московский Императорский университет. Акварель К. Юона. 1911.
Н. И. Новосадский.
А. И. Введенский.
Л. М. Лопатин.
Г. И. Челпанов.
Вяч. И. Иванов.
В. Ф. Эрн.
Н. А. Бердяев.
О. Павел Флоренский и С. Н. Булгаков. М. В. Нестеров «Философы». 1917.
С. Л. Франк.
Кн. Е. Н. Трубецкой.
И. А. Ильин. М. В. Нестеров «Мыслитель». 1921–1922.
В. А. Знаменская.
В. И. Микш.
А. Ф. Лосев (стоит справа) с друзьями. Рядом с ним – Г. Г. Калашников; сидит второй справа Е. С. Беллевич. 1916.
Выпускник университета. 1915.
Михаил Васильевич и Татьяна Егоровна Соколовы, их сын Николай и дочь Валентина. 1910_е гг.
А. Ф. Лосев. 1916.
В. М. Соколова (Лосева). 1920-е гг.
Н. М. Соловьев.
Д. Ф. Егоров.
Н. Н. Бухгольц.
Н. Н. Лузин.
А. Ф. Лосев. 1929.
В. М. Лосева. 1920-е гг.
Иеросхимонах Антоний (Булатович).
Архимандрит Давид (Мухранов).
О. Федор Андреев.
Монах Ириней (Цуриков).
Архиепископ Феодор (Поздеевский).
М. А. Новоселов.
Архиепископ Арсений (Жадановский).
Митрополит Иосиф (Петровых).
Архиепископ Сергий (Голубцов).
В. Н. Щелкачев.
А. Б. Салтыков.
А. А. Мейер.
Валентина Михайловна и Алексей Федорович Лосевы – заключенные Белбалтлага. 1933.
Лагерное начальство.
Дом в поселке Медвежья Гора, где Лосевы снимали комнату. Фото В. П. Троицкого. 1999.
Лосевы в путешествии по Кавказу. 1936.
Н. М. Тарабукин.
Лосевы в Таганроге с семьей Ю. В. Долинского. 1939.
М. Б. Властова и Б. В. Властов.
М. В. Юдина.
Н. П. Анциферов.
А. В. Позднеев.
С. С. Скребков.
В. Ф. Асмус.
А. И. Белецкий.
А. А. Белецкий.
Е. С. Воздвиженская.
В. И. Воздвиженский.
Ю. М. Каган.
Л. Н. Яснопольский.
Валентина Михайловна Лосева. Последняя фотография.
Алибек Алибекович Тахо-Годи. 1912.
Нина Петровна Семенова, в замужестве Тахо-Годи. 1912.
Л. П. Семенов, А. А. Тахо-Годи, А. Ф. Лосев. 1954.
Сидят (слева направо): Н. П. Тахо-Годи, Л. П. Семенов, А. А. Тахо-Годи; стоят: М. А. Тахо-Годи, Алибек Тахо-Годи, Хаджи-Мурат Тахо-Годи. 1949.
А. Ф. Лосев. 1961.
М. А. Тахо-Годи.
А. А. Тахо-Годи.
Э. А. Макаев.
П. В. Палиевский.
П. П. Гайденко.
Ю. Н. Давыдов.
В Дунине у В. Д. Пришвиной. Справа – А. Ф. Лосев и В. Д. Пришвина. 1971.
На даче в «Отдыхе». Слева направо: В. В. Соколов, А. А. Тахо-Годи, Елена Тахо-Годи, А. Ф. Лосев, М. Ф. Овсянников. 1974.
А. Ф. Лосев. Фотопортрет работы Павла Кривцова. 23 сентября 1984 г.
В. В. Бычков за беседой с А. Ф. Лосевым. 1983.
После конференции в МГУ. Слева направо: Ю. А. Ростовцев, Н. А. Мишина, С. С. Аверинцев, А. Ф. Лосев, Г. П. Калюжный, А. А. Тахо-Годи. 1985.
Беседа с Г. Ч. Гусейновым, учеником А. А. Тахо-Годи.
Ю. Д. Кашкаров.
О. И. Смыка и А. И. Штерн.
Слева направо: О. С. Широков, А. Ф. Лосев, Илья Долгопольский, А. В. Широкова. 1981.
А. Н. Бабурин, А. Г. Спиркин, В. И. Постовалова, Л. И. Постовалова.
А. А. Столяров, А. Ф. Лосев на даче в «Отдыхе».
Дача А. Г. Спиркина в «Отдыхе», где многие годы проводил лето А. Ф. Лосев. 2003.
С грузинскими друзьями на юбилее. 1983.
Чествование А. Ф. Лосева в связи с 90-летием в МГПИ им. Ленина. Поэт Владимир Лазарев читает приветствие. 12 декабря 1983 г.
А. Ф. Лосев.
А. В. Гулыга произносит «Слово о Лосеве».
Г. Д. Белова.
Л. А. Гоготишвили.
Л. А. Литвинова.
Ю. Ф. Панасенко.
Л. В. Голованов в гостях у Лосева.
В. А. Косаковский.
Г. К. Вагнер.
Алексей Федорович Лосев. Последняя фотография.
Похороны А. Ф. Лосева. Вынос тела из дома на Арбате. 26 мая 1988 г.
О. Валентин Асмус, о. Владимир Воробьев, о. Александр Салтыков, А. Н. Бабурин на Ваганьковском кладбище. 26 мая 1988 г.
М. Е. Нисенбаум, В. И. Постовалова, В. К. Бакшутов, Д. Зумбадзе, М. А. Тахо-Годи, А. А. Тахо-Годи. Ваганьковское кладбище. 27 мая 1988 г.
М. М. Гамаюнов (слева) и А. В. Михайлов. Из телефильма О. В. Козновой.
Участники конференции памяти А. Ф. Лосева в Московской духовной академии. 3 декабря 1989 г.
Слева направо: С. С. Хоружий, С. Б. Джимбинов, Ю. А. Ростовцев, В. Я. Лазарев. Из телефильма О. В. Козновой.
П. В. Флоренский и о. Владимир Воробьев. Из телефильма О. В. Козновой.
Б. В. Раушенбах в гостях у А. А. Тахо-Годи. 1992.
В. П. Троицкий, Е. А. Тахо-Годи, А. А. Тахо-Годи за переносом книг после ремонта. Фото С. В. Яковлева. 1999.
Участники Международной научной конференции в университете штата Огайо (США), посвященной А. Ф. Лосеву. Слева направо: К. В. Зенкин, Вл. Марченков, Р. Бёрд. 2002.
Члены Культурно-просветительского общества «Лосевские беседы» и сотрудники Библиотеки «Дом А. Ф. Лосева» после освящения Библиотеки. Слева – В. В. Ильина, директор Библиотеки. 18 октября 2004 г.
Могила А. Ф. Лосева на Ваганьковском кладбище.
Елена Тахо-Годи рядом с памятником А. Ф. Лосеву работы проф. В. В. Герасимова.
Примечания
1
О концертах классической музыки в этой Императорской певческой капелле (или Певческой школе в Зимнем дворце), где присутствовало самое избранное общество, вспоминает А. О. Смирнова-Россет в 1836 году. См.: Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 59, 185.
(обратно)2
Лосев А. Ф. Когда кончал гимназию // Студенческий меридиан. 1992. № 9. С. 11. А. Ф. неточен в некоторых фактах. Он упоминает императора Николая II и его супругу. Я ссылаюсь на «Формулярный список о службе исправляющего должность архивариуса Донской духовной консистории Надворного Советника Федора Лосева за 1900 год», находящийся в моем домашнем архиве.
(обратно)3
Лосев А. Ф. Из воспоминаний//Студенческий меридиан. 1990. № 5. С. 29.
(обратно)4
Брак официально не мог быть расторгнут. Наталия Алексеевна считалась замужем.
(обратно)5
Подробности о семье А. Ф. Лосева и его родичах по отцовской и материнской линии см. в кн.: Лосев А. Ф. «Я сослан в XX век…»: В 2 т. Т. 2. С. 658–660.
(обратно)6
Приходское училище ничего общего не имеет с церковно-приходским. Это начальное училище для простых людей без всякой конфессиональной окраски.
(обратно)7
Сохранилась книжечка, подаренная Наталии Алексеевне о. Михаилом: Свящ. Г. Петров «Евангелие как основа жизни» (СПб., 1903). Видимо, очень известная, так как это 15-е издание.
(обратно)8
Гимназию Ф. П. бросил, но потом сдал экзамены на должность учителя уездных училищ. Документ выдан попечителем Харьковского учебного округа в 1879 году за № 8849.
(обратно)9
См. журнал «Москва» (1992, № 2–4); сб. «Жизнь» (СПб., 1993); двухтомник «Я сослан в XX век…».
(обратно)10
Это слово приурочено было к тысячелетию Крещения Руси, и на девятый день после кончины А. Ф. я прочитала его в Институте мировой литературы АН СССР на международной конференции по просьбе П. В. Палиевского, зам. директора по науке и нашего друга.
(обратно)11
Отец известного ученого-ботаника Н. Г. Холодного и Вл. Г. Холодного, юриста, чьей женой была знаменитая киноактриса Вера Холодная, умершая молодой в 1919 году.
(обратно)12
Ф. К. Фролов после революции эмигрировал за границу. В Чехословакии в 1920 году открыл школу, которая считалась преемницей Платовской гимназии.
(обратно)13
Напечатана впервые в журнале «Человек» (1995, № 1) под названием «Значение наук и искусств и диссертация Руссо „О влиянии наук на нравы“». Напечатаны и некоторые другие письменные работы Алексея Лосева в журнале «Студенческий меридиан»: «Корень учения горек, но плоды его сладки» (1986, № 4); «Значения путешествия» (1995, № 10); «Значение Дона» (там же). Сохранились и другие сочинения, за которые Лосев получил отличные оценки у Ф. К. Фролова: «Значение Ломоносова в истории русской литературы», «О народности Пушкина», «„Сельское кладбище“ как романтическое произведение», «Романтические идеи в элегиях и балладах Жуковского», «Г. С. Сковорода в истории русской культуры». См. также журнал «Русский язык и литература для школьников» (2003, № 2) и Лосевские чтения. ЮРГТУ. 2003 (Новочеркасск, 2004).
(обратно)14
Лосев А. Из воспоминаний // Студенческий меридиан. 1990. № 5. С. 30.
(обратно)15
О высокой степени подготовки выпускников школы Стаджи, и в том числе юного скрипача Алексея Лосева, можно сделать вывод из одного факта. Выдающийся музыкант Федор Дружинин играл «Чакону» Баха, оканчивая Московскую консерваторию, для Анны Ахматовой, гостившей в усадьбе его тестя С. В. Шервинского Старки под Москвой (Fiodor Droujinine. Souvenirs. М., 2006. P. 179–184).
(обратно)16
См. газету «Бывальщина», вкладыш в газету «Донская речь» от 21 октября 1994 года.
(обратно)17
А. Ф. вспоминал, в частности, как во Владикавказе они посетили мусульманскую мечеть – точную копию Каирской. Служитель «чуть не убил», по словам А. Ф., мальчишек, так как они пытались пройти в обуви. Пришли с извинениями и без ботинок. Эту мечеть выстроила община мусульман как залог того, что генерал Туганов отдаст свою дочь замуж за бакинского нефтяника-миллионера. Моя мать Нина Петровна была на этой богатейшей свадьбе как племянница О. 3. Тугановой, сестры своей матери. Туганова была замужем за писателем и либеральным общественным деятелем Владимиром Тугановым, близким родственником генерала. В революцию семья миллионера оказалась за границей.
(обратно)18
Письма к Вере Знаменской опубликованы впервые в журнале «Студенческий меридиан» (1989, № 5, 6). Полностью напечатаны в двухтомнике А. Ф. Лосева «Я сослан в XX век…».
(обратно)19
Напечатано в журнале «Студенческий меридиан» (1995, № 10).
(обратно)20
Письма В. Микша к Лосеву см. в журнале «Начала» (1993, № 2).
(обратно)21
У Вергилия:
Quadrupedante putrem sonitu Quatit ungula campum (VIII 596).В переводе С. M. Соловьева:
Топотом звонких копыт Потрясается рыхлое поле.(Вергилий. Энеида. М., 1933).
(обратно)22
Студенческий меридиан. 1990. № 5. С. 31.
(обратно)23
Заметки из дневника во время путешествия по Каме и после него.
(обратно)24
Дневниковые записи 1911–1912 годов. Дневники А. Ф. Лосева см. в изданиях: Лосев А. Ф. «Мне было 19 лет…» / Сост., предисл., коммент. А. А. Тахо-Годи. М., 1997; «Я сослан в XX век…». Т. 2. М., 2002.
(обратно)25
Студенческий меридиан. 1990. № 5. С. 32.
(обратно)26
Напечатано впервые в журнале «Студенческий меридиан» (1991, № 5). Сочинения молодого А.Лосева (1909–1922) см. кн.: Лосев А. Ф. Высший синтез. Неизвестный Лосев. М., 2005.
(обратно)27
По некоторым сведениям, в Харькове сохранился Фонд попечителя округа, но какая его часть сохранилась, что именно? Идея розысков принадлежит В. П. Троицкому, одному из исследователей творчества Лосева. Недавно выяснилось, что этот фонд был переведен после войны в Киев вместе с другими архивами, до сих пор не разобранными, по сведениям Д. В. Павлова, пытавшегося разыскать следы сочинений. Благодарю энтузиаста.
(обратно)28
Письма А. Ф. к вдове Микша см. в журнале «Начала» (1993, № 2). Письмо вдовы Володи сохранилось в нашем архиве.
(обратно)29
См. книгу «Новочеркасск и Платовская гимназия в воспоминаниях и документах» (Сост. В.А.Лопатин. М., 1997. С. 7). К сожалению, эта небольшая книжечка касается 1883–1892 годов. В следующих выпусках до гимназии времен А. Ф. Лосева составитель не дошел.
(обратно)30
Судя по напечатанным записным книжечкам (см.: Лосев А. Ф. «Я сослан в XX век…». М., 2002. Т. 2.), Ольга и Алексей признавались друг другу в любви.
(обратно)31
В архиве Лосева сохранилась фотография милой скромной девушки, курсистки Веры Знаменской. Его письма напечатаны впервые в журнале «Студенческий меридиан» (1989, № 5, 6). См. также текст с подробными комментариями в кн.: Лосев А. Ф. «Я сослан в XX век…». Т. 2.
(обратно)32
Вступительных экзаменов не полагалось, а был конкурс аттестатов. А. Ф. окончил гимназию с золотой медалью. Это всё решало.
(обратно)33
В гимназии блестяще были поставлены языки. А. Ф. хорошо говорил по-немецки и по-французски. Английский учил в гимназии дополнительно, читал по-итальянски, на польском и чешском языках. Вся сложнейшая философская литература с молодости была ему доступна.
(обратно)34
Надо сказать, это было исключительное общежитие, так как другие студенческие общежития университета (некоторые были на Малой Бронной) были рассчитаны на неимущих (а таких было множество) и, конечно, содержались попроще.
(обратно)35
В Богословской аудитории читались общие курсы для всего факультета. В советское время эта аудитория стала называться Коммунистической.
(обратно)36
Интересно, что А. Ф. также слушал первую вступительную лекцию Б. Р. Виппера, искусствоведа, сына историка, о портрете.
(обратно)37
См. статью А. А. Тахо-Годи «А. Ф. Лосев и Г. И. Челпанов» в журнале «Начала» (1994, № 1).
(обратно)38
См.: Прот. В. Цыпин. История русской церкви. М., 1994. С. 81.
(обратно)39
Письмо В. Знаменской от 8 ноября 1911 года.
(обратно)40
Письмо В. Знаменской от 20 сентября 1912 года.
(обратно)41
Гамаюнов М. М. Союз музыки, философии, любви и монастыря. В кн.: Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 923.
(обратно)42
Л. И. Базилевич (родом из станицы Каменской) – всю жизнь друг Лосевых, известный лингвист, страстный любитель оперы, человек, близкий к Неждановой. Не раз, посещая наш дом, рассказывал о некоторых фактах биографии великой певицы и загадочно улыбался, когда говорил о статье Лосева, посвященной Неждановой. Будто бы Нежданову и Лосева связывали какие-то таинственные отношения, о которых они оба умалчивали.
(обратно)43
У меня сохранился список любимых музыкальных произведений, который А. Ф. составлял, чтобы я могла приобрести пластинки для домашнего слушания.
(обратно)44
А. Ф. очень ценил Е. А. Бекман-Щербину, с семьей которой был хорошо знаком через своего ученика по Московской консерватории, профессора С. С. Скребкова, женатого на музыковеде О. Л. Скребковой, дочери пианистки.
(обратно)45
См. эту статью А. Ф. Лосева, а также статью М. Гамаюнова «Союз музыки, философии, любви и монастыря» в кн.: Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.
(обратно)46
Билет, отмечает Лосев, стоил 75 копеек.
(обратно)47
Впервые напечатана в журнале «Человек» (1995, № 2). См.: Лосев А. Ф. Высший синтез. Неизвестный Лосев…
(обратно)48
У А. Ф. Лосева было два товарища-психолога, оба ученики Г. И. Челпанова, – А. А. Смирнов (будущий директор Психологического института в 1945–1973 годах) и В. Е. Смирнов, профессор МГПИ им. Ленина, где работал Лосев. О каком Смирнове идет речь, неясно.
(обратно)49
Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. М., 1990. С. 16. 46
(обратно)50
Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. М., 1990. С. 44.
(обратно)51
Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. М., 1990. С. 52.
(обратно)52
В 60-е годы А. Ф. Лосев писал работу под названием «Средневековая диалектика», не завершенную по независящим от него причинам. Отдельные главы из нее см. в кн.: Лосев А. Ф. Имя /Сост., общ. ред. А. А. Тахо-Годи. СПб., 1997.
(обратно)53
Командовал его частью генерал-лейтенант граф Ф. В. Ридигер, предок Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия П.
(обратно)54
Алексей Житенев провел всю жизнь в военных походах. Скончался 42 лет в 1839 году, когда его дочери Евдокии (бабке А. Ф. Лосева) было всего три года. Благодарю за архивные сведения Л. А. Новикова.
(обратно)55
Н. И. Новосадский (1859–1941) учился в Петербургском историко-филологическом институте у известного Ф. Ф. Соколова. В 1887–1907 годах – профессор Варшавского университета, с 1909 года – в Московском университете. Ряд лет вел археологические раскопки в Греции, знаток греческой эпиграфики, религии, древностей. Автор известных трудов: «Элевсинские мистерии» (1887), «Культ кавиров в Древней Греции» (1891), «Орфические гимны» (1900), «Греческая эпиграфика», ч. 1 (М., 1909).
(обратно)56
С письмом (вернее, частью его) меня любезно познакомил С. М. Половинкин, которого искренне благодарю. Оно из ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1, № 4931. Спасибо В. П. Троицкому, который в дальнейшем принес мне полную копию письма.
(обратно)57
По словам Е. Б. Пастернака, Вальтер приезжал в 1972 году, в октябре в Москву, но не решился посетить А. Ф. Лосева.
(обратно)58
Девицы пишут ему «в открытую, вполне сознательно» стихи: «Три девицы с первой парты / Любят Лосенькин урок. / Они с ужасом ждут марта, / Их тогда разлучит рок. / Ходят к Лосе на квартиру, / Их пленяет футуризм. / Уж настроил он их лиру / На туманный символизм». А. Ф. дарит девицам свои первые публикации с автографами. Спасибо неизвестной мне родственнице Натули Реформатской, подарившей Библиотеке «Дом А. Ф. Лосева» копии этих старинных свидетельств дружбы учителя и ученика.
(обратно)59
Учебные планы и программы Нижегородского Гос. Университета 1918–1919 гг. о курсах лекций, читанных А. Ф. Лосевым на историко-филологическом факультете. Н. Новгород, 1919. С. 17.
(обратно)60
Доклад «О методах религиозного воспитания» напечатан с комментариями А. А. Тахо-Годи в «Вестнике русского христианского движения» (Париж; Нью-Йорк; М., 1993. № 167). Здесь цитируется с. 80. См. также: Лосев А. Ф. Высший синтез…
(обратно)61
См.: Тахо-Годи А. А. А. Ф. Лосев – оставленный при университете //Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1998. № 3. С. 75–77.
(обратно)62
Вообще-то во мне сильна еще и материя. Хранила долго все вещи А. Ф. (недавно передала часть их о. Алексею, а в 2006 году – в музейную экспозицию Библиотеки «Дома А. Ф. Лосева»); после смерти Валентины Михайловны носила ее платья и берегу все ее мелочи. Мало их. В Валентине Михайловне не было материи. Красоту любила нездешнюю, пусть и в красках или природе.
(обратно)63
Высшие женские курсы после революции вошли в состав Московского университета.
(обратно)64
Дом в Большом Власьевском, где жил Бердяев, мне показывал А. Ф. Мы обьино к вечеру гуляли по соседним переулкам и всегда проходили мимо этого ничем не примечательного в несколько этажей дома.
(обратно)65
О том, что эта статья напечатана в Швейцарии, А. Ф. узнал в 1983 году, получив изданную в Мюнхене к его 90-летнему юбилею свою книгу «Диалектика художественной формы», где М. Хагемейстер указал выходные данные статьи «Russische Philosophic».
(обратно)66
Все вместе музыкальные статьи напечатаны в кн.: Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.
(обратно)67
Сб. «Контекст-90» (М., 1990. С. 13).
(обратно)68
Приношу глубокую благодарность сотруднику Отдела рукописей Российской государственной библиотеки В. В. Абакумовой, которая сообщила мне об этом письме из Фонда М. В. Сабашникова (Ф. 261, картон 5. Ед. хр. 19).
(обратно)69
См.: Тахо-Годи Е. А., Троицкий В. П. Духовная Русь. Неосуществленная религиозно-национально-философская серия // Вестник РХД. 1997. № 276. С. 127–145, а также сборник: Вячеслав Иванов. Архивные материалы и исследования. М., 1999.
(обратно)70
По сведениям из дневника В. М. Лосевой, мать А. Ф. скончалась в 1920 году.
(обратно)71
См. первую часть, раздел о педагогической работе А. Ф. в школе.
(обратно)72
Вместе с А. Ф. в Нижний ездили на заработки П. С. Попов и физик Александр Зильберман, с которым я познакомилась в начале 40-х на Алтае, куда был эвакуирован наш институт.
(обратно)73
Это звание утвердил Главный ученый совет РСФСР в 1923 году, а позже Всесоюзная аттестационная комиссия СССР.
(обратно)74
Опубликованы впервые частично в 1996 году в журнале «Начала» (1995, № 1–4); см. также: Лосев А. Ф. Имя. СПб., 1997; с дополнениями и уточнениями: Лосев А. Ф. Личность. Абсолют. М., 1999; Вопросы философии. 2006. № 11.
(обратно)75
См. оттиск его статьи на итальянском языке в издании Национальной академии Линчей (Rendiconti della R. Academia Nazionale dei Lincei, 1932, представлена знаменитым астрономом Т. Леви-Чивита). Там и надпись «Отъ плачевного образа рыцаря (motto suum cuique) – В. М. на добрую память. 3/VIII—1933».
(обратно)76
Спасибо П. В. Флоренскому, нашедшему это письмо.
(обратно)77
Статью В. П. Зубова в 2002 году обнаружил в архиве Лосева В. П. Троицкий и подготовил ее к печати. См.: Троицкий В. П. О неизвестной рукописи В. П. Зубова в архиве А. Ф. Лосева// Вопросы истории естествознания и техники. М., 2002. № 4. С. 628–630 (К публикации статьи В. П. Зубова «Теория пустоты в физике XVII столетия», с. 630–649). Дочь Зубова звонила мне и благодарила за эту публикацию.
(обратно)78
Подробности о деятельности Лосева в ГАХН см. в публикации А. Г. Дунаева «Лосев и ГАХН» в сб. «А. Ф. Лосев и культура XX в.» (М., 1991. С. 197–220).
(обратно)79
Начала. 1993. № 3.
(обратно)80
Сведения, возможно, сохранились в архиве ГАХН в РГАЛИ (б. ЦГАЛИ). См. также: Маркелов В. И. Обзор документов А. Ф. Лосева в РГАЛИ // Вестник архивиста. 2000. № 2. С. 124–136.
(обратно)81
Сохранились статьи А. Ф. Лосева: «Единство», «Игра», «Искусство». См. в кн.: Словарь художественных терминов. ГАХН. 1923–1929. М., 2005.
(обратно)82
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. 1-е изд. С. 685; 2-е изд. 1993. С. 698–699.
(обратно)83
См. пятую часть. Работа «Вещь и имя» напечатана в двух вариантах: один – в кн.: Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993; другой – в кн.: Лосев А. Ф. Имя. СПб., 1997.
(обратно)84
В. Троицкий обнаружил в 2003 году в нашем архиве ряд глав из книги о Николае Кузанском (машинопись и рукопись).
(обратно)85
Наш известный философ С. С. Хоружий назвал серию книг 20-х годов «восьмикнижием», что и вошло в научный оборот.
(обратно)86
Книга вначале называлась «Диалектика имени», но Валентина Михайловна настояла изменить название: «Слишком много диалектики» (из рассказа А. Ф.).
(обратно)87
Три письма А. Ф. Лосева о. П. Флоренскому опубликованы в сб. «Контекст-90» (М., 1990. С. 13–17). Они включены в публикацию Ю. А. Ростовцева и П. В. Флоренского «П. А. Флоренский по воспоминаниям Алексея Лосева» (там же. С. 6—24). См. также: Лосев А. Ф. Личность и Абсолют. М., 1999.
(обратно)88
Нумерация страниц здесь и далее дается по первому изданию и через знак равенства по изданию сочинений Лосева (изд-во «Мысль») 1993–1999 годов. Здесь: Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993.
(обратно)89
Письма А. Ф. Лосева и В. М. Лосевой были впервые опубликованы частично в журналах «Дружба народов» (1989, № 7, с. 254–268); «Наше наследие» (1989, № 5, с. 79–92). Три письма А. Ф. Лосева – в журнале «Вопросы философии» (1989, № 7, с. 152–159); фрагменты из писем – в кн.: Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. М., 1990. С. 302–319. Полностью в кн.: Лосев А. Ф. Жизнь. Повести. Рассказы. Письма. СПб., 1993. С дополнениями и подробными комментариями А. А. Тахо-Годи и В.П.Троицкого см. в кн.: А.Ф.Лосев, В.М.Лосева: Радость навеки. Переписка лагерных времен. М., 2005 (статьи А. А. Тахо-Годи и Е. А. Тахо-Годи).
(обратно)90
См. статьи В. И. Постоваловой «Штрихи к портрету А. Ф. Лосева» и А. Л. Доброхотова «Онтология символа в ранних трудах А. Ф. Лосева». Сб. Вопросы классической филологии. Вып. X. Античность в контексте современности. М., 1990. С. 215–248; Постовалова В. И. Наука о языке в свете идеала цельного знания // Язык и наука конца XX в. М., 1995; Постовалова В.И.Алексей Федорович Лосев//Отечественные лингвисты XX в. М., 2002. Ч. 1. С. 268–295; Гоготишвили Л. Непрямое говорение. М., 2006.
(обратно)91
Один из них напечатан в кн.: Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993; другой – в кн.: Лосев А. Ф. Имя. СПб., 1997.
(обратно)92
Эта глава напечатана в кн.: Лосев А. Ф. Личность и Абсолют. М., 1999.
(обратно)93
При возвращении мне изъятых при аресте рукописей Лосева я обнаружила только трактаты Псевдо-Дионисия «О таинственном богословии» и «О божественных именах», остальные исчезли бесследно.
(обратно)94
Эти работы со своими комментариями издал В. П. Троицкий в кн.: Лосев А. Ф. Хаос и структура. М., 1997. Последняя глава «Диалектических основ математики», позже обнаруженная В. Троицким, напечатана в кн.: Лосев А. Ф. Личность и Абсолют. М., 1999.
(обратно)95
Советская музыка. 1990. № 11–12 (издана посмертно).
(обратно)96
Вторая нумерация по кн.: Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.
(обратно)97
См. подробности об этимологии и значениях «слова» в греческом языке в статье А. А. Тахо-Годи «Миф у Платона как действительное и воображаемое» в сб.: Платон и его эпоха. М., 1979, особенно с. 80–92.
(обратно)98
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 880.
(обратно)99
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 621.
(обратно)100
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 731.
(обратно)101
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 691.
(обратно)102
В архиве А. Ф. Лосева я обнаружила полное оглавление этого очерка с подробными наименованиями глав.
(обратно)103
См. на эту тему ст.: Гамаюнов М. М. «Крейслериана» профессора А. Ф. Лосева//Начала. 1993. № 2. С. 159–163.
(обратно)104
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 470.
(обратно)105
Лосев А. Ф. Форма Стиль. Выражение. М., 1995. С. 332.
(обратно)106
Лосев А. Ф. Форма Стиль. Выражение. М., 1995. С. 335. О попытке напечатать «Историю эстетических учений» см.: Вопросы классической филологии. Вып. XI. К столетию со дня рождения А. Ф. Лосева. М., 1996 (архивная публикация Е. А. Смыки).
(обратно)107
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 340.
(обратно)108
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 341.
(обратно)109
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 343.
(обратно)110
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 349.
(обратно)111
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 355.
(обратно)112
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 37.
(обратно)113
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 39.
(обратно)114
Нумерация первого издания в данном месте совпадает с нумерацией книги: Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994. Далее указаны обе нумерации. Самое полное издание «Диалектики мифа» и «Дополнения» к ней в серии «Философское наследие» (М.: Мысль, 2001) имеют на полях пагинацию первого издания, как это принято при издании классических трудов.
(обратно)115
Статья «Философские искания в Советской России» // Современные записки. Париж, XXXVII, 1928. С. 510.
(обратно)116
Лосский Н. О. История русской философии. М., 1994. С. 310–316.
(обратно)117
Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Париж, 1950; 2-е изд. Париж, 1989.
(обратно)118
Зеньковский В. В. История русской философии. 2-е изд. Париж, 1989. С. 378.
(обратно)119
Зеньковский В. В. История русской философии. 2-е изд. Париж, 1989. С. 378.
(обратно)120
Enciclopedia fflosofica. Т. П. Venezia; Roma, 1957.
(обратно)121
Вестник РСХД. Париж; Нью-Йорк, 1971. № 101–102. С. 36–44.
(обратно)122
Игумен Геннадий Эйкалович. Еще об А. Ф. Лосеве // Русская мысль. Париж, 1981. 13 августа. № 3373. С. 12. См. также его статьи об А. Ф. в «Новом журнале» (New Review, Нью-Йорк).
(обратно)123
Hagemeister М. A. F. Losev. Daten zu Leben und Werk (статья в кн.: Диалектика художественной формы. München, 1983).
(обратно)124
«Диалектика мифа» переведена также на испанский, английский, венгерский, сербский, болгарский, японский языки.
(обратно)125
Доклады впервые напечатаны в журнале «Начала» (1995, № 1–4. М., 1996), посвященном имяславию. В полном виде с важными уточнениями в кн.: Лосев А. Ф. Личность и Абсолют. М., 1999.
(обратно)126
У меня случайно сохранился листочек с фрагментом этого Правила.
(обратно)127
См.: Еп. Иларион (Алфеев). Священная тайна церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров. Т. 1–2. СПб., 2002. (Об А. Ф. Лосеве – т. 2. С. 118–129 и множество других ссылок.)
(обратно)128
Мне после ознакомления с Делом Лосева (№ 100256) на Лубянке (в июне 1995 года) стала известна фамилия этой Екатерины Ивановны, жившей в Армянском переулке. Это Бриллиантова, якобы родственница о. Давида. На самом деле родственница профессора А. И. Бриллиантова, отправленного с Лосевым в лагерь.
(обратно)129
Митрополиты Петр и Кирилл канонизированы Русской Православной Церковью.
(обратно)130
Расстрелян в 1937 году.
(обратно)131
С радостью выяснила наконец, что друг и одноклассник А. Ф. «Шурка Протопопов» (так его вспоминал А. Ф., который еще в гимназии пророчил ему епископство – оба прислуживали в гимназической церкви) не только стал епископом Серафимом (А. Ф. об этом знал), но был активным антисергианцем и защитником митрополита Иосифа Ленинградского (недаром донской казак!). С печалью же узнала, что Серафим (Александр Алексеевич Протопопов, 1894–1937), епископ Колпинский, Ленинградской епархии, а с 1928 года епископ Аксайский, викарий Донской (родные ему и А. Ф. края), арестован в 1937 году и тогда же расстрелян. А я-то девчонкой, по просьбе А. Ф., ходила в Патриархию (в Мертвый переулок, в бывший особняк М. К. Морозовой) справиться о епископе Серафиме, и некий чин (уж точно гэпэушник) сухо отвечал, захлопнув дверь: «Никаких справок не даем». Мы-то с А. Ф. наивно надеялись (глупые), а бедный «Шурка» давно был мертв… (см. ниже кн.: Священномученик Иосиф, митрополит Ленинградский… С. 119, 329 и др.).
(обратно)132
Далее т. 11 Дела не будет оговариваться. Ссылки на другие тома будут указаны специально.
(обратно)133
Расстрелян в 1937 году.
(обратно)134
Митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский), заместитель Патриаршего местоблюстителя Петра, в 1927 году издал так называемую Декларацию, в которой шел на компромисс с советской властью, поставив церковную высшую иерархию в полную зависимость от воинственно-безбожного государства, безжалостно уничтожавшего веру, монастыри, церкви. От Сергия отпали выдающиеся иерархи, Церковь раскололась. Власти уничтожили в первую очередь оппозиционеров, не признавших Декларацию, а значит, не лояльных к болыневистско-атеистическому государству. Отложившиеся от Сергия приняли в первую очередь гонения и мученический конец, исповедуя чистоту веры и свидетельствуя путь подвижничества. Однако в дальнейшем власти стали уничтожать и сторонников Сергия, объявив «пятилетку безбожия». Церковь постигла «общенародная трагедия» (см.: Акты Святейшего патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти. 1917–1943. Ч. 1–2 / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 808–832, особенно с. 808–810).
(обратно)135
Расстрелян в 1937 году вместе с митрополитом Кириллом.
(обратно)136
По завещанию патриарха Тихона была установлена череда местоблюстителей на случай катастрофических для Церкви событий: Кирилл (Смирнов), Агафангел (Преображенский), Петр (Полянский). Местоблюстителем стал Петр, так как первые двое находились под арестом. Сам Петр, ожидая ареста в 1925 году, установил своих преемников для исполнения необходимых обязанностей: Сергия (Страгородского) – митрополита Нижегородского, Михаила (Ермакова) – экзарха Украины (отказался от заместительства), Иосифа (Петровых) – архиепископа Ростовского (в дальнейшем митрополит Ленинградский). В 1943 году митрополит Сергий стал патриархом.
(обратно)137
Пришвина В. Д. Рукопись «Невидимый град». М., 1962. С. 591–596 = 372–375. Ссылаясь на рукопись, я всегда с благодарностью вспоминаю Л. А. Рязанову, предоставившую ее мне из архива Пришвиной в свое время. Страницы книги В. Д. Пришвиной «Невидимый град» (М., 2003) указаны у меня после знака равенства.
(обратно)138
Пришвина В. Д. Рукопись «Невидимый град». М., 1962. С. 664 = 400.
(обратно)139
Расстрелян в 1936 году.
(обратно)140
О. Александр однофамилец участника сборника «Духовная Русь», погибшего в дальнейшем о. Сергия Сидорова, брата члена-корреспондента АН СССР А. А. Сидорова.
(обратно)141
В дневнике Валентины Михайловны знакомство с Новоселовым упоминалось в 1925 году.
(обратно)142
Запись в дневнике В. Лосевой от 21 января 1928 года. Е. А. Тучков – начальник 6-го отдела ОГПУ, секретарь Антирелигиозной комиссии Политбюро.
(обратно)143
Епископ Арсений (Жадановский). Воспоминания. М., 1995. С. 289. Владыка был расстрелян в 1937 году и, что характерно, – по обвинению в руководстве контрреволюционной монархической организацией церковников – последователей «Истинно-православной церкви».
(обратно)144
Аносин Борисоглебский девичий монастырь основала княгиня Авдотья Николаевна Мещерская (урожд. Тютчева) в своем подмосковном имении Аносино по благословению и с помощью митрополита Филарета (Дроздова), который сам постриг княгиню под именем Евгении и назначил ее игуменьей монастыря, где она установила строгий порядок и вела аскетический образ жизни. См.: Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово / Изд. подг. Т. И. Орнатская. Л., 1989. С. 276–279.
(обратно)145
Комарович В. Л. Китежская легенда. М., 1936. Рассказы А. Ф. воодушевили через много лет В. П. Шестакова устроить экспедицию на Светлояр в 1959 году (Шестаков занимался тогда подводным спортом и подводной археологией). См.: Шестаков В. П. Эсхатология и утопия. Очерки русской философии и культуры. М., 1995. С. 29.
(обратно)146
Дневник точно фиксирует посещение о. Феодора в декабре 1925 года. На допросе 12 ноября 1930 года Валентина Михайловна говорила о поездке на Астрофизический съезд в Ленинград, когда она ходила за «философскими книгами» к о. Феодору с письмом от Новоселова. А. Ф. говорил о поездке в Ленинград в декабре 1928-го. В дневнике съезд вообще не упоминается. Может быть, в 1928 году была вторая поездка? А может быть, с течением времени даты забылись. О съезде и поездке на пять-шесть дней упоминает А. Ф. в письме из лагеря 9 марта 1932 года.
(обратно)147
М. А. Новоселов в целях конспирации – «дядя».
(обратно)148
Кто такой этот схимонах Алексей? Вполне возможно, что это знаменитый старец Зосимовой пустыни, иеросхимонах Алексий (скончался в 1928 году), который (по разным сведениям) жил с женой пять лет или два года, но сына воспитывал 25 лет (может быть, у Валентины Михайловны в связи с этим появилось «30 лет с женой») и только после этого поступил в Зосимову пустынь (закрыта в 1923-м). Старец Алексий вынимал жребий во время выборов патриарха на Соборе 1917–1918 годов. К нему ездили за советом множество людей. Епископ Арсений (Жадановский) отмечает его «общительность, доступность и внимательность ко всем», он проявлял «живой интерес к судьбе каждого». Лосевы были близки к насельникам Зосимовой пустыни, к о. Мельхиседеку, о Митрофану, к игумену Герману (скончался в 1923-м). Об о. Алексии и о. Германе, а также о житии двух друзей (еп. Арсения и Серафима) у игуменьи Фамари (Серафимо-Знаменский скит) см. в кн.: Еп. Арсений (Жадановский). Воспоминания. М., 1995.
(обратно)149
На панихиде по А. М. Флоренской в Новодевичьем я встретилась с владыкой Сергием по просьбе А. Ф. У нас хранится фотопортрет владыки в полном облачении, присланный им А. Ф.
(обратно)150
Рукопись В. Д. Пришвиной «Невидимый град» (М., 1962. С. 655 = С. 401). В одном из писем Олега В. Д. в 1928 году (Пришвина В. Д. Невидимый град. М., 2003. С. 292) находилось его длинное рассуждение насчет «Античного космоса» (Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука. М., 1927). Может быть, посещение храма на Воздвиженке было совсем не случайным.
(обратно)151
Никола Большой Крест – разрушен в 1933 году.
(обратно)152
Возможно, это Анатолий Михайлович Успенский, проходивший по делу арестованных Лосевых.
(обратно)153
Как не вспомнить здесь историю с книжечкой Лосева «Вл. Соловьев» 1983 года, когда автору исполнилось 90 лет и когда эту небольшую книжечку запретили, изъяли и буквально сослали в глухие и самые отдаленные места страны: на Дальний Восток, в Магадан, Среднюю Азию.
(обратно)154
Подробности об изъятых книгах и рукописях см. в пятой части.
(обратно)155
Лосевы всю жизнь помнили о. Александра, молились о нем. В его память помогали многие годы осиротевшей семье, матушке Вере Ивановне, мне тоже близкой.
(обратно)156
Г. В. Постников – сын о. Василия Постникова, известного московского священника, настоятеля храма на Ваганьковском кладбище. О нем см.: Епископ Арсений (Жадановский). Воспоминания. М., 1995. С. 42–52.
(обратно)157
Очевидно, это регистрационная тюремная карточка.
(обратно)158
Нашла этот ордер на обыск и арест (№ 4278) вместе с № 4277, на Валентину Михайловну, в 1990 году случайно, в деловой папке 1950 года при розыске романа А. Ф. «Женщина-мыслитель». Роман я в дальнейшем нашла в другом месте и напечатала его в журнале «Москва» в 1993 году (№ 4–8). Вот какие бывают неожиданности.
(обратно)159
В. Н. Щелкачев скончался 13 апреля 2005 года, сохранив полную ясность ума. Еще за год до своей кончины он вел работу в Академии нефти и газа им. Губкина. Отпевали В. Н. в его приходе, в храме Ильи Обыденного, похоронили на Хованском кладбище, рядом с супругой Верой Архиповной.
(обратно)160
См. статью В. П. Троицкого «Русский Прокл» в сборнике: Ойкумена мысли. Феномен А. Ф. Лосева. Уфа, 1995, и его же книгу: Разыскания о жизни и творчестве А. Ф. Лосева. М., 2007.
(обратно)161
В 1929 году были избраны Н. М. Лукин, А. М. Деборин (Иоффе), В. М. Фриче, Н. И. Бухарин, Г. М. Кржижановский, в 1930-м – А. В. Луначарский, в 1931-м – Н. К. Крупская. Сталин, правда, стал почетным академиком только в 1939 году, когда звание академика получил Лысенко.
(обратно)162
О. Ю. Шмидт, несмотря на свою деятельность по «орабочиванию» науки, академиком стал только в 1935-м, а вице-президентом был кратко в 1939–1942 годах.
(обратно)163
Эта статья некоего А. Сараджева (Правда. 1930. 14 мая. № 131) «Против поповско-идеалистической реакции» найдена В. Троицким, которого благодарю за эту и другие архивные находки. Здесь и «антисоветские настроения Лосева», и «христианско-мистическая философия», «антимарксистские-поповские идеи», смычка с капитализмом «под прикрытием бога». «Лосеву необходимо дать беспощадный отпор». А он и так уже сидит. Чего же больше?
(обратно)164
Сергей Александрович Басов (1869–1952) с 1920 года работал в ОГПУ (см.: Белоус В. Вольфила. М., 2005. Т. 1. С. 67).
(обратно)165
Книга, по рассказам свидетелей, тем не менее лихорадочно продавалась в Москве. Книгу во время войны спокойно выдавали в Ленинке, где ее переписывали. Об этом свидетельствуют письма известного философа и библиографа Н. Н. Русова А. Ф. Лосеву. Он всю книгу переписал в библиотеке и даже указал А. Ф. ее шифр (С52/I6). Письма хранятся в архиве Лосева (21/V—1942 г., 1/VIII—1942 г.). Книга переписывалась Русовым с мая по август, а затем была передана им на машинку. Профессор Дж. Клайн (США) купил «Диалектику мифа» в 1969 году в Мюнхене (см. журнал «Начала», 1994, № 2–4).
(обратно)166
Он был расстрелян в 1938 году.
(обратно)167
Вопрос об этой брошюре достаточно сложен. Сам А. Ф. говорил, что «Диалектика мифа» к 1929 году устарела и ему хотелось кое-что в нее добавить. Он стал делать вставки после разрешения книги цензурой, что было противозаконно, и автора обвинили в мошенничестве. Никто из известных мне лиц эту брошюру не видел и в руках не держал. У Лосева не было дома даже «Диалектики мифа», и только фотокопия, которую ему сделал в середине 70-х годов в Ленинке наш друг, рано погибший талантливый Юрий Дунаев. Самое интересное, что в Списке книг и рукописей, изъятых у Лосева при аресте (он стал известен мне – 25 июля 1995 года, когда мне возвращали из хранилищ Лубянки рукописи Лосева, см. часть пятую), «Дополнения» не значатся (может быть, они попали туда из Главлита – письмо А. Ф. Лосева в Главлит см. в газете «Русская мысль». Париж, 1996, № 4150, 21–27 ноября), как не значится там и рукопись «Диалектики мифа», теперь мне оттуда возвращенная (вернее, машинопись с поправками Лосева – тоже, наверное, взята из Главлита). В описи архива Горького этой брошюры нет. В бумагах Лосева, мною полученных из ФСБ, сохранилась только обложка «Дополнений» с цензурным штампом «не печатать» № А 45070 а, а сам текст отсутствует. Полное название, правда, несколько иное: «Добавление к книге А. Ф. Лосева „Диалектика мифа и сказки“». Судя по свидетельствам в Деле Лосева, это не брошюра, а большая работа, вторая часть «Диалектики мифа». Из этой второй части Лосев вставил несколько дополнений в «Диалектику мифа», разрешенную к печати. Ряд материалов богословского характера из этой второй части сохранился дома. Более 200 страниц сохранилось в бумагах А. Ф., переданных мне из ФСБ. Некоторые фрагменты мною напечатаны в кн.: Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994. Здесь же сохранился титульный лист «Диалектики мифа» с разрешением к печати и с № А 45070. Таким образом, видно, что «Дополнения», или «Добавления» связаны даже номером с «Диалектикой мифа» (подробности см. в статье А. А. Тахо-Годи «От диалектики мифа к абсолютной мифологии» // Вопросы философии. 1997. № 5 и во вступительной статье к изданию «Диалектика мифа» 2001 года). Однако в Деле есть «Материалы о рукописи Лосева „Дополнения к 'Диалектике мифа' „“ с цитатами, составленные в июне 1930 года помощником начальника ИНФО ОГПУ Герасимовой (см. ниже). Видимо, они составили основу „брошюры“ Горького. Выяснить их контекст не представляется возможным и за принадлежность их Лосеву нельзя ручаться так же, как нельзя доверять тексту, переданному Горькому с Лубянки. Рукописи лосевской нет. Хотя, по Булгакову, „рукописи не горят“, уничтожить можно разными способами, в том числе создать фальсификацию и пустить ее в ход. Лубянка на выдумки хитра. Надо было создать повод для ареста, политический. Все наличные фрагменты „Дополнения“ см. в кн.: Лосев А. Ф. Диалектика мифа. Дополнение к „Диалектике мифа“/ Вступ. ст. А. А. Тахо-Годи; коммент. В. П. Троицкого. М., 2001. 560 с. Из 502 страниц чистого текста 260 составляют фрагменты «Дополнения“.
(обратно)168
О Лосеве и М. Горьком см. в кн.: Ваксберг А. И. Гибель буревестника. М., 1999. С. 264–265.
(обратно)169
Болеслав Пшибышевский (1892–1937) – сын известного польского писателя Станислава Пшибышевского, член ВКП(б), погиб, будучи репрессирован.
(обратно)170
Н. С. Жиляев (1881–1938) – известный теоретик музыки, композитор и педагог, один из любимых учеников С. И. Танеева, сотрудник ГАХНа, ГИМНа, профессор консерватории по классу композиции. Погиб, будучи репрессирован. Возможно, сыграла роль его близость к маршалу М. Н. Тухачевскому, его другу и ученику.
(обратно)171
Н. Я. Мясковский (1881–1950) – выдающийся композитор-симфонист, профессор консерватории по классу композиции.
(обратно)172
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995 (впервые полностью напечатано здесь).
(обратно)173
В. Н. Бенешевич (1874–1938) – член-корресповденг Академии наук СССР; под арестом в 1922, 1924, 1928 годах. В 1938 году расстрелян вместе с двумя сыновьями и братом. В 1956 году все реабилитированы.
(обратно)174
См. кн.: Осипова И. И. Сквозь огнь мучений и воду слез… Гонения на истинно-православную церковь. М., 1998 (здесь есть ряд досадных ошибок, связанных с фактами жизни А. Ф. Лосева и В. М. Лосевой).
(обратно)175
К психиатрической клинике А. И. Толстая (внучка Л. Н. Толстого) прибегла еще раз, уже в войну. В архиве Лосева сохранилось письмо Павла Сергеевича от 10 января 1942 года из 2-й психиатрической клиники. Павла Сергеевича положила туда Анна Ильинична Толстая с диагнозом циклотимия (разновидность циклофрении, или маниакально-депрессивного психоза).
(обратно)176
Эта рукопись издана в 2003 году. См.: Пришвина В. Д. Невидимый град. М., 2003. В комментариях Я. 3. Гришиной приведены материалы следственных дел О. Поля и Валерии Дмитриевны. Оба реабилитированы в 1990 году.
(обратно)177
Олега увезли в 1930 году, летом, в Ростов-на-Дону и, видимо, там расстреляли. Сердечно благодарна Л. А. Рязановой за возможность воспользоваться рукописью «Невидимый град», хранящейся в архиве В. Д. Пришвиной.
(обратно)178
В Деле говорится о ребенке. Но у о. Ф. Андреева были девочки-близнецы, ныне здравствующие Анна и Мария, с которыми я имею удовольствие быть знакома.
(обратно)179
Е.А.Тучкову ставили в заслугу ликвидацию в 1930–1931 годах контрреволюционной монархической организации «Истинно-православная церковь» во главе с профессором Лосевым, Новоселовым, митрополитом Иосифом и ликвидацию в 1929 году на Кавказе «повстанческой организации, т. н. имяславцев», которая работала под руководством центра «Истинно-православная церковь». См. книгу иеромонаха Дамаскина (Орловского) «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной церкви XX столетия» (Кн. 2. Тверь, 1995. С. 477). См. также публикацию М. В. Шкаровского «Истинно-православные в Воронежской епархии» («Минувшее», исторический альманах, № 19, М.; СПб., 1996), где публикатор в своем примечании о А. Ф. Лосеве делает ряд грубых ошибок. Год смерти у него 1989-й вместо 1988-го, в МГУ А. Ф. не преподавал в 1922–1930 годах, а только в 1942–1944 годах. Освобожден А. Ф. не «в середине 30-х годов», а в 1932-м, был до 1933-го вольнонаемным и вернулся тут же в Москву, восстановленный в гражданских правах, а совсем не в 1941 году. Он выезжал из Москвы преподавать в провинцию два раза в год и постоянно там не жил. В общем, что ни фраза, то ошибка (с. 347).
(обратно)180
В мемуарах Лидии Бердяевой (М., 2002) говорится, что М. М. Бренстед, православный датчанин, окончил в Санкт-Петербурге университет, уехал из России, затем вернулся в 20-е годы, но в 1930-м уехал с семьей (датский подданный) в Париж, познакомился с Бердяевым, сотрудничал в «Пути», «Современных записках» (с. 86, прим. 45). После войны получил советский паспорт, жил в Сталинграде, приезжал в Москву, посещал семью старых друзей Б. Д. и Е. А. Удинцевых. См. о нем: Удинцев Г. «Вот прапорщик юный со взводом пехоты» // Москва. 2004. № 10.
(обратно)181
Нам известен о. Сергий Сидоров (участник сб. «Духовная Русь»), репрессированный и погибший. Кто такой о. А. Сидоров? Какова его судьба?
(обратно)182
На это свидетельство указал мне С. С. Виленский, которому я чрезвычайно благодарна. Он поместил воспоминания 3. Д. Марченко в первом выпуске серии книг под названием «Доднесь тяготеет… Записки вашей современницы» (М., 1989) и просил меня сделать примечания об Алексее Федоровиче и Валентине Михайловне, что я и сделала. В третьем выпуске собирался Виленский поместить некоторые лагерные письма Лосева. Ксерокопией из этой книги я обязана старому нашему другу Ю. М. Каган, ныне покойной. Ценность этой книги еще и в том, что она подарена А. И. Цветаевой матери и дочери Каган. В этом томе есть страницы Ариадны Эфрон, дочери М. Цветаевой, тоже прошедшей ГУЛАГ. Теперь у меня есть свой экземпляр книги. В издании 2004 года о Лосевой – Т. 1. С. 323.
(обратно)183
Список участников процесса составлен небрежно. В нем дважды упомянуты В. Н. Щелкачев, Н. Н. Андреева, Н. Н. Дулов. Зато в обвинительном заключении появляется новая фамилия – Д. П. Дроздов.
(обратно)184
О судьбе митрополита см.: Священномученик Иосиф, митрополит Петроградский. Жизнеописание и труды / Сост. М. С. Сахаров, Д. Е. Сикорская. СПб., 2006. В заголовке неточность: во всех документах и в энциклопедии «За Христа пострадавшие» (М., 1997) он – митрополит Ленинградский.
(обратно)185
В дальнейшем после досрочного освобождения 7 ноября 1932 года А. Ф. подал заявление в Коллегию ОГПУ 29 июня 1933 года о пересмотре дела. В связи с постановлением ЦИК СССР от 4 августа 1933 года был восстановлен в гражданских правах со снятием судимости. Валентина Михайловна тоже подала такое же заявление 13 июня 1933 года о пересмотре дела и была досрочно освобождена.
(обратно)186
Некоторые участники этого дела в дальнейшем получили новые приговоры. Митрополита Иосифа расстреляли в 1937 году; епископа Алексия (Буя) из Свирлага сослали в Соловки и расстреляли в 1937 году в районе города Медвежегорска; епископ Димитрий (Любимов), по некоторым сведениям, расстрелян в 1938 году в Москве. М. А. Новоселов в тюрьме получил новый срок и был расстрелян в Вологде в 1938 году.
(обратно)187
Обвинительное заключение 9 июля 1931 года подписали: оперуполномоченный 3 отд. ОГПУ Казанский, п/нач. 3 отд. СПО ОГПУ Полянский, нач. 3 отд. СПО ОГПУ Тучков. Утвердил нач. СПО ОГПУ Агранов.
(обратно)188
Справка опубликована впервые профессором А. В. Гулыгой в журнале «Родина» (1989, № 10). Передана была ему тайно работником архива, о чем в то время еще нельзя было упоминать. В Деле Лосева № 100256 я ее не нашла. С небольшими разночтениями (например, заключительная фраза в журнале «Родина» – «для антисоветских реакционных кругов», в «Источнике» – «для антисоветских интеллигентских кругов») этот документ опубликован в журнале «Источник» в разделе «Старая площадь. Вестник Архива Президента РФ» (М., 1996, № 4. С. 116–119). Эта публикация печатается с машинописи, но зато существует подлинник (там же. С. 116), в котором пом. нач. СОУ ОГПУ Кауль и пом. нач. ИНФО ОГПУ Герасимова обращаются к Г. Ярославскому, члену Президиума и секретарю ЦКК ВКП(б) в 1923–1934 годах, препровождая ему справку об антисоветской деятельности Лосева. Справка подводит итог следствию и устанавливает «черносотенство» профессора и его «идейно-руководящую роль» в имяславии, «наиболее агрессивном к-р церковном движении». В «Источнике» опубликован и материал (с 119–129) «О рукописи Лосева А. Ф. „Дополнения к диалектике мифа“», составленный Герасимовой и находящийся также в следственном Деле Лосева (публикация с машинописи). Материалы в «Источнике» опубликованы под заголовком «Так истязуется и распинается истина… А. Ф. Лосев в рецензиях ОГПУ» (с. 115–129).
(обратно)189
Подробности о биографии Марианны Герасимовой см. в кн.: Лосев А. Ф. Диалектика мифа. Дополнение к «Диалектике мифа». М., 2001, а также в кн.: Бережков В. И., Пехтерева С. В. Женщины-чекистки. СПб.; М., 2003. С. 153–171. Малоизвестные факты из биографии М.Герасимовой сообщил мне член-корреспондент РАН Г. Б. Удинцев (внучатый племянник Мамина-Сибиряка, друг В. Д. Пришвиной), чья семья хорошо знала Герасимовых по Екатеринбургу, где Марианна училась в гимназии. Один из братьев был в армии Колчака, другой стал известным кинорежиссером, сестра Валерия – преуспевающая писательница. Герасимову арестовали в 1937 или 1938 году. По возвращении из лагеря жила в Москве у сестры. Ряд сведений о событиях ее последних дней расходится у Г. Б. Удинцева и в книге «Женщины-чекистки». Но финал ее жизни подтверждается обоими источниками – М. Герасимова кончила самоубийством (повесилась в уборной в квартире сестры).
(обратно)190
Вспомним хотя бы в наше время запрет на «Сочинения» Н. Федорова (1982, изд. «Мысль»), который обошли книжные магазины, срочно распродавшие тираж; запрет властей на книжку А. Ф. Лосева «Вл. Соловьев» (1983, изд. «Мысль»), которую продавали в Калининграде прямо из типографии, допечатав большой тираж, затем воровали из вагона в Ленинграде, а потом скупали на станциях железной дороги в киосках и в глухой провинции.
(обратно)191
«Диалектика мифа» имеет 268 страниц. Следовательно, Лосев значительно увеличил свою книгу.
(обратно)192
В справке указано, что Басов-Верхоянцев – известный поэт-баснописец. Поэт взял верх над политредактором!
(обратно)193
Эти документы рассекречены 11 июля 1995 года сотрудником Центрального архива ФСБ РФ О. К. Матвеевым. Поставлен штамп: «Рассекречено».
(обратно)194
О нахождении рукописей Лосева в Центральном архиве ФСБ России я подробно рассказываю в части пятой.
(обратно)195
Все приводимые факты находятся в Деле А. Ф. Лосева и соответствуют материалам допросов.
(обратно)196
В. А. Баскарева освободили после следствия.
(обратно)197
По сведениям из Дела Лосева № 100256, Н. Н. Дулов, бывший князь, бывший царский полковник, священник, был сначала приговорен к пяти годам лагерей, а затем освобожден с условным приговором. Спрашивается: за какие заслуги? Между прочим, в книге М. Вострышева «Патриарх Тихон» (М., 1995 (серия «ЖЗЛ») на с. 81–82 приводится письмо Н. Н. Дулова, предлагающего свои услуги патриарху. – Он «готов исполнить в любое время с радостью любое послушание и поручение, какое будет признано Вами нужным на меня возложить». Сообщает он и свой адрес: Волхонка, 15, кв. 5. Стоит подпись штабс-капитана Н. Н. князя Дулова.
(обратно)198
См., например, роман Р. Киплинга «Ким». А. Е. Снесареву принадлежит работа «Индия как главный фактор в среднеазиатском вопросе» (1906).
(обратно)199
Мне известна публикация по поводу ареста Лосева и его отправки в Северную Сибирь в английском Journal of Philosophical Studies. 1931. V. 6. P. 226 (N. Duddington).
(обратно)200
А. И. Бриллиантов (1867–1933/34) – профессор-богослов, автор книги «О влиянии восточного богословия на западное в сочинениях Иоанна Скота Эригены» (1898).
(обратно)201
Впервые напечатано в журнале «Начала» (1993, № 3).
(обратно)202
Эти работы со своими комментариями издал В. П. Троицкий в кн.: Лосев А. Ф. Хаос и структура. М., 1997. Последняя глава «Диалектических основ математики», позже обнаруженная В. Троицким, напечатана в кн.: Лосев А. Ф. Личность и Абсолют. М., 1999.
(обратно)203
Сама я была в эвакуации студенткой на Алтае, в городе Ойрот-Тура (еще раньше Улала), теперь Горноалтайск. Красота невиданная, на Кавказ не похожая совсем.
(обратно)204
Стихотворение «Кто знает край, где небо блещет»: Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 3. М., 1963. С. 55.
(обратно)205
Факты, изложенные в «Воспоминаниях» В. Н. Яснопольской о встрече с Лосевыми, содержат ряд ошибок. На с. 559–560: по ее словам, В. М. Лосева прибыла из Мариинских лагерей, очень измученная в дороге; помогали ее переводу Е. П. Пешкова и Мария Ульянова: А. Ф. к «этому времени» перевели на Медвежью Гору к жене. Лагерная переписка Лосевых сообщает другие факты: В. М. прибыла из Сиблага: «ехала очень хорошо, медицинской сестрой в санитарном вагоне». Помогали ее переезду Е. П. Пешкова и 3. А. Таргонская. А. Ф. к этому времени был не на Медвежьей Горе, а в 300 километрах оттуда, в Свирлаге. В. М. прибыла в Белбалтлаг на Медвежьей Горе в мае 1932 года. См.: Яснопольская В. Н. Счастливый случай. Воспоминания // Мироносицы в эпоху ГУЛАГа/ Сост. П. Проценко. Н. Новгород, 2004.
(обратно)206
Письма тем не менее аккуратно приходили на Воздвиженку, подтверждая, видимо, для ОГПУ заграничные связи Лосева.
(обратно)207
В «Словаре философов» В. Цигенфуса и Г. Юнг (Philosopher! – Lexikon, von W. Ziegenfuss und G.Jung, Berlin, 1950, Bd. П.) А. Либерт (1878–1946) – профессор Берлинского университета (1928–1933), с 1934-го – профессор университета в Белграде. Он философ с «неокантианской точкой зрения и обращением к диалектике». Некоторые его работы связаны с мифом и культурой, возрождением, гуманизмом, духом и миром диалектики.
(обратно)208
См. переписку известного русского философа А. А. Мейера (1875–1939) и А. Ф. Лосева в журнале «Начала» (1994, № 2–4). Полностью напечатана в журнале «Вопросы философии» (2000, № 3, с. 87—100).
(обратно)209
Журнал «Звезда» (1989, № 4) «Из воспоминаний». Полностью воспоминания Н. П. Анциферова вышли под названием «Из дум о былом» (М., 1992. С. 385–389).
(обратно)210
См. Предисловие к «Истории эстетических учений» 1934 года в томе: Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.
(обратно)211
Н. П. Анциферов сетует, что Лосев «перековался», «судя по его последним трудам». Но дело в том, что Анциферов умер в 1958 году, а к этому времени вышли только книги по античной мифологии и эстетической терминологии Гомера. Конечно, это не «Диалектика мифа», но все прежние идеи там сохранены, только нашли применение на античном материале. Недаром И. Астахов обвинял неистово Лосева в идеализме как раз за эти работы, когда они готовились к печати. А уж он имел потрясающий нюх на идеалистов. И документ остался о том, что «Лосев не перестроился» (см. в части четвертой о книгах Лосева в 40-е годы).
(обратно)212
Вся известная на сегодняшний день проза А. Ф. Лосева и его стихи напечатаны в кн.: «Я сослан в XX век…». М., 2002.
(обратно)213
См. кн.: Тахо-Годи Е. А. А. Ф. Лосев. От писем к прозе. От Пушкина до Пастернака. М., 1999; Тахо-Годи А. А., Тахо-Годи Е. А., Троицкий В. П. А. Ф. Лосев – философ и писатель. К 110-летию со дня рождения. М., 2003; Тахо-Годи Е. А. Художественный мир прозы А. Ф. Лосева и его истоки. М., 2004 (докторская диссертация).
(обратно)214
Впервые в журнале «Москва» (1993, № 4–8), где напечатаны роман и два замечательных письма А. Ф. Лосева М. В. Юдиной, написанных после разрыва с ней, глубоко философичных, трагичных и тонко психологических. Чего стоят только автопортрет Лосева и характеристика внутреннего мира Юдиной.
(обратно)215
См. статью А. Ф. «Памяти одного светлого скептика», о которой я уже упоминала. См. также: Зенкин К. В. Философия музыки А. Лосева // Искусство на рубеже веков: Сб. Ростов н/Д., 1999. С. 136–148.
(обратно)216
Все эти мысли о целостности живого организма космоса, мира, о судьбе и Боге А. Ф. Лосев высказал в завершенной форме более чем полвека спустя в одной из своих бесед, названной «В поисках абсолютной истины» и напечатанной в журнале «Студенческий меридиан» (1991, № 9). См. также: Лосев А. Ф. Самое само. М., 1999.
(обратно)217
См.: Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. 194
(обратно)218
И еще хранила сокровища: за неимением русской Библии читала французскую (подарок моей madame Жозефины), а потом и немецкое Евангелие Лютерово (осталось в материнском доме от прежних времен с немкой Fraulein Мари). Эти две книги сохранились у меня до сих пор. Одна – изящная, на тончайшей бумаге, с золотым обрезом, а другая – сурово-скромная, с готическим крупным шрифтом. Всё оставляя в 1941 году при эвакуации, эти две взяла с собой.
(обратно)219
Ирина Саввишна, двоюродная сестра известного лингвиста академика Д. Шмелева.
(обратно)220
Бегала я с пенсией к 3. А. Таргонской, помогавшей А. Ф. выбраться из лагеря, к Н. Г. Чулковой, старому лосевскому другу, а то и продукты носила.
(обратно)221
К своему удивлению, я узнала, что в окружении Буниных тоже существовали «хоботья». См.: Кузнецова Г. Грасский дневник. М., 1995. С. 124. Ср.: Даль Вл. Словарь живого великорусского языка. Слово «хоботье».
(обратно)222
Лосевы подарили мне однажды ко дню рождения эту книгу.
(обратно)223
Отец расстрелян 9 октября 1937 года.
(обратно)224
Захватила, как приказано, только чемодан и байковое одеяло (вещи повезут на грузовиках до Мурома), подушку пришлось оставить. Но я заработала ее честно. Через несколько лет сдала успешно очередной экзамен по английскому языку вместо ленивой студентки, жены моего брата на вечернем отделении Московского юридического института (карточку переклеили на зачетке). В награду Лида выдала мне подушку, довольно убогую – была скупа.
(обратно)225
Назначил ее, бывшую лагерницу, секретарем в деканат.
(обратно)226
Часть института оставалась в Москве.
(обратно)227
Потом в МГПИ им. Ленина он заведовал кафедрой русского языка. Мы, студенты, любили и его, и старославянский, который И. Г. нам интересно преподносил.
(обратно)228
Если ЦК ВКП(б), по сути дела, всеми силами помог отправить Лосева на канал, пусть теперь также поможет восстановиться в нормальной жизни.
(обратно)229
См. сборник «Жизнь» (1993), а главное: «Я сослан в XX век…». Т. 2.
(обратно)230
Когда я в конце 40-х попала тоже в семью Белецких, то почувствовала обстановку родного дома. Незабываемые воспоминания! Все милы, от мала до велика, от трехлетней внучки Леночки (мы с ней дружно играли, качая воду из игрушечного колодца – мой подарок) и кончая самим Александром Ивановичем. Основа всеобщей гармонии – Мария Ростиславовна.
(обратно)231
С Т. Д. Булаховской я познакомилась в Киеве. Она была яркой, эффектной и представительной дамой, но вместе с тем очень простой в обращении. Меня поразил в ее доме громадный буфет, полный серебра и хрусталя, мебель карельской березы была вынесена в переднюю – надоела, ожидалась перемена. Уже где-то в самом начале 50-х, работая в Московском областном пединституте, я была рада помочь в проведении кандидатской диссертации Татьяне Даниловне. Президент Украинской АН Александр Владимирович Палладии приезжал по этому поводу ко мне (он был очень дружен с семьей Булаховских), а его шофер привозил в МОПИ всю документацию. После защиты Татьяна Даниловна привезла мне на Арбат роскошную корзину розово-голубых гортензий, и мы водрузили ее в кабинете А. Ф. Приятные воспоминания о приятных людях.
(обратно)232
В память этого события сам А. Ф. уже в 50—60-е годы выписал себе тоже полного Диккенса в новом издании, но сам никогда не касался его. Читала я.
(обратно)233
Как потом разъяснил А. Ф., этот «славный» человек был Н. Сахарный, филолог, но отнюдь не специалист в классической филологии, любитель античности. Он так и оставил у себя экземпляр «Эстетики», что, несомненно, послужило основой для издания им в Архангельске в 1958 году книги о гомеровской «Илиаде», опередившей книгу А. Ф. «Гомер» (М., 1960). «Эстетическая терминология» Лосева, куда входила большая часть о Гомере, вышла в 1954 году, после огромных препятствий. Книга Сахарного не могла появиться без работы Лосева. Это понимали все филологи-классики. Поэтому, когда Н. Сахарный задумал защищать по этой книге докторскую диссертацию, никто из ученых-античников не согласился участвовать в этом сомнительном деле. Диссертация не состоялась. В бытность мою в Киеве Н. Сахарный очень интересовался моей диссертацией по поэтике Гомера и просил ее почитать, но я, зная историю с лосевской рукописью, не дала свою.
(обратно)234
В дальнейшем Александр Иванович отказался писать отзыв в издательстве «Искусство». Об этом ниже, где говорю об издательских мытарствах «Истории античной эстетики». Может быть, повлияла здесь обстановка в Харьковском университете, так как отказ последовал сразу после провала, и Белецкий о своем решении написал Лосеву.
(обратно)235
Гегель и Лосев не раз сопоставлялись. Сам А. Ф. в письме Валентине Михайловне (11/II—1940) возмущен тем, что В. Ф.Асмус называл его «русским Гегелем» и говорил это Б. С. Чернышеву (профессор МГУ, декан философского факультета), Г. Нейгаузу, Б. Пастернаку, Б. Фохту (Б. А. Фохт – профессор, философ), П. С. Попову. Сам Лосев этому свидетель. По тем временам опасная характеристика, данная дружественно настроенным Асмусом.
(обратно)236
Герой комедии Мольера «Мизантроп» Альцест, один из прообразов Чацкого в «Горе от ума».
(обратно)237
У А. Ф. были сведения (письмо от 28 марта 1956 года в Комиссию партконтроля ЦК ВКП(б) о том, что Г. Ф. Александров через своего сотрудника Степанова дал указание по прямому проводу ректору Харьковского университета Сазонову Лосева не пропускать с докторской степенью.
(обратно)238
С. И. Соболевский не всегда был благодушен. А. Ф. подробно рассказывает в письме Валентине Михайловне (17/II—1940), да и мне не раз рассказывал, как Соболевский еще до революции проваливал прекрасную диссертацию Е. Г. Кагарова (тоже считал «фантазией» изучение религии греков), устроил посмешище на диспуте. Н. И. Новосадский с трудом отстоял тогда диссертанта.
(обратно)239
Стихи см.: Новый журнал (New Review). Нью-Йорк, 1995. № 196 – со статьей Елены Тахо-Годи «Зелень рая на земле…», а также в двухтомнике «Я сослан в XX век…».
(обратно)240
См.: Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994 (впервые напечатано в журнале «Символ». Париж, 1992. № 27). Как выяснилось в дальнейшем, это глава из «Дополнения» к «Диалектике мифа». См.: Диалектика мифа. М., 2001, а также антологию «Книга ангелов» (СПб., 2001, 2005).
(обратно)241
Лосев А. Ф. Вл. Соловьев. М., 1983.
(обратно)242
Переиздание с дополнениями: М., 2000 (серия «ЖЗЛ»).
(обратно)243
Студенческий меридиан. 1982. № 4.
(обратно)244
Сохранилось заявление А. Ф. от 30 сентября 1943 года о заведовании кафедрой логики в связи с открытием конкурса для Лосева. В декабре травля была в разгаре.
(обратно)245
Когда А. Ф. стойко выносил военную разруху и работал не покладая рук, тот же благополучный П. С. Попов заболел нервами и лег на всякий случай в клинику, где его успокаивали физиотерапией (записка П. С. Попова от 10/I—1942 Лосеву). Своеобразный отдых во время войны и профилактика. Может быть, справка пригодится.
(обратно)246
Декан Б. С. Чернышев вопрошал на факультете, когда гнали Лосева: «Кто возьмет на себя смелость при создавшемся положении дать положительный отзыв о Лосеве?»
(обратно)247
Эти воспоминания напечатаны в сб. «Ойкумена мысли. Феномен А. Ф. Лосева» (Уфа, 1995), а также в альманахе «София» (Вып. 1. Уфа, 2005).
(обратно)248
За месяц до перевода Лосева из университета его вызывали в Минвуз, чтобы назначить зав. кафедрой логики в МГПИ им. Ленина. Ректор МГУ И. С. Галкин тоже вызвал Лосева и утешал его в победе справедливости. Александров согласился перевести только на филологическую работу. В 1943 году, как сообщал Н. Г. Тараканов, сотрудник аппарата ЦК, академик М. Б. Митин и другие представили Лосева в академию, но Александров запретил эту акцию. Сам же стал академиком в 1946 году.
(обратно)249
Потом уже от А. Ф. я узнала, что мужем Людмилы Васильевны был брат Павла Александровича Голубцова, друга Лосевых, «Павлика», иконописца-реставратора. Я его встречала у Лосевых вместе с Прасковьей Кориной, привозившей цветы от своего супруга А. Ф. А позже помню его архиепископом Сергием. И портрет его, подаренный А. Ф., хранится у меня дома. Сестра же братьев Голубцовых, которую знали Лосевы, была монахиней и даже как будто игуменьей. Отец большой семьи Голубцовых – известный профессор Московской духовной академии. Внучка его Елена Сергеевна Голубцова – известный историк Древнего мира. С ней, с Леночкой, мы учились вместе в институте на Алтае. Но она, признаться, побаивалась упоминаний о своей духовной родне и Лосева чуждалась. Теперь и ее уже нет на свете.
(обратно)250
П. Проценко в своей книге «Мироносицы в эпоху ГУЛАГа» (см. выше) весьма пристрастно прокомментировал мой рассказ о нежелании четы Яснопольских выехать в конце 50-х годов из квартиры Лосева. Понятно, что ему не хочется учитывать, что после 1956 года Яснопольские как реабилитированные (с В. Н. судимость снята в 1940 году) имели право на отдельную жилплощадь. Этим правом они не хотели воспользоваться, так как жить у Лосевых им было удобнее материально: Лосев оплачивал жилплощадь, коммунальные услуги, закупку дров, проводку отопления, газа и т. д. (документы в архиве Лосева). Вот почему, когда почти слепой Лосев ездил в троллейбусе на работу, «двое одиноких христиан» (так называет Яснопольских П. Проценко) купили легковую машину (стояла у нас под окнами). Яснопольские ни разу не посетили в больнице умирающую В. М. Лосеву, которую (по словам П. Проценко) В. Н. Яснопольская считала своей «покровительницей».
(обратно)251
Ф. С. Булгаков был привлечен по делу Лосева в 1930 году. 244
(обратно)252
Сохранилась открытка А. И. Белецкого Алексею Федоровичу от 10 января 1946 года, где он вспоминает, как в первый день Нового года читали у Лосевых стихи.
(обратно)253
После длительного капитального ремонта-реконструкции «Дома Лосева» и моей квартиры (1995–1999 годы, по постановлению Московского правительства в лице Ю. М. Лужкова) все расположение обстановки, в том числе и шкафов, я пыталась сохранить. Но поскольку я передала в Библиотеку истории русской философии и культуры «Дом Лосева» (создана по постановлению Ю. М. Лужкова и находится в нашем доме) более десяти тысяч книг, то для оставшихся десяти тысяч (а может быть, и более) стало просторнее, хотя полки снова наполняются. Искать книги стало немного легче, так как мною составлен каталог с указанием шкафов, но и труднее – сохраняется и мешает память о прежней расстановке.
(обратно)254
В довоенной «Истории эстетики» в главе «Неоплатонизм, изложенный ясно, как солнце» А. Ф. признавался: «Я не марксист». См.: Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика. М., 2002 (там напечатан найденный большой фрагмент этой главы).
(обратно)255
Факт этот сообщен мне Ю. М. Каган, ученицей Лосева, в сентябре 1996 года.
(обратно)256
Новое издание ИАЭ с моим предисловием (к сожалению, без указателей) вышло в 2000 году (М.: ACT).
(обратно)257
Для второго тома А. Ф. подготовил тексты картины всего космоса, от Олимпа до Тартара, и мир героев. Второй том погиб при бомбежке 1941 года.
(обратно)258
Сначала издательство «Academia» (1936–1937 годы), а затем, когда его закрыли в 1937 году, Гослитиздат (или, что то же, Худлит), куда передали портфель издательства «Academia».
(обратно)259
Это заключение скрывали от Лосева. Подписавшие документ представители издательства явились с ним на суд, и только он заставил выдать на руки А. Ф. этот страшный документ-донос (см. письмо И. К. Лупполу из архива А. Ф. Лосева). Составители заключения негодовали на издательство «Academia», что оно одобрило труд Лосева. Одобрение подписал главный редактор издательства М. А. Лифшиц, благожелательно относившийся к Лосеву.
(обратно)260
В 40-е годы Б. В. Горнунг работал вместе с Алексеем Федоровичем в МШИ им. Ленина, вел себя вполне корректно. А уже в 60-е годы и далее, до своей кончины, регулярно с супругой был нашим гостем, много всего рассказывал, каялся чистосердечно, и мы забыли, тоже чистосердечно, печальное прошлое. Что оно делало с людьми! Не все же были такие стойкие, как А. Ф.
(обратно)261
Подлинник сохранился в нашем архиве.
(обратно)262
«Теогония» и «Космогония» напечатаны в кн.: Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. См.: Лосев А. Ф. Античная мифология с античными комментариями к ней. Харьков; М., 2005. 1140 с. Издание роскошное (Фолио-Эксмо).
(обратно)263
Как выяснилось в дальнейшем, у Маркса нет ни одного упоминания о Николае Кузанском. Но в 30-е годы Полного собрания сочинений К. Маркса на русском языке не было.
(обратно)264
«Логическая теория числа» напечатана в «Вопросах философии» (1994, № 1) с комментариями В.П.Троицкого. Ряд математических работ в кн.: Лосев А. Ф. Хаос и структура. М., 1997 (послесловие В. П. Троицкого).
(обратно)265
См., напр., издание Мартина Уэста: Aeschylus. Tragoediae cum incerti poetae Prometheo, ed. M. L. West. München; London, 1998. 2 Auil.
(обратно)266
В. Ф. Ржига был осужден на пять лет по делу славистов. См.: Ашнин Ф.Д., Алпатов В. М. «Дело славистов», 30-е годы. М., 1994.
(обратно)267
Тоже по «Делу славистов».
(обратно)268
Через много лет, когда не станет Дератани и Тимофеева ослабеет, а потом потеряет полученную в наследство кафедру, Г. А. Сонкина будет благожелательной к нам и милой женщиной. Вся в домашних заботах. Но Лосев, здороваясь с ней, многие годы неизменно спрашивал: «Ну как, боитесь меня? Не страшно». А она смущалась и чуть не плакала. Все помнила и вину чувствовала.
(обратно)269
Уже через много лет Пузис, живший неподалеку от нас на Арбате, вдруг стал иной раз захаживать к Лосеву, жаловаться на судьбу, а особенно на жену. Она бросила Генриха Борисовича на старости лет и ушла из дома. Беднягу было как-то жалко.
(обратно)270
Между прочим, мне встретилась фамилия Дерибас среди чекистов, боровшихся с церковью в 20—30-е годы в кн.: Иеромонах Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Кн. 2. Тверь, 1996. С. 355 (комиссия по проведению декрета об отделении церкви от государства: Ярославский, Путинцев, Дерибас, Тучков). Не родственник ли этот Дерибас супругу Лии Тюкшиной? Всем известен также граф Де Рибас, один из основателей Одессы. Не родственник ли? Уж очень редкая фамилия.
(обратно)271
Теперь уже все скончались – и Камянов, и Руднев, и Широков – один за другим. Об А. Ф. вспоминает один из бывших студентов факультета, давно уже почтенный профессор. См.: Рачков Дм. Записки шестидесятника. Тамбов, 2002. С. 106–109, а также: Руднев П. А. В те годы дальние, глухие//Лицей. Петрозаводск, 1994. № 4, 5.
(обратно)272
В 70-е годы Кольман уехал в Швецию навестить дочь, да так там и остался. Мало того, обличал советскую власть и ее вождей, печатно и в выступлениях. Значит, не зря сочувствовал в свое время Лосеву.
(обратно)273
После аспирантуры связи распались. Знала, что Сергей Павлович – редактор в «Художественной литературе». Однажды он в письме обратился ко мне за какой-то консультацией. Но не встречались. Дороги разошлись. А жаль. Был понимающий собеседник.
(обратно)274
В марте 1947 года комиссия по распределению аспирантов оставила меня в МГПИ им. Ленина.
(обратно)275
Работала я с 11 октября по 16 июня 1948 года. Получила бумагу за № 105, подписанную начальником отдела кадров от 3 августа 1948 года, где говорилось, что Тахо-Годи «отчислена в связи с направлением в распоряжение кадров Министерства высшего образования» – благовидная формулировка, а на самом деле готовили высылку.
(обратно)276
См. воспоминания одного из моих учеников I курса классического отделения Киевского университета, уже давно профессора Ю. Шанина: Шанин Ю. Не уставайте слушать стариков. Киев, 2000.
(обратно)277
Много лет уже не печатаю, и стоит греческая машинка у меня дома, в Москве, сиротливо, еще с 70-х годов. Одну я тогда купила себе, а другую попросила мастера сделать для Н. С. Гринбаума – печатать докторскую. Наверное, в молодости все приятно, даже печатание на греческой машинке, очень, надо сказать, дело кропотливое.
(обратно)278
Да и в Москве у меня временная прописка – годовая, у чужих людей, у некоей Терезы Ремпель, студентки. У нее тоже родителей нет, а так она от меня за прописку получает деньги. Родного дома с 1937 года я не имею. Брат мой старший вернулся с фронта, но живет в одной из комнат нашей прежней квартиры с женой и ребенком. Туда мне хода нет. Но с пропиской, временной, помогли.
(обратно)279
Андрей Александрович жил один где-то на краю Киева – это после большой родной семьи в огромных квартирах на Рейтарской и Никольско-Ботанической. Платона (важного художника и писателя) и Славочку не видела сто лет, они уже дед и бабка. А как были молоды, прекрасны и талантливо беззаботны. Вот и Андрея Александровича не стало. Скончался у себя за письменным столом, как мне сообщили. А был богатырь, гири пудовые поднимал.
(обратно)280
Николай Сергеевич уже через много лет, когда я стала работать в МГУ, старался всячески загладить тот свой давний поступок, инспирированный Дератани. И он, и его жена М. М. Гухман относились с уважением к А. Ф., а Николай Сергеевич очень помогал мне в создании особой группы филологов-классиков с дополнительной специальностью по сравнительному языкознанию. До последних дней его жизни у нас были самые добрые отношения. Вот как может попутать один злой человек людей в общем совсем не злых.
(обратно)281
А. А. Белецкий принял вместо меня на работу Нину Александровну Вишневскую, окончившую московское классическое отделение. Он много лет потом смеялся, что мои отлучки из Киева – пустяки по сравнению со многими декретными отпусками Н. А. Вишневской – у нее был целый выводок детей, а заменять ее приходилось самому бедному Андрею Александровичу.
(обратно)282
Я не упоминаю почасовой работы, параллельной основной, как, например, в Московском Библиотечном институте в 50-е годы или в Литературном институте им. Горького Союза писателей СССР на зарубежной кафедре с 1957 по 1986 год, когда серьезно заболел А. Ф. и я перестала читать там лекции.
(обратно)283
Как сообщали «Известия» (1998, № 18, август), «Приют одиннадцати» сгорел (высота 4200 метров – самая высокогорная гостиница мира). Надеюсь, что «Приют» возродился.
(обратно)284
Леонид Сергеевич Семенов – он же Наль – профессор и доктор исторических наук, преподавал в Ленинградском университете, был знатоком русской истории. Светлана – врач-кардиолог, защитила кандидатскую.
(обратно)285
Как теперь выяснилось, профессор П. А. Расторгуев привлекался ОГПУ по делу славистов, был осужден на пять лет. См.: Ашнин Ф.Д., Алпатов В. М. «Дело славистов», 30-е годы. М., 1994.
(обратно)286
По-русски: «Марксизм не догма, а руководство к действию».
(обратно)287
Когда я это пишу, наш двор превратился в огромную стоянку машин. Под окном кухни мерзость запустения (парикмахер давно выселен в благоустроенную квартиру). Дикие кооператоры, делая ремонт, сбрасывали известь под большое дерево. Оно погибло, и его голый остов печально стоит под нашим окном… Теперь, когда я перечитываю свои рукописи, наш дом называется «Дом Лосева» – «строительная площадка». Идет реконструкция якобы для Центра русской философии в память А. Ф. Зрелище пока страшное. Одни стены, со двора виден Арбат. Как ласточкино гнездо, примостилась моя квартира на стальных подпорках. Я там живу и работаю. Наконец 19 февраля 1999 года ремонт квартиры завершается.
(обратно)288
В 70-е годы беседовать с А. Ф. об «Истории античной эстетики» приходил молодой дворник. Он философ, защитил потом кандидатскую. Для личной свободы – в дворники.
(обратно)289
Гасана боится вся округа. Нам же он – друг и помощник. У Валентины Михайловны есть редкостное свойство – она входит в беду чужого человека, помогает чем может. Забавный эпизод. Гасан или Маруся иной раз провожают, когда мы не можем, А. Ф. в институт. Входят Алексей Федорович и Николай Карпович в трамвай. Все места заняты. Николай Карпович в ярости. Стаскивает с места перепуганного пассажира, кричит: «Ты что, сволочь, не видишь, профессор стоит, а еще очки надел!»
(обратно)290
Есть и другой список ненапечатанных работ Лосева за последние 18 лет. Он повторяет приведенный выше, но туда добавлен перевод Секста Эмпирика (25 п. л.), а также расширена эстетическая серия: 1) эстетическая терминология Гомера; 2) эстетика Гесиода; 3) античная эстетика периода классической литературы; 4) цветовая терминология Демокрита и Платона; 5) классическая калокагатия и ее социальные типы; 6) античная ирония в сравнении с романтической; 7) эстетическая оценка искусства в античности. Из этого списка № 1–3 будут напечатаны в 1954 году (№ 3 – только малая часть), а затем № 1 в переработанном под другим углом виде войдет в т. 1 ИАЭ, № 4 войдет в тома ИАЭ, но тоже в обновленном виде, № 5 печатался в сб. «Вопросы эстетики», а затем часть его вошла в ИАЭ; № 6 печатался в сб. «Эстетика и искусство», в «Истории эстетических категорий» (частично) и полнее в ИАЭ; № 7 – в сб. «Эстетика и жизнь». Но все это будет потом, в 60—70-е годы, причем Секст Эмпирик разрастется до 52 п. л.
(обратно)291
В. М. Лосева выяснила в Институте философии у ученого секретаря Платонова и зав. канцелярией Удалова, что ни директор, ни Ученый совет института не знакомы ни с отзывом Астахова, ни с работами Лосева, «никаких решений» по ним не принимали. Астахов, по их словам, работает также в МГПИ им. Ленина и его личное мнение совпадает с отзывом кафедры МГПИ, а не является отзывом ИФ АН СССР.
(обратно)292
Действительно, отзыв Астахова попал в ЦК сначала к симпатичному человеку Н. И. Арбузову, а оттуда выше, и Астахов ожидал неприятностей.
(обратно)293
Вспомните старую песнь в прежних отзывах – материал интересный, а объяснений и толкований не надо.
(обратно)294
Пушкин А. С. Сапожник (Притча) // Полн. собр. соч. В 10 т. М., 1963. Т. 3. С. 123.
(обратно)295
Для Астахова ответ Лосева с научной аргументацией был бесполезен, но его вместе с другими документами Лосев отправил в ЦК ВКП(б).
(обратно)296
В нашем домашнем архиве все документы, связанные с издательской деятельностью Лосева, довоенной и послевоенной, чудом сохранились. Есть там и прекрасные отзывы об «Эстетической терминологии» академика А. И. Белецкого и профессора А. М. Ладыженского, написанные до и после выхода этой работы, но нигде не фигурировавшие, почему я их и не привожу.
(обратно)297
Там же – страницы о неоплатонике Давиде Анахте, почитаемом в Армении. См. также: ИАЭ. Т. VIII. Кн. 1.
(обратно)298
Текст Прокла мне пришло в голову поместить в качестве приложения к III тому «Истории античной эстетики» (1974-й – юбилейный том, к 80-летию А. Ф.) под названием «Высокая классика», посвященного Платону. Так что Прокл вышел 25-тысячным тиражом.
(обратно)299
Эта книга, сохранившаяся и у нас, пострадала дважды – во время военной катастрофы и при ремонте нашего дома (залита горячей водой из батарей). С трепетом держу ее в руках. Еще можно читать.
(обратно)300
Выдали после смерти справку – рак печени, рак крови.
(обратно)301
Через много лет выяснили через нашего друга С. В. Бобринскую, что Екатерина Всеволодовна – мать жены ее кузена, Сергея Чернышева – внучка знаменитого мецената Саввы Ивановича Мамонтова, владельца Абрамцева. Умерла в 80-е годы.
(обратно)302
Как выяснили через многие годы через А. Н. Бабурина, нашего друга (теперь он о. Алексей в селе Ромашкове под Москвой), о. Василий – сам врач, многие годы настоятель храма в Филипповском переулке, знал и помнил Лосева.
(обратно)303
На первом этаже в одной комнате, как я уже писала, жил инвалид войны Николай Гасан, русский человек с татарской фамилией. Очень почитал Валентину Михайловну и потребовал на память фотографию покойной в гробу. А я эту фотографию видеть не могу. Снимал, и очень умело, С. Л. Яснопольский.
(обратно)304
А. И. Зимина умерла через год после получения комнаты в коммуналке на Арбате. Я была у нее на новоселье и подарила ей кровать одного из моих братьев из нашей прежней московской квартиры. На этой кровати она и умерла, при мне, сидевшей рядом. Болела кратко и скончалась тихо, не мучилась.
(обратно)305
Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 302.
(обратно)306
В 1996 году обе книги переиздали. «Античная мифология», в томе А. Ф. Лосев «Мифология греков и римлян» – с моим послесловием (изд-во «Мысль»), «Гомер» – в «Молодой гвардии» (серия «ЖЗЛ») – с моим предисловием.
(обратно)307
По словам академика Ю. С. Степанова (он издавна жил в Валентиновке), теперь этот домик снесен (все умерли) и на его месте выстроен дворец в мавританском вкусе.
(обратно)308
О деятельности редакции «Философская энциклопедия» см. также статью 3. А. Каменского «Философской энциклопедии 25 лет» (Вопросы философии. 1996. № 1).
(обратно)309
На статью Р. Гальцевой «Флоренский П. А.» для «Краткой литературной энциклопедии» А. Ф. дал положительную рецензию (3/VII—76, архив Лосева).
(обратно)310
Запись этого заседания можно прочесть в сборнике «Мысль и жизнь. К столетию со дня рождения А. Ф. Лосева» (Уфа, 1993). См. статью П. В. Флоренского «К истории статьи „П. А. Флоренский в ‘Философской энциклопедии'“. Слово А. Ф. Лосева о П. А. Флоренском».
(обратно)311
С. К. Шаумян – почетный профессор Йельского университета (США), приезжал в Москву для участия в Международных «Лосевских чтениях». См. сборник «Образ мира – структура и целое» (М., 1999. IV Российский философский конгресс. Т. 2. Тезисы. М., 2005).
(обратно)312
Это тот самый С. А. Сидоров, что участвовал в серии «Духовная Русь» (см. выше).
(обратно)313
Юра успешно работал в университете, в семинаре по древнерусской литературе у известного профессора Н. К. Гудзия.
(обратно)314
Когда вышла «Античная мифология» в 1957 году, она получила на конкурсе института первую премию, но потом запретили ставить на конкурс книги, вышедшие за пределами института. Теперь МГПИ им. Ленина переименован в Московский педагогический государственный университет, где установлена премия им. Лосева и где проходят научно-методические конференции его имени.
(обратно)315
Альтман еще при жизни печатал некоторые свои беседы с Вяч. Ивановым. Потом вышла целая книга: Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995.
(обратно)316
Под псевдонимом, теперь это можно сказать, скрывался профессор филологического факультета И. М. Нахов. Статья под названием: Акме (к 75-летию А. Ф. Лосева) // Литературная газета. 1969. 25 июня.
(обратно)317
Гарева А. А. Гегелевский семинар А. Ф. Лосева // Ойкумена мысли: феномен А. Ф. Лосева. Сб. статей. Уфа, 1995. С. 19. См. также альманах «София» (Вып. 1. Уфа, 2005).
(обратно)318
Хранит ныне эти сокровища скромный и задумчивый Максим Левин, все последние годы самоотверженно ухаживавший за Магдалиной Брониславовной.
(обратно)319
В 2006 году она стала экспонатом в музейной части Библиотеки «Дом А. Ф. Лосева».
(обратно)320
По сведениям газеты «Известия» (1966, 4 декабря, № 229, статья Т. Бартеневой «Недобитый круцин»), муж Н. Клюевой Г. Роскин умер от инфаркта в 1962 году. Но характерный для сталинской эпохи миф живет.
(обратно)321
Письмо Алексея Федоровича входит в воспоминания Елены Тахо-Годи, опубликованные в конце книги. А Володя со всей семьей уехал и давно уже профессорствует в Японии.
(обратно)322
Между прочим, их моей маме предсказала ее сестра, знаток хиромантии Христина Петровна, еще в 1927 году.
(обратно)323
Смерть, о которой Старый хозяин даже упоминать запрещал, внезапно настигла его 28 июня 2004 года. Цезарь исчез бесследно… Готовят к сносу Большой дом. Новые хозяева истребляют деревья, уже вырублена сосновая аллея, исчез столик под кленами, да и сами клены погибли, нет и скамейки А. Ф. Все ушло. Осталась только память. А Добрая душа оплакивает свое одиночество.
(обратно)324
Женя основал издательство «Водолей» и в 2002 году перебрался с ним в Москву.
(обратно)325
La philosophic idealiste en Russie. Aix-en-Provence, 25–29 mars 1968, Rencontre internationale J. L. Kline, Dialectical phenomenology: A. F. Losev and G. G. Shpet // Philosophical Review, XVII.
(обратно)326
См.: Клайн Дж. Воспоминания об А. Ф. Лосеве // Начала. 1994. № 2–4.
(обратно)327
См.: Клайн Дж. Воспоминания об А. Ф. Лосеве // Начала. 1994. № 2–4. С. 73.
(обратно)328
Статья печаталась в сокращенном виде. Полностью вошла в новое издание «Эстетики Возрождения» (М., 1998).
(обратно)329
Не так давно Савонаролу реабилитировал Ватикан.
(обратно)330
См.: Гайденко П. Коллизии возрожденческого титанизма// Вопросы литературы. 1980. № 3.
(обратно)331
По словам Татьяны Борисовны, Фонвизин написал десять ее портретов, из которых один находится в Армении, а о других у нее нет сведений. А. В. Фонвизин – ученик знаменитого М. Ларионова, был исключен из Союза художников вместе с Фаворским и Фальком и жил очень трудно. Благодарю Татьяну Борисовну за эти сообщенные мне сведения.
(обратно)332
Евгений Евгеньевич Лансере (1876–1946, племянник А. Н. Бенуа, брат 3. Е. Серебряковой), выдающийся художник, оказался близок моей семье, когда судьба забросила его в годы революции в Дагестан. Там он жил в тяжелейших условиях и буквально голодал. Мой отец познакомился с Е. Е., помог ему, сблизился с ним и дал возможность продолжать работу над серией знаменитых иллюстраций к «Хаджи-Мурату» Л. Н. Толстого. В знак дружбы Е. Е. Лансере именно тогда написал портрет моей матери, привез его через много лет к нам домой в Москву и подарил с трогательной надписью.
(обратно)333
См. его статью «Losev, szyli titanizm dwadziestowieczny» («Лосев, или Титанизм XX века» (на польском языке) в сб. «Pzeglqd humanistyczny», 1987, № 12, XXXI, 1—20) и в «Вопросах классической филологии» (Вып. XI. М., 1996 г.: К столетию со дня рождения Лосева. Философия. Филология. Культура (на русском языке).
(обратно)334
Сб. Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1988–1989. М., 1989. – Кантор К. М. Делай что хочешь – твори добро.
(обратно)335
Благодарю Т. Б. Князевскую за сообщение этого интересного факта.
(обратно)336
Всю документацию этого дела см. в сб.: Вл. Соловьев и культура Серебряного века. К 150-летию Вл. Соловьева и 100-летию А. Ф. Лосева. М., 2005.
(обратно)337
Отец И. Ф. – генерал-лейтенант царской службы, профессор Военной академии им. Фрунзе. Автор многих работ по истории и тактике. См. о нем: БСЭ. Т. 18. М., 1974.
(обратно)338
Оля и Саша покинут эту обитель в 1992 году.
(обратно)339
Переиздана вместе с книгой о Диогене Лаэрции и обширной лосевской библиографией (М., 2002).
(обратно)340
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 832 = с. 848. 2-е изд.
(обратно)341
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 832 = с. 848. 2-е изд.
(обратно)342
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 832–833 = С. 848–849.
(обратно)343
См.: Тахо-Годи А. А., Тахо-Годи Е. А., Троицкий В. П. А. Ф. Лосев – философ и писатель. М., 2003.
(обратно)344
См. на эту тему статью А. А. Тахо-Годи «Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков» – сб. «Искусство слова» (М., 1973). Она включена А. Ф. Лосевым во вторую книгу VIII тома «История античной эстетики».
(обратно)345
Лосев А. Ф., Лосева В. М. Радость на веки. Переписка лагерных времен. М., 2005.
(обратно)346
Трактат Марка Эфесского о сущности и энергии в переводе А. Ф. Лосева напечатан дважды. См.: Лосев А. Ф. Имя. СПб., 1997 и кн.: Путь к священному безмолвию. Малоизвестные творения отцов-исихастов. М., 1999.
(обратно)347
См. предисловие А. Ф. Лосева к книге «Критика платонизма у Аристотеля» в изд.: Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994. См. также на эту тему важную статью: Гринбаум Н. С. О принципах интерпретации А. Ф. Лосева древнегреческих терминов и ее научной значимости // Вопросы классической филологии. Вып. 12. М., 2002. С. 155–168.
(обратно)348
Лосев А. Ф. Одно из самых глубоких наслаждений в жизни / Беседу вел Вл. Лазарев//Альманах библиофила. Вып. 24. М., 1983. С. 26.
(обратно)349
Как бы страдал А. Ф., если бы знал, сколько превратностей претерпели его книги, пока снова не стали на место после изнурительного ремонта. Более 20 тысяч единиц месяц перетаскивали из нашей квартиры в две смены мои ученики классического отделения филфака МГУ (Антон Панов, Денис Куртов, Дима Кикоть, Денис Кузнецов, Саша Марков – отличились особо), дети моих друзей (Маша и Саша, дети Ольги Ивановны Яриковой, Миша Асмус, Юра Шередега), рабочие и молодые ребята солдатики. От нас в зал второго этажа, а потом попозже на третий, да ящики неподъемные, да прорывает отопление раз, потом второй, а там и третий (и это в только что отремонтированном доме!). Не забыть покореженных горячей водой книг (снова вспомнился 1941 год); тоже сушим их на солнце на подоконниках открытых окон, благо стоит жара. Особо печалюсь о русском Платоне XVIII века, чей кожаный переплет весь съежился и почернел, как от огня. Теперь все эти книжные инвалиды (их еще можно читать) занимают у меня особое место. И думаете, хоть кто-нибудь извинился (Межкомбанк находился в нашем доме)? – ничего подобного. С книгами, в ящиках замкнутых, расстались на два года. А обещали квартиру отремонтировать за два месяца. Слава Богу, успели, как тут же банк рухнул (август 1998-го) – не надо Лосева обижать, даром не проходит. С сентября 1999 года мы с Сережей Яковлевым (наш друг и помощник, «лосевец») начали перетаскивать книги с третьего этажа к нам, расстановку по шкафам, составление хотя бы примитивного, но все-таки каталога. Таскали по крутой лестнице и описывали более 10 тысяч книг несколько месяцев (другую половину, мой дар для Библиотеки «Дом А. Ф. Лосева», оставили наверху). С каким трепетом открывались коробки, все ли на месте? Пойди разберись, когда книги рассованы и разложены по коробкам, мешкам и ящикам без системы, как придется. Все как будто на месте. Я ведь каждую книгу знаю, помню, осязаю. А вот знаменитая немецкая библиография Тотока по античной философии (по ней работал А. Ф., выписывая иностранные книги через АН СССР) исчезла, как в воду канула. Так я горевала и печалилась (ведь по отметкам в книге видно, что интересовало А. Ф., что в первую очередь хотел выписать), как по родному человеку. Руку протянул мой ученик Володя Файер. Из какого-то академического хранилища умудрился с помощью добрых людей найти экземпляр этой книги, снять хорошую ксерокопию и в красивом портфельчике подарил ее к моему 80-летнему юбилею. Спасибо Володе от меня и от Алексея Федоровича.
А картины приводил в Божеский вид наш друг скромнейший Максим Левин.
(обратно)350
Лосев А. Ф. Одно из самых глубоких наслаждений в жизни. С. 30.
(обратно)351
Лосев А. Ф. Одно из самых глубоких наслаждений в жизни. С. 28.
(обратно)352
Виктор Косаковский теперь всемирно известный классик документального кино, обладатель высших наград, в том числе и премии «Триумф». Фильм «Лосев» стал его судьбой. Дружба наша неизменна.
(обратно)353
Слава Богу, прожили. Снова дома, среди книжных шкафов и рукописей. И под окнами чистота, зелень, кусты белой сирени, рябина и старое мощное дерево, около которого гулял А. Ф. Лосев. (Пишу летом 2003 года.)
(обратно)354
Недавно потеряли мы Мишу, а еще раньше и Г. К. Вагнера. Вот и Ю. Н. Холопов оставил нас в Страстную неделю апреля 2003 года. Сколько друзей уходит! См.: Гамаюнов М. М. Числовая символика И. С. Баха. Тропами Лосева. М., 2007.
(обратно)355
Увы, и их уже нет на свете.
(обратно)356
О Владимире Соловьеве. М., 1911.
(обратно)357
Скончался в 2004 году.
(обратно)358
И Александры Кирилловны, нашего друга, уже нет.
(обратно)359
Кто бы мог подумать, что через 15 лет после кончины А. Ф. И. Маханьков, став директором Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева», предаст дело Лосева. Под давлением общественности в июне 2004 года был удален из Библиотеки (переведен в другое место – не пропадать же безработным!). А ко дню рождения А. Ф. 23 сентября 2004 года Библиотека открылась, 18 октября, в день Ангела А. Ф., была освящена.
(обратно)360
У меня хранится большое количество этих печальных фотографий.
(обратно)361
Брат мой скончался в 2000 году. Перед смертью он принял Святое крещение с именем Михаил от о. Дмитрия (храм при Боткинской больнице) в присутствии Леночки и Валентины Завьяловой. Прах его покоится в той же ограде, где похоронены Лосевы.
(обратно)362
Ю. Ростовцев поставил этот крест на свои средства. Сохранился и проект неосуществленного памятника, сделанный скульптором В. М. Клыковым.
(обратно)363
Центр нам не разрешили. Вместо него Библиотека «Дом А. Ф. Лосева».
(обратно)364
Общество «Лосевские беседы» ведет просветительскую работу, устраивая «Лосевские чтения», собирая сборники докладов, участвуя в вечерах памяти А. Ф. Вот и в 1998 году прошла Международная конференция с характерным названием (его дала Елена Тахо-Годи) «Образ мира – структура и целое» (сборник издал в 1999 году Игорь Чубаров в «Логосе»). Лосевская тема звучит постоянно в «Доме А. Ф. Лосева» (официальное название нашего дома) – то это «Пушкин в Доме Лосева» (1999), то это «Вяч. Иванов и А. Ф. Лосев» – 2000 год, когда нас посетил сын поэта Дм. Вяч. Иванов (последний его приезд в Россию, на конференцию «Вяч. Иванов – творчество и судьба», скончался в 2003 году в Риме); и сборник прекрасный вышел в издательстве «Наука» в 2002 году. А в преддверии 110-летия со дня рождения А. Ф. – вечер в Центральном доме работников искусств (постановщик заслуженный деятель искусств А. М. Кравцов), где артисты читали фрагменты из повестей А. Ф., писем, стихи; звучала музыка, им любимая, выступали друзья и ученики. В свою очередь, в том же 2002 году Владимир Марченков, эстетик и переводчик на английский язык «Диалектики мифа», успешно провел Международную конференцию «Лосев и гуманитарные науки XX века» в Университете штата Огайо (США), которая открылась по традиции 18 октября, в день именин А. Ф. А затем подготовка к новым «Лосевским чтениям» 2003 года (руководитель Елена Тахо-Годи), где переплетутся философские судьбы Вл. Соловьева и А. Ф. Лосева. Состоялась эта Международная научная конференция «Вл. Соловьев и культура Серебряного века» в нашем доме (14–17 октября), и книга ко дню рождения А. Ф. вышла в издательстве «Наука»: «А. Ф. Лосев – философ и писатель» (сочинители А. А. Тахо-Годи, Е. А. Тахо-Годи, В. П. Троицкий). Да в Уфе Дима Васильев тоже провел научную конференцию в память А. Ф. «Культурное наследие России: Универсум религиозной философии» 29–30 сентября 2003 года (есть там религиозно-философское общество им. А. Ф. Лосева). В Московской консерватории тоже вспомнили А. Ф., там прошла 22 октября научная конференция (председатель профессор К. В. Зенкин) «А. Ф. Лосев и музыка». Отличился бывший МГПИ им. Ленина, где десятки лет работал А. Ф. (теперь Московский педагогический государственный университет). Там состоялся целый фестиваль (150 участников со всей России, не считая Москвы), посвященный Лосеву (главное лицо профессор И. Г. Минералова), и в день Ангела А. Ф. – панихида в храме Михаила Архангела (18 октября – святители Московские и всея Руси чудотворцы – Петр, Алексий, Иона, Филипп, Гермоген). Награждали книгой об А. Ф. Лосеве, философе и писателе, и значком с портретом Лосева. И Петербург свое слово сказал по телевидению к дню рождения – 23 сентября. И фатальную книгу «Диалектика мифа» прислало мне к дню рождения А. Ф. на английский язык переведенную издательство «Раутледж» (Лондон – Нью-Йорк), а из Болгарии свой перевод – Емил Димитров. Живо имя! Жива память!
(обратно)365
В письме В. М. Лосевой 11 марта 1932 года. См.: Лосев А. Ф., Лосева В. М. Радость на веки…
(обратно)366
В 1996 году наконец начали работу, а закончили в 1999-м.
(обратно)367
Со всех рукописей в Архиве ФСБ сняли ксерокопии. Там они и хранятся.
(обратно)368
А. И. Музыкантский (он был префектом ЦАО и министром Правительства Москвы) очень нам помогал во время ремонта и реставрации «Дома Лосева». У меня сохранились интересные фотографии этого времени.
(обратно)369
Вспоминаю, как прекрасно отслужил молебен при начале благого дела (ремонт нашего дома) о. Алексий. Во дворе жарким июнем полно народа (даже заглядывают зеваки с Арбата), строители, проектировщики, представители банка (он делает ремонт), префектуры, телевидения, ученики и друзья. И в этот же день знаменитая Светлана Сорокина вещает о подступах к возрождению «Дома Лосева».
(обратно)370
Эта глава опубликована в кн.: Лосев А. Ф. Личность и Абсолют. М., 1999.
(обратно)371
Впервые этот дневник вместе с другими дневниками напечатан мной в кн.: Лосев А. Ф. «Мне было девятнадцать лет…». Дневники. Письма. Проза/Сост., вступ. ст., коммент. А. А. Тахо-Годи. М., 1997.
(обратно)372
Лосев А. Ф. Из воспоминаний // Студенческий меридиан. 1990. № 5. С. 29.
(обратно)373
Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 356.
(обратно)374
Все выписки и вырезки находятся в моем архиве, но это только то, что я держала в руках.
(обратно)375
См., напр.: Тахо-Годи А. А., Тахо-Годи Е. А., Троицкий В. П. А. Ф. Лосев – философ и писатель. М., 2003; Гоготишвили Л. А. Непрямое говорение. М., 2006 (реконструкция истоков философии языка А. Ф. Лосева); Троицкий В. П. Разыскания о жизни и творчестве А. Ф. Лосева. М., 2007; Тахо-Годи Е. А. Художественный мир А. Ф. Лосева (в печати).
(обратно)376
Сокращенный вариант был опубликован: Символ. Париж, 1995. № 33. С. 261–272. © Тахо-Годи Е. А., 1997, 2007.
(обратно)377
Лосев А. Ф. «Я сослан в XX век…». Т. 1. М., 2002. С. 147.
(обратно)378
Ремонт и реставрация квартиры А. Ф. Лосева, предусмотренные в постановлении Московского правительства, завершились (опять-таки после ряда драматических событий) в феврале 1999 года, хотя постановление Правительства от 5 мая 1998 года № 355 требовало завершить ремонт до 30 июня 1998 года.
(обратно)379
© Троицкий В. П., 2007. 488
(обратно)380
Составлен М. В. Троицкой при участии В. П. Троицкого.
(обратно)

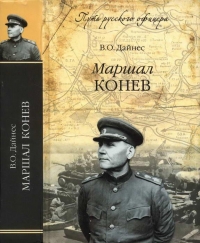




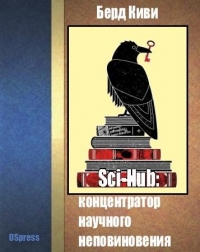

Комментарии к книге «Лосев», Аза Алибековна Тахо-Годи
Всего 0 комментариев