Мусса КУНДУХОВ МЕМУАРЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ
У кого что болит, тот о том и говорит.
Истина эта побуждает меня, не вдаваясь в излишние подробности, добросовестно изложить то, что я мог из верных источников узнать замечательного о прошлом и что мне самому пришлось видеть и испытать в продолжении двадцатидевятилетней моей службы в России.
К глубокому сожалению система, избранная правительством на Кавказе в буквальном смысле основана на праве сильного.
Начальство в отношении народного управления действовало по своему произволу, вопреки своим законам и туземным обычаям. Очень часто прибегало к таким тяжким и прискорбным мерам, за которые русские законы беспощадно вешают, расстреливают и ссылают в каторжные работы. В политике обман, изворотливость и противоречие до той степени были допущены, что народ перестал верить и бывшим благомыслящим начальникам.
Вместе с тем во имя политических интересов исчезало уважение к веками освященным правам, преимуществам и обычаям горцев. Преследование некоторых народов доходит до невероятия.
Результатом всего этого или, яснее сказать, необдуманной системы были: непрерывная двадцатипятилетняя война и, наконец, усмирение горцев и переселение целых народов в Турцию.
В настоящее же время, к нашему удивлению, правительство, вопреки истине и правосудию считает все кавказские народы (без исключения) приобретенными оружием, и к несчастью, полагает наилучшим средством держать их в покорности только ужасными последствиями нищеты и страхом оружия, ограждая им путь ко всему тому, что может поддержать их национальность. До какой степени это грустно, противно общему благу и что в будущем предвещает — об этом поговорим в свое время, а здесь я должен сказать несколько слов о невольном переходе моем в Турцию.
Кому по обстоятельствам пришлось служить под зависимостью людей, которые несмотря на ревностное, добросовестное и безукоризненное выполнение долга службы без малейшего повода и основания, а лишь только по гнусному произволу считали его подозрительным, опасным для правительства, тому понятно бывшее мое невыносимое положение.[1]
А кто счастьем считает только чины и ордена, тот может быть по своим понятиям, позволит себе сказать, что я, не оценив щедрые награды русского правительства, как неблагодарный человек, перешел в Турцию. На это, кроме того, что читатели поймут, ниже скажу, что я, как солдат, принадлежал царю, но, как человек, ни в каком случае не мог не принадлежать народу. И потому должен был переселиться туда, куда лучшая часть его, в числе более ста тысяч дворов, бросая все, кинулась спасаться от жестокого преследования.
Что же касается до наград моих, то я их не выслужил и не получил как милость по протекции: в продолжение всей моей службы никогда не позволял себе подумать ни о трудности, ни об опасности там, где надлежало исполнить долг службы. Все чины и ордена, кроме корнета и генерал-майора и короны на орден св. Анны 2-ой степени, получил за отличие в делах против неприятеля.
Хотя после плена Шамиля я с каждым годом все более чувствовал до крайности униженное положение народа и от этого тягость своей службы, но все еще напрасно уповая на лучшее будущее, т. е. на возможность народного благоустройства с сохранением, сколь возможно, его национальности, заставлял себя усердно продолжать службу и смотреть с хладнокровным презрением на злословия.
Наконец, уже весьма печальным, но очень ясным доводом и фактами убедился в своем заблуждении, равно и в том, что служба моя не что иное, как низкое ремесло: искать счастье в несчастьях ближних.
В справедливости сказанного читатели убедятся ниже истинными фактами.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Приезд императора Николая 1-го на Кавказ. — Смена корпусного командира барона Розена и назначение генералов Головина и Граббе. — Экспедиция в Чечню генерала Пулло. — Восстание чеченцев и призщнание Шамиля имамом.
В 1837 году император Николай, первый из русских царей, осчастливил приездом своим Кавказ.[2]
На случай надобности в переводчике во время проезда его через Владикавказ я был из Тифлиса командирован туда же.
От всех мирных горцев были назначены депутаты с народными просьбами и, ожидая приезда императора во Владикавказ, они часто собирались то у одного, то у другого из влиятельных лиц.
Рассуждали между собой о прошедшем, о настоящем и о будущем: одни из них понимали и говорили, что им необходимо иметь грамоты и акты на право владения личными и поземельными правами, утверждая и доказывая, что иначе предстоит им жалкая будущность. Другие же, менее благоразумные, но более самонадеянные, думали и говорили, что не имеют надобности просить грамоты и акты на право владения тем, что им дано Богом.
Чем больше собирались и рассуждали, тем более они расходились во мнениях своих о самых ясных и им необходимых вещах. И потому просьбы их также были написаны различного содержания, не имея ничего общего.
Наконец 13 октября было получено известие, что государь император едет. Весь сбор этот выехал на встречу Его Величества. Проехавши 25 верст, в местечке Ларсе они встретили государя и сопровождали его до Владикавказа.
Его Величество приказал мне скакать возле своей коляски и очень часто спрашивал имена тех, которые по красоте и мужеству более на себя обращали его внимание.
На другой день государь принимал депутатов с народными просьбами, говорил с ними очень благосклонно, исключая из этого злополучных чеченцев, которых упрекал в неверности ему и его русским законам.
Чеченцы в свою очередь ответили:
— Вашему императорскому величеству мы преданы не менее других горцев и уважаем законы царя нашего также не менее других, но, к несчастью нашему, ближайшее начальство наше, затемняя истину и не соблюдая никаких законов и обычаев, управляет нами совершенно по своему произволу, отзываясь о нас с дурной стороны.
Вместе с тем они подали ему прощение, где подробно обнаружили всю несправедливость ближайшего их начальства.
Резкий, но очень справедливый ответ чеченцев не понравился государю и, назвав его клеветою, Николай приказал просителям выкинуть из головы вредные мысли, внушаемые им неблагонамеренными людьми.
Чеченцы, видя перед собою царя грозного Николая и ожидая от него получить щедрые награды и милостивые царские распоряжения о благоустройстве края, обещали свято исполнять его волю.
Государь же, ослепленный своим могуществом, думал и поступал совсем иначе: он, в словах обласкав горских депутатов, обещал рассмотреть их просьбы в Петербурге, где они были брошены без всякого исполнения и ответа.
Здесь рождается вопрос: зачем же царь приехал на Кавказ?
Вот ответ: ясно, что Николай как деспот домогался совершенно истребить дух свободы кавказских народов и приготовить их к безусловному рабскому повиновению.
Стремясь к этой цели, он выбрал для себя орудием только один страх и желая сильно внушить его народу, не пожелал воспользоваться возможностями дарить свои милости, а, напротив того, желал найти случай показать пример своей жестокости над теми, кто в точности не исполнял волю царя.
На этом основании он в гор. Тифлисе, во время бывшего там развода, в среде войск и множества народа показал свою волю над вполне заслуживавшим наказания за лихоимство командиром Эриванского полка флигель-адъютантом полковником князем Дадианом и бывшим тифлисским полицмейстером. С Дадиана царь собственноручно сорвал эполеты и аксельбанты и тотчас же, посадив его там на почтовой тройке с одним жандармским офицером, отправил в Россию, Дадиан был зятем корпусного командира генерал-адъютанта барона Розена, а полицмейстер был зятем начальника штаба генерала Вольховского, которых тоже скоро выловили.
До неудачного приезда императора Николая на Кавказ у народов его мнения о царе были самые разные: большая часть полагала, что начальство в отношении народного управления употребляет во зло царское к нему доверие; говорили, что царь любит правосудие, любит одинаково всех своих подданных, желая им всех благ, но будучи далеко, не ведает зло, происходящее мимо его воли и поэтому, узнав о приезде царя, радость их была чрезвычайна — ожидали от него много и очень много хороших перемен к будущему благоденствию Кавказа. Но, к несчастью, Николай, сверх ожидания народа, показал себя эгоистом, желающим только рабского повиновения его воле, не заботясь о выгоде туземцев.
Вследствие этого очень скоро по отъезде его с Кавказа народ почувствовал свое будущее, и начало обнаруживаться между мирными горцами Кавказской линии нежелание жить под русской властью. При этом Николай, расставаясь с командующим войсками Кавказской области генералом Вельяминовым, строго приказал ему иметь чеченцев под особенным строгим надзором и под сильным страхом. Приказанием этим негодяй генерал Пулло, как ниже сказано, усердно руководст вовался.
По-моему, будет весьма справедливым назвать главной причиной бывшей 25-летней жестокой борьбы, т. е. восстания всего восточного Кавказа и неограниченной власти там и в Чечне Шамиля, невнимание Николая к справедливым просьбам всех мирных горцев, которым он вместо страха внушил сознание унизительности их положения и сильную к себе вражду.
Царь вместо того, чтобы хоть сколько-нибудь оправдать ожидания народа и строго приказать начальству беречь благосостояние страны, приказал держать под сильным страхом наименее терпеливых среди горцами чеченцев.
Но Николай и сам не менее горцев ошибся в своих ожиданиях, ему и в голову не приходила возможность бывшей кровавой войны.
Хотя просьбы депутатов остались без исполнения и ответа, но без последствий они остаться не могли. Царь, конечно, потерял любовь и уважение, возбудил к себе ненависть и недоверие всех горцев, особенно у жителей восточного Кавказа, где духовенство, стоя во главе народа, после приезда Николая, потеряв всякую надежду на лучшее будущее, начало готовить народ искать Шариата и справедливости силою оружия.
Дремавшее кавказское начальство хотя и знало о намерении духовенства, но под влиянием русского «авось» не приступало ни к каким действенным мерам по установлению прочного спокойствия в крае.
При этом бывшего корпусного командира барона Розена сменили и на его место назначили генерала Головина, человека умного и распорядительного, но непостижимо было, что командующий войсками на Кавказской линии генерал Граббе, назначенный на место Вельяминова, непосредственно ему подчиненный, не хотел исполнять его приказаний и действовал как отдельно уполномоченный начальник. Иногда даже в ущерб интересам края и службы, если только он этим мог вредить распоряжениям генерала Головина. Вследствие этого дела об управлении горцами путались до крайности, в особенности в Чечне, где начальник края и командующий там войсками генерал-майор Пулло, отыскивая случай к достижению чинов, наград и материальных выгод, беспрестанно доносил генералу Граббе о тревожном состоянии вверенного ему края и, основываясь на приказании царя, выпросил себе разрешение действовать на чеченцев страхом.
В таких видах он в 1838 году зимою начал ходить с отрядами по аулам мирных чеченцев, под предлогом ловить там непокорных тавлинцев, будто бы в аулах их скрывавшихся. На ночлегах солдат и казаков расставляли по домам чеченцев и, отыскивая небывалого тавлинца, забирали все, что понравится солдату и казаку, На жалобы ungeb, на слезы женщин и детей Пулло смотрел со зверским равнодушием и, гордясь своими позорными делами, называл жалобы чеченцев клеветой (как называл Николай).
Наконец в следующем в 1839 году зимою он опять повторил свой грабительский поход и сверх того, под предлогом обезоружить чеченцев, потребовал с каждых десяти дворов по одному ценному ружью и, получивши их, он продавал в свою пользу, покупая на место их дешевое (для счету в Арсенал).
При этом Пулло, понимая, что низкой грязной хитростью нельзя скрыть гнусные меры свои, арестовал нескольких почетных чеченцев, собиравшихся с жалобой на него отправиться в Тифлис.
Здесь чеченцы, потеряв всякое человеческое терпение более сносить невыносимые тяжкие меры, согласились подчиниться людям, давно желавшим войны с русскими, и поклялись с открытием ранней весны отложиться и воевать против тирана до последней капли крови.
В это время я, получив отпуск, находился в доме отца моего и, живя в соседстве с чеченцами, знал от знакомых его все, что происходило в Чечне.
Состоя при корпусном командире и не сомневаясь в восстании чеченцев и ожидая от него гибельных последствий, я счел долгом в первых числах декабря отправиться в Тифлис и доложить генералу Головину о положении Чечни и о проделках там ген, Пулло, присовокупив, что, по мнению знающих людей, если ген. Пулло вскорости не будет сменен и заступивший на его место энергично не примет меры к водворению спокойствия в Чечне, то весною они все восстанут.
Не знаю, как генерал Головин принял или понял мой доклад, но знаю, что генерал Пулло не был сменен, и в следующем 1840 году чеченцы, в числе 28.000 дворов, разом восстали, безусловно подчинив себя Шамилю, который в то время после Ахульгинского поражения скрывался от русских в Шатоевском обществе.
Не теряя времени, они под предводительством опытных и предприимчивых людей-наибов: Ахверди Магомета Шуанба и других быстро начали делать движение к соседним племенам и в продолжении одного лета весь восточный Кавказ, кроме ханств Шамхальского, Диарского Казикумухского и Акуша, восстал против русских с чувством жестокой вражды.
Хотя и все племена центра Кавказа: кумыки, осетины и кабардинцы сильно сочувствовали этому восстанию, но господствовавшее над ними высшее сословие, так же как сказанные ханы, по тщеславию своему, считали за стыд подчиниться Шамилю, не знатному по происхождению. Кроме того, по легковерию своему еще утешали себя щедрыми обещаниями начальства. (Горький им урок.)
Таким образом, началась на Кавказе кровавая борьба, про должавшаяся в течение 25 лет, т. е. до плена Шамиля русскими в 1859 году, 26 августа.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Горские депутаты в Тифлисе. — Владикавказский комендант. — Вали закубанских черкесов казбек Каноков. — Назначение корпусным командиром генерала Нейгарта.
Признавши Шамиля имамом, между всеми племенами водворилось никогда до того небывалое единодушие и согласие. Забыли постоянно между ними существовавшую вражду и кровомщение. Обычное скотокрадство совершенно бросили.
Считали грехом проливать слезы над павшими в священной для них войне.
Таким образом, разнородные племена Восточного Кавказа начали сливаться с чеченцами в одно целое с готовностью умереть за свою свободу.
Здесь нужно заметить, что такому небывалому между ними единству способствовал не религиозный фанатизм или мюридизм (как убеждают русские), а то, что до вступления их под власть русских они не имели понятия о величайшем несчастьи, т. е. об общем народном горе. Теперь они одинаково испытали тяжесть русского гнета и почувствовали всю его силу и значение и потому просто, по внушению сердца и разума, нашли необходимым дружно соединиться и признать власть Шамиля, для твердого и совокупного сопротивления и действия против врага. В чем они не ошиблись и что по всей справедливости делает им честь.
Генерал Головин, получивший донесение от генерала Граббе о чеченском восстании, хотя поздно, пожелал остановить его. Он приказал мне отправиться на линию, пригласить от кабардинцев, осетин и чеченцев почетных людей, которые бы ему могли откровенно объяснить вообще народные желания и причину чеченского восстания.
При этом вспомнил о прошлогоднем моем докладе и, поблагодарив меня за преданность правительству, сказал:
— Пусть чеченское восстание падет на совесть виновных.
Я полагаю, что слова эти относились к царю Николаю и к генералу Граббе, В тот же день я отправился в крепость Грозную и, приехавши туда, явился генералу Пулло, которого нашел в положении человека в счастьи бывающего чересчур надменным, в несчастьи — чересчур низким и малодушным.[3]
В крепости Грозной я нашел из чеченцев только двух человек, которые служили в конвое Государя Императора и, получивши там чины корнета, остались ему верными, не принявшими участия с ближайшими их родственниками в восстании.
Оба они, живя в крепости Грозной, не ходили к генералу Пулло, считая его врагом народа и царя (так выражались они о Пулло).
Убедив обоих этих чеченцев в готовности главного начальника края охотно исполнить все основательные просьбы чеченцев, отправил их к главным наибам, имевшим сбор в Большой Чечне в ауле Майртупе (с намерением двинуться к Салатави).
Чеченцы посланных моих приняли с большим негодованием и отказались навсегда от всяких мирных сношений с русскими, Главный же их наиб Шуаиб поручил моим посланцам сказать мне: «Если корпусному командиру угодно знать причину нашего восстания, то пусть спросит генерала Пулло; он причины эти знает лучше всякого чеченца, которым теперь остается только просить Бога, чтобы навсегда избавиться от всех Пулло или умереть на штыках их. Кроме того, отныне помимо Шамиля никаких переговоров между нами быть не может».
Достаточно убедясь отзывом главного чеченского наиба в нежелании их переговариваться с русскими, а также считая вторичное послание уполномоченных неполитичным и даже опасным для переговорщиков, я взял с собой двух чеченцев этих, отправился в Кабарду, Тагауры и Дигоры, где по выбору народа депутаты были готовы к отъезду в Тифлис.
В это время начальником осетинского народа и комендантом Владикавказской крепости был некто полковник Широкий, человек, как говорится, необтесанный, до крайности грубый и невежа; самые обыкновенные формы приличия были ему чужды; не чувствовал чужого горя: приходи к нему с самыми убедительными просьбами, непременно накричит и обругает просителя.
За это я называл его врагом всякого приличия и позволял себе в присутствии его приближенных осуждать обращение его с подчиненными. Из этого он вообразил, что депутаты по моему внушению будут жаловаться на него корпусному командиру и потому, желая вооружить против меня корпусного командира, написал к начальнику штаба генералу Коцебу, будто бы я между горцами распускал вредные слухи и научаю высшие сословия к таким просьбам, исполнение коих неудобно правительству. Письмом этим, как я после узнал, генерал Головин и начальник штаба были поставлены в фальшивое положение: они, испытав меня в экспедициях и в разных поручениях, не имели права сомневаться в искренности моих желаний для водворения спокойствия в крае. Также не могли не обратить внимание на содержание письма начальника колебавшегося народа, где я имел родство с влиятельными людьми.
Не зная ничего о сплетнях Широкого, я приехал в Тифлис с князьями и представил их начальнику штаба, который каждого из них знал лично и после короткого с ними разговора повел их к корпусному командиру.
Генерал Головин, приняв от депутатов народные просьбы, долго говорил с ними о прошедших ошибках русских и горцев и будущем благе тех и других. Затем, на третий день, князья, получив от корпусного командира щедрые подарки, возвратились в дома свои, а просьбы об утверждении за ними личных поземельных прав по обыкновению остались в делах к сведению.
Перед тем как я хотел повести их принять подарки и проститься с корпусным командиром, зашел в номер гостиницы, где стояли князья Алхас Мисостов и Магомет Мирза Анзоров, которых я уважал больше других кабардинских депутатов. Они оба, будучи недовольными ответом генерала Головина на просьбу их об утверждении за Кабардою земли Золко и Этока, спросили меня:
— Можно ли нам отказаться от подарков корпусного командира?
— Нельзя, — сказал я.
— Почему? — спросили они.
— Потому что в настоящее время он сильно опасается общего волнения всех горцев Кавказской линии, а более всего за Кабарду и за тагаурцев, и потому легко может понять ваш отказ как дурной знак, то есть может подумать, что вы уже в сношении с Шамилем.
— Ого! — воскликнул князь Мисостов, — напрасно, напрасно опасается генерал общего восстания. Скажите ему, что я могу ручаться за неосновательность его опасения. Кто в Кабарде восстанет? Разве он не знает, что в Кабарде осталось только пустое имя Большая Кабарда, а кабардинца, думающего о высших интересах Кабарды, не осталось ни одного. А в вашем Тагауре еще хуже; все сословия от своего отказались и отдали себя на произвол русских. Если же они оба не восстанут, то каким образом может состояться общее восстание? Гм! — странно, что гяур сам нас заживо похоронил да еще полагает, что мы живем.
Замечая в них готовность высказать всё свое негодование, я счел нелишним им заметить так; «Все, что вы сказали, имеет основание, но, извините меня, что я их в настоящее время, а тем более, в Тифлисе, нахожу неуместными и желал бы вам избегать с кем бы то ни было подобного разговора и непременно принявши подарки, отправиться домой, в ожидании того, что Бог даст».
— Подарки эти, — сказал Анзоров, — мы примем, но просим вас не сомневаться в том, что они внушают нам не благодарность, а негодование к тем русским, которые их нам делают коварно, но еще более и сильнее внушают нам презрение к нашим, которые, зная унизительность нашего положения, вопреки завещания достославных отцов наших, жадно за них хватаются, жертвуя за них народным интересом.
Разговор этот сильно подстрекнул мое любопытство и я спросил их:
— А в чем состояло завещание отцов ваших?
— Да разве вы не знаете, — заметил князь Мисостов.
— Право, не знаю, — сказал я.
— О, это очень интересно, слушайте: «Царь-Женщина (Екатерина II) потребовала от кабардинцев дозволить русским проложить почтовый тракт от Екатериноградской станицы до Владикавказа, по левому берегу Терека. Кабарда, поняв шайтанские цели, поспешила отправить двух князей Атажукина и Беслана Хамурзина просить не строить на кабардинской земле крепостей и станиц. Царь-Женщина, легко убедивши наших депутатов, что кроме голой дороги и почтовых станций, и то только как раз по левому берегу реки Терек, ничего строить не будет, взяла от них слово постараться согласить на это кабардинцев. Князья, получивши от нее богатые подарки, возврати лись в Кабарду, начали, согласно своему обещанию, убеждать кабардинцев, что от одной дороги им не предстоит никакой опасности, Когда же они сильно настаивали, то народный кадий Шаугонон, посоветовавшись с некоторыми из князей, обратился к народному съезду со следующей речью: „Одного шута товарищи посадили на молодую невыезженную лошадь и когда конь начал сильно брыкаться, то товарищи, опасаясь за шута, начали ему предупредительно кричать, чтобы он поскорее, но ловко сам себя сбросил“. На это шут им ответил: „Зачем мне трудиться, когда конь сам это сделает“. Точно так же, если мы будем поддаваться русских заманчивым соблазнам, то нечего говорить — дух корысти сам подчинит Кабарду произволу русских. От чего сохрани вас Бог».
Хотя речь кадия в собрании была встречена близкими род ственниками депутатов с большим негодованием, но, несмотря на это, депутат князь Хамурзин с почтительным смирением обратился к народному съезду так: — Не согласиться со сказанным кадием значило бы отрицать истину того, что за хвостом этих подарков скрываются таинственные и коварные против нас замыслы русских. Но, к несчастью, дело в том, что если бы те князья, со слов которых кадий сказал очень умную и нравственную речь, сами получили бы от какого-нибудь простого генерала подарки, ценностью далеко ниже тех, которые мы получили из рук Царя-Женщины, то речь кадия была бы совсем другого содержания. Впрочем, мы не можем дать право злословию и быть дурным примером в народе, потому отказываемся от полученных нами подарков и просим вас отдать их тому, кто им завидует, или тому, кто в них нуждается… Мы же получили их на том основании, что кто бы только ни был послан депутатом, получил бы их точно так же, как получили мы.
Когда на это съезд поспешно и единогласно ответил, что подарки принадлежат им, Хамурзин отозвал товарища своего, князя Атажукина, в сторону. Посоветовавшись между собою, они оба взяли подарки свои и пошли на мост; совсем на середине моста князь Хамурзин обратился к народному собранию и начал так:
— Мы, понимая истину, что русские подобными блестящими камнями,[4] чинами, золотом и серебром хотят помрачить навсегда блеск (нур) Кабарды, просим Бога, чтобы отныне навсегда всякий кабардинец отворачивался как от харама[5] от русских подарков и чинов, от которых мы, как от харама, перед нами и перед потомством омываем себя вот этой Баксанкой.
Со словами этими подарки из рук князей полетели в глубину быстротекущего Баксана.
В это время из среды съезда раздались многочисленные громкие голоса: — Афорни! (браво). Вот что значит чистая кровь! Вот что требует намус (честь) и проч.
Затем князь Атажукин так же обратился в собрание со следующими словами:
— С позволения старшего[6] моего я также хочу сказать вам несколько слов в надежде, что вы нас поймете. Мы позволили себе принять подарки потому, что, к несчастью, имели много прошлых примеров. Теперь, если пример, нами доказанный, достигнет своей цели, то мы с Хамурзиным будем гордиться своим поступком. Если же кончится только тем, что на съезде слышим пустые об нас похвальные отзывы, то крайне будем сожалеть, что нам не удалось осуществить пламенное наше желание и что Кабарда уже не то, чем должна быть.
Речь Атажукина с восторгом была принята всеми бывшими в собрании и съезд решил не допускать русских прокладывать дороги, строить крепости и казачьи станицы на кабардинской земле, считать изменниками тех, которые, будучи по делам народа в сношении с русскими, согласятся принять от них чины или подарки и казнить их как врагов народа и, по примеру закубанцев, назначить одного Валия с определенными правами.
Таким образом, Кабарда назвала проклятым (наанатом) того, кто примет от русского начальства и, отказавшись выдавать аманатов, начали враждовать.
На вопрос мой, каким образом закубанские племена, сумели подчинить себя одной власти, князь Мисостов рассказал мне следующее:
— Разноплеменные закубанские племена испытавшие много зла от междуусобной вражды, нашли для блага своего необходимым иметь над всеми ими одного полновластного Валия (владетеля).
В бывшем по этому случаю народном съезде справедливый выбор пал на бесленеевского князя Казбека Канокова, которому все закубанцы в числе более ста тысяч дворов охотно и безусловно себя подчинили.
По рассказам современников князя, он был природою так щедро награжден всеми лучшими качествами человека, что народ видел в нем человека выше обыкновенного.
Казбек мнение народа так оправдал, что впоследствии народ прозвал его Казбеком Великим.
Русское правительство, сильно его опасаясь, напрасно употребляло все меры и средства подготовить или склонить его на свою сторону: даже Царь-Женщина, вследствие одного его великодушного поступка с донскими казаками, сама прислала к нему своего адъютанта с очень богатыми подарками, от которых князь, разумеется, отказался, прося адъютанта благодарить Царя-Женщину за ее к нему величайшее внима ние и не осудить его за то, что он, к сожалению своему, не может, по обстоятельствам своим, при всем желании, воспользоваться ее богатыми дарами, превышающими в ценности все его состояние.
Адъютант, будучи неожиданным отказом озадачен, начал крепко настаивать и убеждать Казбека в необходимости согласиться принять подарки, как знак благоволения Царя-Женщины.
— Я бы их принял, — заметил князь, — если бы я был в состоянии хоть сколько-нибудь им соответственно взаимно отблагодарить, но я вам говорю, что они больше стоят, чем все мое состояние.
Когда адъютант продолжал убеждать, что отказ его может огорчить великого Царя-Женщину и будет против приличия, то князь спросил его:
— Не правда ли, всякий человек вольно или невольно должен подчиниться своим народным обычаям, веками сложившимся, которые он привык считать священными?
— Правда! — сказал адъютант.
— Если это правда, то кто же из нас прав — вы или я? Повашему стыдно не принять, а по-нашему — стыдно принять и потом ничем не отблагодарить.
Таким образом адъютант с подарками этими отправился обратно в Россию.
— А в чем состоял великодушный поступок его с донскими казаками? — спросил я.
— Русский отряд, — продолжал Мисостов, — расположился там, где теперь стоит Ставрополь. Так как местность эта, как вы знаете, не ровная, состоит из множества балок и возвышенностей, то начальник отряда каждый день по утрам и вечерам высылал на все четыре стороны посотенно казачьи отряды.
Черкесы, подметив их, сделали в двух местах засаду и неожиданно напали на разъезды, из коих одна сотня без малейшего сопротивления, как стадо рогатого скота, была взята в плен; другая моментально соскочила с коней и, застреливши своих лошадей, успела поделать из них себе завалы и ведя перестрелку, наносила черкесам чувствительный урон.
Наконец, черкесы устыдились и разом ударили на них в шашки и оставшихся в живых до шестидесяти человек взяли в плен.
Когда пленные казаки были представлены Казбеку Великому с подробным объяснением дела, то ту сотню, которая без боя сдалась, он приказал отдать черкесам в рабство, не разбирая чинов и звания, а храбрых казаков спросил: — Почему они так дерзко защищались?
— Мы исполняли долг присяги и службы и делали то, что приказывал нам наш командир.
— А у кого родилась мысль зарезать лошадей?
— У сотенного командира, — отвечали казаки.
— Где он?
— Изрубили шашками.
— Жаль его, — сказал Казбек, — он и вы все достойны всех похвал и потому возвращаю вас обратно, в надежде, что вы все получите заслуженные награды.
Таким образом, храбрые казаки, получившие каждый по одной лошади из лошадей трусливой сотни, были отправлены в русский отряд.
Кроме того, черкесы в числе 25 человек напали на казачий пост, состоявший из одного урядника и 7 человек казаков и, забравши их в плен, хвастались своей победой.
Казбек, узнавши об этом, потребовал к себе черкесов и казаков и, отобравши от них подробности бывшего их нападения, казаков уволил, а черкесов устыдил, что они в числе 25 черкесов напали на 7 казаков и считают это победой, тогда как этакое нападение приносит стыд имени черкеса.
— Мы, — сказал Казбек, — благодаря Бога, черкесы (Адыге). Победа, которою мы можем хвастаться, есть следующее: разбить и обратить в бегство отряд, вооруженный пушками и в численности более нашего. Самая завидная и похвальная победа та, когда человек с оружием в руках падает за свою свободу и честь. Неужели мы, к стыду своему, будем считать храбростью и мужеством, если 5 черкесов нападут на двух казаков?..
Вообще он не любил воровские набеги и строго их запрещал…
— Вот вам некоторые из множества эпизодов о Казбеке Великом, — со вздохом заключил князь Мисостов. Поблагодаривши его за сведения, коими я был восхищен, от них я зашел в номер полковник кн. Бекмурзы Айдемирова, который почти всегда был в отличном расположении духа.
Он лет восемь служил в конвое Его Величества, следовательно, нечего говорить о том, что от своего отстал, а к русским не пристал и более думал о том, как бы ему хорошо жить, не касаясь до высших интересов народа, несмотря на то, что он был назначен Валием Кабарды.
Как только я вошел к нему, он обратился ко мне и начал так:
— Князь Мисостов, Магомет Мирза Анзоров и Иналук Кубатиев советуют нам отказаться от подарков и требовать от корпусного командира решительного ответа, останутся ли за Кабардой земли Золко и Этоко или нет. Они странные люди: не зная русских законов, думают, что корпусной командир может им сказать, не спросивши царя: да или нет.
Между тем письмо полковника Широкого обо мне было отправлено к командиру Малороссийского полка, (стоявшего около Владикавказа), полковнику Рихтеру для производства по нем серьезного дознания.
Полковник Рихтер положительно дознав истину, донес корпусному командиру не в пользу Широкого, которому впоследствии того ведено было подать в отставку, а на его место назначили полковника Нестерова, образованного и вполне достойного человека.
Генерал Головин говорил мне, как самому себе, в чем ни мало не ошибался; доверие его я, видя счастье сородичей моих не в войне, а в правильной трудолюбивой жизни, ценил и оправдывал по силе возможности. Вместе с тем я не обвинял чеченцев. Их невольно принудили взяться за оружие.
В 1843 году генерал Головин и генерал Граббе, оба в одно и то же время, были сменены. На место Головина назначен генерал от инфантерии Нейдгарт. На место Граббе — генерал-лейтенант Гурко.
Они оба ко мне не благоволили, подозревая меня в сношении с Шамилем. Поводом к этому послужило следующее обстоятельство.
Старший родной брат мой Хаджи Хамурза не мог равнодушно видеть русского, кто бы он ни был, и, вопреки тому, что я многих из близких людей останавливал от намерения перейти на сторону воюющих горцев (убеждая каждого, что они напрасно боятся за свою будущность и что война эта кроме разорения ничего народу не представит), напротив того, брат мой, поняв лучше меня русское правительство, упрекал меня в легковерии. Он постоянно твердил одно и то же: «Русские на словах, как злая мачеха, утешают счастливой будущностью, а на самом деле уничтожают все источники нашей будущей жизни, как на этом, так и на том свете».
Он считал войну эту священным долгом для всякого кавказца, не исключая и грузин и армян и потому решительно не желая слушать ничего противного, ушел в Чечню.
Уходом его недоброжелатели мои успели убедить новое начальство в небывалых моих переписках с Шамилем.
Зная недоверие ко мне генерала Нейдгарта, я подал ему докладную записку о назначении меня на службу поблизости дома отца моего во Владикавказский военный округ, на что корпусный командир охотно согласился (не желая иметь при себе подозрительного человека). Я тоже с особенным удовольствием оставил главную квартиру, где, не пользуясь доверием, не хотел быть лишним человеком. Между тем чеченцы и главный наиб их Ахверди Магомет, не менее того не верили чистосердечному переходу к ним брата моего, считая его за русского агента, казнили проводника его в Чечню, а самого под строгим караулом отправили к Шамилю. Дав ему верных за себя поручителей, брат получил полную свободу, а также обещание, что вскорости будет назначен наибом.[7]
Я же, руководствуясь спокойной совестью, продолжал по-прежнему безукоризненно исполнять долг человека службы, в чем начальник мой, генерал Нестеров был убежден как нельзя больше и потому постоянно до смерти его (в чине генерал-лейтенанта в 1849 г.) я был с ним в отличных отношениях. Он был одним из редких русских начальников, которого подчиненные ему тагаурцы и назрановцы до того полюбили и уважали, что милиция от них в большом числе находилась при слабых его отрядах и служила гораздо усерднее и полезнее, чем солдаты и казаки. (Правительство нисколько не оценило их службу.)
При кратковременном командовании генерала Нейдгарта, силы Шамиля быстро росли: сильное Аварское ханство и Акушинское общество восстали против русских и подчинились Шамилю (после смерти Ахметхана).
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Назначение главнокомандующим графа Воронцова. — Царпинский старшина Бехо. — Последствия даргинского похода. — Приход Шамиля в Большую Кабарду. — Приезд князя Воронцова во Владикавказ. — Восстание в гор. Кракове. — Переговоры с Шамилем.
В 1845 году последовало назначение наместником и глав нокомандующим генерала графа Воронцова, одного из лучших русских генералов, пользовавшегося в России и Европе популярностью.
В этом же году пошел он с двадцатипятитысячным отрядом через Андию в Дарго (резиденция Шамиля) с полной уверенностью окончить войну в один поход.
Экспедиция эта до того была несчастна для русского оружия, что вышло наоборот. Шамиль, хотя не сумел вполне воспользоваться оплошностью русских, но все таки остался победителем и много возвысился,[8] а Воронцов при всех своих отличных дарованиях, потерял много не только в глазах горцев, но даже в войсках, где бывало говорили: «Воронцова легче бить, чем кого-либо другого».
Так как я был участником Даргинского похода, то окончу о нем говорить тою истиною, что русский главнокомандующий и наследный принц Александр Госсенский были бы у Шамиля военнопленными, если бы он, действуя решительнее, неотступно преследовал разбитого бегущего противника.[9]
Во время проезда Воронцова в Даргинский поход через Владикавказ я был представлен ему Нестеровым, с весьма похвальной стороны. Но главнокомандующий, не знаю по чьей рекомендации, знал о небывалой переписке моей с Шамилем и потому, несмотря ни на отзыв ближайшего моего начальства, ни на личные мои заслуги,[10] обласкал меня гораздо менее, чем менее меня достойных!
Поняв в чем дело, я отправился к себе на квартиру, где застал знакомых гостей в главном штабе. В числе их был полковник Альбранд, назначенный походным дежурным штаб-офицером. С ним я делал два похода в Дагестан и в Абхазию, Из любви ко мне он советовал мне подать докладную записку о позволении мне отправиться в Даргинский поход. Этот поход он и все его товарищи называли последним враждебным походом русских в Дагестан. Убедив Альбранда, что его много походов придется нам делать с новым главнокомандующим, а за себя предложив ему младшего брата моего корнета Индриса и родного дядю поручика Габиса Дударова, отказался от его предложения.
В тот же день явился к графу Воронцову из Нагорной Чечни царпинский старшина Бехо с изъявлением, с. целым обществом, покорности правительству.
Главнокомандующий до того был обрадован приобретением царпинского общества, что считал это верным шагом к скорому покорению всего Дагестана. В этой уверенности, наградив Бехо и его товарищей ценными подарками, поручил Нестерову причислить их общество к Владикавказскому округу, о чем доложил и Государю Императору. Старшина Бехо был одним из людей, у которых нет ничего священного. Он несколько раз изменял Шамилю и русским, пользуясь выгодными случаями и переходя от одного к другим. А в 1830 году, пригласив к себе троих из лучших тагаурских алдар, изменническим образом убил их всех. С того времени, боясь мщения, до приезда Воронцова не смел никогда показываться в наши края. Теперь, считая себя под покровительством главнокомандующего, подняв высоко голову, отказался не только от разбирательства по существовавшему народному обычаю, но даже не хотел избегать встречи с наследниками убитых алдар, которые, зная всем горцам объявленные статьи закона,[11] сами избегали встречи с ним.
Видя наглость Бехо и слабость моих дальних родственников, я дал себе обет при встрече с Бехо употребить против него свое оружие. Me стараясь особенно отыскивать к тому случаю, раз, в четыре часа пополудни, выходя от начальника округа, как раз у ворот крепости наткнулся на него. Он со свитою в числе семи человек шел также к начальнику округа. Тут выстрелом из пистолета своего исполнил данный мною обет и Бехо был убит (в чем раскаиваюсь). Из свиты его сделали также по мне два выстрела, они меня миновали и убили лошадь под одним из при мне находившихся.
Тот же час в крепости ударили тревогу и если бы войска скоро не подоспели, то между сородичами Бехо и тагаурцами неминуемо была бы кровавая схватка. (Слава Богу, что ее не было).
Затем, вскорости я был потребован к начальнику округа, которому объяснил истину, побудившую меня решиться на то, что уже случилось, а также готовность свою выдержать безропотно должное за это наказание.
Благородный Нестеров, хорошо зная фальшивое обо мне мнение главнокомандующего и силу статей закона, даже при мне не мог скрыть своего опасения, говоря: «Право, не знаю, как написать теперь главнокомандующему и как убедить его, что в убийстве царпинского старшины, кроме кровной мести, ничего не скрывается». При этом изъявил искреннее свое сожаление и приказал мне отправиться под арест в главную гауптвахту.
Спустя пять суток собрались тагаурские алдары и объявили Нестерову, что арестом меня за убийство Бехо, который должен народу еще две крови, они сильно оскорблены.
Нестеров, имея это предлогом, приказал тотчас же меня освободить из под ареста, а главнокомандующему донес в том смысле, что это дело для спокойствия края необходимо предоставить народному обычаю. На что последовало согласие главнокомандующего и тем кончилась вражда между тагаурцами и царпинцами.
Воронцов из несчастного Даргинского похода или лучше сказать, из ужасного своего поражения извлек огромную пользу. Он, убедясь, что все меры и средства, которые правительство употребляло на Кавказе, служили лишь средством начальству его достигать чинов, орденов и ложной славы, изменил решительно образ войны и управления на Кавказе, где до того всякий новый начальник творил свои законы и систему войны по произволу.
Поэтому горцы, вследствие беспрерывных противоречий начальства, не верили и благим намерениям князя Воронцова. Вследствие этого, после Даргинского похода многие из влиятельных лиц в Кабарде и в Тагауре начали переговариваться с Шамилем и, приглашая его к себе, готовили народ к всеобщему восстанию. Между ними некоторые из моих родственников и хороших знакомых обратились ко мне, чтобы вместе с ними готовить народ к восстанию, Хотя я от всей души желал им полного успеха, не зная Кабарду, Тагауры и Дигоры, где многие из высшего сословия не отказались от надежды на возможность добиться справедливого отношения от русских и тщетно утешали себя ложными обещаниями начальства, был уверен, что общее восстание не могло состоятся, а потому советовал им отложить это до другого, более удобного случая и совокупно настоятельно просить царского наместника об утверждении за ними личных и поземельных прав.
При таких обстоятельствах, не желая оставаться на Кавказе, я имел случай воспользоваться командировкою в город Варшаву, для отвода туда чинов конно-горского полка, состоявшего при действующей армии.
В следующем 1846 году Шамиль с многотысячным ополчением прибыл в Кабарду. где, как я предвидел, одни из князей со своими подвластными пристали к Шамилю, другие остались на стороне русских. Шамиль же, действуя нерешительно, стал недалеко от русской крепости Нальчика, которая, будучи в центре Кабарды с очень слабым гарнизоном, легко могла бы быть взята, если бы Шамиль согласился на просьбу кабардинских своих наибов,[12] штурмовать ее и, ожидая там десять дней в бездействии общего кабардинского восстания, был окружен со всех сторон русскими войсками, от которых с помощью кабардинцев ночью, хитро скрыв свое движение, успел близ русского отряда благополучно переправиться через Терек и невредимым возвратиться в Чечню со всем ополчением. Он сильно сконфузил всех бывших против начальников русских отрядов.
Из этого движения Шамиль приобрел, что из числа кабардинцев Магомет Анзоров, Магомет Куднистов с несколькими авторитетными узденями и из Тагаурских алдар Дударов ушли в Чечню, где с большою пользою служили Шамилю в звании наибов.
Так кончилось нашествие Шамиля на Кабарду и стремление некоторых кабардинских и тагаурских почетных людей, желавших доброго, но по разногласию влиятельных людей невозможного дела соединения Дагестана с Закубанью.[13]
На другой день после ухода Шамиля из Кабарды прибыл во Владикавказ князь Воронцов, который к общему удивлению и сверх всякого ожидания горцев и русских ни одного из приставших к Шамилю кабардинцев и тагаурцев не наказал, а многих, не принявших сторону Шамиля, наградил, чем совершенно успокоил и убедил горцев в готовности своей искать случая награждать, а не наказывать. Такой системой князь Воронцов управлял и, командуя войсками, положил верную основу к скорому покорению Кавказа, За что в городе Тифлисе поставлен ему достойный памятник.
Хотя и после него бывший главнокомандующий и наместник князь Барятинский поддерживал систему управления Воронцова, но, несмотря на счастливые его походы против горцев и взятие Шамиля в плен, он не может быть сравнен с князем Воронцовым.
Во время бытности Шамиля в Кабарде, я, как выше сказано, был в городе Варшаве, где, сдав вверенную мне команду, собирался возвращаться на Кавказ.
В один день, чуть свет вошел ко мне начальник иррегулярной бригады генерал-майор князь Бебутов, и, застав меня в постели, сказал: «В городе Кракове полное восстание и все поляки Царства Польского с ними заодно в заговоре и потому мне приказано сегодня же выступить в Краков со всею моею храброй бригадою. Надеюсь, что и храбрый ротмистр Муссабек сделает мне удовольствие и пожелает принять начальство над конно-горским дивизионом и отправится с нами». С большим удовольствием я согласился на предложение князя Бебутова и в тот же день выступил с дивизионом в поход.
Приближаясь к городу Кракову, мы встретили городских депутатов, которые на вопрос Бебутова, что делается в городе, ответили, что мятежники, узнав о приближении русских войск, чуть свет оставили город и отправились к прусской границе.
Князь Бебутов отправил делегатов этих к генералу Пенютину, следовавшему за нами со своей дивизией, а сам, подъехав с бригадой к воротам города, ожидал приказания генерала Пенютина. В скором времени вернулись и депутаты, с которыми бригада наша вошла в Краков, где жители встретили нас с поддельной радостью.
На другой день мы и донской казачий полк под командой полковника князя Барятинского, (который в 1856 году был на Кавказе царским наместником и главнокомандующим войсками), напрасно преследовали до самой прусской границы мятежников. Они четырьмя часами раньше перешли ее и, сложив там оружие, отправились далее, Тем кончился наш быстрый поход.
Когда я вернулся из Варшавы на Кавказ, князь Воронцов, а, в особенности, супруга его, начали ко мне благоволить. Князь, вследствие рекомендации бывшего во время командования краем ген. Головина начальником его штаба генерала Коцебу, в том же году вторично назначенного начальником Главного Кавказского Штаба, а княгиня, по рекомендации товарища моего, ротмистра Султан АдильГирея, бывшего адъютантом главнокомандующего. Таким образом, оставаясь при генерале Нестерове, я пользовался хорошим расположением и доверием главнокомандующего.
В 1848 году главнокомандующий поручил мне склонить Шамиля к переговорам о заключении мира через посредство знакомых мне его наибов: кабардинца Магомета Мирзы и родственника моего Дударова, бывших у Шамиля и у горцев в большом почете.
Переговоры мои сначала шли очень удачно, но, к сожалению, под конец они не состоялись. Шамиль требовал независимости от русских всех горцев, бывших тогда под его властью, на что князь согласился, исключая из этого числа Малую Чечню.
К несчастью, в то самое время, при набеге около гор. Кизляра, небольшой чеченской партией был взят в плен один отставной русский майор, которого, не знаю за что, Шамиль приказал расстрелять. Поступок этот до того рассердил князя Воронцова, что узнав о нем, князь прекратил с ним всякие переговоры.
Во время переговоров этих я вывез из Чечни сильно трогательное впечатление. Что день, что час во всех аулах злополучные жители ожидали с оружием в руках нападения врага, действовавшего против них огнем и мечом. Мужчины, удалив страх смерти, успокаивали себя в мечети молитвой, ободряющей их к твердому сопротивлению.
Народные песни заменили следующей: «Нет Бога, кроме единого Бога. О, Боже! Мы не имеем никого, к кому бы мы могли обратиться за помощью, никого, кому могли бы довериться. На Тебя только уповаем. Тебя только умоляем: избавь нас от тирана (аулум)».
Песня эта в саклях и на улицах была постоянно на устах обоего пола. Слыша ее из уст детей, только что начавших говорить, и сознавая в ней истину, сердце изливалось кровью.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Старшина Гехинского общества и пленный солдат. — Вызов охотников в Венгерскую кампанию. — Назначение меня командиром конно-горского дивизиона. — Брожение среди тагаурских алдаров. — Переход брата моего к Шамилю. — Отпуск мой на Кавказ и свидание с братом.
Вернувшись в Тифлис, князь Воронцов между прочим спросил меня:
— В каком же настроении дух у чеченцев? Доложив ему почти слово в слово написанное, я продолжал:
— Хотя надежда на Шамиля и на свою силу у них менее прежней, но желания изъявить покорность я в них не заметил. В будущем их ужаснее смерти пугает нужда и гонения.
Князь, нахмурившись, что-то начал обсуждать в душе и немного спустя спросил меня:
— Какой же результат ожидают они от продолжения войны?
— Они его понимают, — ответил я, — но, к несчастью, говорят: «Лучше умереть, чем увидеть и испытать то, что русские хотят делать с нами».
— Гм! — сурово заметил князь. — Для этого не надо им большого ума: умереть сумеет всякий дурак. Неужели между чеченскими влиятельными людьми нет таких, которые могли бы понять, что Шамиль и с ним все духовенство употребляют доверие к ним народа во зло?
— Очень много, — ответил я, — но, как я имел случай доложить вашей светлости, народ, боясь неизвестной своей будущности, невольно им подчиняется.
— Время все разъяснит, — продолжал князь, — мы теперь пойдем вперед медленными шагами, но зато где станем, там останемся твердо!
Тут, кстати, я пожелал сделать ему известным весьма похвальный поступок старшины Гехинского аула Монтты, у которого, ожидая приезда наибов Анзорова и Дударова, гостил двое суток.
Старшина этот, рассказав мне подробности бывшего первого кровопролитного дела в Гехинском лесу, заключил его следующим эпизодом: «В этом деле я из пленных солдат взял к себе одного по прозванию Фидур (Федор). Он находился у меня три месяца. Работал больше и лучше, чем можно было от него ожидать и требовать. Все мои домашние его полюбили и обращались с ним, как с родным. Несмотря на это, он был ничем не утешен. Постоянно был мрачен и грустил. Как только он не работал и бывал наедине, заставали его в крупных слезах.
К сожалению моему, я узнавши об этом, призвал его к себе и спросил:
— Фидур, зачем ты часто плачешь? Кто тебя обижает? Может быть, тебя, помимо твоего желания, заставляют работать, или кто-нибудь тебя чем-нибудь пугает? Скажи правду. Представьте себе, что он мне ответил:
— Меня никто не обижает, не пугает и не принуждает работать. Я, кушая твой хлеб, должен тебе работать. А плачу потому, что надо плакать.
— Зачем же тебе надо плакать? — спросил я.
— А вы, — сказал он, — зачем воюете и проливаете кровь свою?
— Гм! Гм! — заметил я, — мы проливаем кровь свою из-за того, что вы, русские, не боитесь Бога и хотите уничтожить нашу религию и свободу и сделать нас казаками.
— Что правда, то правда, — продолжал он, — вот и я столько же люблю свою родину и религию и за них плачу. Если бы я не попался в плен, то скоро получил бы отставку и в своей деревне со своими родными ходил бы в церковь молиться Богу, а здесь… — он не договорил — слезы потекли ручьями из его глаз и цвет лица изменился.
Сцена эта так сильно меня тронула, что, Баллах (ей Богу), я в ту же ночь посадил его на коня и поехал с ним до Урус-Мартановской крепости и, не доезжая четверть версты до ворот, приказал ему слезть с лошади и отправиться в крепость, прося его говорить всем, что он сам убежал от меня.
Таким образом, я с большим удовольствием обняв Фидура, простился с ним. Он от глубины души поблагодарил меня, как стрела пустился в крепость, а я чуть свет вернулся назад. До сих пор кроме вас, никто ни из домашних моих, ни из жителей не знает истину: считают его бежавшим. Если Шамиль узнает об этом, то, конечно, меня расстреляют».
С того дня к старшине Монтты я питал уважение и готов был ему помочь, в чем только мог, за то, что справедливая вражда и месть не притупили его сердца.
Он переселился со мной и умер в Эрзеруме.
Остается для меня тайной — тот ли случай, расстрел отставного майора, о котором я рассказал, был причиною перерыва переговоров, или в Петербурге не согласились с князем Воронцовым. Однако более полагаю, что главнокомандующий, желая по чувству человеколюбия устранить кровопролитие, не поменял бы свое предложение вследствие неловкого поступка Шамиля, если бы он не встретил переговорам этим противодействия в Петербурге, где не знали Кавказа так, как им следовало бы знать.
В следующем, 1848 году, по случаю Венгерской кампании, Государю Императору угодно было усилить двумя сотнями конно-горский полк, куда горцы совершенно потеряли охоту отправляться на службу. Поэтому князь Воронцов, желая представить мне случай командовать этим полком, поручил мне вызвать охотников и отправиться с ними в гор. Варшаву.
В чине майора, гордясь таким лестным назначением — быть командиром полка, — я приступил к скорому сбору охотников и в марте месяце 1849 года выступил с дивизионом в поход.
В городе Новгороде Волынском я получил предписание от начальника Главного Штаба действующей армии кн. Горчакова следовать прямо в Венгрию по присланному маршруту.
15 июня 1849 года в городе Радзивилле я перешел границу и по окончании кампании, в том же году, 24 сентября, прибыл в Варшаву и, сдав дивизион генералу кн. Бебутову (под командой коего находился старый дивизион), ожидал скорого назначения моего командиром полка, на что более, чем кто либо, имел право, потому что, как в старом, так и в новом дивизионе все чины были получены мною; кроме того князь Воронцов рекомендовал меня фельдмаршалу. как достойного штаб-офицера. Но князь Бебутов не хотел расста ваться с полком, дававшим ему доходу в год не менее десяти тысяч рублей и, будучи любимцем фельдмаршала, не знаю каким образом, успел убедить главнокомандующего, чтобы оба дивизиона соединить в один усиленный дивизион и оставить его по-прежнему под непосредственным начальством ген. Бебутова (оставя меня коман дующим дивизионом только по строевой части).
Когда все это было устроено и решено, кн. Бебутов пригласил меня к себе на обед и после сытного, хорошего обеда объявил мне горькую новость, уверяя, впрочем, что он будто бы при всем желании своем не мог получить согласия фельдмаршала князя Паскевича сдать мне вполне дивизион на законном основании, как по строевой, так и по хозяйственной части, раньше истечения одного года.
От такого не бывалого в русской армии назначения я наотрез отказался и тут же просил его как можно скорее отправить меня на Кавказ и не считать меня таким пошлым дураком, который поверил бы тому, что он иначе не мог сделать.
Князь Бебутов, как видно из следующих его слов, не совсем поверив моему решительному отказу, опять начал говорить:
— Любезный Мусса-бек, вы хорошо знаете, что я вас люблю, как родного брата, как сына своего, и потому не хочу, чтобы вы упустили из рук случай, который вам предстоит. Через год, а может быть и раньше, вы будете командовать дивизионом так, как желаете. Советую вам хорошенько подумать и согласиться на то, что решено Его Светлостью и чего ни вы, ни я и никто не в состоянии теперь изменить.
Услышав опять первый мой ответ он, сильно вздохнув, сказал:
— Ужасный вы человек! Я вас не понимаю, неужели вы думаете, что фельдмаршал будет упрашивать вас остаться здесь.
— Если бы я думал так, — сказали, — то сумел бы лично обратиться к Его Светлости. Прошу вас верить тому, что я теперь буду думать и стараться только о том, чтобы поскорее выехать из Варшавы.
Затем, не желая более слушать его настаивания, я отправился к дежурному генералу Заблодскому с просьбой о выдаче мне подорожного бланка, прогонных денег и отправить на Кавказ.
Дежурный генерал, будучи заодно с Бебутовым, обещал скоро исполнить мое желание, т. е. отправить меня на Кавказ. При этом он изъявил свое удивление, что я отказываюсь от такого лестного для меня назначения.
В ожидании отправления моего на Кавказ пришли ко мне на квартиру депутаты от старого и нового дивизионов и подали мне следующую записку от своего казначея:
«Сейчас же после отъезда Казбека и Идриса собрались ко мне обе сотни и сказали, что они слышали будто бы вы не остаетесь и уезжаете на Кавказ. Мы шли, говорят они, с Кавказа с Муссою и с ним хотим служить, другого начальника у нас не может быть и, если наше желание не будет исполнено и Мусса оставит нас, то потом уже никто не обманет наших других соотечественников и никакая власть и сила не может принудить нас оставаться служить под командою другого. Если нам придется умереть, умрем до последнего, зато соотечественники будут знать, каково нам было служить! Вот их слова. Что хотите, то и делайте. Они выбрали из среды себя депутатов, которые теперь вам объяснят то же, что и мне. М.Мизенов. И. Б. Понкевич».
Успокоив депутатов, что все это перемелется, я приказал им отправиться к кн. Бебутову и сказать ему так же откровенно, все то, что сказали мне.
Бебутов, тревожно выслушав депутатов, в тот же день отправился к дивизиону, где сверх всякого ожидания своего нашел всех членов в ужасном волнении, готовых броситься на него. Бебутов и тут не сконфузился. Он возвратился в Варшаву и сумел поправить все так, что я через пять дней вступил в командование усиленным Кавказским конно-горским дивизионом на законном основании, как по строевой, так и по хозяйственной части.
Таким образом, я служил при действующей армии, пользуясь всеми выгодами европейской жизни в среде образованного общества, в кругу хороших знакомых — русских и польских.
Последние к нам, к кавказским народам, больше были ласковы и внимательны, чем к русским, грубое обращение коих с туземцами, по естественным человеческим чувствам, внушало сильнейшее отвращение даже всякому благовоспитанному русскому.
Вступив в командование дивизионом, я завел в нем школу и требовал от всякого молодого всадника знать по-русски, читать и писать и четыре правила арифметики, а по-арабски столько, сколько надо было знать для совершения намаза.
Также нельзя было не обращать внимания на могилы полкового кладбища, где с 1835 г. было погребено значительное число всадников. Будучи отделено от других кладбищ и без всякой ограды, кладбище это топталось ходившим в поле скотом. Я построил вокруг него ограду из жженого кирпича, с красивыми воротами. Около них я поставил каменный памятник.
Ограда и памятник этот по прочности своей простоят долго, как укоризна предшественникам моим, которые, в течение шестнадцати лет, пользовались выгодами полка и дивизиона, но не захотели обратить внимания на то, что составляло прямую их обязанность.
Таким образом, хорошим порядком и устройством дивизиона я желал убедить начальство, что горец умеет ценить и оправдывать доверие.
В 1851 году я получил с Кавказа известие, что старший брат мой перешел на сторону Шамиля и что многие из тагаурских алдаров также хотят последовать его примеру. Огорчившись поступком брата моего и желая знать причины неудовольствия тагаурских алдаров и при возможности помочь им я, 18 апреля 1852 года, отправился в четырехмесячный отпуск и на всякий случай дивизион сдал, на законном основании, товарищу моему майору Султану Адиль Гирею.
Приехав домой, я узнал, что начальник Военно-осетинского округа барон Вревский, будучи председателем комитета, учрежденного для разбора личных и поземельных прав туземцев, требовал от высшего сословия представления грамот и актов, которых они, до прихода русских на Кавказ, не имея над собой никакой власти, не могли иметь, не от кого их было их получить.
Алдары, предвидя настоящее свое нищенство, начали перегова риваться о Шамилем. Один из посланных им к алдарам был на дороге убит русским пикетом и письмо Шамиля, адресованное моему брату, было взято с убитого чеченца.
Брат мой, узнав об этом и боясь ссылки в Россию, ушел с семейством своим в Чечню, оставив хозяйство, аул и все имение наше в руках младшего брата моего Афако, который также, боясь права сильного, не ходил ни к одному из начальников.
С позволения начальства я потребовал свидания с братом моим в ауле мирных чеченцев, и упрекнув его в необдуманно сделанном поступке, советовал ему воспользоваться позволением начальства вернуться назад и водвориться по-прежнему со всеми правами собственности, которая в противнем случае неизменно конфискуется.
Брат мой не согласился, говоря: «Лучше не жить, чем жить так, как приходится теперь нам, дворянам. Попробую свое счастье. Удастся — хорошо, не удастся — я буду в числе тех, которые желали, да не могли сделать».
При этом разговоре нашем со мной были родственники — лейбгвардии казачьего полка полковник Касбулат Есенов, ротмистр Заурбек и поручик Ислам Дударовы. Они также, как вообще все тагаурские и дилерские алдары, потеряв всякую надежду на лучшее будущее, желали попробовать счастье и согласились с мнением брата моего: чтобы пришел Шамиль с большою силою и, заняв ВоенноГрузинскую дорогу, выше гор. Владикавказа заставил восстать тагаурцев, куртатинцев, алагирцев, дигорцев, назрановцев, затем Малую и Большую Кабарду (всего более 25000 дворов).
Зная вражду между сословиями в Тагауре и в Дигоре, а также нерешительность Шамиля, я выставил им примером недавний (1846 г.) приход Шамиля в Большую Кабарду и требовал от брата вернуться домой. Но все, что было сказано мной о возвращении его домой, брат отвергнул с негодованием, и таким образом мы расстались с ним.
Я вернулся во Владикавказ и, доложив генералу Вревскому о несогласии брата моего возвратиться назад, отправился в Тифлис, где бывшему начальнику главного штаба генералу Вольфу (другу Вревского) сообщил подробно о неправильном взгляде ген. Вревского при разборе личных и поземельных прав высшего сословия горцев.
Вольф с тонкою улыбкою, притворно согласившись со мной, обещал доложить главнокомандующему все, что мною ему было сказано.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Приход Шамиля в Галашку. — Начальник Владикавказского военного округа ген. барон Вревский. — Назначение ген. Муравьева'на место князя Воронцова. — Назначение князя Барятинского. — Назначение мое начальником Осетинского округа. — Назначение мое начальником Чеченского округа. — Прокламация князя 'Барятинского чеченскому народу. — Сбор представителей Чечни. — Мое письмо чеченцам. — Перемена отношения правительства к чеченскому народу. — Конфискация чеченских земель.
Между тем срок отпуска моего приходил к концу. Не желая оставить близких сердцу моему родных в таком тревожном состоянии, я должен был отказаться от командования дивизионом и обратился к главнокомандующему с ходатайством о разрешении мне и брату моему Идрису состоять по-прежнему при Кавказской армии. Получив согласие князя Воронцова, во Владикавказе я вскоре узнал, что Шамиль собирает большой сбор и готовит против русских крупную экспедицию.
Вревский, разумеется, знал от лазутчиков все, что делает мой брат Хасбулат в Чечне и ложно был уверен, что он действует по моему внушению и что я готовлю народ к восстанию. В этой уверенности он назначил людей тайно следить за моими действиями (в чем Вревский, как начальник края был прав, ибо я невольно навлекал на себя подозрение).
Зная недоверие к нам Вревского, я не захотел предлагать ему своих услуг, и потому я и брат мой Идрис остались дома, не приняв с ним участия в походе навстречу Шамилю, куда он с четырьмя батальонами пехоты, с частью артиллерии и несколькими сотнями кавалерии (в апреле месяце) пошел в самые Галашевские трущобы, где мог бы быть со всех сторон окружен и наголову разбит, если бы Шамиль был более решителен и отважен. Он, имея полный перевес над отрядом Вревского, повернул назад свое храброе ополчение, умолявшее его сразиться с противником.
Шамиль, при всех своих высоких природных достоинствах, впоследствии перестал пользоваться плодами своих действий и благоприятными обстоятельствами, которые очень часто упускал из рук, не отваживаясь тотчас же после своих побед на быстрое движение к народам, его приглашавшим.
Вообще он и наибы его в бою без всякого искусства одерживали верх лишь храбростью и мужеством горцев.
Ген. Вревский, с торжеством вернувшись во Владикавказ и видя брата моего Идриса в числе других в приемном зале своем, спросил его:
— Почему вы и брат ваш, полковник Мусса, не захотели принять вместе с нами участие против движения Шамиля? Неужели потому, что старший ваш брат Хасбулат руководил этим движением? Да! Это не делает вам чести, тем более что вы имеете счастье носить эполеты русского царя!
Идрис ответил ему:
— Я и мой брат не были с вашим превосходительством не потому, что старший наш брат у Шамиля, а потому, что не получили ни от кого никакого приказания.
Вревский отвернулся от него и стал разговаривать с другими, ему представлявшимися. Брат же мой, понапрасну оскорбленный, тотчас же вышел от него и на другой день прискакал к нам домой. Узнав о сделанном ему замечании и от всей души пожелав то же услышать от Вревского что-либо подобное, я в тот же день отправился к нему во Владикавказ, с полным убеждением, что он даст мне повод сказать ему кое-что о его поведении, которым он себя обесчестил. Радуясь этому случаю, прямо с дороги, вошел я в дом начальника округа, который по докладу ему обо мне вышел в залу и как всегда очень приветливо пригласил меня к себе в кабинет.
Считаю лишним описывать разговор наш с Вревским, я скажу только, что он, несмотря на вспыльчивый характер, при всем моем желании и старании не подал мне ни малейшего повода к резким выражениям.
Вскорости я был потребован в Тифлис, где главнокомандующий в кабинете своем, в присутствии начальника штаба ген. Вольфа, сказал мне:
— Генерал барон Вревский по разным обстоятельствам считает неудобным нахождение ваше на левом крыле, а потому я желаю назначить вас на правый фланг, к генералу Евдокимову. Там службой своей вы можете принести большую пользу.
Охотно изъявив на это свое согласие, я имел случай объяснить кн. Воронцову, в присутствии Вольфа, произвольное управление начальника Владикавказского военного округа и, сколько мог заметить, князь был доволен моей откровенностью. Когда же Вольф, опровергая мои указания, начал оправдывать Вревского, то князь с досадою сказал:
— Нельзя не согласиться с тем, что народные обычаи, освещенные веками, суть самые верные документы, и комитет без правильного определения отношений между сословиями не может правильно разобрать ни личных, ни поземельных прав их. (О чем для руководства приказал ему написать Вревскому).
Начальник правого фланга Евдокимов, зная меня и прежде, был очень доволен моим к нему приездом. Служа с ним до открытия турецкой кампании, я был с ним в дружеских отношениях, и он отзывался обо мне с весьма похвальной стороны.
В 1855 году на место князя Воронцова был назначен генерал Муравьев, который во время проезда своего в Тифлис через Владикавказ, между прочим, спросил меня, почему полк мой не был в деле против турок?
— Не имел случая встретиться с турецкими войсками, — ответил я.
— Надеюсь, — сказал он, — что в нынешнем году полк ваш будет иметь случай подраться с турками и покрыть себя славой.
Через десять дней после отъезда его последовало приказание сформировать из горцев в 4-х сотенном составе один полк.
Всем начальникам округов было предписано пригласить охотников. Их оказалось всего только 150 человек и потому из корпусного штаба последовало приказание поручить их одному обер-офицеру, пользующемуся между горцами уважением.
Выбор пал на моего брата, ротмистра Идриса. Хотя ни я, ни он не были довольны этим поручением, но нечего было делать. Брат мой, по настойчивым приказаниям ген. барона Вревского, должен был отвести их только до главной квартиры на турецкой границе и вернуться назад. Идрис поверил слову Вревского и, не приготовив себя к кампании, отвел дивизион этот до главного отряда, где главнокомандующий генерал Муравьев приказал ему непременно остаться и командовать этим дивизионом. Брат мой, прослуживши там четыре месяца, вернулся назад домой с наградами: чином майора и орденом св. Станислава 2-й степ. на шее.
В том же году генерал Евдокимов был назначен начальником всей Терской области и, как войска, так и все округа, там расположенные, подчинились ему.
В 1856 году генерал Муравьев был смещен. Главнокомандующим Кавказской армией и наместником Кавказским был назначен князь Барятинский.
Состоя при ген. Евдокимове, я участвовал во всех бывших экспедициях, получая разные поручения, то как начальник всей кавалерии отряда, то как начальник отдельного отряда.
Наконец по настойчивой просьбе его я был назначен в 1857 г., 14 января, к общему удивлению, начальником Владикавказского военного округа, на место генерала Мищенко. Назначение мое на некоторое время было предметом различных суждений (между русскими).
Одни говорили, что я, начальствуя на родной земле, легко могу увлечься в пользу народных элементов, и виды правительства сильно пострадают и дело испортится надолго.
Другие же говорили, что я знаю край и народ лучше всякого другого, и потому начальство может требовать от меня более чем от незнающего ни края, ни народа.
Как бы то ни говорили, приказ состоялся, и я был очень рад своему назначению, давшему мне случай осуществить давнишние мои искренние желания: уничтожение обычаев, оставшихся в народе с варварских времен, разорявших их домашнее благосостояние, поддерживая постоянно вражду, вместо доброго согласия, от которого зависит народное счастье.
Кроме того, из мелких аулов я устроил большие аулы и где было возможно, заложил сады, завел в некоторых аулах школы для обучения чтению и письму. Вызвал из Одессы англичанина-фабриканта полевых машин, выписал несколько плугов. Одним словом, приложил все свои старания и способности чтобы хоть сколько-нибудь приучить народ пользоваться богатыми дарами природы, на которые ни один из начальствовавших русских не считал нужным обратить внимание народа, несмотря на то, что все высшее начальство на бумаге желало и даже требовало этого от них.
Здесь я помещаю копию письма графа Евдокимова к начальнику Главного Штаба ген. Милютину (ныне военный министр):
«Из писем моих и личных объяснений Вашему Превосходительству известно, что самою ненадежною и неустроенной частью на левом крыле был Военно-осетинский округ. Не далее как год тому назад в этом округе происходили народные волнения, а разбои на дорогах и в окрестностях Владикавказа были вещью' самою обыкновенною. В январе месяце нынешнего года заведование округом поручено полковнику Кундухову, и в течение семи месяцев энергичного и деятельного управления штаб-офицер этот успел восстановить в округе полный порядок и устройство. Разбои прекращены, народ предался мирным целевым занятиям, множество полезных мер введено для улучшения быта народного, и в настоящее время по справедливости я должен считать Военно-осетинский округ самою надежною и благоустроенною частью левого крыла. Желая вознаградить полезную службу полковника Кундухова и поощрить его к дальнейшей деятельности, я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство не оставить особенным ходатайством перед главнокомандующим о производстве полковника Кундухова в генерал-майоры, согласно моему представлению.
Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и искренней преданности, с которыми имею честь быть вашего превосходительства покорнейшим слугою.
Гр. Евдокимов»
Согласно представления графа Евдокимова, я был произведен в генерал-майоры в 1860 году и в том же году сверх всякого ожидания и желании моего, я был назначен начальником Чеченского округа и командующим войсками там расположенными (одна пехотная бригада, пять линейных батальонов пехоты, один драгунский, четыре казачьих полка кавалерии).
В Чечне прежняя вражда и ненависть к русским начинала оживляться с новою силою и надеждою, так что в Нагорной Чечне шатоевцы, чибирлоевцы и ичкерийцы восстали и начали осаждать русские крепости, и потому, к сожалению, я должен был оставить Осетинский округ и все, что там начал заводить. (Что, к прискорбию, после ухода моего опять забыто народом и начальством).
Вступив в управление Чеченским округом, не теряя времени, я начал объезжать все аулы, где как духовенство, так и жители во всех аулах откровенно высказывали мне свои жалобы и неудовольствия на окружное управление и опасения за их будущность.[14]
Благодаря Богу мне удалось устранить бесполезную и разорительную войну. Успокоив чеченцев и войска, бывшие готовыми начать войну, начал я убеждать и высшее начальство в необходимости определить и объявить чеченскому народу то, что от русского правительства их ждет в будущем, что без этого все меры и старания водворить в крае желанное спокойствие не принесут результата.
Вследствие этого главнокомандующий дал чеченскому народу следующий акт:
ПРОКЛАМАЦИЯ ЧЕЧЕНСКОМУ НАРОДУ
«Объявляю вам от имени Государя Императора:
1. Что правительство русское предоставляет вам совершенно свободно исполнить навсегда веру ваших отцов.
2. Что от вас никогда не будут требовать солдат и не обратят вас в казаки.
3. Даруется вам льгота на три года со дня утверждения сего акта. По истечении сего срока вы должны будете, для содержания ваших народных управлений, вносить по три рубля с дома. Предоставляется, однако, аульным обществам самим производить раскладку этого сбора.
4. Что поставленные над вами правители будут управлять по шариату и адату, а суд и расправы будут отправляться в народных судах, составленных из лучших людей, вами самими избранных и утвержденных начальством.
5. Что права каждого из вас на принадлежащее вам имущество будут неприкосновенны. Земли ваши, которыми вы владеете или которыми наделены русским начальством, будут утверждены за вами актами и планами в неотъемлемое владение ваше, и только в случае нарушения верности Государю Императору изменой или возмущением лишаетесь вы владения ими.
6. Что обычай кровомщения (канлы), как противный народному благосостоянию, уничтожается, а убийцы будут судимы и наказываемы по русским законам.
Подлинную подписал главнокомандующий Кавказской армией и наместник Кавказа, ген. фельдмаршал кн. Барятинский».
Получив акт этот при предписании графа Евдокимова для вручения его чеченскому народу, я был обрадован как никогда в жизни (хотя, как впоследствии оказалось, радоваться было нечему) и предписал всем наибам приехать с почетными людьми в крепость Грозную.
К назначенному дню собралось несколько тысяч народу, которому по прочтении я вручил акт для хранения, как неизменный закон. При этом пожелав, чтобы весь народ также знал о бывшем во время сбора разговоре и о силе и важности врученного акта, обратился к нему со следующим письмом:
«Народ чеченский! Вступив в управление вами в настоящем году 17 числа июля месяца, я первым долгом поставил себе, как начальник, поскорей познакомиться с вами и в течение августа месяца был во всех аулах Большой и Малой Чечни. Приятно и умилительно было мне, когда вы убедились в своих ошибках и заблуждениях. При мне вы дали во всех аулах между собою клятву вести себя хорошо и честным трудом улучшать свое хозяйство, которое, как вы сами выражались, вследствие несчастной 20-летней войны до крайности разорено.
Вы тогда же, между прочим, во всех аулах откровенно и одинаково высказывали мне свои опасения о неопределенности вашей будущности.
Все, что я говорил о необоснованном опасении вашем и неспра ведливости толков, распускаемых между вами неблагонамеренными людьми, теперь доказано на деле.
Милость Государя чеченскому народу, объявленная уже вам на сборе всех почетных людей ваших, обрадовала меня больше, нежели вас самих. Более добра, более милости народу сделать нельзя. Каждый из вас вполне должен успокоиться не только за свою будущность, но и за будущность своих наследников. Разумеется, дальнейшее потомство лучше оценит эти милости. Оно будет жить в довольствии на богатой земле, будет благословлять вас, предков своих, удостоившихся получить эти права. Чеченцы, если бы ваши отцы, ваши братья, погибшие с оружием в руках в вышесказанной несчастной войне, могли встать и говорить, они сказали бы вам: „Дети и братья, молитесь Богу, благодарите Государя и начальство, предоставивших вам эти милости. Вы получаете то, чего ни вы, ни мы не ожидали“.
Чеченцы! Мне же, как начальнику и единоземцу вашему, понимающему хорошо милости эти, грешно было бы не дать вам благой совет: берегите права эти, как глаз свой, бойтесь потерять их, ибо если вы их потеряете, то ни вы, ни дети ваши более их никогда не получат. Не забывайте ваши обещания и мои наставления, которые мы при сборе в каждом ауле давали друг другу.
Чеченцы! Не позволяйте обманывать себя неблагонамеренным людям, которые под личиной добра, делают вам зло. Старайтесь уничтожить существующие между вами вредные и даже постыдные привычки: воровство, разбой, грабежи и убийства. Они Богу противны, не соответствуют духу настоящего времени и считались достоинством во времена безначалия и глубокого невежества, т. е. во время (мажусы), когда никто из кавказских горцев не знал как Богу служить, что Ему приятно, что противно. К несчастью, тогдашние привычки и понятия между нашими горскими племенами до сих пор передаются от отца к сыну, как заразительная болезнь. Слова эти говорю вам чистосердечно, как собрат по религии. Уверен, что умные люди, верующие в единого Бога, поймут меня. Тех же, что не поймут меня, заставьте понять сами. Этого требует польза народа. Иначе ошибка вас погубит. Хотя чувства мои я лично уже передавал при сборе всем почетным людям вашим, но, желая, чтобы они были известны всем чеченцам, от ребенка до старика, я прошу кадиев и мулл прочитать это при общем собрании народа в мечетях в каждом ауле.»
После врученного чеченцам акта я имел возможность скоро и без особенных жертв водворить полное спокойствие не только в Чечне, но даже в Шатой и Ичкери, куда ходил с отрядами и всех бывших непокорных и скрывавшихся в лесах выселил на плоскость и водворил их в больших аулах, так что в 1861 году в крае, кроме левого фланга, не осталось ни одного непокорного человека.
Народ начал усердно заниматься устройством до крайности разоренного хозяйства. В крепости Грозной я завел школу, где чеченские дети обучались по-арабски, по-русски и азбуке, только что составленной для чеченского языка генералом бароном Усларом.
С Усларом я познакомился в 1837 г. во Владикавказе. Имел много случаев пользоваться его занимательными и очень полезными беседами. Чем больше я его узнавал, тем больше росло мое к нему уважение.[15]
Высшее начальство ценило и поощряло мою службу больше, чем я мог ожидать. В течение двух лет я был награжден чином генерал-майора, орденами Анны и Станислава 1-й степени и арендою 12 тысяч рублей. Желая расширить мое управление, к округу моему оно решило присоединить еще два округа: Шатоевский и Ичкерийский.
Будучи уверен, что я успею оказать большую пользу службе и краю, я не знал усталости и готов был день и ночь трудиться.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Перемена отношения правительства к чеченскому народу. — Конфискация чеченских земель. — Решение мое бросить службу. — Приказ по войскам и управлению Терской области о моем увольнении. — Князь Мирский объявляет о моем уходе Чеченскому сходу. — Назначение ген. Лорис-Меликова на место кн. Мирского. — Зимняя экспедиция на Западном Кавказе. — Моя докладная записка о положении горцев Терской области.
Вдруг правительство по обыкновению своему изменило все прежние свои предположения, нашло полезным стеснить чеченцев землею, с целью, чтобы они сами оставили Чечню и переходили на жительство за Терек. С этой целью назначена была комиссия под председательством генерального штаба полковника Розенкампфа. Она выяснила количество чеченской земли и вопреки только что отданного чеченцам акта, вся нагорная часть ее отошла в казну, а чеченцам оставлена только незначительная часть ее без леса, так что на двор приходилось от 7 до 10 десятин, во дворе же средним числом числилось не менее пяти душ.
Огорчившись распоряжением этим столько же, сколько я был обрадован актом или, вернее выразить, оптическим обманом, я, внимательно рассуждая, задал себе вопросы:
Первый — хочет ли правительстве, как оно постоянно твердит и официально убеждает, сделать кавказские народы счастливыми и верными царю подданными? Хотя долг человечности и справедливость требуют того, чтобы правительство искренно к тому стремилось, из дел его, однако, ясно видно, что оно только говорит и пишет об этом, а на самом же деле, пуская в дело обман и изворотливость, стремится оторвать их от своей религии и национальности и слить с русскими. Следовательно, нечего здесь думать и рассуждать: дело ясно и понятно.
Второй вопрос — если так, то зачем же я служу и что от моей службы могу ожидать себе в будущем? Не пора ли мне оставить службу. До сих пор я служил в надежде занять почетное место с правом голоса в делах края и безукоризненною службою своею быть полезным нуждающимся в помощи моим соотечественникам, и также моим наследникам и тем заслужить себе в родном крае приятное потомству моему воспоминание.
Но, к несчастью, как видно по ходу дел, я сильно обманываюсь и очень далек от своего, искреннего желания, ибо вот уже несколько лет занимаю желаемые мною должности, не только с правом голоса, но даже начальство иногда предлагает мне указывать ему меры для улучшения народного быта и водворения в крае прочного спокойствия и, одобрив мои указания, приводит их в исполнение. Но все это до поры до времени.
Является новый начальник, который, не зная края и не вникая в сущность дела, без всякого рассуждения изменяет бывшую систему, по своему произволу, не к лучшему, а к худшему.[16]
Народ меня любит и верит, а я не в состоянии оправдать этого, а напротив того, по обязанности царской службы скрывая от него истину, невольно делаюсь гибельным для него орудием.
Начальство меня за службу щедро награждает, но это перестало меня радовать, потому что возвышение мое в сущности было не что иное, как устроение моего счастья на несчастье ближних, что Богу неприятно и противно всякому порядочному человеку.
Вот сии истины внушили мне отвращение к продолжению службы и к истекавшим от нее личным моим выгодам. По настойчивым просьбам моим и был я уволен от управления Чеченским округом при следующем приказе командующего войсками Терской области.
«Начальник Чеченского округа генерал-майор Кундухов, пред назначенный мною на должность начальника Среднего военного отдела Терской области, по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам не счел возможным принять предложенное ему место и, согласно прошению, увольняется в отпуск. Входя вместе с ним с представлением по начальству об устройстве положения генералмайора Кундухова и о вознаграждении его заслуг, долгом считаю выразить этому генералу мою искреннюю признательность за добросовестное усердие, искусство и успех, с которыми он управлял самым многочисленным из округов в Терской области. Приняв должность начальника Чеченского округа в затруднительных обстоятельствах, когда пламя восстания, вспыхнувшее в соседних округах, угрожало охватить всю Чечню, генерал Кундухов сумел не только удержать в повиновении чеченцев, но много содействовал и успокоению других округов и, пользуясь доверием к нему туземцев, успел внушить им ту преданность и доверие, на которых основано нынешнее и будущее спокойствие края.
Подлинный подписал: начальник области генерал-лейтенант князь Святополк-Мирский. (Приказ по войскам и управлениям Терской области от 26 января 1863 г. за ном. 11)».
Между тем начальство, опасаясь, чтобы чеченцы, так меня полюбившие, не сочли уход мой от них признаком дурного к ним намерения русских, командующий войсками князь Мирский приехал из Владикавказа в крепость Грозную и приказал всем наибам с аульными старшинами и почетными людьми собраться в крепость Чечхеры, куда от чеченцев, шатоевцев и ичкерийцев собралось до трех тысяч человек.
Князь в сопровождении своей свиты, в числе коей были я и генералмайор кн. Туманов, вышел к народу и, став на возвышенном месте, поздоровался с ним, благодарил его за спокойствие в крае и прочее. Затем сказал:
— Вероятно, вам известно, что начальник ваш генерал Кундухов по необходимым домашним обстоятельствам, еще более по расстроенному здоровью своему, при всем желании не может продолжать свою деятельную и полезную службу, и потому высшее начальство, снисходя к неоднократным просьбам, уволило его от командования Чеченским округом. На его место назначен кн. Туманов. Надеюсь, что вы его, а он вас полюбите — Он грузин, одноземец ваш, знает ваши обычаи и будет продолжать в точности управление предместника своего.
Выслушав эту речь, собравшиеся стали потихоньку переговариваться между собой. Через короткое время народный кадий их Али Мурза подошел к князю и сказал:
— Мы действительно слышали, что Мусса просит об увольнении его от командования Чеченским округом, но не хотели этому до сих пор верить и теперь надеемся, что Его Превосходительство пожертвует своими личными выгодами для блага всего чеченского народа, его искренно любящего и уважающего. Мы готовы пожертвовать из каждой семьи по одному члену для того, чтобы иметь его своим начальником и просим ваше сиятельство оставить нам его по-прежнему.
Князь Мирский начал просить меня уважить просьбу народа и, получивши от меня отрицательный ответ, сказал ему:
— Вот, вы слышите, как его прошу и что он мне отвечает. Тогда один из почетных людей, старшина Алхан, попросил разрешения сказать слово и обратился к князю:
— Ваше сиятельство, генерала Туманова хотя мы и не знаем, но слышали о нем с похвальной стороны от шатоевцев, где он был начальником округа; но, простите меня за откровенность, народ наш, вспоминая причины 20-летней войны, все-таки опасается произволь ного его управления, которое он будет не в состоянии выдержать и на гибель свою опять скроется в лесах, требуя правосудия.
В это время сбор начал шуметь и из разных групп собравшихся стали раздаваться крики: «Разумеется, нас ничего лучшего не ожидает».
Шум и крики до того стали увеличиваться, что я принужден был обратиться с просьбою к кн. Мирскому оставить сбор и пригласить к себе на квартиру всех наибов, народного кадия и нескольких из почетных лиц с членами Михкемы.[17]
Мирский, одобрив мое мнение, тотчас оставил сбор и приказал наибам со сказанными людьми прийти к нему в полковой дом. Там, успокоив чеченцев, я оставил Чечню. Туманов вступил в командование отделом.
После того в скорости кн. Мирский, к сожалению всех горцев Терской области, был назначен Кутаисским генерал-губернатором. На место его начальником области был назначен генерал-лейтенант ЛорисМеликов.
Потеряв всякую охоту к продолжению царской службы, к чинам и орденам, я думал пользоваться правом, предоставленным туземцам (по политическим видам) состоять по кавалерии при Кавказской армии и, получая жалованье, жить у себя дома.
В этом же году зимою была назначена большая, усиленная экспедиция на Западном Кавказе с тем намерением, чтобы всех тамошних горцев, как непокоренных, так и мирных, не признавая за ними никаких прав, выселить из своих мест и поселить на плоскости между реками Лабою и Кубанью, давая им на двор только по 10 десятин, а на местах их от Лабы до берега Черного моря поселить казаков, назначая им на душу по 25 десятин земли (Шемякин суд!).
Тут я решился составить записку о положении горцев Терской области и обнаружить в ней всю истину.
25-то марта 1863 г. я представил ее при письме начальнику главного штаба генералу Коцебу.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Покорение закубанцев и переселение в Турцию. — Проект ЛорисМеликова о переселении чеченцев за Терек. — Поездка в Константинополь. — Проезд мой в Одессу и свидание с ген. Коцебу и кн. Воронцовой. — Встреча с абадзехскими переселенцами и станционный смотритель. — Свидание мое в Ставрополе с графом Евдокимовым. — Возвращение во Владикавказ и переговоры с ЛорисМеликовым. — Приготовления к переселению. — Чеченские и карабулакские почетные люди.
В том же году абадзехи, убыхи и шапсуги, после долголетней борьбы должны были уступить превосходившей их силе и помириться с условием не препятствовать им к переселению в Турцию.
В том же году более шестидесяти тысяч дворов, оставив все свое движимое и недвижимое имущество безвозмездно в руках русских, отправились в Турцию на плохих судах, нуждаясь во всем необходимом. Многие, не находя его, погибли.
Между тем командующий войсками в Терской области, ген. ЛорисМеликов, горя желанием получить царские награды, представил великому князю проект о переселении чеченцев за Терек и в Малую Кабарду (а мало-кабардинцев в Большую Кабарду), и для этой цели с западного Кавказа начали двигать войска в Чечню.
Узнавши об этом проекте и о намерении начальства, я отправился к Лорису и при разговоре с ним нашел случай спросить его, правда ли, что в нынешнюю зиму чеченцев хотят разоружить и переселить за Терек?
На это Лорис, скрывая свой проект, с лукавою улыбкой ответил:
— Да, Ваше Превосходительство, в записках, поданных начальнику главного штаба, вы жалуетесь, что чеченцам оставлено так мало земли, что они существовать там не могут, и Его Величество, находя мнение Ваше справедливым и желая обеспечить будущность чеченцев, не находит другого средства как переселить их за Терек, где отдаются им земли в огромном количестве.
— Да согласятся ли охотно на это чеченцы? — заметил я.
— Неужели они так глупы, что не захотят и будут драться? — спросил он.
— Было бы против моей совести, — ответил я, — не сказать Вашему Превосходительству откровенно того, в чем я убежден; восстанет не только Чечня, но вместе с чеченцами и весь Восточный Кавказ, и война продлится опять несколько лет с тою только разницею, что теперь матери, бросая детей своих на штыки солдат, asdsr драться вместе с мужчинами.
Хотя Лорис и был убежден в истине моих слов, но он до такой степени хитрил со мной, что ответил мне на это:
— Чечня будет окружена со всех сторон сильными войсками, которые Его Величеству угодно поручить генералу Кундухову, а я, как начальник края, помогая Вам всеми средствами, буду из Владикавказа или из Грозной любоваться Вашими успехами. Его Высочество убежден, что никто лучше Вас не сможет выполнить этого весьма важного поручения.
Поблагодарив его за такое высокое обо мне мнение, я сказал, что решительно отказываюсь от этой чести, потому что не более года тому назад я вручил чеченскому народу грамоту, уверяя его устами моего Монарха, что все статьи ее вовеки веков будут свято сохранены. Теперь, если Его Высочество действительно имеет в виду назначить меня командующим войсками Чеченского отряда, то это, как мне кажется, единственно потому, что я пользуюсь доверием че ченского народа, и Его Высочество, зная это, полагает, что переселение их состоится без большого шума.
— Но будьте, Ваше Превосходительство, судьею: могу ли я после врученного мною им акта требовать от чеченцев к себе доверия и, не краснея, говорить с ними и советовать им оставить, вопреки их желанию, их Чечню и переселиться за Терек, чего они, как известно и Вам и всем, боятся более смертного приговора?
Лорис был крайне удивлен, что я отказываюсь от поручения Великого Князя и просил меня принять его дружеский совет — не говорить этого в другом месте.
Когда же я его убедил, что нет награды и наказания, которые могли бы заставить меня согласиться на сказанное поручение, Лорис ловко соскочил со своего кресла и указав пальцем на мое сердце, вскричал:
— Вот! Там сидит черт!
Я невольно улыбнулся, чем удвоил его удивление. Он задумался и после долгого, глубокого молчания заметил:
— Друг мой, нам, кавказским уроженцам, надо быть очень и очень осторожными в своих выражениях и действиях, иначе мы легко можем потерять доверие начальства и нажить врагов.
— Я их и теперь имею много, — сказал я. В это время подали нам чай, и у Лориса (с папироской во рту) родилась прекрасная мысль просить меня указать делу этому, по моему разумению, лучший исход.
Здесь я посоветовал ему обратить внимание на все жертвы, понесенные правительством и черкесами на Западном Кавказе, и на то, чем все это кончилось. Во избежание бесполезного кровопролития я рекомендовал ему ходатайствовать у Великого Князя дозволения желающим переселяться в Турцию, объявив всенародно, что не желающие русского подданства могут переходить в Турцию, и убедил его в том, что из Чечни много переселится народу, и тем водворится в крае желанное спокойствие, каковое обстоятельство даст ему право на награду.[18] Он согласился представить мое мнение начальнику главного штаба, который, получив письмо Лориса, потребовал меня в Тифлис.
Прибыв в Тифлис, я немедленно явился к начальнику штаба. Во время разговора генерал Карцев мне между прочим сказал:
— Генерал Лорис-Меликов легко составил проект об очищении чеченского леса от чеченцев и о переселении их за Терек, а теперь, когда проект этот утвержден Государем Императором и нам надо его исполнить, он от него почти отказывается.
Тут я не пощадил Лориса и убедил ясными доводами ген. Карцева в пользе и необходимости согласиться на переселение горцев из Терской области в Турцию. По докладу начальника штаба Его Высочество одобрил мое мнение и поручил ген. Карцеву предложить мне приступить к исполнению его.
Хотя я не говорил об этом с почетными чеченскими старшинами, но предчувствие убеждало меня, что чеченцы послушают моего совета, и я с восторгом согласился, с тем, однако, чтобы мне сначала было дозволено поехать в Константинополь и узнать там согласие турецкого правительства на прием чеченцев и на отвод им помещений.
Получив на это позволение Великого Князя, заграничный паспорт и тысячу рублей депозитами на прогоны и расходы, я в июле месяце отправился из Тифлиса прямо в Стамбул.
В Константинополе я остановился в гостинице «Дориан», и, узнав там от мухаджиров[19] о выгодном положении вообще всех кавказских переселенцев, отправился в полной генеральской форме к министру иностранных дел Али-паше, у которого встретил очень ласковый прием, подал ему на бумаге обнаруженную истину о положении всех кавказских горцев и об искреннем желании чеченцев переселиться в Турцию, прося им милостивого приема и удобного помещения.
Али-паша, прочитав мое прошение, изъявил полную свою готовность сделать для кавказских горцев все, чем может им быть полезным, и предложил мне отправиться к Садразаму (великому визирю) Фуат-паше.
На другой день я представился Фуат-паше. Он также обрадовал меня очень ласковым приемом, советовал всем кавказским горцам признаться в невозможности продолжать войну с русскими и переселиться в Турцию, предсказывая им счастливую будущность.
Ожидая ответа на докладную записку мою, через 15 дней я получил приглашение от Али-паши, который объявил мне, что высокое турецкое правительство охотно соглашается принимать из кавказских мусульман каждый год по пять тысяч дворов, с тем, чтобы они не приходили вместе разом, а отдельными партиями, дабы правительство имело время удобно размещать их на местах жительства.
От глубины сердца моего поблагодарив министра, я попросил его также, чтобы чеченцы были поселены вместе, не раздробляя их по примеру черкесов по разным округам, на что Его Светлость также изъявил согласие.
При этом Али-паша, указывая на ордена мои, обратился ко мне со следующими словами:
— Приятно видеть единоверца своего с такими заслугами, но жаль, что на иностранной службе, тогда как долг мусульманина служить миллету[20] Ислама, под знаменами Пророка нашего.
— В числе моих соотечественников, потерявших сладкую надежду удержать за собою наш Кавказ, и я постараюсь выполнить свой долг, — ответил я.
Али-паша был очень доволен и, взяв меня за руку, сказал мне, что я не буду раскаиваться.
Простившись с Али-пашой, я отправился к Фуат-паше, и он, прощаясь со мной, сказал почти слово в слово то же, что было сказано Алипашой относительно долга мусульманина.
От Садразама я отправился к Гуссейн-паше (из убыхов, фамилия — Вердзех) и нашел у него брата известного Хафиз-паши, Али-пашу (он также из убыхов). Они оба, принимая живое участие в положении соотечественников, просили меня не торопиться с переселением, ожидая скоро войны турок и французов с Россией, в чем, как они выражались, убеждает князь Чарторыйский, который недавно через Стамбул поехал в Египет…
Обещав им ожидать до разъяснения этого слуха, я отправился к бывшему Садразаму Кайрисли-паше, у которого был и прежде с визитом. Он, не знаю почему, более других желал моего личного перехода в Турцию и взял от меня слово, что я при возможности не останусь на русской службе.
Таким образом, после 45-дневного пребывания моего в Стамбуле я отправился на пароходе «Константин» в Одессу, где воспитывались сын и племянник мой. Оба встретили меня на берегу моря, и сын мой Арслан-бек тут же передал мне поклон от Великого Князя Михаила, который, ехавши из Петербурга в Тифлис, видел сына моего в доме генерал-губернатора Коцебу.
Из поклона, коим удостоил меня Его Высочество, я заключил, что он очень желает переселения горцев из Терской области и поощряет мое усердие к успеху.
Заняв номера в гостинице, я отправился к генерал-губернатору Коцебу, который будучи долго на Кавказе начальником главного штаба, постоянно удостаивал меня своим добрым вниманием. Он иногда, рассуждая о мерах принимаемых правительством на Кавказе, высказывал:
— Мы, к стыду нашему, не сумеем покорить горцев и водвориться на Кавказе так, как следовало бы для блага его народов и России.
Так же и здесь он мне сказал:
— Что же мы приобрели на Кавказе? Лучшим его племенам мы не сумели внушить к себе доверия и отдаем их туркам. В земле Россия не нуждается. Вот у меня в округе столько пустопорожней земли, что ищем поселенцев и не находим… Да! Поймем да поздно.
Простившись с Коцебу, я отправился к княгине Воронцовой.
Она, как выше сказано, на Кавказе ко мне благоволила. Княгиня после смерти знаменитого мужа своего отказалась от всего светского и до того сделалась набожной христианкой, что, кроме религиозного, ни о чем не хотела говорить и слышать.
Она тотчас же с любопытством спросила меня:
— Правда ли, генерал, что в Константинополе многие из мусульман стали переходить в протестантскую религию и что в числе их Фуатпаша?
— Говорят, что из армян многие переходят, но о Фуат-паше не слышал, — ответил я.
— Радуюсь, что свет христианский начал проникать и в Турцию, — сказала она.
Как только она окончила разговор, я поспешил откланяться и уехал, боясь чтобы она не спросила моего мнения о турецких протестантах.
Вечером сын мой спросил меня, зачем я ездил в Стамбул. Я открыл ему свое намерение переселиться в Турцию и тем предоставить потомству нашему случай и возможность с помощью миллета Ислама вернуть нам священный Кавказ. Услышав это, бедняга так был обрадован, что со слезами бросился ко мне в объятия и начал благодарить меня за это.
Желая знать его мнение, я спросил:
— Чем же ты так напуган здесь? Ведь ты сын генерала, достаточно пользуешься выгодами жизни и неотъемлемыми правами русского дворянина.
— Ах, отец, — ответил он, — разве при всех личных выгодах своих могу я быть счастливым в среде несчастных, близких сердцу родных и народа.
При разговоре этом, заметив слезы в глазах девятилетнего племянника моего Ахмета, я тотчас же прекратил его и обрадовал обоих тем, что приказал им оставаться в Одессе и учиться только до 1-го марта, а потом ехать домой.
Из грустной сцены этой я убедился, что дети мои, поняв русское правительство сердцем и душою, твердо будут переносить нужду, могущую встретить их вне родины.
На другой день морем до Керчи, а оттуда в своем экипаже, я продолжал путь свой до Владикавказа.
На одной из почтовых станций я встретился с абадзехскими переселенцами, не успевшими переселиться в прошлом году. Когда я раздавал там мальчикам деньги на орехи, смотритель той станции, по всей вероятности, заметив во мне смущение, подошел ко мне также со слезами и, взволнованный чувством негодования, сказал:
— Ваше Превосходительство, какое сердце не заплачет, видя эту печальную картину. Ведь надо Бога бояться. Земля их родная, зачем мы их гоним Бог знает куда? Я их спрашиваю, куда они едут. Говорят, что в Турцию, но что с ними будет там, они сами не знают.
Из сказанного смотрителем я убедился в том, что правительство русское поступает в действиях своих против русской натуры.
Приехав в г. Ставрополь, я остановился у командующего войсками гр. Евдокимова.[21]
Он хорошо знал генерала Лориса (называл его армяшкой), из любви ко мне советовал мне решительно ни в чем ему не верить и быть осторожным с ним в делах и разговорах.
Он был доволен моим личным переселением в Турцию. (Тайну эту еще никто не знал из начальствующих лиц).
В первых числах октября я приехал во Владикавказ. Явился к Лорису и сообщил ему о согласии Порты охотно принять кавказских переселенцев в Турцию. Он в тот же день донес об этом начальнику главного штаба ген. Карцеву, через которого получил приказание Великого Князя держать это в секрете до особого распоряжения (по всей вероятности, пока русское правительство не снесется об этом с Портою). Между тем Лориса потребовали в Тифлис, а я отправился к себе домой.
24 октября 1864 года я получил письмо от Лориса с приглашением меня к нему во Владикавказ. По моем приезде Лорис рассказал мне, что Великий Князь из Константинополя получил от Полномочного Министра Игнатьева подробные сведения о моих тайных переговорах с турецким правительством относительно переселения кавказских горцев в Турцию и что Его Высочество, смеясь, сказал: «Мы, не предупредив министра о поездке туда ген. Кундухова, сильно подшутили над ним».
Затем Лорис сказал мне:
— Его Высочество очень и очень доволен Вами, но вместе с тем сильно тревожиться, опасаясь беспорядков в Чечне и вообще в крае. И в самом деле, есть о чем подумать. Сохрани Бог, если что-нибудь случиться подобное, то само собою разумеется, что все это падет на нас с вами.
Тут я решился открыть Лорису вожделенное мое желание и сказал ему, что раз приняв на себя устройство этого переселения, готов делать все, что может осуществить его без кровопролития. Как мне кажется, для этого ничего больше не нужно делать, как только стать самому со всеми родственниками во главе переселенцев.
— Бог мой! — воскликнул Лорис. — Неужели вы готовы на это решиться!
Убедившись, что я готов пожертвовать всем своим состоянием для того, чтобы исполнить удачно желаемое переселение, он сказал:
— Да! Это большая жертва с вашей стороны. Вы, открыв долголетнею службою завидную карьеру, согласны ее потерять. Да, кажется мне, что ни Великий Князь, ни Государь Император не согласятся на ваше переселение.
— В таком случае не могу ручаться за успех, — ответил я.
— Зачем же Вы поторопились принять поручение и поехать в Константинополь? — сказал он.
— За тем, что я не предвидел того, чего и теперь не понимаю: какое может встретиться препятствие к моему переселению. Согласитесь, что в этом никто ничего не теряет, а если есть здесь потери, то теряет только Мусса, больше никто, ответил я.
Считаю лишним продолжать здесь изложение нашего спора о возможности и невозможности личного моего переселения. Спор наш кончился тем, что Лорис на другой же день поехал в Тифлис к Великому Князю единственно по этому делу и через 4 дня, возвратившись назад, обрадовал меня, что Его Высочество не находит большого затруднения в моем переселении, если только иначе нельзя будет устроить дело.[22]
В конце февраля 1865 года Лорис получил приказание Великого Князя приступить к подготовке чеченцев к переселению. Вместе с этим всем начальникам областей было предписано следить за движением вверенных им народов.
Тогда и я получил от Лориса официальное письмо о начатии переселения. Не теряя времени, пригласил я к себе в дом чеченского многоуважаемого наиба Саадуллу и почетного карабулакского старшину Алажуко Цугова с почетными людьми. Объяснив им прошлое и настоящее их положение, я спросил их, что ожидает их в будущем на Кавказе.
Они в один голос ответили, что, кроме нищеты и обращения в христианство, ничего лучшего не предвидят. Убедив их в истине этой, я предложил им оставить со слезами Кавказ и переселиться со мной в Турцию, где, правда, не найдем таких удобных земель, какими завладели у нас по праву сильного русские, но где при труде не будем иметь ни в чем недостатка и будем всегда готовы, как только представится случай, с помощью турок прогнать врага нашего с Кавказа.
Когда некоторые из них, предпочитая скорее расстаться с жизнью, нежели с родиной, начали говорить в пользу восстания (попробовать еще раз свое счастье), то я им сделал следующий вывод:
— Мы знаем, — сказал я, — что на земном шаре нет нации, стоящей ниже евреев. Все народы название их употребляют вместо многозначительного ругательства. Всякий, назвавший в порыве сильного гнева противника своего не только в глаза, но за несколько сот и тысяч верст жидом, чувствует, что гнев его смягчается. Но между тем было бы несправедливо отрицать, что в этой нации есть много честных, умных, образованных и благомыслящих людей. Следовательно, дело в том, что эти несчастные жиды не имеют своего отечества, не на что им опираться, нечем гордиться и не к чему им стремиться; вот по этой-то несчастной причине лишились они даже человеческого достоинства и униженно живут и хлопочут только для живота своего под гнетом народов, на земле коих они живут.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Чеченские и карабулакские почетные люди. — Опасения командующего войсками. — Вспомоществование бедным переселенцам и выступление первой партии. — Выезд мой из Владикавказа в Турцию. — Прощание мое с Карцевым. — Встреча с кн. Григорием Орбелианом. — Просьба некоторых из грузинских князей.
Не желая своему потомству подобной участи, я обязан искать ему отечество, и выбор мой, как мусульманина, пал на Турцию, где, безукоризненно слившись сердцем и душой с османлы, оно будет с ними долить скорбь и радость своего отечества, имея по умственным способностям своим открытую дорогу к высшим государственным должностям.
А здесь стыдно и грешно нам слиться с врагом, лишившим нас отечества и всех прав.
— Согласитесь, — продолжал я, — что мы горюем и опасаемся не за себя, а за будущее (за потомство). Оно ни в коем случае не поставит нам в вину, что с лишком столетняя кавказская война лишила нас национальностей, но непременно будет укорять нас, если мы под предлогом родины (которая уже нам не принадлежит) оставим его здесь без отечества, в глубоком унижении. Одним словом, безотрадно окинув взглядом будущность нашей родины, я нахожу ее для нас невыносимо гадкой и душной, и потому разум требует от нас из двух зол выбрать меньшее.
Они без малейшего возражения согласились переселиться, спросив только, переселение совершится морем или сушею?
Я объявил им, что переселение совершится сухим путем по ВоенноГрузинской дороге и со всеми удобствами.
Они остались очень довольны и поклялись готовиться к переселению, не делая беспорядков в крае.
Саадулле я приказал внушить переселенцам не трогаться с места, пока не переселятся все мои родственники с моим семейством.
Командующий войсками, опасаясь восстания, имел почти во всех аулах лазутчиков, которые, как всегда в таких случаях бывает, снабжали его и его начальников округов тревожными слухами, до крайности Лориса изнурявшими. Вследствие чего он 28 апреля через брата моего Афако сообщил мне все свои опасения, прося поторопиться с отправлением моего семейства. Будучи обрадован, я потребовал от него скорого назначения комиссии для оценки моего недвижимого имущества, состоявшего из 3800 десятин[23] удобной земли и дома из тесаного камня с флигелями, башнею и фруктовым садом в ауле на южной покатости кабардинских черных гор Скутыкахе, и по оценке выдать мне за них от казны комиссией определенной суммы.
Лорис донес об этом генералу Карцеву, от которого получил ответ принять все меры возможные, чтобы остановить личное мое переселение, а если нужны деньги для успешного переселения, то выдавать из сумм, состоящих в его распоряжении.
Лорис читал мне это письмо и, вместе с тем, предложил мне от имени Великого Князя 6000 десятин земли по выбору моему около Пятигорска и, кроме того, щедрые царские награды, если останусь, а переселение чеченцев состоится так, как желает Его Высочество.
Лорис, убедившись, что подобными предложениями он только оскорбляет меня, снял маску свою, как перед начальством, так и передо мною, и написал Карцеву истину, что переселение ни в коем случае не может состояться, если генерал Кундухов не будет во главе его, и что Кундухов, раз переселившись в Турцию, ни за какие выгоды не вернется назад.[24] Тогда последовало приказание Великого Князя не назначать комиссию, чтобы удостовериться в действительной, ценности моего имущества, и выдать мне оценочную сумму. Лорис взялся за свое ремесло и начал со мною торговаться. По всей справедливости, мне следовало получить по самой меньшей оценке за каждую десятину не менее 15 рублей, т. е. 57000 тысяч рублей, а за дом 25 тысяч, всего же — 82 тысячи, но я получил 45 тысяч депозита и был доволен, потому что был готов бросить свое имущество, как бросали другие горцы, дабы избавиться от русского правительства.[25]
Кроме того, я потребовал от них 10 тысяч рублей для вспомоществования бедным переселенцам. Когда Лорис убедился, что сумма эта была недостаточна и что я сделал расход из своих денег, то отпустил еще 2 тысячи рублей и предоставил переселенцам всевозможную помощь по пути их следования.
Первая партия с семейством и родственниками моими была отправлена из Владикавказа 25 мая. Затем, каждый раз пропуская один день, выступали другие партии и, таким образом, отправив до 3 тысяч дворов, я остальных поручил Наибу Саадулле, а сам с тяжелым чувством и сокрушенным сердцем простился с милой родиной.
Обратился к Всевышнему с усердною мольбою дать мне возможность в числе турецких войск с правильно устроенными мухаджирскими войсками вернуться на Кавказ и избавить его от ненавистного ему правительства.
Хотя нет ничего приятнее, как видеть слезы старцев, выражающих чувства привязанности и признательности, но я не мог позволить себе испытать это удовольствие, справедливо опасаясь, что начальство будет преследовать всех тех, которые при прощании со мной, понимая свое положение, невольно выкажут чувство скорби при народе, собравшемся со мною проститься.
Я выехал 8-го числа июля месяца до рассвета. До первой станции меня сопровождал только зять мой, полковник (ныне генерал) Магомед Дударов.
9-го я приехал в Тифлис и в установленном порядке подал там в отставку от службы.
18-го июля выехал из Тифлиса с родными и племянником моим Темирбулатом[26] и приехавшими к отъезду нашему из корпуса братом его, кадетом Канбулатом Мамсуровым.
Когда я прощался с генералом Карцевым, он потребовал от меня честного слова, что в случае войны я не буду участвовать в войсках против русских.
Ясно объяснив и доказав благородному Карцеву, что если я буду служить в турецкой армии, то должен идти туда, куда меня пошлют, я отказался от его предложения. Затем он потребовал от меня не писать из Турции на Кавказ письма горцам с призывом к мятежу.
Писать к ним письма с призывом к возмущению без крайней в том надобности значит желать народу гибели, а потому я охотно дал ему слово, что не только не буду посылать таких писем, но и вообще ни о чем и никому из туземцев не буду писать без крайней нужды.
Что я считаю крайней нуждою, он меня не спросил, и я не имел надобности объяснять.
Генерал Карцев воспитывался со мною в Павловском кадетском корпусе, и в одно время, в 1836 году, мы были произведены в офицеры. Он как первый ученик во всем корпусе, был выпущен в гвардию и взаимно питал ко мне чувство дружбы, советовал мне окончить переселение, вернуться назад и, оставив Кавказ, получить хорошее имение в Западном крае, где, как он выразился, правительство очень дешево покупает от поляков и что я имею право, как за прошлую службу мою, так равно и за настоящую услугу получить в награду имение, за которое наследники мои будут меня благословлять.
— Все твои советы, Александр Петрович, — сказал я, — понимаю и чувствую, что они вызваны опасением за мою будущность в Турции, но если б ты знал мое душевное страдание, невольно мною скрываемое и от этого еще увеличивающееся, то ты сказал бы мне то же самое, что говорит мне мое сердце: «Поезжай скорей в Турцию», куда я уже, как видишь, приготовился и еду.
— Ох, любезный друг, — сказал он, — право, боюсь, чтобы ты не попал впросак.
— Проще того, к чему я себя приготовил, быть не может. Я готов жить там в землянке, чем здесь в хорошем доме, который Лорис, пользуясь случаем, не постеснялся взять у меня за половинную цену.
Карцев из любви ко мне был тронут. Мы по дружески обнялись и навсегда расстались в Кочорах.[27]
Возвращаясь назад в Тифлис, на половине дороги я встретился с тифлисским генерал-губернатором князем Григорием Орбелиани,[28] ехавшим из Тифлиса в Кочоры. Оба экипажа наши остановились. Я выскочил из своего и подошел к нему проститься и поблагодарить за ласку, которую он мне постоянно оказывал, и увидел, что из глаз его градом покатились слезы: «Бог с тобой!» — только и мог выговорить он и приказал экипажу своему тронуться.
Оставшись один на дороге, я сначала сильно был озадачен скорым его отъездом. Потом понял его так, что он не захотел иметь кучеров и людей наших свидетелями его сильного смущения и невольных слез.[29]
Некоторые из заслуженных генералов — грузинских князей — просили меня передать их поклоны Али-паше и уверить его, что народ грузинский теперь лучше знает Турцию и не так ее боится, как боялся когда-то. Один из них, наиболее влиятельный и популярный в народе, готов был перейти в Турцию, если найдет себе приличное гостеприимство.
Все, что они поручили мне сказать, я докладывал министру иностранных дел Али-паше. Кроме того, объяснил ему расположение духа всего кавказского народа, не исключая даже русских линейных казаков.
Не мог также не сказать ему, что пока Кавказ не соединен железными дорогами с Россией, следует не упускать случай овладеть им, дабы Турция не пришла к позднему раскаянию.
Али-паша, выслушав переводчика моего Иналука Абисалова, как мне кажется, был доволен и согласен со мною изложенным и оживленно сказал:
— Иншаллах, придет время, и вы с душевным восторгом будете одним из главнокомандующих на Кавказе.
Так я кончил 29-летнюю действительную службу мою в России, имея от роду 44 года.
В 1865 году, устранив кровопролитную войну, с согласия русского и турецкого правительства, перешел в Турцию.
22 июля прибыл в Каре, где был принят с большими почестями и пушечной пальбою. В 1867 году признан Пашею в чине Мир-Лива.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Некоторые выводы. — Армяне и евреи. — Конно-горские и конномусульманские полки. — Горские кадеты и аманаты. — Сыновья алдаров в Тифлисской семинарии. — Жестокие и возмутительные меры. — Зачисление абазинцев и осетин в казачье сословие. — Встреча персидского принца с шайкой разбойников. — Ермолов Малую Кабарду подарил своему любимцу.
Тут в заключение не могу не сказать, что по всей справедливости надлежит признать ту неоспоримую истину, что русские, хотя могучею силою своих войск и средств наконец успели покорить Кавказ, и войска русские всегда могут гордиться своими военными подвигами, но правительство, напротив того, должно всегда краснеть как перед кавказскими народами, так равно и перед Россией. Оно перед обоими столько виновато, что не может избегнуть справедливого суда, где нельзя будет по праву сильного уклониться от множества весьма тяжелых для него вопросов. Из них, например, когда русское правительство вступило на Кавказ в роли великодушного покровителя его народов, оно, разумеется, не встретило большого сопротивления; напротив того, грузины в 1492, 1586, 1604, 1648, 1658, 1760 и 1718, имеретины в 1621, мингрельцы в 1636, армяне в 1718, кумыки в 1718 годах, сами желая покровительства России, к ней обращались. Другие же народы Кавказа она в прокламациях и в словесных обещаниях именем Бога и Царя своего уверила, что не имеет к ним ничего враждебного и идет к ним для того, чтобы быть на Кавказе благодетельным посредником между его разноплеменными народами и вместе с тем из любви к человечеству открыть и предоставить ту земцам пользование всеми богатыми источниками, которые, будто бы по неведению горцев, скрываются в недрах кавказских гор.
Только когда таким образом она была допущена утвердиться на кавказской линии в 1755 году в Кизляре, в 1759 году в Моздоке и в 1785 году в Екатеринодаре, народы, понявшие изворотливое коварство русского правительства, стали сопротивляться наступательному его движению. Но правительство, пуская в дело обман и хищение, конечно, начало опять убеждать горцев письменно и словесно, что религия, адаты и родовые их интересы будут без малейшего прикосновения навсегда в народе свято сохранены. К сему присоединены были множества обещаний о благоустройстве края и в будущности аристократов, кои, по простоте своей искренне поверив клятвам русского правительства, заставили поверить и своих подвластных, с которыми в больших селах охотно шли впереди царских войск против хорошо понимавших русские намерения народов, и, таким образом, всеми своими мерами и средствами помогли совершенно овладеть Кавказом.[30]
Во всем этом русские не могут не сознаться, имея перед собой кавказский архив.
Известно всем, что в России право собственности непоколебимо и даже десятилетняя давность считается неотъемлемым правом на владение. Почему же русское правительство не признало веками освященных прав ханов, князей, алдаров, беков, первостепенных узденей и рядовых старшин, усердно служивших ему, и, не исполнив перед ними долга признательности, как уголовных преступников, лишила их с потомством всех прав состояния. Также и тех (за немногими исключениями) даже заслуженных генералов, штаб- и оберофицеров, изувеченных в делах против его неприятелей, вопреки человечности и в России существующим законам осудило их на мученическую смерть, мстя за то, что они по происхождению своему несколько веков имели право властвовать в народе.
Не менее того и об остальном населении Кавказа, которое, по праву сильного или как бы то ни было, сделалась его подданным, оно должно было заботиться и обеспечивать будущность его наравне с другими подданными России.
Правительство же, напротив того, беспощадно отняло у них земли, оставив им только от 10 до 32 десятин на двор (во дворе, средним числом не менее 5 душ), а остальную отдала вновь прибывшим переселенцам из России, назначая им на душу от 25 до 30 десятин; а также в награду русским генералам и чиновникам, затмевавшим истину, от 1 до 12 тысяч десятин.
Из этого очень понятно, к чему русская власть стремилась. Зачем и для какой пользы.
Она награждала горцев по заслугам и по политическим видам царскими чинами и орденами. Зачем же они не пользовались правами, им законом в России предоставленными, и, не говоря о штаб- и оберофицерах, заслуженных генералах, державших сторону справедливости, ссылала с Кавказа в Россию, арестованными без суда и закона, лишь только по произвольному и не доказанному доносу.
Зачем она осетин, назрановцев, дидоевцев, абхазцев вопреки христианских правил насильно приводила в христианство? Не желавших казаки связывали, и после сильных побоев неграмотный поп обливал их водой, а иногда и мазал им губы свиным салом; писарь записывал их имена и прозвания в книгу — как принявших по убеждению святое крещение — и после требовал от таких мучеников строгого исполнения христианских обрядов, коих не только они, несчастные, но и крестивший их поп не знал и не понимал. За 1 непослушание же подвергали горцев телесным наказаниям, арестам и денежным штрафам.[31]
Где же веротерпимость, коим до сих пор русское правительство хвастало? И если считать подобное крещение святым, то что же оно называет грубым и жестоким? С незапамятных времен между закубанскими черкесами жили армяне, в числе 50 сот дворов. Они ни слова не понимали по-армянски. Обычай, одежда, язык их черкесский. Ничем нельзя отличить их от черкесов, но, несмотря на это, религию свою армяно-григорианскую они сохранили, и строго исполняют.
Точно так же и евреи жили между чеченцами и пользовались в народе всеми человеческими правами наравне с чеченцами. С занятием русскими чеченской линии их поселили в крепость Грозную. Армян же на Кубани — около крепости Грозного Окопа.
Недостаточно ли этого для того, чтобы согласиться, что у горцев веротерпимость более священна, чем в России.
В 1835 году русскому правительству угодно было сформировать два конных полка: один из горцев кавказской линии, другой из мусульман из закавказской провинции.
Имея их постоянно в Царстве Польском, около города Варшавы, оно утверждало, что цель формирования этих полков состоит в том, чтобы молодежь кавказских мусульманских народов знакомить с духом текущего времени и с выгодами европейской жизни, а также, в случае восстания в Царстве Польском и войны с европейскими державами, употреблять их с пользою в дело.
Также в 1836 году оно начало брать в Кадетские корпуса детей почетных горцев для того, чтобы дать им хорошее воспитание и, как образованных людей, иметь орудием к сближению туземцев с благими видами правительства.
Все это писалось и делалось лишь только на бумаге и на словах, а на деле выходило совершенно иначе.
В сказанных полках начальство старалось о поддержании только грубого воинственного духа, внушая всадникам и даже офицерам казаться туземцами дикими и отчаянными, запрещая им бывать у польских помещиков и делать с ними знакомства. Напротив того, давая страстям их полную свободу, возвращали на родину с полным образованием в разврате.
Так что поняв, в чем дело, ни один порядочный человек не отправлял сына своего туда на службу.
В корпусах же не допускали горцев до определенного там курса наук, а выпускали их офицерами в армейские полки не по успехам в науках, как выпускали русских, а по достижении полного возраста, не обращая внимания, умеют ли они даже читать и писать.
При этом в корпусе они отвыкали от своих обычаев и, не соблюдая их между горцами, теряли уважение (называли их полоумными гяурами).
Кроме того, офицеры эти, служа в полках, в среде образованного общества и на каждом шагу замечая недостатки своего воспитания, убеждались в нежелании правительства им успеха на царской службе и распространения образования в родном крае.
За что они и питали к нему вместо чувства благодарности — негодование.
Зачем же их брали и с чем это сходно?
Правительство, как выше сказано, водворившись в Кизляре, в Моздоке и Екатерине даре, а позже — во Владикавказе, получило от всех мирных горцев, сыновей влиятельных князей, алдаров и рядовых старшин («аманатами») в залог верности их с подвластными им горцами русскому Царю.
Почему, опознавши степень их будущего влияния в народе, вместо того, чтобы внушить им к себе любовь и доверие, содержали их в крепостях под строгим караулом, наравне с арестантами,[32] имея над ними надзирателями грубых фельдфебелей, по привычке напоминавших им на каждом шагу матерное русское приветствие иногда с прибавкой сильной пощечины.
Ради чего русское правительство многих делало жертвами адского испытания и, выдержавших до окончания своего срока, возвращало домой с чувством сильной нелюбви к имени «рус» (Россия)?
В 1819 году Главнокомандующий на Кавказе генерал Ермолов пригласил к себе в Тифлис нескольких почетных Тагаурских алдаров и, объяснивши им пользу образования, посоветовал отдать сыновей своих и родственников на воспитание в Тифлисскую православную семинарию. При этом Главнокомандующий убедил их, что дети их, получивши хорошее образование, получат офицерские чины и будут между народом и правительством примирительным звеном.
Алдары эти не только охотно, но с благодарностью согласились на предложение Ермолова и в том же году отправили 12 мальчиков в сказанную семинарию.
Когда мальчики эти выучились читать и писать по-русски, то некоторым из них экзарх Грузии в знак щедрой царской милости предложил принять святое крещение с саном священника в Осетии.
Мальчики не только отказались от неожиданного для них счастья, но, перепугавшись, в тот же день разбежались из семинарии по разным знакомым грузинским домам и немедленно дали знать своим родителям о предстоявшей им будущности. Родители не менее сыновей были поражены этим известием и поспешили отправить людей и лошадей с алдаром Далатмурзой Дударовым[33] в Тифлис и взяли обратно своих сыновей, которые с того дня до конца жизни своей питали к правительству сильную вражду, исключая из них одного фарсалакского сословия — Тасо Жукаева, который, принявши православное вероисповедание, отказался также от сана священника и, служа честно и усердно, умер в чине майора.
В числе многих жестоких и возмутительных мер на Кавказе надо заметить и о том, что правительство за вину одного человека наказывало несколько десятков и сотен невинных людей, а иногда и целый народ. Например: наверное не знаю, когда именно, но знаю, что во время командования краем генерала Ермолова жили на Куме близ гор Георгиевского около трехсот дворов абазинцев. Некоторые по молодецки занимались воровством: выводили лошадей и рогатый скот казачьих станиц. Начальство, несмотря на то, что жители этого аула сами жаловались на воров этих, а иногда арестовывали и представляли их к ближайшему начальству для поступления с ними по всей строгости законов, их всех без исключения (в пример другим горцам) зачислили в казачье сословие Дигорских осетин в числе двухсот дворян, живших и поныне живущих между гор. Моздоком и Екатеринодаром под названием Черноярской станицы.[34]
Ослепление правительства зашло так далеко, что примером этим оно сверх своего ожидания до того вооружило против себя горцев, что до сих пор нельзя уверить ни одного горца, что правительство не стремится к поголовному зачислению всех горцев в казачье сословие.
Кроме того, неловкий и необдуманный пример этот много помог Кази Магомету, Шамилю и всем горцам, которые желали воевать не с русскими, а против жестоких мер.
В 1830 году по случаю убийства персиянами известного Грибоедова, персидский принц Хосрой Мирза ехал в Петербург просить прощения за неумышленно случившееся несчастье с русским посланником.
Не доезжая семи верст до Владикавказа, поезд принца около Балтийской станицы встретился с шайкой разбойников, в числе пяти человек, которые из-за скалы сделали три ружейных выстрела и ранили одну лошадь под экипажем Хосроя Мирзы.
Вследствие чего последовала могущественная воля Императора Николая: в пример всем горцам[35] строго наказать всех жителей того ущелья!!!
Согласно высочайшей воле бывший Главнокомандующим на Кавказе граф Паскевич-Эриванский послал к Тагаурцам и Галгаевцам сильный отряд под начальством генерала князя Абхазова, до основания разрушившего в Тагауре два лучших селения — Кобан и Чими, а жителей их переселившего на плоскость ниже Владикавказа.
Кроме того, для буквального исполнения воли царя, преданный ему Паскевич сослал без суда и безвозвратно в Сибирь 12 человек алдаров лишь за то, что в народе они пользовались почетом и уважением. Имена их достойны памяти и потому их назову: 75-летний старик Беслан Шанаев с семью сыновьями, Уари и Каурбек Тулатовы, Буто Кануков, Инус Дударов и Хаджи Албегов…
Малая Кабарда состояла из 3-х княжеств, в числе 800 дворов: Мударовы, Ахловы и Таусултановы. Из них князь Альбахсит Мударов и первостепенный уздень Эльджарыко Абаев, не желая русского подданства, ушли к непокорным чеченцам.
Генерал Ермолов, бывший на Кавказе почти самовластным Главнокомандующим, сильно благоволил к состоявшему при нем черкесу — полковнику князю Бековичу-Черкасскому, жителю города Кизляра, православного вероисповедания, и потому пожелал сделать его владельцем Малой Кабарды, и только на этом основании вся земля их в количестве около ста тысяч десятин была утверждена актом и планом за князем Бековичем-Черкасским, а другие князья и первостепенные уздени с их подвластными остались без куска земли за то, что один из князей и один из узденей бежали от русских в Чечню.[36]
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Постыдная битва в Бабуговской станице. — Варварство начальника округа. — Чеченский старшина Майри-Бийбулат.
В 1858 году в Бабуговской станице некоторые из абазинских казаков, по правилам свято ими чтимого гостеприимства, приняли на ночлег нескольких из непокорных закубанских абазинцев.
Полковое начальство, узнавши об этом гостеприимстве, донесло высшему начальству, которое, как всегда, пожелало для уничтожения зла увеличить наказание в сто раз больше, чем по закону следовало, и потому приказало сослать из этой станицы двадцать дворов в Россию, на всегдашнее жительство, в пример другим.
Злополучные казаки эти, видя в ссылке своей от незнакомого им климата гибель всем своим семействам, обратились с убедительной просьбою к ближайшему начальству не поступать с ними противно русским законам и наказать из них только тех, за вину которых наказывают многих невиновных. Начальство, не обращая внимания на справедливую просьбу их и считая ее упрямством, строго потребовало от них: скоро и буквально исполнить приказание высшего начальства, утешая их тем, что гнев царя есть гнев Божий и надо делать то, что приказано.
Когда несчастные жертвы ужасного произвола — после нескольких неудачных их просьб — убедились в неизбежности рока, им назначенного, то посадили свои семейства на арбы и, отъехавши недалеко от своей станицы, остановились на удобном для боя месте. И там, не имея ни тени надежды на правосудие, написали прошение на имя Главноначальствующего Наместника Кавказа о пощаде невинных душ дряхлых стариков, жен и детей, об освобождении их от ссылки в дальние российские губернии и наказания тех, которые, сами не скрывая свою вину, готовы охотно подвергнуть себя законному наказанию. Прошение это заключили следующими словами: «В противном же случае мы все без исключения дали обет не переселяться в Россию, пока нам не покажут, что ссылка наша есть законная, а не произвольная».
Прошение это они отправили в Тифлис по почте и в ожидании решения своей судьбы оставались там более одного месяца. На строгие требования начальства отправиться в назначенное им место жительства, они отвечали ясно и коротко: «Повезите туда наши тела, а живыми мы не пойдем».
Не помню когда, но, кажется, в августе месяце, был прислан отряд, и мученики исполнили в точности свою присягу: все, кроме детей и раненых женщин, и то в количестве от шести до десяти душ, пали под картечью и на штыках.
Позорное дело это сильно тронуло и огорчило всех благомыслящих людей. В благородных русских обществах и кружках никто себе не позволял и заикнуться об этом ужасном деле. Постыдное дело это произошло близ г. Пятигорска, где многие из больных, приехавших из дальних русских губерний, с изумлением и негодованием невольно были свидетелями неслыханного дела, до того их тронувшего, что некоторые из них в тот же день оставили лечение и поспешили уехать в Россию, говоря: «Мы, хотя и много слышали о проделках кавказского начальства, но, к сожалению, мало верили, зато уж теперь-то мы сами, к несчастью, сделались очевидцами того, чему действительно трудно поверить».[37]
Несмотря на отзывы и негодование всех благомыслящих русских, точно такое же было дело в 1868 году с жителями закубанского аула Кудинетовых, с тою только разницею, что они сами[38] просили, по примеру их соотечественников, разрешить им переселиться в Турцию и, получивши от начальства согласие, продали свой скот и приготовились пуститься в путь до Керчи.
Не знаю, по чьему приказанию окружной начальник их, полковник Догмицов, не позволил им готовиться в путь. Черкесы, полагая, что Догмицов делает это из своего каприза, не послушались его и, посадив на арбы свои семейства, пустились в путь.
Окружной начальник, узнавши об этом, живо собрал отряд пеший и конный и с четырьмя орудиями пошел за ними в догонь. Догнавши их, приказал им возвратиться обратно в аул. Черкесы эти обратились с вопросом к своему мулле, что он им посоветует. Полоумный фанатик на вопрос их ответил вопросом:
— Известно ли вам, что русское правительство имеет в виду обратить всех черкесов в свою религию?
— Известно, — ответили черкесы.
— Если вы это знаете и останетесь его подданными, то есть ли у вас опасение, что потомство ваше со временем будет обращено в христианство?
— Есть, — сказали черкесы.
— В таком случае, вернуться назад и остаться русскими подданными — значит отказаться от своей религии и добровольно сделаться христианами, — сказал им полоумный и малограмотный мулла.
Черкесы, за исключением одного, который советовал им вернуться назад,[39] все поклялись переселиться или умереть. О чем дали знать и начальнику отряда полковнику Догмицову, который арестовавши двух к нему присланных, ничего умнее и легче не нашел, как дать залп из четырех орудий на собравшихся за своими арбами переселенцев. Из среды последних, после сделанного по ним залпа, все конные броси лись в шашки и до единого пали в средине отряда. Равно и из-за арб уменьшился ружейный огонь. В это время некоторые из офицеров обратились к недостойному их начальнику с просьбою прекратить огонь и пойти с пехотою на арбы, спасти детей и жен от неминуемой смерти. Сколько они его ни просили и не убеждали, что так требует честь русского оружия, отъявленный трус и изверг Догмицов не согласился, уверяя их, что пешие черкесы скрыли себя в ямах и нанесут пехоте большой урон.
Один из ротных командиров, презирая неуместные и малодушные предосторожности, не спрашивая позволения, повел свою роту и, дойдя до арб, заметил перед ними около нескольких тел одну красивую девушку в белом платье.
Желая спасти ее, он бросился к ней, но как только хотел ее схватить, девушка моментально вынула из-за пазухи пистолет и наповал убила благородного героя, пожертвовавшего собою ради той особы, от руки которой волею судьбы назначен был конец его благородной жизни.
Несчастная эта девушка была тоже заколота штыками разъяренных солдат и вместе с телами отца, матери и двух братьев брошена в одну яму.[40] За арбами нашли живыми только одну женщину с ребенком. Число павших было 233 души обоего пола.
Здесь справедливость требует заметить, что позорное дело это, кажется, было сделано помимо приказания высшего начальства, иначе бы негодяй Догмицов не был бы прогнан со службы.
Подробности этого сильно трогательного дела в слезах передали мне переселившиеся из Кубанской области в Турцию кабардинский князь Кайтукин и бесленеевский первостепенный уздень Алхаст Дохшукин, присовокупив, что они, написавши всю истину этого дела, подали в Константинополе правдивый свой рассказ Садразаму, который был тронут до глубины души.
Несправедливо было бы оспаривать ту истину, что честность, правдивость и храбрость были отличительными качествами кавказских народов, где каждый человек, стремясь оставить по себе добрую память в среде своего отечества, избегал делать то, что, но народному понятию, считается стыдом.
К большому несчастью, правительство ложно признало эти качества вредными своим видам и не только не поощряло их, а, напротив того, к большому стыду и вреду своему, сильно их преследовало и тем, вооруживши против себя всех благородно мысливших туземцев, наделало много и много зла краю и России.
Доказательством сему я из множества бывших плачевных дел помещаю только те из них, которые случились в мое время и более врезались в мою память.
Например, в Большой Чечне старшина Майри-Бийбулат своим личным достоинством успел соединить около себя всю Чечню и, твердо держа сторону справедливости, часто по народным делам обращался к ближайшему русскому начальству, которое, согласно своей политике, употребляя в дело обман, на словах желало и обещало ему много добра, а на самом деле оказывало большое пренебрежение к обрядам, обычаям и справедливым просьбам чеченцев. Вследствие чего МайриБийбулат, окончательно потерявши терпение и доверие к русским, посоветовал народу восстать и силою оружия требовать от русских управлять чеченцами по народному обычаю, а не по произволу местного начальника.
Таким образом, начались враждебные действия между русскими и чеченцами.
В 1818 году главнокомандующий кавказскими войсками генерал Ермолов, заложив крепость Грозную, двинулся с сильным отрядом в Большую Чечню, в аул Майртуп, где двум чеченцам предложил 300 червонцев за голову Майри-Бийбулата.[41]
Чеченцы, отказавшись от коварного предложения Ермолова, немедленно дали знать об этом Майри-Бийбулату. Но, к немалому удивлению этих чеченцев, Майри-Бийбулат вместо того, чтобы порицать Ермолова, был чрезвычайно обрадован намерением главного начальника края и, подаривши чеченцам по одной хорошей лошади, отпустил их домой.
Скоро вслед за тем он попросил к себе народного кадия со всеми членами народного махкеме (суда) и обратился к ним так:
— Я сегодня перед приходом вашим составил план выгодного мира или вечной войны с русскими. Если только народ верит тому, что я из любви к нему и к его свободе готов пожертвовать собой, то прошу уполномочить меня на исполнение задуманного мною плана, и не дальше, как завтра, вы все будете знать, что угодно Богу: мир или война.
— Ты не раз доказывал народу, — ответили члены суда, — что готов умереть за него, и потому Чечня тоже всегда готова без малейшего возражения исполнить все то, что ты найдешь для нее полезным.
Бийбулат, поблагодарив их, приказал, чтобы все конные и пешие ополчения на всякий случай были готовы к бою.
Между отрядами ген. Ермолова и чеченскими сборищами было расстояния не более пяти верст.
В ту же ночь из передовой русской цепи дали знать главному караулу, что трое лазутчиков имеют сказать весьма важное дело лично главнокомандующему. Караульный офицер доложил об этом состоявшему при корпусном командире по политическим видам полковнику кн. Бековичу-Черкасскому, а тот — ген. Ермолову. Скоро лазутчики эти с кн. Бековичем и с переводчиком вошли без оружия в ставку Ермолова. Один из них, тщательно окутавши голову башлыком, обратился к нему (через переводчика) со следующими словами:
— Сардар! Я слышал, что вы за голову Бийбулата отдаете 300 червонцев. Если это справедливо, то я могу вам услужить, и не дальше, как в эту ночь, голова Бийбулата будет здесь, перед вами, не за 300 червонцев, а за то, что вы из любви к человечеству избавите бедный чеченский народ и ваших храбрых солдат от кровопролитных битв.
Ермолов, будучи удивлен и заинтересован словами бойко и твердо выходившими из-под башлыка, спросил чеченца, кто он такой и каким образом он может исполнить все, что он говорит и обещает.
— Прошу вас не спрашивать, — ответил лазутчик. — Вы узнаете меня, когда я представлю вам голову Бийбулата.
Ермолов, еще сильнее заинтересованный, жадно ловил слова лазутчика и, желая хорошенько понять его, спросил:
— Сколько же червонцев ты хочешь за голову Бийбулата?
— Ни одной копейки, — ответил лазутчик. Ермолов и любимец его Бекович взглянули друг на друга с недоумением. Ермолов с иронической улыбкой, назвавши этого чеченца небывало бескорыстным лазутчиком, потребовал от него сказать решительно и откровенно его желание.
— Мое желание, — продолжал тот, — состоит в том, чтобы вы, получивши в эту ночь голову Бийбулата, завтра или послезавтра повернули свои войска обратно в крепость Грозную и там, пригласивши к себе всех членов народной махкемы, заключили с ними прочный мир на условиях, что отныне русские не будут строить в Большой и Малой Чечне крепостей и казачьих станиц, освободили всех арестантов, невинно содержащихся в Аксаевской крепости и управляли ими не иначе, как по народному обычаю и по шариату в народном суде (махкеме). Если вы, сардар, согласитесь на сказанные условия и дадите мне в безотлагательном исполнении их верную поруку, то opnxs вас верить и тому, что голова Бийбулата будет в эту ночь здесь.
По повторяю: вам не за деньги, а на вышесказанных условиях.
— Не правда ли, мы имеем дело с весьма загадочным человеком, — заметил Ермолов любимцу своему Бековичу.
— При всем моем желании, — сказал Бекович, — я не верю ни одному из его слов.
— Чем черт не шутит, — сказал Ермолов, — чем меньше мы ему будем верить, тем больше он нас обрадует, если, сверх ожидания нашего, через несколько часов он явится к нам с головой любезного нам Бийбулата.
— Скажи ему, — приказал Ермолов, — все, что он желает, есть благо народа, и потому я охотно соглашусь с ним, пусть только скажет, кого он хочет иметь порукою.
— Честное слово сардара Ермолова и милость царя Александра, — сказал лазутчик.
— Пусть будет так, — заключил Ермолов и протянул ему руку, — вот тебе моя рука и с нею даю тебе честное слово, что получивши от тебя голову Майри-Бийбулата, нарушителя спокойствия целого края, исполню с большим удовольствием все то, что между нами сказано и, кроме того, народные кадии и достойные члены суда будут получать от правительства хорошее содержание, а тебя, как достойного, щедро наградит царь. Теперь, — продолжал Ермолов, — я свое кончил, также требую от тебя, как истинного мусульманина, верную присягу на Коране, что ты исполнишь в точности свое обещание.
Лазутчик, не выпуская руку Ермолова, благодарил Бога, называя себя чрезвычайно счастливым и говоря, что надежды и ожидания его совершенно оправдались и что чеченцы избавлены от разорительной войны. Затем, выпустив руку Ермолова, сказал:
— Теперь вам, сардар, присяга моя не нужна, — он снял башлык, — вот вам голова Бийбулата. Она всегда была готова быть жертвою для спокойствия бедного чеченского народа. Поручаю себя Богу и Его правосудию.
— Он сам!.. Он сам! — воскликнули одновременно Бекович и переводчик.
— Да кто же он? — нетерпеливо спросил Ермолов.
— Сам Майри-Бийбулат, Ваше Высокопревосходительство! — ответил Бекович.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Чеченский старшина Майри Бийбулат. — Кн. Джанболат Айтеков и Засс. — Генерал Вельяминов и кн. Джанбот Атажукин. — Генерал Султан Азамат Гирей.
У Ермолова просияли глаза, и от полноты восторга душевного он не мог слова проговорить, только приказал ему сесть на стул и спустя несколько минут начал так:
— Бийбулат. честные враги легко делаются верными друзьями. Надеюсь, что мы с вами это докажем на деле. Поступок ваш делает вам большую честь и достоин всяких похвал, он вполне оправдывает народом данное вам похвальное имя (Бийбулат Майри).
— Если в поступке моем есть что-нибудь похвальное, то я этим обязан прославленному сардару Ермолову, врагу несправедливости, — ответил Майри Бийбулат.
Читатель видит, что Майри Бийбулат поступил очень храбро и очень честно, но, к сожалению, он, судя по себе, сильно ошибся. Благородный поступок его не принес ему тех плодов, которых напрасно он ожидал. Ермолов действовал не по долгу совести честного человека, а как должностное лицо по системе правительства.
На другой день, оправившись от сильного впечатления, которое произвел на него благородный чеченский старшина, он очень испугался, что рыцарский дух Майри Бийбулата может сильно помешать его будущим планам в Чечне.
Вследствие сего, отказавшись от данного слова, он замыслил коварное дело. Притворно согласившись на все требования Майри Бийбулата, он посоветовал ему самому отправиться в крепость Старый Аксай и освободить там всех чеченских арестантов, которых он найдет достойными свободы.
Бийбулат с благодарностью согласился и в тот же день поехал с большим почетным конвоем (а на самом деле под строжайшим и сильным караулом) в указанную крепость.
Когда он там освободил всех чеченских арестантов, исключая пятерых, и хотел ехать обратно к Ермолову для окончательного заключения условий мира, то комендант крепости объявил ему позорное приказание главнокомандующего: задержать его в крепости до особого приказания.
Бийбулат, не делая никаких возражений, согласился остаться, удовлетворившись следующими словами:
— Я не проиграл. Освобождено больше людей, чем я стою.
Народ, узнав о клятвопреступлении Ермолова, оставил свои аулы на произвол Божий и, собравшись в числе 6000 человек, пошел ночью к Аксаю, ворвался в крепость и разбросал по рукам весь гарнизон, освободив своего героя Майри Бийбулата,[42] который с того дня 1828 года враждовал с русскими.
К концу того же года он с чеченским народом изъявил покорность правительству и по представлению Главнокомандующего графа Паскевича-Эриванского, получивши чин майора с содержанием, усердно служил правительству.
Точно так же народ исполнял все требования начальства до крайней возможности, то есть до вышесказанных Пулловских экспедиций и управления.
Все это передано мне бывшим во время командования моего Чеченским округом письменным переводчиком полковником Касимом Курумовым и подтверждено многими из чеченцев, бывших, как и полковник Касим Курумов, очевидцами.
На Кавказе всем известный темиргоевский князь Джанболат Айтеков принадлежал к числу тех людей, которые, по пленительной своей наружности и благородным свойствам души, привязывают к себе сердца других.
Все закубанские разнородные племена одинаково любили и уважали его. Матери детям своим, племена своим князьям ставили в пример его мужество и благородство, называя его любимцем народа.
В то время (1835 год) к несчастью для этого князя начальником Кубанской линии был генерал-майор Засс, человек красивой наружности и краснобай с необыкновенно длинными усами, но в глубине его скрывалась черно-дьявольская душа.
Коварный Засс этот, узнавши, что душа Джанболата не доступна низкой хитрости, ловкими мерами сумел подготовить его к изъявлению покорности русскому правительству, о чем и донес бывшему начальнику Кавказской области генералу Вельяминову. Начальник области, хорошо понимавший важность перехода Айтекова от непокорных абадзехов на русскую сторону, немедленно двинулся с сильным отрядом за Лабу, куда пригласил к себе князя Джанболата и заключил с ним следующее условие:
Князь Джанболат поселит всех своих подвластных темиргоевцев на прежних их местах жительства, между реками Лабою и Кубанью. Будет исполнять относительно спокойствия края все приказания начальства. Нарушителей порядка будет представлять к начальнику для поступления с ним по всей справедливости законов.
Русское же начальство, не назначая над ними своих приставов, предоставляет им право жить и управляться по своим обычаям и не позволит казакам стеснять их или пользоваться принадлежащей темиргоевцам землею.
Когда условия были заключены, князь собрался поехать к своим, чтобы подготовить их к переселению. Прощаясь с генералом Вельяминовым, который поздравлял его и сулил ему блестящую будущность, Джанболат обратился к нему со следующими словами:
— Генерал, я принес покорность единственно для того, чтобы избавить моих темиргоевцев от разорительной войны, лишившей их всех средств к существованию. Но откровенно вам скажу, что, несмотря на то, что я от всего сердца моего поверил тому, что вы поможете мне устроить их расстроенное хозяйство, не знаю почему, но пугает меня непонятное предчувствие.
Вельяминов и Засс повторили ему свои обещания.
Таким образом, темиргоевцы, поселившиеся на своей родине, начали усердно и спокойно заниматься устройством своего хозяйства под управлением многолюбимого ими князя Джанболата, от которого Засс, спустя год после его перехода, начал требовать рабского повиновения. На это гордая душа Джанболата не могла согласиться. Только потому он сделался нестерпимым подло-коварному Зассу, начавшему по обыкновению своему искать случая отравить или тайком из-за куста убрать Айтекова, отвергавшего его нечестные предложения, касавшиеся других покорных и непокорных горцев.
Когда же для своих грязных целей он не нашел подобного себе злодея, то пригласил князя к себе в крепость Прочноокоп на чай и, будучи с ним очень любезен, задержал его там до 11 часов вечера.
В это время ударили тревогу: будто бы сильная партия непокорных черкесов выше крепости переправилась через Кубань.
Засс приказал свите князя, в числе пятнадцати человек, поскакать с казаками отыскивать небывалую партию, а ему на место их любезно дал казачий конвой и предложил отправиться в армянский аул (в трех верстах расстояния от крепости), где он постоянно останавливался.
Князь Айтеков принял предложение вероломного злодея с благодарностью и с одним узденем своим, с казаками, ничего не подозревая, поехал на сделанную ему засаду и на первой же версте ружейным залпом был убит наповал. Чем любимец народа оставил Зассу в устах всех кавказских горцев вечное проклятие, а правительству клеймо стыда и позора за то, что оно поощряло подобных Зассу людей и вместо того, чтобы сослать его в каторжные работы, куда иногда отправляют невинных, честных людей, оставило его на своем месте.
Хотя правительство не краснело иметь Засса начальником края, но все честные русские офицеры, гнушаясь служить под его начальством, уходили из вверенной ему Кубанской линии.
Кабардинский князь Джанбот Атажукин, потеряв всякое терпение испытывать оскорбительное обращение с ним ближайшего начальства, оставил родину свою и перешел к непокоренным закубанцам, где он, хорошо ознакомившись с краем, начал с сильными партиями делать набеги на Кубанскую и Лабинскую линии.
По мере его успешных нападений живо росли к нему уважение и любовь всех закубанских племен.
Между тем не менее того росли к нему гнев и злость генерала Засса, часто получавшего замечания от командовавшего войсками Кавказской области генерала Вельяминова за безнаказанные набеги Атажукина до самого города Ставрополя.
Засс, никогда не гнушавшийся самых низких мер, по своему обыкновению начал тщательно искать случая, чтобы подстрелить из-за угла, как князя Айтекова, или ядом отравить Атажукина.
Трое из закубанских ногайцев, жители аула князя Адильгирея Кайланова, давно желали избавиться от русского подданства, но будучи очень зажиточными людьми, но не могли со своими табунами лошадей и стадами овец подняться и незаметно, без вреда успеть переправиться через кордонную линию.
Поэтому они, зная гнусное намерение Засса, ловко к нему обратились с предложением исполнить его желание — тайком подстрелить князя Атажукина. Засс, в прежде бывших делах и поручениях испытавший их храбрость и энергию, с восторгом обещал им по 250 рублей серебром единовременно и офицерские чины с жалованьем. Хитрые ногайцы, поблагодаривши его за большую к ним милость, легко убедили его, что для верного успеха и во избежание всякого подозрения как со стороны Атажукина, так равно и его народа, им следует, забравши все свое имущество, на время переселиться к непокорным ногайцам, к князю Алокаю Мансурову, где они очень легко могут сблизиться с кн. Атажукиным, предложивши ему свои услуги в качестве проводников по всей Кубанской линии.
Засс до того был обрадован мнимой готовностью этих ногайцев на злодеяние, что уже считал Атажукина трупом и потребовал от них не позже десяти дней совершить их переезд за Лабу.
Таким образом, ногайцы эти, одурачивши низкого Засса, как нельзя kswxe добились исполнения своего заветного желания.
(Впоследствии один из них, по имени Топар Тимур, разбоями своими наводил страх на казачьи станицы).
Ногайцы эти, водворившись в ауле Мансурова, отправились к кн. Атажукину и рассказали ему подробно все вышеописанное. Топал Тимур предложил ему при этом воспользоваться случаем и употребить зассовское поручение против самого Засса: т. е. заманить его в засаду и отомстить за покойного, кн. Джанболата Айтекова.
На это вот что ответил благородный Атажукин:
— Топал Тимур! Я, слава Богу, мусульманин и порядочный человек, а длинноусый генерал — гяур[43] и бесчестный человек. Положим, что тебе удастся заманить его и дать мне случай отомстить за покойного князя Айтекова. Но, согласись, что князь от этого не воскреснет, а на место Засса пришлют другого Засса, а мне же никто не сможет возвратить потерянную мою честь.
Разговор этот слово в слово дошел до Вельяминова, который, поняв благородную душу Атажукина, употребил против него изворотливую политику, совершенно противоположную зассовским приемам.
В одном деле на Усть-Лабе из партии Атажукина остались на поле битвы два черкеса тяжело раненными.
Генерал Вельяминов приказал их прислать в Ставропольский госпиталь, где они были совершенно вылечены и после того представлены ему.
Вельяминов принял их очень ласково, похвалив их храбрость и честные правила князя Атажукина и вместе с тем милостиво объявил им, что они свободны и могут ехать к себе домой.
Черкесы удивленно переглянулись, не веря своему счастью, и один из них поспешно спросил переводчика:
— Правда ли это?
Вельяминов, узнавши от переводчика о заданном ему вопросе, громко расхохотался и спросил их:
— Почему вы сомневаетесь?
— Потому что это совершенно небывалое великодушие и милость со стороны русского начальника, — ответил черкес.
— Скажите князю Джанботу Атажукину, — продолжал Вельяминов, что лучше иметь дело с храбрым и честным врагом, чем с трусливым и бесчестным, и потому я вас, как храбрых и честных черкесов, возвращаю обратно к. нему. Прощайте и не забудьте передать князю все, что вы слышали от меня.
Как Атажукин, так равно все закубанские племена, были сильно изумлены мнимым великодушием красного генерала.[44]
Спустя год после освобождения этих черкесов, Вельяминов с отрядом своим пошел к белореченским черкесам и после жарких дел остановился лагерем около реки и послал к кн. Атажукину просить его приехать к нему на свидание, присовокупив:
— Я уверен, что князь уважит мою просьбу и приедет ко мне с полной уверенностью, что я не менее его уважаю свою честь и что после короткого свидания нашего он благополучно возвратится к себе домой.
Князь, получивши приглашение Вельяминова, в тот же день приехал к нему с десятью всадниками в полном вооружении и представился ему.
Князь и первостепенный уздень Кульшуку Анзоров были приглашены в ставку Вельяминова и, после длинных его советов и справедливых жалоб Атажукина, разговор их кончился тем, что князь дал слово принести покорность и, согласно желанию Вельяминова, водвориться на верховья Кубани, на Теберде. А генерал Вельяминов дал ему слово, что земля эта в количестве десяти тысяч десятин, кроме того, что Атажукин имеет в Большой Кабарде, будет утверждена за ним планом и актом.[45]
Таким образом, они взаимно друг другу понравились и, расставаясь, Вельяминов, по черкесскому обычаю, пожелал получить от князя в знак памяти его кинжал. Князь принявши его слова за шутку сказал:
— Я теперь весь вам принадлежу.
Когда его уверили, что генерал не шутит и действительно желает получить кинжал, то живо развязал пояс и положил кинжал на стол.
Вельяминов позвал адъютанта своего, который явился с бриллиантовым перстнем и ста червонцами, и в знак дружбы предложил их Атажукину. Князь, сильно покрасневши, принял перстень и тут же подарил его Анзорову, а от червонцев отказался.
Эпизод этот я давно слышал, но в 1842 г. я был на Кубанской линии у кн. Мамат Гирея Лоова, и мы по приглашению кн. Джанбота Атажукина поехали к нему в Теберду, где прогостили трое суток, и все написанное есть рассказ старика Кульшука Анзорова в присутствии Атажукина, к которому нельзя было не питать глубокого уважения.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Генерал Султан Азамат Гирей. — Было бы гораздо человечнее. — Все сказанное пусть остается.
Кн. Атажукин поехал с нами до Дахтамышевского аула к генералу Султану Азамат Гирею, пользовавшемуся у всех горцев большой популярностью.
Считаю не лишним передать то, что я слышал от него при завязавшемся между нами разговоре.
— Когда я бываю, говорил Султан, у высшего начальства, то чувствую, что я хан и генерал-лейтенант, когда же я здесь в своем доме, то теряюсь в догадках: кто я? Эти подлые пристава и станичные начальники кричат на меня, как и на всякого ногайца. На справедливую же жалобу мою начальство молчит. Право, я завидую последнему горцу, живущему не под гнетом этих негодяев… Было бы гораздо человечнее и полезнее, если бы правительство, сознавая свое могущество и долг великой державы, с приходом своим на Кавказ, не прибегая к разным неуместным и недостойным ухищрениям, прямо, согласно своим прокламациям и словесным обещаниям, занялось бы на плодородной почве его посевом семян цивилизации на общее благо. Тогда, руководимое Богом, оно непременно и скоро успело бы развить и укрепить к России чистосердечную любовь честных и способных кавказских народов, имея за них порукою их чувство благодарности и выгоды жизни.
Для достижения этой благородной и великодушной цели была бы даже слишком достаточна тысячная часть тех жертв и расходов, которые оно в течение более одного века употребило на Кавказе лишь только для посева зла и пролития в ущельях и долинах, без всякого сострадания, невинной русской и туземной крови.
А для оправдания себя перед правосудием клевещет на мусульманскую религию, будто бы она враг всякой цивилизации, тогда как мусульманская религия считает науки и искусства источником всех благ этого и будущего мира и предписывает искать их, как свое счастье. На этом основании все бывшие Халифы и повелители с неутомимою деятельностью стремились к благу человечества, сильно покровительствовали умственному и нравственному образованию, развивали в народе духовную и материальную силу. Правосудие существовало для всех одинаково.
Когда же, к несчастью, власть их доставалась человеку, заменявшему их деятельность праздностью, их строгую жизнь — наслаждениями, тогда, как везде, все отрасли управления народным богатством делались добычею страстей. Вследствие чего исчезала духовная и материальная сила, без коих государство, как и человеческое тело без души, существовать не может.
Следовательно, дело не в фанатизме, а в умении и способности понимать и различать вещи.
Россия, освободившись от татар, имела удобные случаи расширить свое государство соседними мусульманскими народами и в настоящее время имеет из них подданными более двенадцати миллионов душ. Нечего говорить о том, что между ними есть много фанатиков и злонамеренных духовных лиц, которые, не внимая голосу Корана, истолковывают его превратно, употребляют Шариат орудием для своих видов. Но ведь разве в этом виновата мусульманская религия, а не русское правительство, которое, к величайшему удивлению, в течение нескольких веков воюя и владея мусульманами, не подумало приготовить коренных русских хороших чиновников с основательным знанием правил и законоведения мусульманской веры.
Не знаю, что на это может сказать правительство, но я скажу истину, не требующую никакого доказательства.
Русское правительство не приняло мер к распространению между кавказскими народами просвещения потому, что стремилось к совершенному уничтожению не только горцев и мусульман, но и у грузин и армян сознания своего достоинства, дабы иметь их, как донских казаков, безусловными рабами.
С этой мыслью первою задачей его было нравственно и материально унизить гордую аристократию и для этого привить против грузин и армян нравственную болезнь, т. е. болезнь роскоши, балов, дорогих нарядов, шумных обедов, картежных игр и вообще разврата в обширном значении, чем и достигнута коварная цель: все грузинские князья остались без куска хлеба, по уши в неоплатных долгах, нуждаясь до крайности в царской службе.[46]
Армяне не поддались, они, напротив того, очень хорошо поняв, сами умно и ловко пользовались случаями увеличивать свое состояние, в чем имели большой успех.
Мусульманская же аристократия уничтожена, как выше сказано, совершенно и навсегда силою бесчеловечного произвола.
Все вышесказанное пусть остается в области тяжкого и печального прошлого под судом позднейшего потомства.
Обратим свой взор к будущему и чистосердечно заметим ту истину, что Россия, несколько веков враждуя с мусульманами, одержала над ними победу и ничем не упрочила ее значение. До сих пор поддерживает ее только ужасом своего оружия.
Не имея права на чувство благодарности многочисленных ей подданных мусульман, за счет коих она много расширилась и все еще растет. Но, основываясь на ясных фактах, приходится сказать, что растет под мраком таинственности: никто, кроме Бога, по сие время не ведает растет она в пользу или во вред себе.
Поэтому очень желательно, чтобы ее правительство внимательно и здраво окинув свое будущее, признало бы необходимость заменить против мусульман всю свою систему, основанную на праве сильного, системою, стремящеюся к добру, пользующеюся и любовью и доверием народов.
Она будет ближе к общему благу, т. е. к сближению России с целым мусульманским миром. Дружбою, которой Россия, обеспечивши свою победу, была бы очень богата, сильна и прочна.
Имела бы в Европе и в Азии между державами повелительную роль.
В противном случае же она, как добровольно ослепленный, в конце концов непременно будет иметь в итоге печальные результаты и позднее раскаяние.
Вывод этот ясен. И то и другое зависит, после всемогущего Бога, от умения и способности русского правительства. Пусть оно ответствует за себя.
Я только скажу, что Россия, пользуясь своею силой, до сих пор ее обманывающей, имеет гораздо более возможности и удобства быть заодно с мусульманским миром, чем те державы, которые гораздо умнее русских стремятся к тому же и, при сочувствии им мусульман, могут от них отбросить русских далеко и не возвратно. Могут потому, что ныне существующая их близорукая политика и вьшеупомянутые могущественные причины врагу сильно в этом помогут.
Англичане и французы имеют под властью своей много мусульман и пользуются от них большими выгодами, но между тем никто из них не заботится о том, что душа мусульманина будет страдать в аду за то, что он не католик или не лютеранин.
Русское же правительство, напротив того усердно хлопочет, не гнушаясь никакими мерами, обратить мусульман в православие (для блаженства их душ).
Я убежден, что всякий благомыслящий русский согласится, что меры эти противны здравому рассудку и справедливости, требующим религию и спасение душ предоставить милосердному Богу, делать только то, что может быть полезно поданным на этом свете и что может их чистосердечно привязать к России. Например: признать веками освещенные права их личные и собственности, не жалеть средств для развития в народе полезных элементов общечеловеческой жизни, иметь их наравне с русскими под покровительством законов, не создавая им произвольных, ничем не обоснованных и ничем не оправданных, не наказывать за вину одного многих невинных.
Заслужившим царских чинов и орденов предоставлять право пользоваться по закону им присвоенными правами, иметь терпение и благосклонное внимание к недостаткам в народных обычаях: время и благоразумие их понемногу исправят, а хорошие поощрят.
Такою человеколюбивою системою народ избавится от нынешней тяжкой тоски, от ожидания в будущем нужды и угнетения, от ежеминутно выходящих из глубины сердца вздохов с молитвою:
— О Боже, что будет с нашим потомством! Избави нас от тяжкого жребия, нас постигшего!
Чем больше правительство будет к ним справедливее и внимательнее, тем больше упрочит себя в мусульманском мире, иначе быть не может.[47]
Кто не знает и кому не понятно, что малейшие действия правительства, каковы бы они ни были (хорошие или дурные), сильно действуют на покоренные народы: они их взвешивают и делают из них заключение о своем будущем. Равно и то, что всякий народ любит и желает жить на своей земле, своею национальностью независимо от другого.
Но, вместе с тем, покорившись обстоятельствам, он, разумеется, как человек, выбирает из двух зол лучшее.
На этом основании благо России и ей поданных мусульман требует мною указанной системы.
Иначе же правительство восстановит против себя своих многочисленных мусульман, которые, желая избавиться от тяжкой зависимости, на место того, чтобы им напасть на опасного врага России, бросятся в его объятия.
ПРИЛОЖЕНИЯ к мемуарам генерала Муссы Кундухова
Помимо этих воспоминаний, генерал оставил еще некоторые, переписанные им документы, из которых иные не лишены также известного исторического значения.
Здесь мы печатаем письмо начальнику главного штаба кавказской армии А. П. Карцеву, видному представителю русской власти и боевому генералу, с которым Мусса Кун-духов был связан многолетней дружбой еще со школьной скамьи в военном училище и к которому относился с симпатией и доверием. Письмо это послано вместе с ранее составленной запиской, также нами здесь воспроизводимой, где ген. Кундухов в общих чертах излагает свои взгляды на положение горцев.
Печатаемые документы лишний раз освещают кипучую и честную деятельность искреннего патриота, который, прежде чем решиться на окончательный разрыв с русской властью, испробовал все средства, чтобы помочь судьбе горских народов и улучшить их положение. Не его видна, если ходатайства эти не дали в условиях российской действительности никаких результатов, благотворных для края, после чего он и покинул Россию, отказавшись от всех многолетних трудов и личных достижений своей блестящей карьеры русского генерала.
ПИСЬМО КАРЦЕВУ — НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ШТАБА
Милостивый Государь, Александр Петрович!
В последнее наше свидание Ваше Превосходительство были так обязательны, что позволили мне изложить откровенно мои мысли о настоящем состоянии края.
Прежде всего я считаю долгом выяснить те побуждения, которые ^руководили мной при составлении этой записки.
Вскоре после покорения Восточного Кавказа у горцев Терской и Кубанской областей родились чувства страха и опасения за свою будущность. Всеми ими овладело убеждение, что правительство имеет затаенную мысль породить между ними нищенство и тем совершенно уничтожить их народность и религию.
Следствием такого убеждения было то, что чеченцы, шатоевцы и ичкеринцы возымели намерение в 1860 году снова отложиться и сигналом к восстанию назначили в Чечне убийство, в каком-нибудь из аулов, бывшего в то время начальником чеченского округа полковника Велика. В это самое время последовало и мое назначение начальником Чеченского округа, коим я управлял два с половиной года.
В период моего управления тем округом мне удалось восстановить в нем спокойствие, а также не оставить в округе ни одного абрека. К сожалению же моему, я не мог успеть в главном: убедить туземцев в том, что правительство не стремится к их уничтожению.
Произвол казаков над ними, непризнание казаками никаких прав туземцев, беспрестанные столкновения их между собою — большей частью из-за земли — породили не только вражду и ненависть между ними, но при том сильно способствовали развитию у горцев убеждения в неблагонамеренности целей правительства.
Теперь в назначении наместником Великого Князя горцы видят отеческую заботливость о них Государя, и после проезда Его Величества по Терской области они получили веру и надежду на лучшее.
Мы, обязанные правительству воспитанием и личным бла госостоянием, будучи твердо убеждены, что оно желает бла гоустройства народного, не можем и не должны оставаться равнодушными к такому важному делу.
Вот мысли и чувства, руководившие мной к составлению при сем представляемой записки. С истинным почтением и преданностью имею честь быть Вашего Превосходительства покорный слуга — Мусса Кундухов. 25 августа 1863 г. г. Владикавказ.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Известно, что горцев, начиная от Дагестана до абадзехского народа, считают уже покорными правительству.
Зная близко положение горцев в настоящее время, я считаю долгом для будущего их блага и для пользы правительства выяснить следующее: у всех вышеназванных народов чувство страха за свою будущность и убеждение, что правительство стремится к их совершенному уничтожению, с каждым днем увеличивается, и они, потеряв всякую надежду на великодушие начальства, считают лучшим и единственным средством для своего существования — не расставаться с оружием.
В действительности такого их отношения не следует сомневаться. Мне, как начальнику, имеющему связи и родство с ними, легче знать их мысли и желания, чем кому-либо другому.
Я убежден, что горцы не расстанутся с этой мыслью и с оружием до тех пор, пока не увидят себя обеспеченными в средствах жизни: достаточным наделом их землею.
Лучшим доказательством может служить то, что до сих пор никто из них по неопределенности своего положения не принимается за устройство прочного хозяйства, имея к тому желание и средства. Говорят: зачем нам строиться? Бог знает, что будет завтра. Хотя между горцами и были люди, которые утешали, говоря, что напрасен такой страх, но теперь, увидев, что казакам отводится по 30 десятин на душу, а туземцам не более 2–5, они перестали утешать, вполне соглашаясь, что будущность горцев действительно страшна и что при увеличении народонаселения потомству предстоят одни лишь бедствия. Об этом жители гор горюют не менее жителей плоскости, так как последние снабжают первых хлебом и пастбищами для скотоводства.
Было бы вредно и грешно оставаться равнодушными к этому общему голосу народа и не принять решительных мер к водворению спокойствия в крае на прочных основаниях, в таких видах, чтобы туземцы видели в русских истинных покровителей, а не жестоких врагов, признающих их истребление роковой необходимостью. Тогда только горцы будут покорными и преданными правительству. Иначе же горец, не имея земли, не может иметь хозяйства и оставить хищные наклонности. Не зная другого ремесла, возможность своего существования будет видеть только в грабеже, передавая это как завет потомству.
Этот вывод я делаю из следующих очевидных истин: до водворения казачьих станиц в Кабардинском округе большая часть туземцев имела по несколько тысяч овец, несколько сот кобылиц и рогатого скота. Благоденствуя в то время, кабардинцы бедность считали пороком, приписывая ее личному нерадению, и потому каждый из них, стремясь к честному труду, оставлял наездничество и воровство, имея только одну заботу — расширить свое хозяйство и упрочить за собой земли, с чем часто обращались они к высшему начальству и получали всегда только обещания.
Когда же некоторые земли отошли под поселения казачьих станиц, это подало повод некоторым из влиятельных лиц в 1846 г. пригласить Шамиля в Кабарду, но так как приглашение не было сделано с общего согласия кабардинцев, то Шамиль не мог иметь там успеха.
Затем кабардинцы, потеряв земли за Малкой (отданные тоже под казачьи станицы), потеряли доверие к обещаниям начальства и надежду на сохранение остальной земли, вследствие чего и возымели желание переселиться в Турцию, продавая за бесценок табуны, чем совершенно расстроили хозяйство и имущественное положение.
В Осетинском округе редкий хозяин не имел рогатого скота и овец в достаточном количестве, а именно: овец от 100 до 1500 голов, крупного рогатого скота от 20 до 100 и более голов. С поселением же казачьих станиц и по отмежевании им 32 десятин на двор, имеющий более трех душ, осетины не только стали не в состоянии расширить свое хозяйство, но даже мало у кого осталось небольшое стадо овец, потому что в пастбищных и сенокосных местах оказался большой недостаток, из-за чего они поставлены в необходимость нанимать у казаков земли с платою от 25 до 100 рублей за лето.
По этим причинам и из опасения насильственного обращения в христианство больше 300 дворов осетин переселились в Турцию и, хотя многие из них возвратились обратно, но уже совершенно нищими. Почти то же самое можно сказать и о назрановцах и карабулаках, с добавлением, что молодежь считает лучшим ремеслом и единственным средством к жизни воровство и грабеж, упрекая того из них, кто ходит без оружия.
Чеченцы, после покорения края заняв свежие земли, имея лишь самое необходимое число рогатого скота, кое-как удовлетворяют своим необходимым потребностям, но улучшить и расширить хозяйство не представляется для них возможным.
В Большой и Малой Чечне приходится на двор средним числом по 10 десятин, а во дворе бывает более 5 душ, и потому до того нуждаются в земле, что не проходит ни одного года во время полевых работ, чтобы не происходили между целыми аулами ссоры и драки, кончающиеся иногда убийствами, за 2–3 десятины земли.
С казаками, которых чеченцы считают причиною этого стеснения в земле, они в непримиримой вражде, за что казаки платят также ненавистью. Отчего весьма часто происходят между ними убийства, несмотря на все бдительные меры, принимаемые начальством к предупреждению подобных случаев.
Что предстоит при таком недостатке земли, при естественном увеличении народонаселения у горцев и казаков, как не общий взрыв края и позднее сознание, что все огромные жертвы, принесенные правительством для покорения горцев, напрасны и невозвратно потеряны.
Кроме того, сколько различных жертв будет предстоять для нового водворения спокойствия и какую пользу можно ожидать от нового покорения? Если же правительство, обезоружив горцев, пожелает переселить их в Россию, то сколько это переселение будет стоить и, наконец, можно ли ожидать от этого переселения настолько хорошего результата, который соответствовал бы стоимости переселения и устройству на новых местах?
По всем данным, оставляя горцев в настоящем положении, не следует верить в будущее их спокойствие, а потому нельзя не смотреть на туземцев и на правительство, как на две воевавшие стороны, стоящие после сражения друг против друга, из коих победившая довольствуется только своею победою, не заключив прочного и выгодного мира с побежденною, а последняя имеет столько еще сил, что может при случае возобновить ожесточенную борьбу.
Поэтому мне кажется, чтобы вывести горцев из настоящего невыгодного положения, водворить в них прочное спокойствие и сделать всех довольными и навсегда верноподданными, не предстоит лучшего способа, как снять станицы 1-го Владикавказского казачьего полка: Николаевскую и Архонскую, все станицы 2-го Владикавказского казачьего полка, расположенные в Галашках на р. Ассе, и Датыкскую, 1-го Сунженского полка станицы Жанкинскую и Умахан-Юртовскую, основанные также после покорения чеченцев, переселив жителей этих станиц в Кубанскую область взамен предположенного туда переселения из России.
Затем во всех округах приблизительно сравнять наделом землею туземцев с казаками. Туземцы, видя в этом будущее свое благосостояние, обязаны принять на себя издержки переселения и, убедившись, что правительство одинаково печется о них, как и о казаках, убедятся также в бесполезности оружия, необходимого теперь, по их мнению, для защиты от грозящей им опасности.
Не подлежит сомнению также и то, что горцы, увидев себя обеспеченными и помня все несчастья в борьбе с русскими, силу которых они хорошо поняли, никогда не захотят нарушить свое счастливое положение и, не питая более никакой вражды, совершенно предадутся устройству прочного хозяйства на более твердых основаниях. Если же ненависть останется еще в старом поколении, проявления ее не допустит множество новых людей, преданных правительству за счастливое положение своей родины. Новое поколение, живя со всеми удобствами, из прежнего воинственного и полудикого сделается мирным и полезным.
Кроме того, переселение это избавит правительство от огромных издержек, какие назначены на переселение людей из России.
Эта мера не бесполезна будет и в том отношении, что правительство переселит в Кубанскую область совершенно свыкшихся с войною и климатом Владикавказских и Сунженских казаков, которые могут заменить вчетверо большую силу новых переселенцев и, по мере возможности ограничиваясь только этим переселением, правительство не впадет в такую же ошибку в распределении земли в Кубанской области между туземцами и казаками, какая оказалась в Терской области.
Если только предвидится при принесении абадзехами и шапсугами покорности наделить их землею не наравне с казаками, а только по 5 десятин на душу, то они не в состоянии будут существовать, не снискивая себе пропитания грабежом, тем более что при естественном приращении народонаселения не более как через 20 лет из этой земли едва ли достанется на душу более трех или даже двух десятин.
Положительно можно сказать, что с упразднением вышеназванных станиц и наделом достаточного количества земли туземцам в Терской области, прочное спокойствие совершенно водворится.
Народ, боясь вторично и безвозвратно потерять свои земли, будет преследовать беспокойных и злодеев, как врагов своего благополучия.
Если снятие вышеназванных станиц не будет признано возможным, то, по крайней мере, надо оставить за Малкой и за Тереком в запасе свободной земли, куда по мере нужды горцы будут переселяться.
Я высказал выше мое убеждение, что горцы не расстанутся с оружием и настоящими своими мыслями, пока не увидят себя обеспеченными землею.
Убеждение это основано на том, что не найдется ни одного горца, который бы в кругу своего семейства не горевал о будущности своего потомства, предвидя для него самую жалкую картину и высказывая за это свое неудовольствие на русских.
Поэтому теперь, если солдат или казак заедет к знакомому горцу, в аул, то дети убегают или, оставаясь, смотрят на гостя со страхом. При таких отношениях можно ли ожидать когда-либо сближения горцев с русскими?
Конечно, никогда, если горец с молоком своей матери начинает уже питать вражду и ненависть, а чем дальше он живет и развивается, тем сильнее развиваются в нём и эти чувства вместе с понятиями о своем горестном положении. Потому для обшей пользы необходимо устроить горцев, которые с каждым годом делаются беднее и, не предвидя в будущем ничего утешительного, не могут быть мирными под данными, ибо известно, что нужда и необходимость могут принудить человека к самым отчаянным предприятиям, тогда как удобства жизни, смягчая нравы, побуждают его к сохранению существующего. Кончая записку свою, считаю долгом упомянуть здесь, что не изложить всего, что знаю о настоящем положении горцев, я признавал проступком против долга совести и чести.
Состоящий по кавалерии при Кавказской армии
Генерал-майор Кундухов.
1863 года 25 марта, г. Владикавказ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ Владимир Дегоев Генерал Муса Кундухов: история одной иллюзии
Муса Кундухов родился в 1818 г. в семье осетинского алдара — мусульманина Алхаста из Тагаурии. В двенадцатилетнем возрасте мальчика посылают в Петербург, где его зачисляют в Павловское военное училище, по окончании которого в 1836 г. он в чине корнета направляется служить в Отдельный Кавказский корпус. Там М. Кундухов быстро обращает на себя внимание. Через год его включают в свиту именитых людей, сопровождающих Николая I в поездке по Северному Кавказу. На участке от Ларса до Владикавказа молодому корнету доверено находиться рядом с царем, отвечать на интересующие его вопросы. В 1841 г. Кундухова производят в капитаны. За первые четыре года службы он награжден оренами Св. Анны 3-й степени, Св. Владимира 4-й степени и Станислава 2-й степени. Ему, хорошо знавшему край, российское командование поручает важные миссии по мирному урегулированию конфликтов с местными народами. В 1846 г. М. Кундухова посылают в Варшаву для вербовки офицеров в горский кавалерийский полк, входивший в состав дислоцированной в Польше русской армии. Вернувшись на Кавказ, он получает ответственное дипломатическое задание — склонить Шамиля к миру. Поначалу переговоры шли гладко, но затем были сорваны дагестанской стороной.
Трудную и опасную деятельность Кундухова ценили. К его наградам прибавляются ордена Св. Анны 2-й степени и 1-й степени, Кавалерийский Крест Леопольда австрийского, голубой мундир, пожалованный за «отличную и усердную службу».
Во время Крымской войны (1853–1856 гг.) М. Кундухов, уже в чине подполковника, руководит организацией горского конного ополчения, вместе с которым он участвует почти во всех крупных операциях против турок в Закавказье.
После войны Кундухов делает следующий шаг по служебной лестнице — становится полковником, а к концу 1850-х гг. его назначают начальником Военно-Осетинского, а затем — Чеченского округа. Здесь он целиком поглощен проблемами гражданского благоустройства горских народов. В 1860 г. ему присваивают звание генерал-майора.
Казалось бы, жизненный путь его устойчиво движется вверх. Но, неожиданно для многих, в 1865 г. судьба Кундухова круто меняется. Во главе пяти тысяч осетин — мусульман и чеченцев он переселяется в Турцию. Там он обосновывается в вилайете Сивас, получает титул паши, должность дивизионного генерала, приобретает широкую известность и авторитет. В русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Муса-паша Кундухов, командуя османскими силами, сражается против своих бывших товарищей по оружию. Около горы Аладжа (восточнее Карса) он попадает в окружение, из которого ему удается выбраться с неимоверным трудом. Для него, как и для его новых соотечественников, война закончилась бесславно. В 1878 г. Кундухов поселяется в Эрзеруме, где еще некоторое время командует местным гарнизоном, после чего уходит в отставку. В этом же городе он проводит остаток своих лет. Скончался М. Кундухов в 1889 г. Похоронен на территории эрзерумской мечети Харманли.
М. Кундухов не мог пожаловаться на свою судьбу. В обстоятельствах его жизни не было изначально заложено обреченности на безвестность. Но не было и ничего чудотворного. Он принадлежал к народу с древней богатой историей и культурой, находившемуся на довольно высокой стадии социально-политического развития. Благодаря географическому расположению занимаемой осетинами территории они оказались вовлеченными в гигантский процесс формирования Российской империи, открылись внешнему миру. Заинтересованная в их лояльности Россия ориентировалась, хотя и далеко не всегда, на союз с самым влиятельным слоем осетинского общества — алдарами. Отсюда петербургские власти охотно рекрутировали добротные кадры для военной и гражданской службы на Кавказе,[48] где предстояла необъятная работа (масштабов и последствий ее не подозревал никто) по превращению региона в органичную часть общеимперской системы.[49]
Из алдарской семьи вышел и М. Кундухов, что открывало перед ним (понятно — не автоматически, а при известных усилиях с его стороны) благоприятные перспективы продвижения вверх по ступеням российско-кавказ-ского военно-политического истеблишмента. Имевшая вполне рациональную подоплеку «инакотерпимость» господствующего класса России, готового во-брать в себя «туземную аристократию», проявлялась в конкретных формах. Так, отпрыскам родовитых кавказских фамилий обеспечивался доступ в привилегированные российские военно-учебные заведения с последующим определением на службу и хорошими видами на карьеру. Одним словом, перед молодым знатным осетином, родившимся, как М. Кундухов, в 1818 г., было широкое поприще для деятельности. Добавим сюда возможность показать себя в экстремальных ситуациях, где обычно с особой яркостью раскрывается потенциал личности: уже шла Кавказская война, впереди предстояли Крымская (1853–1856 гг.) и русско-турецкая (1877–1878 гг.).
Природная одаренность, внутренняя собранность и преданность службе позволили Кундухову быстро продвигаться по профессиональной стезе. Он отправлялся туда, куда его посылали, дисциплинированно и умело выполнял то, что предписывалось. Участвовал в русских военных экспедициях в Дагестане и на Северо-Западном Кавказе, подавлял краковский мятеж (1846 г.) и Венгерскую революцию (1849 г.), воевал против турок в годы Крымской войны, занимался гражданским и земельным обустройством Осетии и Чечни, выполнял среди горцев миротворческие и посреднические миссии от имени России… Одно Кундухов делал с большей охотой, другое — с меньшей. А что-то, возможно, — вообще с отвращением. Но делал непременно. Как нечто само собой разумеющееся. Во всяком случае в его мемуарах не заметно особых сомнений или раскаяний по этому поводу.
Он вовремя и заслуженно получал чины и награды, отчего казалось, будто все у него складывается удачливо. Однако это — лишь внешняя, парадная канва его жизненного пути, который, по сути, был извилист и драматичен. Возможно, именно благополучная карьера заставила его острее ощутить трагическую раздвоенность человека, пришедшего через трудный опыт к нравственному выбору — долг перед царем или долг перед своим народом: с некоторых пор в его представлениях одно стало исключать другое.
Но так было не всегда. Долгое время Кундухов, получивший в Петербурге прекрасное образование, знакомый с новейшими политико-правовыми учениями, вдохновлялся идеей достижения гармонии между интересами коренного населения Северного Кавказа и России. Главная предпосылка к этому виделась ему в «модернизации» горских обществ, которую он в то же время считал целью-в-себе. Субъективно в его реформаторской «программе» не было и тени антироссийского сепаратизма. Он не мыслил для северокавказских народов иного способа войти в цивилизацию, кроме как через Россию, под ее благотворной и великодушной опекой. Вместе с тем в этой программе, как и в биографии Кундухова, был некий экзотический элемент. Дело в том, что Муса исповедовал ислам, и это существенно сказывалось на его мировоззрении вообще и на его представлениях о будущем горцев в частности.
Осетин по рождению он говорит об этом реже, чем о своей принадлежности к мусульманам. Порой создается впечатление, что, употребляя фразу «мой народ», Кундухов имел в виду более широкую общность, нежели осетины. В тональности его высказываний проглядывают признаки характерного для последователей ислама религиозно-космополитического самосознания. Он принимал концепцию европеизации в своеобразном варианте — с сохранением и поощрением мусульманской религии в качестве основы идейного, духовного и культурного единства народов Северного Кавказа. Одержимый прекраснодушными, идеалистическими планами, Кундухов не понимал, что такое единство, по природе вещей, неизбежно должно быть противопоставлено кому-то и чему-то. В данном случае совершенно очевидно — России и христианству.
По сути, Кундухов невольно ставил перед Россией абсурдную для нее задачу — в материальном плане цивилизовать Северный Кавказ на европейский лад, а в духовном — объединить его идеями ислама, чтобы в конце концов потерять этот важный регион, предварительно оплатив его независимое существование. То есть России предлагалось понести новые расходы по цивилизованному обустройству Кавказа и укреплению антирусской идеологии, тем самым подготовив условия для отделения его от Российской империи. Учитывая практическую невозможность сохранения реальной политической самостоятельности столь ценной в стратегическом смысле территории, нетрудно предположить, в чью сферу влияния попал бы Кавказ.
Таким образом, логическим результатом воплощения замыслов Кундухова явилось бы создание на южных границах России союза народов, способного стать мощным орудием в руках ее соперников. Ожидать с русской стороны такой глупости и такого самоубийственного бескорыстия было бы наивно, если не сказать — неуважительно. Впрочем, Кундухов, все же осознавая, что у России, как и у любой великой державы, есть свои государственные интересы, предлагал ей увидеть выгоды альтруистической политики в грядущей перспективе — иметь в лице населения Северного Кавказа мирных и благодарных соседей. Непомерной платой за эту сомнительную (по тогдашним жестким геополитическим и другим обстоятельствам) возможность оказалась бы вся дорогостоящая история проникновения России на Кавказ.
Однако повторим еще раз: мысли и побуждения, которые руководили Кундуховым, были в своей изначальной основе благородными и гуманными. Веруя в цивилизаторскую миссию России, он связывал с ней надежды на превращение Кавказа в просвещенный и благоденствующий край, «жемчужину» в короне Российской империи. Ему претили антирусские идеи, тем более — действия. Избранный Шамилем путь к государственности — через священную войну — был чужд Кундухову. Равно как и двойная жизнь некоторых восточнокавказских владетелей, одной рукой принимавших от Петербурга чины, награды, щедрые пожалования, другой — подстрекавших своих «подданных» против России.
Страстно желая найти в великом деле «реформации» Кавказа применение себе и своим познаниям, Кундухов решал для себя вечную проблему интеллигента — «чем быть любезным» своему народу. Национальный в своих духовных корнях (как выражаются сейчас — в менталитете), он, вместе с тем, не считал доблестью бездумное сопротивление могучему притяжению другой культуры. Его молодой, восприимчивый ум взялся за работу в эпоху едва ли не повального поклонения звучному и очень относительному понятию «прогресс», толкуемому как последовательное, неумолимое и однозначно благотворное восхождение от низшего к высшему. Сгущалась атмосфера благоговения перед всем новым и отвержения всего старого: новые идеи, новые формы государственного и социального устройства, новые законы, новый человек, наконец. Вера в преобразовательную, спасительную силу разума, воли, знания становилась культом, принимавшим, как это часто случается, воинственный оттенок. Приближалось время, когда умеренность будет приравниваться к ретроградству, когда тяготение к сохранению традиции, самобытности, преемственности будет приметой дурного тона, когда уничтожение будет объявлено созиданием. Век просвещения породил массу соблазнов. Самый иллюзорный из них питался надеждой на то, что есть быстрый и простой способ добыть людям счастье — устранить источник несчастья. Дело оставалось за малым — найти исполнителей, понимающих это и готовых действовать решительно.
Нет ничего невероятного в предположении, что выпускник Павловского училища корнет М. Кундухов испытал некое подобие мессианского искушения употребить чудодейственные реформаторские теории во благо своих соотечественников. Знание не любит оставаться под спудом, оно энергично ищет себе выход, сферу применения, а новоиспеченное знание делает это в особо экспансивной форме, ибо оно к тому же еще и нетерпеливо. Возможно, освоение русско-европейской культуры вызвало в Кундухове обычное для неофита чувство восхищения чужими ценностями с примесью досады по поводу того, что именно их не хватает собственному народу. Поэтому их и нужно заимствовать.
Воспитанный в идеях Просвещения, он возненавидел невежество и предрассудки, ратовал за их безжалостное искоренение. Однако с этими явлениями Кундухов отождествлял многие народные обычаи. Вступая в должность начальника Военно-Осетинского округа (населенного не только осетинами), он провозгласил программу преобразований на основе «развития всякой гражданственности и благоустройства в народе».[50] В ряде институтов народной жизни он видел «нелепость и зло», находя их «не соответствующими духу настоящего времени», «обременительными и разоряющими домашнее благосостояние».[51] М.Кундухов заявил горцам о своем намерении вывести их из нищеты и «поставить в состояние цивилизованных народов».[52]
Но прежде необходимо уничтожить «постыдное, вредное, закоренелое и грубое невежество, переходившее от одного поколения к другому как заразительная болезнь».[53] Отменяя одни адаты и существенно изменяя другие, он стремится регламентировать горскую жизнь до «мелочей», вплоть до подробных указаний: что и сколько может быть съедено и выпито на поминках, как вести себя женам на похоронах мужей, какие памятники ставить на могилах, каким божествам поклоняться, сколько человек приглашать на свадьбу и т. д.[54] Причем М. Кундухов исходит из критерия «рациональности» или «нелепости» обычая, в данном случае — критерия весьма ненадежного, ибо традиционные культуры имеют свою «рациональность», со стороны часто кажущуюся несуразицей. Не совсем понимавший это, Кундухов полагал, будто для успешного утверждения нового порядка достаточно строгого его исполнения, с широким применением штрафов по отношению к нарушителям.[55] Круто ломая привычный уклад народной жизни, он, конечно, руководствовался самыми благими побуждениями и еще не мог знать о том, что другой «радикал-реформатор» Шамиль, заимствовавший восточные образцы государственности, уже после пленения признает грубой ошибкой свое стремление одним ударом покончить с «вредными» привычками горцев вместо того, чтобы предоставить это времени и естественному ходу вещей.[56] Показательно, что и сам просвещенный Кундухов порой был бессилен выйти из-под власти обычая. В своих мемуарах он не без раскаяния приводит случай, когда ему пришлось убить одного негодяя, исполняя закон кровной мести. В этом эпизоде, как выразился первый рецензент Кундухова, З. Авалишвили, «под мундиром офицера русской армии обнаружился человек родового быта».[57]
Мировая этнологическая наука пришла к выводу, что обычаи представляют собой отлаженную веками систему организации, жизнедеятельности и самосохранения общества, механизм приспособления к окружающей среде (рельеф, климат, поведение соседних народов и т. д.). Вобрав опыт многих поколений, они упорядочили человеческие отношения, прекратили состояние «войны всех против всех», способствовали достижению социального равновесия, политической стабильности, этнической целостности. Обычаи, будучи еще и средством формирования народного самосознания, помогли людям обрести собственное лицо. В этой, так сказать, «самоидентификации» заложена мощная духовная и психологическая энергия, прочная нравственная опора, позволяющая этносу ощутить в себе то, что С. М. Соловьев назвал «природой племени». Огромная информация об этой «природе» закодирована именно в обычаях.[58]
Народный быт — явление органичного свойства, откуда и проистекает его устойчивость, консервативность. Безболезненное его преобразование совершается лишь в результате длительной эволюции. Живучесть составляющих его институтов — быть может, первый признак их «целесообразности». Если они отмирают, то происходит это не внезапно и не раньше, чем появится достойная им замена. Но даже тогда, когда обычай, чаще всего под давлением внешних факторов, утрачивает свою функциональность, он все равно остается частью культуры, бессознательным движением души и тела, о происхождении и смысле которого никто уже не задумывается.
Попытки насильственно разрушить естественный строй народной жизни всегда наталкивались на упорное сопротивление этой крепкой «конструкции». Если и удается сломить его, то не до конца и ненадолго, но зато — непременно с драматическими потерями для духовного и физического здоровья народа. Рано или поздно срабатывают защитные инстинкты, и обычаи восстанавливаются, иногда в более ортодоксальном, подчеркнуто «оппозиционном» виде, как реакция на агрессию извне.
Еще раз подчеркнем: хотя Кундухов и не был лишен тщеславия — нормального качества крупной личности, он, тем не менее, не похож на человека, способного принести интересы народа в жертву своей карьере. Стремясь к быстрому упразднению обычаев с помощью жестких административных мер, он был убежден, что несет пользу людям и знает их нужды лучше, чем они сами. Реформатору, видимо, не хватило понимания главного: указами нельзя привить одну культуру к другой. Устрашениями — тем более. Местная культурная почва сама «отбирает» то, что сможет на ней произрасти, остальное отторгается. Похоже, осознание этого — через жестокую реальность — в конечном итоге пришло к Кундухову и стало его личной драмой.
Однако Кундухов имел весьма веские причины и для чувства удовлетворения. Будучи на русской службе он принес немало пользы и России и народам Северного Кавказа. Начальник Терской области граф Евдокимов и его преемник князь Святополк-Мирский высоко оценивали деятельность Кундухова в должности управляющего Военно-Осетинским, а затем Чеченским округом. В их официальных рескриптах указывалось, что благодаря Кундухову «разбои прекращены, народ предался мирным целевым занятиям, множество полезных мер введено для улучшения быта народного, и … по справедливости я (граф Евдокимов. — В. Д.) должен считать Военно-Осетинский округ самой надежной и благоустроенной частью левого крыла (Центрального и Северо-Восточного Кавказа. — В. Д.)».[59] Он «сумел не только удержать в повиновении чеченцев, но много содействовал успокоению других округов и, пользуясь доверием к нему туземцев, успел внушить им ту преданность и доверие, на которых основано нынешнее и будущее спокойствие края». По признанию самого Кундухова, в стремлении «оказать большую пользу службе и краю (выделено мною. — В. Д.)» он «не знал усталости и готов был день и ночь трудиться». Лучшей наградой его подвижническому труду стали любовь и глубокое уважение горцев. Когда чеченцы узнали о намерении Кундухова покинуть их, они добровольно предложили выдать по одному аманату от каждой семьи, чтобы удержать его рядом с собой.
Его заслуги не остались без внимания и со стороны русского правительства. Только за два года (1860 и 1861) Кундухову пожаловали чин генерал-майора, ордена Анны и Станислава 1-й степени, аренду в 12 тысяч рублей. В его подчинение передали еще два округа — Шатоевский и Ичкерийский. Перед ним открывались необъятные перспективы. Казалось бы, чего еще желать этому баловню судьбы — увешанному наградами 42-летнему генералу, у которого к тому же впереди столько времени.
Однако мятущаяся натура Кундухова не могла довольствоваться тем, что для другого было бы больше чем достаточно. С некоторых пор ему стало не хватать нравственного, творческого удовлетворения от своей деятельности. Постепенно это неуютное для человеческого духа состояние усугублялось растущим конфликтом между совестью и долгом, между замыслом и результатом, между идеальным и реальным. Сила, с которой Кундухов связывал самые радужные надежды и которой он преданно служил, превращалась в его и на его глазах в непреодолимую помеху в строительстве нового Кавказа. Кундухов был свидетелем вольных и невольных (но от этого не менее пагубных) ошибок в политике России, точнее — местных российских властей, в принципиальных вопросах — земельном, сословном, религиозном. В своих мемуарах он резко критикует ее за то, что, придя на Кавказ «в роли великодушного покровителя» и «благодетельного посредника между его разноплеменными народами», пообещав, что «религия, адаты и родовые их интересы будут без малейшего прикосновения навсегда … свято сохранены», равно как и привилегии местной аристократии, она на деле демонстрировала «изворотливое коварство», «пуская в дело обман и хищение».
Наряду с множеством подтверждающих это фактов, Кундухов приводил отвратительный и, судя по всему, не единственный, пример насильственной христианизации горцев: «Не желавших казаки связывали, и после сильных побоев неграмотный поп обливал их водой, а иногда и мазал им губы свиным салом; писарь записывал их имена и прозвания в книгу — как принявших по убеждению святое крещение — и после требовал от таких мучеников строгого исполнения христианских обрядов, коих не только они, несчастные, но и крестивший их поп не знал и не понимал. За непослушание же подвергали горцев телесным наказаниям, арестам и денежным штрафам».
В оправдание такой политики Россия, как полагал Кундухов, «клевещет на мусульманскую религию, будто бы она враг всякой цивилизации».
Порой Кундухов не столько упрекает, сколько досадует на Россию. Вместо того, чтобы осознать «свое могущество и долг великой державы» и заняться «на плодородной ниве его (Кавказа. — В. Д.) посевом семян цивилизации» с «целью развить и укрепить к России чистосердечную любовь честных и способных кавказских народов, имея за них порукою их чувство благодарности и выгоды жизни», она отдает предпочтение силе оружия и разным «недостойным ухищрениям», для «посева зла и пролития… невинной русской и туземной крови». Причем, помимо всего прочего, силовая политика, по мнению Кундухова, требует в тысячу раз больших «жертв и расходов».
С какого-то момента удачливый генерал понял свое бессилие изменить что-либо в этой порочной системе, а оставаться ее послушной частью значило «невольно делаться гибельным… орудием» для народа, который доверял ему. Сознание того, писал Кундухов, что «возвышение мое в сущности было не что иное, как устроение моего счастья на несчастье ближних», внушило «отвращение к продолжению службы и к истекавшим от нее личным моим выгодам».
Мучительно переживая крах по сути основной идеи своей жизни, отказываясь смириться с таким исходом, Кундухов искал новое поприще для достойного применения своего политического темперамента. И эти поиски привели его в Турцию, куда он эмигрировал во главе нескольких тысяч северокавказских горцев, включая осетин. Отъезд из отечества генерала российской армии поставил одиозную печать на его биографии. Одни не могли простить ему черной неблагодарности по отношению к царю, другие — чуть ли не предательства по отношению к собственному народу.
Подобный взгляд нам кажется упрощением. Высказывать столь категоричные обвинения, не потрудившись вникнуть в мотивы, побудившие Кундухова к эмиграции, по меньшей мере, некорректно. Судить человека гораздо легче, чем понять его, оттого что сама жизнь гораздо сложнее, чем идеальные представления о ней. В том-то и дело, что Кундухов не отделял собственную судьбу от судьбы народа. Для его натуры обрести путь спасения только ради себя было слишком мало.[60] Если бы дело обстояло иначе, то он не бросил бы благополучную военную карьеру. Взваливая на свои плечи тяжелейшее бремя ответственности за людей (навсегда отрываемых от родного очага), осознавая риск оставить о себе недобрую память в народе, он совершал мужественный поступок, на который отважится не каждый. Лишь убеждение в отсутствии иного выбора придавало ему силу и решимость.
Сам Кундухов высказал эту мысль совершенно ясно. Объясняя причины своего «невольного перехода» в Турцию, он писал, что в составе России горцев ничего хорошего не ожидало, «кроме нищеты и обращения в христианство». «Безотрадно окинув взглядом будущность» своей родины, Кундухов счел ее «невыносимо гадкой и душной». Поскольку такая перспектива представлялась ему гибельной, он решил найти для горцев новое отечество, и его выбор, «как мусульманина», остановился на Турции. Свою готовность возглавить переселение и разделить будущее кавказских эмигрантов за границей Кундухов считал самопожертвованием во имя народа, как, впрочем, и некоторые его сослуживцы.
Однако в мотивах, склонивших генерала к столь драматическому решению, был и элемент соблазна. Хотя он признавал, что Турция — это лишь «меньшее зло», и допускал возможность встретить нужду на новом месте, все же чувствуется некое благоговение перед «землей обетованной». Кундухов надеялся, что «при труде» переселенцы «не будут иметь ни в чем недостатка», а для людей с «умственными способностями» откроется «дорога к высшим государственным должностям».[61] Ради этого, с его точки зрения, стоило «безукоризненно слиться сердцем и душой с османлы (турками. — В. Д.)» и делить с ними «скорбь и радость». Кундухов не исключал, что в будущем ему удастся вернуться на Кавказ с «правильно устроенными» турецко-мухаджирскими войсками и освободить его от России.
Вместе с тем, нельзя сказать, что на свой трудный шаг Кундухов решился без сомнений и внутренних терзаний. Тому доказательство — сам факт создания мемуаров, их общее настроение, каждая их страница и даже те строчки, которые, казалось, написаны очень уверенной рукой. Последние, быть может, нагляднее всего выдают «гамлетовский синдром». Особенно показателен один пронзительный (кто-то, возможно, назовет его патетическим и пошловатым) эпизод, приводимый в воспоминаниях. Когда Кундухов сообщил своему сыну о намерении переселиться в Турцию, тот со слезами благодарности бросился к отцу в объятия. Желая знать о причине такой бурной реакции, Кундухов спросил: «Чем же ты напуган здесь (в России. — В. Д.)? Ведь ты сын генерала, достаточно пользуешься выгодами жизни и неотъемлемыми правами русского дворянина». Последовал ответ: «Ах, отец, разве при всех личных выгодах своих могу я быть счастливым в среде несчастных, близких сердцу родных и народа». Эта сцена говорит о многом: Кундухов проверяет на самом близком человеке правильность своего выбора и ищет для себя дополнительное моральное оправдание.
А оправдываться, вообще говоря, было за что, и перед собой и перед другими. И Кундухов это чувствовал. Горцев ждали на чужбине не райские кущи, а лишения, голод, болезни. Многие погибли, так и не добравшись до отведенных им мест проживания. Турки не собирались играть в благотворительность. Они связывали с переселенцами совершенно определенные военно-политические и экономические планы: их руками предполагалось подавлять национально-освободительное движение в Оттоманской империи и осваивать почти безлюдные и малоплодородные пространства Анатолии. Ни о каких, даже символических формах этно-государственной автономии для эмигрантов не могло быть и речи. Им не оставили иного выбора, кроме как «слиться с османлы».
Но самого Кундухова турки приняли с распростертыми объятиями. Для них он был бесценным приобретением. Он получил титул паши, звание ферика, эквивалентное генеральскому, высокие должности, со всеми вытекавшими отсюда благами и возможностями. Влияние и авторитет Кундухова позволили сделать блестящую карьеру его сыну, ставшему министром иностранных дел Турции.
Мы далеки от намерения подозревать Кундухова в заведомо эгоистических, материальных расчетах, хотя бы потому, что он был вовсе не такой одномерной личностью, чтобы удовольствоваться этим. Однако факт остается фактом — участь «эмигранта» Кундухова и его семьи не идет ни в какое сравнение с драматической судьбой тех, кого он повел за собой. Если говорить о его социально-служебном статусе, престиже, благосостоянии и видах на карьеру, то он ничем не пожертвовал и ровным счетом ничего не потерял, а возможно, и приобрел. Выходило, что Кундухов, покинувший Россию из нежелания устраивать собственное счастье на несчастье ближних, прибыл в Турцию только за тем, чтобы реально — пусть и невольно — воплотить в жизнь этот аморальный принцип.
Грустная перспектива предстать перед судом потомков в таком нравственном облике, очевидно, угнетала Кундухова. К этому, вероятно, примешивалась досада на себя за ошибочный прогноз относительно будущего народов Кавказа. В течение четверти века после окончания Кавказской войны он имел не один случай убедиться, что оставшиеся на родине горцы не погибли и не стали русскими (Кундухов не видел ничего промежуточного между двумя крайностями в их грядущей судьбе: либо остаться под властью России и неминуемо превратиться в русских, либо бежать в Турцию и «слиться с османлы»). Ему, уже примерявшему лавры Ноя, было в каком-то смысле обидно лишиться их.
Все эти обстоятельства снижали жертвенный пафос поступка Кундухова и в значительной степени обесценивали духовный смысл его жизни. Более того, вставал вопрос об элементарной целесообразности такого шага, разумеется, — с точки зрения интересов мухаджиров. Плачевная судьба последних отбрасывала на яркую личность Кундухова мрачную тень, которая на фоне благополучного турецкого периода его биографии выглядела еще контрастнее.
От сознания этого идет надрывное стремление Кундухова реабилитироваться, доказать, что в той ситуации он принял единственно правильное решение. Это чувствуется во всем: в эпиграфе — «У кого что болит, тот о том и говорит»; в постоянных напоминаниях о невыносимости русского гнета и в нежелании видеть что-либо позитивное в присутствии России на Кавказе; в утверждении, что в Турцию переселилась «лучшая часть» горцев (?!). Но чем усерднее старается Кундухов убедить читателя в своей правоте, тем явственнее ощущение, что сам он в ней не совсем уверен.
Глядя из сегодняшнего дня на историю жизни Кундухова, легко судить о его заблуждениях, обвинять и возмущаться, быть мудрым и назидательным. Гораздо труднее стать на его место, вжиться в этот образ, представить себя в той смятенной эпохе, когда на Кавказе по-существу происходила колоссальная по своему размаху и последствиям революция. Она была связана с вторжением в местную традиционную, патриархальную среду русско-европей-ской цивилизации — динамичной, агрессивной, искусительной. Подобные процессы всегда протекают болезненно, с неизбежными потерями и для «субъекта» и для «объекта». (Уж такова цена любой перестройки.) Это было особенно заметно на Северном Кавказе, где на довольно тесном пространстве размещалось столько разноязыких народов со своими обычаями, верованиями, общественным бытом. Ситуация контакта с другой культурой, нарушавшая духовное и социальное равновесие в горских обществах, растревожила умы, вызвала раскол в политических настроениях, внесла сумятицу в некогда четкие представления о будущем. Увидеть из того суматошного времени, чем — катастрофой или благоденствием для Кавказа — обернется проникновение туда великой и для кавказцев, бесспорно, европейской державы было едва ли возможно.
Кундухов «поставил» на худший сценарий — и проиграл. Но это полбеды. Вся же беда в том, что вместе с ним проиграли и те, кого он вовлек в эту азартную игру и для кого ее последствия были несравненно тяжелее. Для многих из них Кундухов оказался не Ноевым ковчегом, а ладьей Харона. Что он заслуживает за это? Историк ответит: только не забвения.
Возможно, кто-то, размышляя над этим вопросом, вспомнит, что среди потомков мухаджиров были люди, занимавшие в Турции и других странах Ближнего Востока крупные военные и политические должности. Кто-то с умилением укажет, как на пример процветания вне Кавказа, на не бедствующую зарубежную северокавказскую диаспору. Все это так. Но возникает другой вопрос: а является ли это равноценным воздаянием за утрату Родины, территории, национальной государственности, языка, культуры, да мало ли чего еще? Слишком хорошо известно, чем в Турции заканчивались попытки нетурок настаивать на своей этнической и религиозной принадлежности и тем более искать какие-то формы самоорганизации. В турецком «плавильном котле» не было иного пути выживания, кроме как «слиться сердцем и душой с османлы». (Тут уж Кундухов безусловно прав.)
Конечно, массу изъянов имел и другой, внутрироссийский (имперский) вариант цивилизационного развития горцев. Немало их пострадало в войнах, революциях, смутах, репрессиях. Они испытали на себе целенаправленное стремление переплавить их (как, собственно, и все народы России) в некую унифицированную общность, стремление, принесшее определенный результат в виде советского народа. В разные времена петербургское, а затем московское руководство проводило то явную, то скрытую политику нивелирования национально-культурных особенностей, ассимиляции горцев в единой имперской — монархической или коммунистической — структуре. Но ведь было и другое: демонстративное поощрение национальных (пусть лишь «по форме») культур как составных частей единой социалистической («по содержанию») культуры, создание письменных языков и литературы, национальных школ в театральном искусстве, музыке, живописи, кино и т. д. И, быть может, самое главное — введение национально-государственных институтов, приобщавших народы (несмотря на огромную зависимость от центра) к новым, неведомым для них формам социального бытия. Понятно, что все это во многом делалось с плакатными целями — показать торжество ленинской национальной политики. И, вероятно, мало кто предвидел губительные ее последствия для принципа жесткого централизма. Как бы то ни было, объективный итог внутрироссийского варианта развития северокавказских народов очевиден: оформление национально-государственного самосознания и, при всех, порой карикатурных, издержках нынешней эпохи, довольно высокий уровень политической культуры и самоорганизации.
Оговоримся еще раз — «имперский сценарий» вхождения горцев в цивилизацию был не идеальным. Однако позволим себе спросить: а существует ли вообще идеальный сценарий для такого сложнейшего процесса. Если обратиться к истории «колониальных» и «державных» народов, которым пришлось дорого заплатить за усвоение уроков цивилизации, ответ будет отрицательным.
Один из первых рецензентов мемуаров Кундухова заметил, что указанный им путь «прямо и безошибочно» вел горцев «на кладбище истории».[62] К концу жизни, как можно предположить, и самого Кундухова стали все чаще посещать тягостные мысли по этому поводу. Если это так, то его воспоминания следует считать своеобразным покаянием.
Автор данных строк не утверждает, что предлагаемая им версия — единственно возможная. Он настаивает лишь на необходимости вызволить имя Кундухова из забвения. Достойно оно этого или нет — вопрос совершенно праздный.
У Кундухова свой, отнюдь не бесспорный взгляд на российскую политику на Кавказе, причины Кавказской войны, политическое состояние горских народов. Автор дает любопытные характеристики представителям царской администрации на Кавказе, из которых одних он презирал, другим симпатизировал. Он не терпел грубости, невежества, лживости, коварства, жестокосердия — качеств, присущих некоторым его сослуживцам и начальникам. В то же время он высоко ценил ум, просвещенность, честность, человеколюбие, способность постичь и уважать чужую культуру. Этим тоже не были обделены российские администраторы на Кавказе, за что Кундухов отдает им должное. Мемуарист, судя по всему, полагал, что политика России во многом зависела от конкретных исполнителей и зачастую ими формировалась. Как явствует из его рассуждений, не только система делала людей, но и люди делали систему.
Кундухов далек от русофобии. Россия для него — великая держава и высокое понятие. Он не мог не осознавать, что по существу обязан ей всем. И за это он любил ее, хотя и по-своему. Кундухов тепло вспоминает о своих русских друзьях — самом ярком и живом олицетворении России в его глазах. Трудно без волнения читать трогательные сцены расставания с ними.
Но Кундухов четко различал Россию, которой можно гордиться, и российское правительство, которое «должно всегда краснеть как перед кавказскими народами, так равно и перед Россией» за то, что «поступает в действиях своих против русской натуры». Да и не он один критически относился к российской политике на Кавказе. Упоминая о своей встрече в 1865 г. с тифлисским генерал-губернатором Коцебу, Кундухов приводит его слова: «Что же мы приобрели на Кавказе? Лучшим его племенам мы не сумели внушить к себе доверие и отдали их туркам».
Кундухов нигде не пишет о неприязни местного населения к русским людям. Напротив: «Горцы любили русских и скоро с ними сдружились, не питая к ним вражды». Другое дело — их отношение к официальным властям: «Но нельзя было любить и терпеть меры, которые принимало правительство без всякого правосудия». Однако и тут были исключения. Одно из них — граф Евдокимов: «Он покорил Чечню и Западный Кавказ; несмотря на это, горцы любили его и уважали, видя в нем правдивого, умного и храброго человека».
Значительное место в мемуарах занимает Кавказская война. Ее происхождение не представляет для автора какой-либо тайны. «Главная причина» — в «невнимании Николая (Николая I. — В. Д.) к справедливым просьбам всех мирных горцев, которым он вместо страха внушил сознание унизительности их положения и сильную к себе вражду». Из этого следовало, что для предотвращения войны русскому царю достаточно было правильно повести себя во время его визита на Кавказ в 1837 г. Сегодня уже мало кого устроит столь незатейливое объяснение. (Тем более, что война началась уже при Александре I.) Разве что тех, кому оно понадобится в целях, не имеющих касательства к исторической науке.
Трудно согласиться с Кундуховым и тогда, когда он дает весьма невысокие оценки Шамилю как полководцу. В частности, в блестящей (по мнению многих российских и зарубежных историков) экспедиции горского вождя в Кабарду в 1846 г. Кундухов не увидел ничего, кроме недостатка «решительности» и… «отваги». Он не признавал за Шамилем талантов стратега и тактика, считая, что имам и его наибы побеждали «лишь храбростью и мужеством горцев», «без всякого искусства».
Обращает на себя внимание упоминание о предпринятой российскими властями в 1848 г. попытке заключить мир с Шамилем. Об этой возложенной на него деликатной миссии Кундухов говорит с чувством досады на имама, виновника срыва переговоров.
Стоит отметить, что Кундухов снимает с исторического полотна Кавказской войны героико-эпический лак, которым злоупотребляют многие историки и мемуаристы. Он не скрывает ее грязную и бесчеловечную сторону — на войне как на войне.
Особую ценность воспоминаниям Кундухова придает то обстоятельство, что он использовал уникальные народные предания о Кавказской войне, добытые из первых уст.
В последней (12-й) главе Кундухов предлагает свое видение опасностей, потенциально грозящих России, как многонациональной империи. Прежде всего автор сомневается, на пользу ли этой державе ее продолжающийся «под мраком таинственности» рост. По его мнению, самая сложная проблема — общение с мусульманским миром. Если Россия заменит «всю свою систему, основанную на праве сильного, системою, стремящейся к добру, пользующейся и любовью и доверием народов», то она будет «богата, сильна и прочна», обеспечит себе «повелительную роль» в Европе и Азии. Кундухов считал, что добиться верноподданства мусульман нетрудно, при одном условии — не мешать им исповедовать свою религию. Если же российское правительство не откажется от «ныне существующей близорукой политики», то «непременно будет иметь в итоге печальные результаты и позднее раскаяние». Это станет очевидным и непоправимым, когда мусульманские народы России бросятся искать спасения у ее врагов.
Человек гордый и ранимый, он привносит в свой рассказ пристрастную тональность, порожденную обидой за беспочвенные подозрения к нему российского командования и, быть может, за недостаточно оцененные заслуги.[63] И все же есть прямой смысл взглянуть на многие вещи глазами М. Кундухова. Чтобы понять то, над чем задумываться не полагалось. Отрадно, что спустя более столетия после смерти Кундухова у нас, его соотечественников, появилась возможность услышать из той далекой, беспокойной эпохи сильный голос колоритной личности.
У воспоминаний Кундухова сложная судьба. Чудом уцелевшие от пожаров, войн и революций, они увидели свет в 1936–1937 гг., почти через полвека после кончины автора. Не в Турции и не в России, а во Франции в русскоязычном эмигрантском журнале «Кавказ», куда их передал внук М. Кундухова Шевкет Кундух. В 1938 г. первые три главы из них в переводе на английский публикует лондонский ежеквартальник «The Caucasian Quarterly». Об издании мемуаров в СССР, по понятным причинам, нельзя было и помыслить. Впрочем, тогда мало кто в нашей стране вообще знал об их существовании. «Кавказ» не числился ни в одном из «спецхранов» Москвы и Ленинграда. Что касается указанного англоязычного журнала, то в Ленинской библиотеке он был. Разумеется — в особом отделе с ограниченным доступом.
Именно в этом журнале автор настоящей статьи совершенно случайно обнаружил мемуары Кундухова. Однако радость открытия омрачалась пониманием невозможности опубликовать эту вещь или даже хотя бы как-то ее использовать. Ведь дело было в 1972 г. С тех пор я периодически делал попытки найти оригинальную, русскую (то есть полную) версию воспоминаний. Посылал запросы в библиотеки Европы и США. Тщетно. (Как теперь известно, причина неудачи заключалась в том, что я искал отдельное издание, которого не существует.)
Минули годы, а с ними и время спецхранов, идеологических отделов, цензурного надзора за всем и вся. Тут я и решил перевести с английского те три главы, чтобы хотя бы в таком виде этот памятник попал к читателю. Все же это лучше, чем ничего. Идея понравилась Руслану Тотрову — главному редактору журнала «Дарьял», где в 1993 г. и были помещены эти главы. Мы с Русланом испытали определенное удовлетворение и сошлись на осторожном предположении, что рано или поздно найдется весь текст мемуаров. Мы и не подозревали, что это произойдет так скоро. В том же 1993 г. меня пригласили прочитать курс лекций в Стэнфордском университете (США), на территории которого расположен знаменитый Гуверовский Институт Войны, Революции и Мира. В библиотеке института я и обнаружил подшивку «Кавказа», а в ней — предмет моих многолетних безуспешных поисков. Вот так — просто, быстро, неожиданно. Воистину неисповедимы извивы судьбы. Мемуары осетина Кундухова, воспитанного в Петербурге, служившего России на Кавказе, затем переселившегося в Турцию, напечатаны в Париже, а хранятся в Калифорнии.
В 1995 г. «Дарьял» опубликовал их. Впервые в нашей стране воспоминания Кундухова увидели свет в полном объеме. Нельзя не порадоваться тому, что почти через 60 лет они наконец вернулись из «эмиграции». В каком-то смысле это — возвращение и самого автора. В нашу историю и в нашу память.
Особую роль в судьбе Кундухова сыграла публикация основных глав его воспоминаний в журнале «Звезда». Предоставив свои страницы мемуарам М. Кундухова, «Звезда» тем самым открыла этот уникальный политический типаж широкой читательской публике во всероссийском масштабе, приглашая задуматься над повторяемостью и неповторимостью истории с ее поучительными намеками, недвусмысленными предостережениями и мятущимися «героями».
В 1998 г. исполнилось 180 лет со дня рождения Мусы Кундухова. Дата — не очень круглая и, вероятно, поэтому оставшаяся незамеченной. А между тем она заслуживала внимания хотя бы потому, что впервые появилась возможность «юбилейно» вспомнить о некогда табуированном имени, не боясь официального наказания. В бесконечно запоздалом послесловии к этому отнюдь не эпохальному событию хочется выразить надежду, что уже не вернется то время, когда мемуары Кундухова были «не ко времени». И сожаление о том, что сегодня они слишком актуальны.
Примечания
1
Усердно исполняя данные мне поручения, удачно командовал отдельными отрядами и добросовестно управлял краями. При всем том все-таки в глазах многих русских, я был для них чужим: называли меня фанатиком за то, что говорил и писал в пользу справедливости.
(обратно)2
Степень справедливости этого формального выражения читатель поймет ниже. М.К.
(обратно)3
Его прогнали навсегда от службы. М.К.
(обратно)4
Подарки эти состояли из браслетов, серег, перстней и часов с крупными богатыми камнями. М.К.
(обратно)5
Слово «харам» имеет много значений: все что есть и может быть вредным, запрещенным, отвратительным и грехом. М.К.
(обратно)6
Вообще у горцев неприлично между равными по происхождению младшему вести разговор, не получивши приказания или разрешения от старшего по летам. М.К.
(обратно)7
На другой год (в 1844 году) он был убит в Большой Чечне в деле с русскими.
(обратно)8
Все непокорные горцы в том же году признали сына его Казн Магомета после смерти Шамиля наследником. М.К.
(обратно)9
Вообще о бывших поенных действиях я ничего не пишу. История их не забудет. М.К.
(обратно)10
В 1836 году в марте месяце я вышел из Павловского кадетского корпуса, а в 1840 году, т. е. по истечении четырех лет, я был ротмистром, имея ордена Анны 3-й степени, Владимира 4й степени с бантами и Станислава 2-й степени на шее. М.К.
(обратно)11
Судить уголовным судом убийц, прибывающих к нам с покорностью.
(обратно)12
Здесь храбрый наиб Ахверди. Магомет сказал Шамилю: «Если мы будем бояться потери в людях, то нам надо оставить войну и покориться гяуру.» М.К.
(обратно)13
Почти все влиятельные люди очень желали. Но желание их походило на желание труса, который желает быть храбрым, да боится быть убитым. М.К.
(обратно)14
В видах улучшения народного благосостояния налагали на чеченцев огромные штрафы — со двора по 1-25 руб. — подвергали их телесному наказанию палками; вопреки закону и справедливости, за провинности назначали несоразмерные наказания, и такими тяжкими карами сами готовили их к восстанию.
(обратно)15
Генерального штаба генерал-майор барон К. П. Услар несомненно принадлежал к числу тех людей, которые вполне понимают обязанности человека и строго их исполняют. Барон Услар с обширными познаниями своими, стремясь к общему благу, внушал мысль употреблять против кавказских горцев вместо смертоносного оружия семена цивилизации. Он имеет неотъемлемое право на чувство глубокой благодарности горцев, в особенности абхазского и чеченского народов, в пользу коих он много работал и трудился. М.К.
(обратно)16
К большому моему изумлению высшее начальство почти одновременно одного за другим командировало в крепость Грозную ген. штаба генерала барона Услара и полковника Розенкампфа. Поручение, возложенное на барона Услара, было для чеченцев благодетельным. Оно имело целью развитие среди них грамоты и открыть путь к просвещению при сохранении их национальности. Данное же полковнику Розенкампфу поручение было жестококоварным. Заключалось оно в том, чтобы переселять чеченцев по частям за Терек и там их раздроблять между казачьими поселениями, так чтобы они, находясь в зависимости от казаков, со временем легко могли бы слиться с ними, т. е. цель была уничтожить самое звание чеченского народа. Допустим, здесь, что я был поражен этими двумя противоречащими друг другу поручениями, потому что, как туземец и мусульманин, судил о действиях правительства пристрастно. Но ведь барон Услар и Розенкампф были просвещенными и честнейшими русскими людьми, но их обоих, более чем меня, смущало и приводило в недоумение действие высокого начальства. М. К.
(обратно)17
Народного суда.
(обратно)18
Я его не обманул: он сумел за переселение чеченцев получить генерал-адъютантское звание.
(обратно)19
Эмигрантов.
(обратно)20
Нации.
(обратно)21
Он покорил Чечню и Западный Кавказ; несмотря на это, горцы любили его и уважали, видя в нем правдивого, умного и храброго человека.
(обратно)22
Было бы против моей совести остаться на Кавказе и быть действующим лицом в неминуемо предстоящей, вследствие проекта ничем не гнушавшегося человека, гибельной для чеченцев войне.
(обратно)23
Родовое имение отца моего на Гизеле, в количестве 10000 десятин, на основании существовавшего произвола безвозмездно отнято у него правительством и передано казакам Архонской станицы.
(обратно)24
Как я слышал от Лориса, Великий Князь Михаил, спрашивая о моем увольнении Государя Императора, получил следующий ответ: «Уполномочиваю тебя во всем для того, чтобы ни я, ни Европа не услышали ни единого выстрела с Кавказа».
(обратно)25
Горцы русских любили и скоро с ним сдружились, не питая к ним вражды, но нельзя было любить и терпеть меры, которые принимало правительство без всякого правосудия.
(обратно)26
Темирбулат Мамсуров, осетинский поэт; рукопись его стихов, к сожалению, утеряна в Турции. Ред.
(обратно)27
Генерального штаба капитан Зеленый был из Тифлиса командирован в Эрзерум наблюдать, чтобы турецкое правительство не селило чеченцев близко к русской границе. В одно утро он зашел ко мне на квартиру и, передав поклон от Карцева, сказал: «До Александра Петровича дошел слух, будто вы недовольны турецким правительством и готовитесь вернуться назад. Он слухом этим очень обрадован и просит вас, чтобы вы ради своих детей вернулись назад и получили награду, обеспечивающую вашу будущ ность. Он ждет вашего ответа». «Не написали ли вы, — спросил я капитана, — в Тифлис кому-нибудь подобное?» «Нет», — сказал он. «Если это так, то вот мой ответ: в Кочорах я расстался с Александром Петровичем навсегда, с чувством искренней дружбы и благодарности, и постоянно буду питать их к нему. Что же касается до моего возвращения на Кавказ, то я скорее здесь соглашусь на свой смертный приговор, чем вернуться назад и получить там награду, которая поставит меня перед честными людьми ниже всякого пресмыкающегося. Я уверен, что и благородный Александр Петрович не пожелает этого своему однокашнику, искренне его любящему».
(обратно)28
Генерал-адъютант князь Орбелиани — известный грузинский поэт. — Ред.
(обратно)29
Он никогда не желал русского владычества в Грузии и в 1830 году был сослан в чине капитана в Россию за бывший бунт в Грузии.
(обратно)30
После чего правительство сняло свою маску перед кавказскими народами, которые в полном смысле этого слова «ахнули» — да поздно; помочь делу было вне возможности.
(обратно)31
В справедливости всего этого можно убедиться из окружных дел с 1833 года до 1865 года — до моего отъезда. (Речь идет о делах чеченского округа, начальником которого был генерал Кундухов. — Ред.)
(обратно)32
В 1839 году генерал Граббе отправил адъютанта своего к Государю с донесением о взятии резиденции Шамиля Ахульго. Император между прочим спросил адъютанта: «Что ты, ехавши по Терской линии, видел замечательного?» «Ваше Императорское Величество, везде большой порядок и исправность. Только в городе Кизляре положение горских аманатов заслу…» Николай, грозно взглянувши на него, оборвал: «Я тебя не спрашиваю о горских аманатах», и не дал ему договорить того, что требовали справед ливость и человеколюбие. Трудно поверить тому, кто не был очевидцем, как ужасно, отвратительно было положение аманатов, которые пользовались тою привилегией от арестантов, что избавили их от накладывания на них колодок, кандалов и цепей и что днем около своего дома они могли бегать и играть под надзором солдат и с дозволения фельдфебеля.
(обратно)33
В бывшей в 1848 году Венгерской кампании президент Кошут, приглашая народы к общему восстанию, публиковал в своих газетах, что идут к ним дикари русские и что кроме их войск они вызвали с Кавказа диких горцев, которые едят людей и лакомятся детьми. К немалому изумлению, многие тому поверили и, когда я пришел туда с дивизионом, то спрашивали: «А где же дикие горцы?»
(обратно)34
Пользуясь расположением и доверием бывшего в одно время начальником левого и правого флангов достойного графа Евдокимова, я в частной беседе с ним убедил его в истинной пользе и необходимости исключить этих горцев из казачьего сословия.
(обратно)35
В числе их был родной сын его и брат мой Хаджи Мурза, который, как выше сказано, не мог равнодушно смотреть на русского. Из двенадцати сказанных мальчиков только четыре человека умерло своей смертью, остальные погибли в делах против русских. Равным образом очень редко кто из бывших аманатов не был открытым врагом России, помогая чем только мог, всем кто был непокорным правительству. Вот до чего сильно впечатление человека, полученное в детстве.
(обратно)36
В 1852 году бывший Главнокомандующий и Наместник Кавказа князь Воронцов, убедившись в вопиющей несправедливости, под видом покупки взял от ни к чему не способных наследников Бековича 50 тысяч десятин. Также в 1857 году бывший Главнокомандующий и Наместник Кавказа князь Барятинский тоже оставил им только 10 тысяч десятин. Остальную землю взял, заплатив им по полтора рубля за десятину. Вот как даруются и отнимаются земли на Кавказе и какой существует там исключительный закон или беззаконие. Ясно и понятно.
(обратно)37
Факт этот объясняет, до какой степени деспотический произвол потрясает душу и самих русских.
(обратно)38
Хаджи Бабугов, Кондаров, Дохшукин, Адамой Шерихов, Моронкулов, Ихбацев со своими родственниками.
(обратно)39
Жена этого труса — Жанболата Едигова, — схвативши шапку мужа, сказала ему: «Жаль, что я до сих пор не знала, что ты ниже всех земных творений!» — и рассталась с жизнью в числе других.
(обратно)40
Черкесы просили разрешения похоронить их по мусульманскому обряду, но Догмицов, гордясь своей победой, не внял их просьбе, собрал тела и возле одной из станиц на Лабе бросил их в две ямы.
(обратно)41
Майр по-чеченски значит храбрый.
(обратно)42
В этом деле Майри Бийбулат поставил себя в глазах горцев и русских вышэ Главного Начальника края. Кавказские народы почитали Ермолова как умного и храброго начальника, но как человека знали его эгоистом и большим интриганом. Он не гнушался низкими мерами ссорить кавказских влиятельных лиц между собой. М. К.
(обратно)43
Засса вообще закубанские племена называли длинноусым гяуром. М. К.
(обратно)44
Вельяминов был рыжий, и потому черкесы прозвали его «красным генералом». М. К.
(обратно)45
Кн. Джанбот Атажукин буквально исполнил свое слово и поселился в Теберде, откуда после смерти его правительство прогнало его детей и всех жителей аула его и поселило их на Зеленчуке, назначив детям всего-навсего 500 десятин!!! Не умирай, мол, с голоду. М.К.
(обратно)46
Не соображаясь с тем, что малейшие действия правительства, каковы бы они ни были, сильно действуют на коренные народы, которые их взвешивают и делают из них заключения о своем будущем. (Приписано автором карандашом).
(обратно)47
Мусульманская религия обязывает мусульманина так: «Если по обстоятельствам пришлось бы быть под властью иноверного царя, то следует повиноваться ему так, как мусульманскому, если только он не препятствует исполнять религию». М. К.
(обратно)48
Как известно, приблизительно с XVI в. высшие сословия и правящая «номенклатура» в России пополняется нерусскими элементами высокородного происхождения. Это — либо выходцы из земель, присоединенных к Московскому, а затем Российскому государству, либо принятые на службу иностранцы. В XIX в. такая «интернационализация» продолжается и за счет представителей кавказских народов. Наличие «космополитических» черт и веротерпимости в господствующем классе России помогло быстрому территориальному росту империи, смягчив типичные причины для напряженности между метрополией и колонией.
(обратно)49
Нет места углубляться в очень заманчивую для исследования сферу — вопрос о том, как взаимодействовали факторы притяжения и отталкивания в ходе соприкосновения двух столь разных культурных массивов — русского и кавказского. Заметим лишь, что сама природа подобных процессов исключает однозначное толкование, если, конечно, рассматривать их в русле науки, а не идеологии. Строго говоря, здесь мало чем полезны и такие привычные оценочные категории, как «прогрессивный» или «реакционный», которые трудно отнести к научному понятийному аппарату.
(обратно)50
Государственный архив Северо-Осетинской ССР. Ф. 12. Оп. 6. Д. 275. Л. 22.
(обратно)51
Там же.
(обратно)52
Там же. Л. 23.
(обратно)53
Там же.
(обратно)54
См. там же. Л. 24–26 об. 28. Высказывая презрение к идолопоклонству, как атрибуту варварства, М. Кундухов замечает, что в осетинском быту под языческими напластованиями хорошо сохранились начала христианской религии. (Там же. Л. 28 об.)
(обратно)55
Там же. Л. 23 об.
(обратно)56
Дневник полковника Руновского, состоявшего приставом при Шамиле во время пребывания его в гор. Калуге, с 1859 по 1862 год. // Акты Кавказской археографической комиссии. Т.12. Тифлис. 1904. С. 1465.
(обратно)57
Кавказ, 1937, № 8 (44). С. 13.
(обратно)58
Не случаен интерес многих современных антропологов, историков, философов и психологов к реликтовым обществам: последние позволяют понять человека и социально-культурные формы его существования не хуже, а подчас и лучше, чем высокоорганизованные цивилизации, воплощенные в развитых государственно-национальных и экономических системах.
(обратно)59
Здесь и далее цитаты без отсылок взяты из текста мемуаров.
(обратно)60
Командующий войсками Терской области М.Т. Лорис-Меликов писал, что М. Кундухов прямо высказал ему мотивы, побудившие его возглавить переселение горцев — «спасти туземное население от бедствий, которые неминуемо постигнут эти племена в случае (их. — В. Д.) восстания». А в неизбежности такого восстания он был убежден (Дзагуров Г. А. Переселение горцев в Турцию. Материалы по истории горских народов. Ростов-на-Дону, 1925. С.18).
(обратно)61
Здесь Кундухов не ошибся. В правящем классе Турции было немало выходцев с Кавказа. Этот привилегированный слой охотно вбирал в себя талантливых представителей разных народов и вероисповеданий, в чем исследователи усматривают причины высокой жизнеспособности Оттоманской империи.
(обратно)62
Кавказ, 1937, № 8 (44). С. 11.
(обратно)63
Современники указывали на «крайне самолюбивый и щекотливый нрав» Кундухова, а также на «множество» его недоброжелателей «и в среде туземцев, и между служащими русскими» (Дзагуров Г. А. Указ. соч. С. 67).
(обратно)

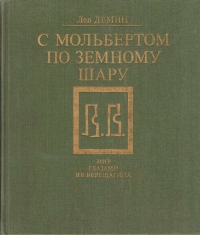


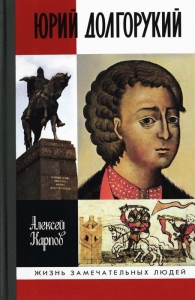

Комментарии к книге «Мемуары», Мусса Кундухов
Всего 0 комментариев