Франц Верфель Верди. Роман оперы
От автора
План этой книги был намечен еще двенадцать лет тому назад. Но написание ее все отодвигалось. Колебания художника действовали парализующе: колебания, какие неизбежно возникают при создании исторического повествования. Оно развертывается в двух плоскостях – поэтической и исторической, в вымышленном мире и в мире исследуемой действительности. Уже отсюда легко возникает дисгармония.
Эта дисгармония тем резче, чем ближе к нам время действия повествования. А уж когда изображается вчерашний день, который слишком многие пережили сами, читатель бывает вдвойне щепетилен, – и беда, если автору изменяет чувство правды.
Но труднее всего устранить дисгармонию, когда создается роман, посвященный человеку искусства. При изображении людей, углубленных в себя, прославленных гениев, при изображении творческих процессов легко сбиться на фальшь, гиперболу, фразу. Здесь писатели немало погрешили.
Но никогда не следует бояться опасностей чисто эстетического порядка. Нужно только доказать на деле, что их нет. Причина долгого промедления лежит много глубже. Она в самом герое повествования.
Человек, который всегда боялся публики, называл газеты бичом своей эпохи, объявил беззаконием посмертное печатание писем; который (по словам Россини) потерял в Париже все шансы на успех, потому что гнушался наносить визиты; который жил в своей усадьбе, как в неприступной крепости, – такому человеку выступить героем романа! Разве не стал бы он всеми силами от этого отбиваться?
Любовь, воодушевление, неизменная страсть к его музыке, одержимость ею, углубление в его творчество, жизнь, человеческую личность – все это в конце концов победило. Правда, он сдался лишь на известных условиях. Как в старых книгах предисловие взывает к снисходительности читателя, так в этой работе приходилось просить снисхождения у строгого героя, который не потерпел бы и ничтожного посягательства на свою правду. Однако и точнейший биографический материал, все факты и противоречия, толкования и анализы еще не составляют этой правды.
Мы должны добыть ее из всего этого, – да, создать ее сперва, более чистую, подлинную правду, правду мифа, сказание о человеке.
Маэстро сам высказывается за нее, когда в одном своем письме приводит тайну искусства к следующей великолепной формуле: «Отражать правду, может быть, и хорошо, но лучше, куда как лучше, правду создавать…»
Брейтенштейн, лето 1923 г.
Ф. В.
Глава первая Концерт в театре Ла Фениче
Лунное таинственное марево волшебно теплого сочельника, стелясь по воде, проникало в портал театра Ла Фениче и озаряло мрачный вход в длинный коридор, который вел прямо к ярко освещенному фойе; у окрашенной в медную ярь стены, недвижные в черноте канала, поодаль от лестницы и свай выстроились вдоль набережной несколько гондол.
Гребцов, которые вообразили было, что им удастся послушать оперу, и прокрались вслед за господами в надежде насладиться пением через щелку или даже с бесплатных стоячих мест, постигло разочарование. Оркестр (все музыканты в черных парадных костюмах) исполнял нескончаемую, громко-скучную музыку. И музыка эта шумела ради десятка-другого слушателей. Неужели сейчас, в декабре месяце, в пору stagione,[1] нельзя было исполнить что-нибудь получше!
Гондольеры давно уже сидели в одной из таверн на Кампо дель Театро. Время от времени кто-нибудь из них вставал посмотреть, не кончилась ли эта канитель. Впрочем, по части музыки они не остались внакладе. У открытой двери соседнего кабачка примостился инвалид в порыжелом мундире давно забытого покроя и зажал в коленях маленькую виолончель на высоком шипу. Жалобно пела под его смычком о горькой своей судьбе средневековая гамба, неведомым путем забредшая в современность. В таверне, где смеялись и спорили ожидавшие, подвизались два уличных певца: мальчишка с мандолиной и слепая старуха с пустыми страшными глазницами и пронзительно звонким тенором. Прибавьте к этому, что почти все прохожие, пересекая площадь, напевали обрывки какого-либо мотива, мурлыкали, насвистывали, что из хлопавших дверей то и дело вырывались наружу мелодические крики, зовы, смех и что каждые четверть часа со всех колоколен обрушивался в эту ночь на Венецию благоговейно взволнованный звон.
Над главным порталом большого блистательного театра, где красуется лазурно-золотой эмблемой поющий лебедь, пламенел газ в двух огромных матовых шарах. Золотая решетка у входа была не заперта. Перед ней не дежурил сегодня человек в золотых галунах, и даже продавцы либретто, которые обычно в продолжение всего спектакля своим неистовым «Libri dell' opera! Libri dell' opera!»[2]оглушали стоявший напротив невозмутимый собор, сегодня отсутствовали.
На широких мраморных ступенях, ведущих из большого фойе к ложам, играли отсветы открытых, горевших в чашах или за решетками огней.
Преувеличенно резкая тень покрыла обе ниши, где стояли свидетели былых времен: в правой – белая печь в стиле ампир, в левой – громадная презрительно-насмешливая голова Джоаккино Россини, «воздвигнутая иждивением общества» в 1869 году.
Две сверхэлегантные дамы в кружевных мантильях на завитых головах – точно собрались на торжественную папскую мессу – смущенно и нерешительно вошли в пустое фойе. Как спокойно входили они обычно в это здание к концу первого акта, потому что опоздание считается у знати хорошим тоном. Но сегодня они встревоженно и торопливо пошептались, оттесняя друг дружку от зеркала, подправили локон, припудрили щечку, повертели боками и наконец, никем не задерживаемые, подобрав длинные юбки, взбежали по лестнице и скрылись в ложах бенуара.
Теперь торжественно освещенное фойе и вовсе опустело, и буфет в глубине стоял без надзора, хотя там можно было видеть стройный ряд бокалов с шампанским и блюда с закусками – все явно не на продажу. Отчетливо слышалось в глубокой тишине гудение газовых фонарей. Только время от времени сквозь плотную обивку прорывалось tutti оркестра: одиночные угрюмые аккорды, – как бывает, когда неслышный разговор в соседней комнате, вдруг переходит в спор и перемежается запальчивыми дерзкими словами.
Зато длинный коридор, ведущий от вестибюля к Каналь ла Фениче, освещали только три керосиновые лампы над запасными входами. Темный, тянулся он вдоль исполинского корпуса зрительного зала и сцены, который, казалось, висел подобно морскому паруснику в доке. Две лесенки вели к входным дверям с круглыми оконцами, откуда лучом летнего дня глядел в темноту зеленовато-желтый праздничный свет. В щели можно было также разглядеть конструкцию подполья сцены, где при свете подслеповатого фонарика пожарный предался своей апатической профессиональной грусти.
В полумраке коридора гулкими шагами прохаживался старый человек в темно-зеленой ливрее театрального служащего. У него была седая раздвоенная борода а-ля Франц-Иосиф, нарочно изобретенная для того, чтоб она не прикрывала на груди ордена и всякие знаки отличия. Такая борода была здесь не в редкость среди стариков, ибо рассказ наш относится к 1882 году и со времени освобождения Венеции и объединения Италии протекло лет десять с небольшим.
Старик возбужденно и угрюмо разговаривал сам с собой. Казалось, он был недоволен своею сегодняшней службой. Шумно шагая взад и вперед, он точно решил повысить протестом собственное значение, показать людям в зале, что он на посту, и в затаенной злобе всячески мешать игре. Вдруг он поднял голову; его сутулая фигура стала внушительной, и с важной медлительностью полицейского, направляющегося к месту происшествия, он двинулся навстречу господину, который спокойно шел по коридору.
– Нельзя сегодня! Ingresso[3] воспрещается! Здесь частное празднество.
Остановленный таким порядком господин был в темно-коричневом пальто и держал в руке черную широкополую шляпу. Он спокойно остановился перед ливреей и поднял на ее носителя спокойные, очень синие, чуть влажные глаза, взгляд которых как будто вернулся из блужданий в далях. Эти смелые, рассеянно-мечтательные глаза затенял сильно выпуклый лоб, и выражали они не досаду, а легкое удивление, что кто-то отважился задержать его. Несмотря на нестриженую короткую бороду, почти сплошь серебряную, на мягкие, юношески густые волосы – они красивыми завитками падали на большое, пластичное и все-таки жадно раскрытое ухо, – несмотря на то, что эти волосы добела посерели, никому не пришло бы в голову сказать, что перед нами старик.
Этому противоречил в меру высокий, экономно, как корпус скрипки, сложенный стан, изящный, дышавший под платьем той спокойной непринужденностью, которая в десять раз убедительней говорила о молодости, чем могло бы ее доказать нарочитое напряжение. Большой горбатый обгорелый нос, сложная система складок и складочек вокруг глаз, поминутно щурившихся даже в темноте – словно бы на воображаемое слепящее солнце, – придавали лицу то улыбку крестьянина, который в широком зареве заката озирает свою пашню, то дерзкий взор отважного корсара, который смотрит со своего утеса в морскую даль; но чаще всего – спокойствие знатного человека, преодолевшего все сомнения и проникшегося издавна сознанием своего достоинства.
Боги с их атрибутом вечной молодости не всегда изображались юношами – чаще мужами зрелых лет: Юпитер, Нептун, Вулкан! Так и на этом лице старость была лишь прекрасно преобразившейся формой божественной юности и вневременности.
Господин, рассеянно посмотрев на служителя долгим и медленным взглядом, приготовился двинуться дальше.
Тот повторил строже:
– Вход воспрещен! В театре празднество!
Тонкие морщинки вокруг глаз господина заиграли дразнящей усмешкой.
– Вот как! Значит, мне придется повернуть назад, Дарио?
Старик с австрийской бородой осекся, ахнул, его как молнией ударило, он выкатил красные глаза и начал сам себя бить по щекам:
– Осел я! Болван я! Скотина! Он меня узнал, а я его нет. Ох, синьор маэстро!.. Что ж это со мной?… Сердце так и колотится!.. Вы нисколечко не изменились, а я вас не узнал… Вы нас почтили! Вот неожиданность!.. Клянусь Вакхом! Давно вы нам не оказывали этой чести, синьор маэстро!.. Погодите: в последний раз вы нас почтили в шестидесятом году… Нет, в пятьдесят девятом, в последний стаджоне перед войной… У меня с перепугу помутилось в голове… Может, еще раньше, когда вы ставили тут «Бокканегру»… Много вещей играли тут с тех пор, синьор маэстро, много новых вещей! Но все они никуда не годятся! Между нами говоря, синьор маэстро!
– Я рад, что вы по-прежнему при театре, Дарио!
– Ветеран, бедный ветеран!
Дарио, наэлектризованный, стал в позу:
– Я тут работал еще при постановке «Эрнани»… Вот это красота, это музыка! «Si ridesti il leon di Castiglia…»[4] Это музыка! Это красота! Я знаю все наизусть… И меня… меня, такого знатока, они на старости лет сослали сюда, вниз, и поставили помощником билетера… Сорок лет служил я там – наверху, пел в хоре, статистом выступал, работал осветителем, механиком, при занавесе… Вы меня узнали, синьор маэстро, вы меня узнали!.. Все господа маэстро знают меня… Вы нам всегда щедро давали на чай. А за удачную грозу в «Риголетто», бывало, приплачивали особо. Ах, ужас какой!.. Вы нас почтили! Да разве здесь вам стоять! Вам должны устроить прием… Побегу к секретарю!
– Ни в коем случае! – Верди схватил Дарио за рукав. – Ни слова никому, что я тут был. Я провел в Венеции один день и ночью еду домой… Мне просто пришла фантазия заглянуть в ваш старый театр…
– Понимаю! Молчу! Инкогнито! Прибыл в гости король!
– А что там такое? – Маэстро легким кивком головы указал на зрительный зал. Он отлично знал, что там происходит, тем неприятнее было ему задать этот вопрос.
– Там? Немца чествуют!
– Какого немца?
– Да того самого, у которого сегодня день рождения. Или день рождения у его жены… А может быть, они ради святого праздника закатили такую музыку…
Дарио с явной неохотой говорил на эту тему. Он вдруг покосился на свои убогие, разношенные сапоги; маэстро почувствовал неловкость.
– Как зовут немца?
– Вагнер. Арриго, или Рикардо, или Федериго… что-то в этом роде. Играют его sinfonia. Он сам отбивает такт: Sinfonia длится битый час, а за нею никакой оперы. Вообще этот Вагнер – путаная голова и сущий дьявол. Про него рассказывают всякое!
– Что же про него рассказывают?
– Он хочет отменить в театре антракты. Вы подумайте только, синьор маэстро! Слушай подряд три, четыре, а то и пять актов, ни встань, ни повернись, слова не скажи, ни разу не чихни – целую опера-балло! Что это за глупость, я вас спрашиваю? Кому это надо? Прослушал человек один акт в свое удовольствие, а там хочется ему поразмяться, покурить, публику посмотреть, разговор завязать, посудить о певцах… Так нет же, нельзя… хотят запретить, как уже запретили «бисы».
– В этом все его злодеяния?
– Ох? Слышал я и кое-что похуже! В одной своей вещи этот еретик вытаскивает на сцену святое причастие. Такое ведь кощунство! Да и разве это для сцены?
Маэстро, казалось, давно перестал слушать. Взгляд его снова блуждал где-то вдали. Только после некоторой паузы он спросил совсем равнодушно, как будто хотел по какой-то причине затянуть разговор:
– А что, по-вашему, «для сцены», Дарио?
Дарио замялся, потом осмелел и, широко взмахнув рукою, воскликнул:
– Хорошая ария! Такая ария, чтобы каждого пронимала. Опера с хорошими ариями…
В это мгновение финальный с-dur'ный аккорд торжественно оборвал музыку на самом высоком крещендо разбушевавшихся литавр. После короткого всеобщего молчания, какое обычно наступает сразу под впечатлением такого рода музыки, разразились рукоплескания, затем прорвались долго сдерживаемые выкрики «эввива!». Юные музыканты, по большей части ученики лицея Бенедетто Марчелло, чествовали композитора. Дарио пробормотал огорченно:
– Я должен теперь прислуживать там, у буфета. Моя обязанность, ничего не поделаешь! Уж вы меня извините!
Сухоньким стариковским шажком он засеменил к фойе. Однако на ходу этот театральный уникум еще раз обернулся с простодушным и спесивым видом:
– Синьор маэстро! Подождите меня тут. Они там недолго проканителятся. Я мигом к вам назад.
Верди сам удивился, что слова служителя почему-то его сковали. Он еще успел бы пройти весь длинный пустой коридор и вернуться на свою гондолу. Но в странном смятении ему самому непонятных чувств, среди которых любопытство занимало последнее место, он остался, даже сделал несколько шагов вперед, к фойе.
При этом им все более овладевало тяжелое, мучительное чувство, наследие трудной молодости и в детстве еще испытанных унижений, которые не могла изгладить вся его последующая жизнь, все неслыханные триумфы, блистательные победы пред лицом Европы. То было чувство, будто он незваный, непрошеный вторгся в чуждый и замкнутый круг. Болезненная робость, горький стыд – в шестьдесят девять лет.
Между тем праздничное общество, состоявшее преимущественно из молодых музыкантов лицея Марчелло, наводнив фойе черными фраками и сюртуками, потянулось к буфету. Под шумное хлопанье пробок и быстрые стаккато итальянской болтовни слышались широкие звуки немецкого языка с приглушенной, на неполном выдохе, вокализацией. Эти звуки становились все более связными, и наконец можно было расслышать тосты, поминутно заглушаемые звоном стаканов и возгласами «ура!».
С безошибочной силой памяти, присущей очень энергичным людям, маэстро узнал несколько лиц, мимолетно знакомых ему с прежних времен. Вот граф Бонн – директор Венецианской консерватории, аристократ от искусства, который теперь со всею бесполезной суетливостью устроителя носится по залу; далее кларнетист Каваллини – некогда концертный корифей, сошедший ныне на скромные роли оркестранта и преподавателя; и наконец, ведущий музыкальный критик «Персеверанцы» – Филиппо Филиппи.
Господин Филиппи, не так давно извивавшийся в лести, чтобы получить от Джузеппе Верди чуть ироническое письмо, был из тех музыкальных критиков, которые не отличаются ни писательским, ни музыкальным дарованием, но так ловко шагают в ногу с временем, перепархивая от одного направления к другому и тонко спекулируя на бирже моды, что достигают все большего влияния и, пройдя долгий искус самоунижения и бесстыдства, утверждаются в конце концов на своем почетном троне.
Маэстро искал, где бы спрятаться, – он узнал теперь еще и Листа, – но вместо того чтоб уйти поскорей из театра (отступление не было еще отрезано), быстро взбежал по ступеням и стал у двери в зрительный зал. Здесь, на возвышении и в темноте, он чувствовал себя надежно укрытым.
Il cerchio[5] закончился. Вот уже пробежали мимо Верди вниз по коридору проворные мальчишки, торопясь подать гондолы. За ними следом прошли дети Вагнера, двое подростков, поводя вокруг зачарованными глазами, блестевшими от непривычного возбуждения и оттого, что им разрешено было не спать в этот поздний час. Детей сопровождал их дедушка – аббат, который в разговоре с ними полукокетливо, полунаставительно растягивал слова.
Появился и сам великий человек, а за его спиной теснилась толпа. Вагнер накинул поверх фрака светлое пальто и держал в руке цилиндр. Череп, поросший белым пушком, и непомерно выпуклый лоб мерцали, будто освещенные изнутри волшебным светом. Маленькое тело выпрямилось под напором внутренней страсти, беспокойно рвавшейся наружу в жажде выразить себя. Он говорил по-немецки громко и экспансивно, утрируя дифтонги и смягчение гласных; он поучал, разъяснял, шутил, первый приветствуя свои остроты безудержным заразительным смехом. Никто, казалось, не замечал, как дребезжал и подрагивал земной сосуд этой мощной жизненной силы – бедная перегруженная машина. Только идущая рядом жена нервно следила за ним, старалась его успокоить, унять его речь, поторопить его шаг, поскорей избавить его от свиты.
Молодые люди, к которым Вагнер обращал свои слова и жесты, были вне себя. Глазами одержимых пустынников, разинутыми ртами пьяниц, свистящим дыханием фанатиков пили они слова, непонятные им, – нет, не слова: пили звуки, пили жизнь другого человека, – жизнь, которая своею полнотой, своею скрытой силой, казалось, в десять раз превосходила всякую другую жизнь.
Маэстро Верди спокойно стоял в тени, на возвышении, в нише дверей. Когда опьяненная толпа надвинулась ближе, его пронзила мысль, что, несмотря на неистовую бурю ликований, в которой прошел он через жизнь, на факельные шествия, которые ему устраивали, на поклонение, которым его окружал народ – действительно народ, – вся эта дань восторга воздавалась, в сущности, не ему, не творцу мелодий, но самим мелодиям. Имя его – пять букв, пламенных знаков возвышения Италии – обратилось в символ. Но личность за этим именем, за этим творчеством оставалась в тени, жила в неизвестности по ту сторону своих дел и побед. А тот, другой, что сейчас остановился в четырех шагах от него, чтобы начать новую речь, – его творчество еще горит беспокойством, вносит разлад в среду людей, с глумливым презрением похитило у него, у Верди, немало друзей, выводит из равновесия самые спокойные души, нависло над духовным миром исполинским облаком, которое одно лишь источает краски, тени, свет… Но видя эту фигуру в толпе, маэстро остро почувствовал еще нечто: здесь не творчество, здесь – человек!
Как у подлинного узурпатора, у корсиканца, здесь личность и ее творение – одно. Лишь себя самого он увековечивает ежечасно, и нет человека столь ничтожного, чтоб он пренебрег отметить его огненным своим клеймом; ступил на камень, и камень – его вассал. Дело его связано с ним неразрывно, слава его – он сам, и доколе он может излучать в даль времен свою горячую жизнь, до той поры он бессмертен.
Вагнер остановился прямо у ниши, где прятался маэстро. Кто-то заговорил по-французски, и композитор поспешил ответить также по-французски. Подбирая слова, он повернул голову вбок и заметил человека наверху, в тени.
Верди сразу преобразился. Светлая кротость, озарившая на старости его лицо, отступила: в нише стоял угрюмый и замкнутый человек, каким был он в молодые годы. Очень синие, глубоко посаженные глаза стали холодными. Взгляды обоих скрестились. И это мгновение стало событием.
Драмы созвездий протекают в веках, драмы человеческой истории – в часах, днях, годах. Но событий душевной жизни не измерить ни временем, ни рассудком.
Взгляд Вагнера встретил незнакомое и очень чужое лицо, над которым ему не дано было власти, – лицо человека, который замкнулся в себе и не улыбался ему льстиво, как улыбались все другие. Встретил взор, упоенный гордостью и неприступным одиночеством, неутомимую силу, которая в нем не нуждалась, которая действовала и утверждала себя без затаенного властолюбия.
Взгляд Верди встретил сперва вопрошающие, изумленные и даже встревоженные глаза. Но смущение тотчас исчезло, и снова загорелся в них присущий им огонь: домогательство любви, воля к обольщению, что-то почти по-женски властное, вечная неугомонность, немой самоупоенный призыв: «Будь моим!»
Общество скрылось в темном портале. Была слышна перебранка гребцов.
Маэстро все еще неподвижно стоял на месте. Лицо его было снова добрым и спокойным – лицо его зрелых лет. Медленно угасал отблеск обольщения на этих милых чертах.
Подошел Дарио. Он был сам не свой:
– О синьор маэстро! Я бы должен объявить, что вы оказали нам честь прийти сюда, возвестить бы должен… Я допустил оплошность. Теперь меня рассчитают, прогонят меня за проступок по службе. Ведь вы – лицо государственной важности! Стало быть, меня могут даже засадить в тюрьму. Мадонна! Нам тут случалось принимать членов королевского дома. Тогда все шло по регламенту и, знаете, совсем как в прежнее время, когда жаловали к нам августейшие члены императорской фамилии, распроклятые эрцгерцоги. Все было расписано: ты стой здесь, ты – там! И когда приезжал к нам император Наполеон, тот самый, которого велел пристрелить какой-то немец – не то Радецкий, не то Бисмарк, – так и при нем то же самое… Синьор маэстро, не позвать ли мне все-таки секретаря?
– Не мелите вздор, Дарио! Молчите – и все! – В руку болтуна проскользнула монета.
Неестественно яркий месяц властвовал над Венецией. Туманы, мягко сверкая, стлались по каналам, где не видно было больше барок и гондол. Замерла в воздухе последняя волна колокольного звона. Искаженные, застыли белым оскалом трупов каменные маски у Врат Падения.
Положив перед собой английский ручной саквояж, маэстро сидел на мягком сиденье гондолы – в этой «трясине безволия», как он всегда называл ее в мыслях. Мир малых каналов был мертв. Не вступит человек на крытые подъемы мостов, не шевельнется тень под фонарями низких портиков. Только изредка гребец при повороте за угол кинет вдаль с высокого носа гондолы свой древний оклик, оскорбляя белокурую аристократку – городскую выродившуюся ночь.
Такт за тактом человек погружал в воду весло, но казалось, это была не вода, а нечто более сложное, подобие человека. Еле заметно акцентируя, лодка скользила вперед пока не иссякала сила толчка. Потом снова взмах весла, и снова толчок: длинная нота, короткая нота, длинная, короткая. Это движение было родоначальником всех баркарол. «Венецианский счет на шесть восьмых» – так окрестил его однажды Верди в ту пору, когда работал здесь над «Риголетто».
Сегодня от этого ритма ему становилось не по себе. Он не любит воду. Он боится морских переездов. По случайности ли он едва не утонул недавно в маленьком пруду своей усадьбы Сант Агата? Вода – это бездна. Непроглядная бездна, она лежит вне его власти. Все хроматическое должно только служить ему, но не овладевать им.
Душевное беспокойство, мучившее его много лет, в это мгновение перешло в тревогу. В своем пристрастии к чистоте отношений он старается дать себе отчет в этих последних трех днях. Ритм гребли с его тихой, возбуждающей неравномерностью направлял ход мыслей: «Двадцать первого я выехал из Генуи… Пеппина была недовольна. Отсюда размолвка. Понятно! Она не любит отпускать меня в поездки одного. Мне шестьдесят девять лет… Так ли важны были эти дела в Милане?… В Генуе мне казалось, что очень важны… Кое-какие пункты в договоре на новое издание „Бокканегры“, постановка „Дона Карлоса” в Вене!.. В конце концов Рикорди мог бы и сам приехать ко мне. Но время от времени не мешает нагрянуть к издателю лично… Ведь это же сплошной бесконтрольный грабеж!.. Еще бы!.. Даже у бухгалтеров при моем появлении взгляд становится лукаво-растерянным. А Бойто? Его „Отелло“ недурен. Его „Отелло“ превосходен!.. Но что за дикая мысль! Я больше не буду писать. Если к шестидесяти годам я выдохся, природа должна сойти с ума, чтобы я мог на семидесятом сочинить хоть четыре такта. Придется праздно доживать свой век… А если я напишу и поставлю новую оперу? Публика примет ее снисходительно, даст ей дорогу из почтения к „маститому композитору из Сант Агаты“ и к репертуару шарманок… Важные критики по всей Европе будут писать все то же, что они пишут обо мне после „Дона Карлоса“: я, оказывается, посредственный эпигон Вагнера; я подслащиваю его гармонию; силюсь перевести его возвышенную полифонию на простецкий язык своей буссетанской музы… Ах, не надо, не надо!..“
Подобно реву хищника в пустыне, оклик гондольера потряс глухую ночь. Маэстро ощупал свой саквояж: «Лир» – мое проклятье! Правда, я стал здоровее. Я давно справился с хронической ангиной, которая меня преследовала в молодости. Я взбегаю через две ступеньки на пятый этаж, и сердце бьется ровнее, чем двадцать лет тому назад. Но эта чувствительность – несомненно следствие возраста. А то с чего бы недавно, перечитывая после бесконечного перерыва свои «Nabucco» и «Battaglia di Legnano»,[6] я несколько раз заплакал?… Старье! Там нет на каждой фразе перемены счета, нет бекаров, запрещенных квинт, вычурных модуляций, «переченья» и прочей модной мишуры. Но зато в этом старье есть какая-то… какая-то мощь! Для меня, ни для кого больше! Баста!.. Да и эта моя поездка в Венецию тоже ведь одна сентиментальность. Разве раньше я так разволновался бы?… Рикорди рассказывает мне, что старый Винья при смерти. И ох как сжалось у меня сердце! Я в тоске увидел пред собой Венецию пятьдесят первого – пятьдесят третьего года. Винья! Вот был человек! Товарищ, искатель, исследователь! до трех часов утра мы с ним, бывало, ходим по улицам, поочередно провожая друг друга!.. Такой ведем разговор, что головы горят… А Галло? Наш добрый Галло, шутник и циник, истый венецианец, грубый и благодушный, последний импресарио славной и нечестивой школы Барбайи и Мерелли, которого не сохранит – увы! – ни один музей. И вот, всегда тяжелый на подъем, я сажусь в поезд и мчусь сюда… Но когда сам становишься стар, лучше не навещать обиталище смерти! Лежит на кровати бедный ссохшийся человечек. Держишь липкую руку… Почитаемый врач сам себе не в силах помочь!.. Вот так и через тебя перешагнет современная наука! И через тебя!..»
В мозгу маэстро вдруг пронеслось мучительное подозрение: «Действительно ли я приехал в Венецию только ради больного друга? Больше ничто не тянуло меня сюда? Или я сам себя обманываю?»
Гондола скользит мимо Сант Анджело в Большой канал. Туман отступил, разогнан; шеренгу дворцов, колышась, осаждает бесформенная серебристо-чешуйчатая гладь. Впереди, совсем близко – камень долетел бы, – устало покачиваются три гондолы. В них Вагнер со своей компанией возвращается домой из Ла Фениче; не простые наемные лодки, как та, в которой едет маэстро, – очень аристократические гондолы, в каждой по два гребца.
Иностранцы молчат. Мертвая тишина, вопреки всякому правдоподобию, проглатывает даже слабые всплески весла. Гондола Верди поравнялась с маленькой флотилией. Но, словно по велению хитрой судьбы, гребец не стал ее обгонять, а тихо пустил свою лодку на небольшом расстоянии, вровень со средней из трех чужих гондол. Вагнер сидит слева, подле жены. Его голова с выступающим лбом, похожая в ведьмовской игре луннуго света на эмбрион, откинута назад, и глаза закрыты. Могучая внутренняя жизнь, от которой эта голова вибрировала, как машина под чрезмерным напряжением, любовь и ненависть в каждой черте, воля к овладению и покорению – всего этого больше нет. Может быть, человек поддался великому утомлению, сну, усыпляющему ритму гребли, опасному действию лунного света? Спит он, бодрствует? Или дремлет, наслаждаясь волшебным часом Венеции?
Маэстро, напряженно всматриваясь в лицо немца, приподнялся на своем сиденье.
Так вот он каков – тот, чье имя, чье влияние, чье существование, чья тысячеликая тень преследует его почти двадцать лет. Взгляды их не скрестятся, теперь можно наглядеться досыта. Два десятилетия, где бы ни прочел он хоть слово о своем искусстве, рядом, названное или неназванное, неизменно возникало имя Вагнера и гасило его собственное имя. И не только публика, даже друзья – близкие, ближайшие – в затаенной досаде изменили свое отношение к нему. И тут ему вспомнился талантливый Анджело Мариани – какую глубокую, подлинную боль причинил ему этот человек.
С насмешкой нарушил дирижер свое слово, цинично, точно имел дело с какой-нибудь бездарью. Он отказался вести премьеру «Аиды». А почему? Потому, что это его больше не интересовало. Его честолюбие простиралось дальше: он хотел поставить «Лоэнгрина», даже «Тристана». И не один только Мариани оказался Иудой-предателем. В каждом суждении, в каждой похвале, в каждом поздравлении, в каждом изъявлении восторга, даже когда его превозносили до небес, Верди чувствовал каплю яда; в переписке, в дружеских беседах, в робком перешептывании прохожих, когда его узнавали на улицах Генуи, Милана, Пармы, в том покровительственно-почетном приеме, какой недавно оказал ему Париж, – во всем ощущал он скрытое оскорбительное снисхождение; во всем – даже в отношении к нему жены. Но как это назвать? Не охлаждение, не отсутствие любви и не пренебрежение – нет… Что-то неуловимое. А все-таки в каждой интонации изощренному уху композитора слышалось: «Ты великий мастер! Ты слава Италии! Ты памятник! Но и хватит! Опера выросла из пеленок, миновала эпоха рыцарей на сцене, красивых мелодий и театральных неистовств. Ты жил, пожиная лавры. Будь доволен и тем!»
Да, именно так! Немецкий педантизм высказал о нем, об итальянской мелодраме свое предвзятое, подлое мнение, и оно победило во всем мире, утвердилось не только в Париже, но и здесь, в его родной стране, завоевало молодежь и лучшую часть общества.
Ах, этот горький осадок на дне души не был чем-то суетным, не был обидой или завистью! На упоительном пиру славы ему, Верди, досталась львиная доля. С него достаточно, он сыт по горло, он больше ничего не хочет получать. Но он хотел бы давать и давать, он еще должен отдать самого себя.
И не может!
Десять лет, десять лет в том возрасте, когда каждая секунда – подарок судьбы, он отбросил впустую. Десять лет прожил в праздности – бесполезным, жалким. Десять лет он мертв. Просто мертв? Нет, убит! Его убил он – этот дремлющий, ничего не подозревающий враг!
В гневном порыве маэстро встал со скамьи. Недвижно мерцал исполинский череп Вагнера. Жена тревожно всматривалась вдаль. Стоя так – во весь рост и в чудовищном, все изменяющем свете месяца, видя, как борт соседней гондолы почти касается борта его собственной, Верди подумал: «Так близко, что можно рукой схватить». Но в его смятенном мозгу, в котором глухо бродили еще понятия «смерть» и «убийство», слова перепутались. Маэстро почудилось, будто он мысленно оговорился: «Так близко, что можно убить!» Изумленный и пристыженный, он упал на скамью.
Нет, в нем не было ненависти. Он смотрел, как прекрасным, чистым видением беспомощно проплывает мимо Вагнер. Враг, супостат, противник в той борьбе, что длилась сотни бессонных ночей, стал для него дороже всех на свете. До сих пор он избегал встречи с противником лицом к лицу. Когда его ревностные приверженцы приносили ему на посмеяние вагнеровские партитуры и аранжировки он их бегло просматривал, перелистывал и, в смутном страхе перед самим собой, откладывал в сторону. Он знал только «Лоэнгрина» – слышал его как-то в венской придворной опере. Но тогда его беспокойство обернулось химерой. Он вышел из театра равным противнику, если не более сильным. Мои мелодии, сказал он себе, чище, мои ансамбли вдохновенней. Неподкупный судья, он чувствовал тогда: «Это хорошо, а то плохо, это место слишком растянуто, то пустовато». Может быть, весь его страх напрасен и другие шедевры Вагнера вовсе не уничтожают его, Верди? Верно ли все то, что ему давали понять разные спесивцы, – будто немец презирает его оперы, его стиль? Не может разве гениальный художник постичь правду другого народа?
А полчаса назад, когда в полутьме театрального коридора скрестились два чуждых взора, разве не увидел он в глазах Вагнера огненную вспышку, не прочел в них высшего признания, призыва, ищущего наперекор всей розни, наперекор случайным различиям рождения, национальности, воспитания, – призыва: «Приди ко мне!..»
«Я – Верди, ты – Вагнер!» – тихо произнес про себя маэстро эти слова; и едва прозвучали они в мозгу, как сам собой разрешился тот – прежний вопрос!
«Не ради Виньи, не ради умирающего друга приехал я в Венецию – нет! Я приехал сюда, чтобы видеть Вагнера, чтобы встретиться с ним. Бог весть зачем! Мы оба стары. Родились в одном году. Он движет всем, он властвует… Я робок и нем, все тот же застенчивый мужичок из деревушки Ле Ронколе. Да, вот она правда!»
Резко и четко, как слишком ярко освещенная кулиса, прислоненная к стене, встал фасад Палаццо Вендрамин. Три гондолы причалили.
Равнодушно, не замечая их, четвертая поплыла дальше.
Минуту спустя маэстро спросил у гондольера, который час.
– Четверть одиннадцатого, сударь, даже немного больше. Нам к вокзалу?
– Мой поезд отходит только в половине третьего.
– А! Скорый на Милан?
– Поворачивайте назад, проедем в Сан Поло!
Приезжий назвал адрес.
Гребец повернул лодку. Пассажир укрыл колени дорожным пледом. Необычно мягкая декабрьская ночь теперь дышала морозом.
Глава вторая Столетний и его коллекция
I
Человек, отворивший дверь, поднял к лицу маэстро фонарь. Это был сам сенатор.
Он узнал друга, весь его облик выразил радушие. Молча отставил он сперва фонарь, потом обнял гостя.
– Боги не лгут, мой Верди! Мне снилось этой ночью, что я тебя увижу.
Эти простые слова – искренние, несмотря на свой античный строй, – обдав маэстро волною любви, смутили его.
Панцирь стыдливости и одиночества, стесняя все его движения, делал его беспомощным перед всяким откровенным проявлением чувства; раскрывать себя было для него пыткой.
Стиснув зубы, до боли задерживая дыхание, стремительно выбегал он, бывало (как часто!), к рампе после финала премьеры, когда публику уже никак нельзя было унять, когда директор театра, выкатив глаза, рвал на себе волосы и жалобно молил его не вредить успеху, а певцы в исступлении выталкивали его вперед. И затем так же стремительно убегал.
Той же мукой было для него всякое обнажение души. Одна певица могла похвалиться, что после заключительного аккорда в знаменитой сцене «Макбета» видела слезы на глазах маэстро. Но он ей этого не прощал всю жизнь.
И не только ему самому было почти невозможно преодолеть свою природную сдержанность – его пугало, когда другой открывал перед ним душу. Впрочем, неприязненные чувства – вражду, гнев, ненависть – он переносил легко; любовь и доброта вызывали в нем глубокий стыд. В слове была смерть.
Его не понимали, порицали за холодность, черствость, высокомерие десятки лет!
Верди долю жал руку сенатору, потом, прикрывая смущение свойственным ему чуть насмешливым юмором, он сказал с несколько деланным спокойствием:
– Ну вот! Раз ты упорно игнорируешь мои приглашения и показываешь свою злую физиономию раз в десять лет, я сам сюда нагрянул, друг.
II
Сенатор – так мы будем его называть, хоть он уже много лет сложил с себя пожалованный королевским правительством сан, – былиз тех, чье имя весьмапочиталось в эпоху Рисорджименто. Сын человека, который только по милостивой прихоти Франца-Иосифа Первого и инквизитора Антонио Сальвотти избежал эшафота, он с тридцать пятого года – с двадцать третьего года своей жизни – активно участвовал в революции на всех ее этапах.
Слабость к идеалистическим утопиям не оставляла его всю жизнь. Сперва приверженец религиозного мечтателя Джоберти, он стал затем ревностным последователем Мадзини, который был старше его только на восемь лет, и в нем – уже неизменно – видел своего любимого учителя. На стороне Мадзини и Гарибальди он сражался у ворот освобожденного Рима против поповского ставленника – французского генерала Удино, которому была поставлена задача восстановить в Латеране Пия, трусливо сбежавшего в Гаэту.
Упоительные дни Римской республики остались для него великой порой его жизни. Позже он оказался в числе тех немногих, кто добровольно разделял в Англии изгнание с великим социологом и патриотом.
Если сенатор и не стоял в ряду первых славнейших вождей и героев «Молодой Италии» (для крупного политического деятеля он обладал слишком мягкой, лирической натурой), то все же он был ближайшим другом великих; более того – был вдохновителем, человеком инициативы, которого очень ценили в совете заговорщиков.
Впрочем, ореол великой эпопеи озарил в конце концов и его имя. На революционной декларации Венеции оно стояло непосредственно под именами Манина и Энрико Козенцы. А двадцать лет спустя премьер-министры, особенно Ланца, напрасно старались завербовать его в свои кабинеты.
После успешного объединения Италии он был призван в Сенат Третьего Рима. Один год он оставался сенатором, почитая это патриотическим долгом. Но потом, после установления королевской власти, его, как и других революционеров-демократов, постигло большое разочарование; в пламенной надежде прошли они через юношескую бурю века, чтобы вместе с ним пережить его дряхлый, изнеженный закат. После краткого упоения победой, которое лишь на одно мгновение заглушило горький голос правды, республиканец и мадзинист сложил с себя сенаторское звание, пожалованное савойцем.
Прямым толчком к этому поступку послужила смерть его героя и учителя, который в том же году, не примирившись с создавшимся порядком, умер в Пизе.
Ни одно историческое поколение современность не осудила так несправедливо, как поколение наших дедов, которым выпало родиться в первом или втором десятилетии прошлого века. Их чистая идея свободы, их душевная простота, их здоровая страсть к борьбе, их отвага, стремление к независимости как личности, так и общества в целом – все это принижается сейчас ругательной политической кличкой: «либерализм». Дух романтики одержал победу над духом сорок восьмого года. Дух романтики, приверженец всех священных союзов, служитель всяких сомнительных авторитетов, этот дух безумия – поскольку безумие является бегством от действительности, – этот демон неудовлетворенных и поэтому выспренних душ, этот Нарцисс, склонившийся над бездной, которая дразнит его сладострастной щекоткой, этот бог запутанности и мракобесия, идол умерщвленной плоти, запретных соблазнов, ханжеского позерства и извращенной похоти, толкающей к насилию, – злой дух Романтики, повсесветно несущий террор, эта чума Европы, победил самую жизненную молодость, чтобы властвовать по сей день.
Сенатор, друг Верди, воплощал в себе поколение 1848 года. Высокий, грузный, с водянисто-голубыми глазами навыкате, с явной склонностью к зобу, с большим апоплексически багровым лицом, обрамленным львиной гривой и короткой бородой, он, едва появившись, сразу заполнял своей шумной фигурой любую комнату и тотчас живою силой притяжения привлекал к себе общество. Прибавьте к этому низкий полнозвучный голос, влагающий мелодию в каждую фразу, и нутряной смех, сводящий на нет всякое возражение.
Сенатор, будучи ровесником маэстро, следил за его ростом с ненасытной маниакальной страстью к музыке. В годы первых успехов Верди, со времен «Набукко» – оперы, которая своею мелодичностью, возвышенной и задушевной, вырвала итальянскую публику из слащавой рутины, – со времен «Набукко» сенатор не пропускал ни одной премьеры друга. И всегда почти он задерживался в городе, где ставилась опера, на третье и на четвертое представление, как бы спешно ни отзывали его дела. И часто эти поездки – в дилижансах, по дурным почтовым дорогам, при хитроумных придирках австрийской, римской, неаполитанской полиции – являлись истинной жертвой этой музыке, которая сильнее всякой другой опьяняла его кипучую натуру.
В доме графини Маффеи гостям нередко рассказывали анекдот о том, как при постановке «Корсара» в Триесте сам композитор, вопреки договору, не явился на премьеру, но сенатор прибыл вовремя.
Музыка Верди славилась тем, что она завладевала даже безнадежно немузыкальными людьми. В пример приводился обычно случай с Кавуром: рассудочный человек, мастер сложной интриги, лишенный всякой музыкальности, Кавур в 1859 году, получив известие, что замысел его увенчался успехом, распахнул окно на кишащую народом площадь и, не находя слов от волнения, надтреснутым голосом хрипло и фальшиво запел стретту из «Il Trovatore».[7]
Самого сенатора никак нельзя было назвать немузыкальным. Длялюбителя и для итальянца той эпохи он даже обладал незаурядным музыкальным образованием. В прекрасном стремлении постигнуть разумом внятное сердцу, он занимался, правда один только год, теорией музыки у Ангелези, большого знатока контрапункта. Он прилежно помогал Мадзини в задуманном им обширном труде о музыке. Попав на несколько месяцев в Германию, он слушал превосходные оркестры ее столичных городов, знакомясь с северной симфонической музыкой. Кроме тою, он сам играл на рояле, флейте и гобое.
Он знал музыку и умел разбираться в разнообразии ее воздействия.
Французская музыка ему претила, предлагалась ли она ему в комической опере или в произведениях Тома, Гуно, Массне. Он питал неприязнь прямолинейного страстного человека к изящному, сладкому и обольстительному, к так называемому «грациозо».
Немецкая музыка нового века тягостно действовала на него. Она его наполняла неизбывным томлением; порой она дарила краткое и грустное блаженство, но тотчас вновь подпадала под власть мрачного рока, которого не отвратят ни слезы, ни сопротивление.
Сенатор сказал как-то Верди:
– Германия совсем не холодна и не сурова. Но там всегда идет дождь.
И Верди невольно вспомнил, как еще молодым человеком он стоял однажды в отчаянии на Вайдендаммерском мосту, окутанный серостью, в море серой бесконтрастности, безнадежно погрязнув в полифонии серых полутонов, серого шума, среди раздраженных и серых людей. Он тогда едва сам не поддался этой подлой серой меланхолии.
В том же разговоре – это было в начале франко-прусской войны – сенатор спросил друга, как он смотрит на Девятую симфонию Бетховена.
У Верди засверкали глаза.
– Видишь ли, – ответил он, – есть боги, которым и строптивый должен приносить жертвы. Здесь ничто не поможет. Я, однако, сумел сохранить ясную голову. Три первые части хороши. Последняя часть – провал, пустое, бесчувственное нагромождение звуков. Эгоист – теоретически – «обнимает миллионы».[8] Когда они начинают петь, эти сверхцивилизованные, они показывают себя варварами. – Но, помолчав, добавил: – Всему виною камерная музыка.
Но музыкой, которая захватывает, берет за живое, проникает в самое сердце – cor cordium (как выражался он в своем пристрастии к классике), – была для сенатора музыка друга, товарища юных лет.
Одной из многих неисследованных тайн в жизни поколений является то, что наш язык (то есть весь мир чувствований и мыслей, нервных ощущений и подсознательного, всего, что рвется выявить себя через язык) непосредственнее и чище всех понимают родившиеся под одними с нами звездами. Вся смертность искусства, человеческого самовыражения, заключена в этой тайне поколений, равно как и его бессмертие, – потому что вновь и вновь поколения рождаются под сходным расположением звезд.
Мелодии Верди действовали на сенатора, как горный ключ на изнывающего от жажды путника. Когда они звучали, его затылок, и без того сангвинический, краснел еще сильнее, глаза расширялись, загорались диким весельем, рот раскрывался, дыхание, следуя коротким тактам аккомпанемента в басу, шло возбужденными толчками, тело напрягалось каждым мускулом и накопляло энергию, готовое к электрическому разряду. Степень и род напряжения, естественно, соответствовали характеру исполняемого номера. Адажио, анданте, ларго, лирически-певучие вводные кантабиле к арии или вокальному ансамблю приносили покой и счастье. Но когда темп нарастал и мелодия через раскат коротких трагических выкриков или через цепь внезапных полнозвучных аккордов бурно переходила от аллегро аджитато к престиссимо,[9] – тогда грудь сенатора до отказа наполнялась дыханием, как наполняется паром котел, и вдохновенная сила потрясала все его существо, ища выхода в возгласе, в пении, в бездумном ритмическом раскачивании торса.
Но и после такого мгновенного внешнего воздействия каждая вновь воспринятая мелодия продолжала жить как некое внутреннее переживание, которое не оформляется в сознании и которое душа извечно носит с собою в своем странствии в мирах. Но эти мелодии не только восстанавливали жизненную силу, они возрождали и нравственно. Когда бы ни вспоминались они сенатору – за работой ли в его кабинете, на людях ли (в те времена, когда ему еще приходилось вести переговоры, произносить речи), – тотчас у него являлось чувство, будто стал он лучше, стал роднее людям.
Целительная сила исходила от них. Однажды в жестокой лихорадке сенатор сам себя вылечил тем, что час за часом мысленно пел про себя эти бурные мелодии. Он блаженно заснул, и во время сна болезнь от него отступила.
В те часы всего настойчивее вызывал он вердиевские кабалетты[10]и стретты – те осмеянные «симметрические периоды», которые так наивно смотрят на музыканта с нотной страницы, в действительности же проносятся ураганом над толпой в скрытом или откровенном унисоне.
Отстаивая как-то в споре эти кабалетты и всю музыку раннего Верди, сенатор высказал такое суждение: «От экспирации (выдоха) зависит больше, чем от инспирации (вдоха)».
Так говорила та благородная, обращенная к реальному миру молодежь, которая, если бы ее не раздавили, повела бы Европу к совсем иной судьбе, чем победоносная романтика, от ядовитых плодов которой мы корчимся в судорогах и сегодня.
III
Два друга все еще стояли в узком подъезде венецианского дома. Обоими владела стесненность, как бывает часто у близких друзей, когда они долго не виделись, но все время много друг о друге думали. Более откровенный, сенатор первый стряхнул с себя скованность.
– Право, это замечательно, Верди! Сижу я с сыновьями наверху за столом. Мы, как всегда, рассуждаем и спорим. Что еще прикажете делать отцу с сыновьями, когда те великодушно подарят ему вечер?! (Ох, ты счастливец!) Вопросы культуры, вопросы искусства… Под старость становишься болтуном и домоседом. В споре мне захотелось вдруг по какому-то поводу ввернуть твое имя. Но я этого не сделал. Почему? Потому что в эту минуту мне вспомнилось, что ночью я видел тебя во сне. И тут раздается звонок – прямо как в пьесе. Итало хочет пойти отворить. Я его удерживаю. И пока я отыскиваю ключ, беру фонарь, схожу по лестнице, я твердо знаю, что это ты стоишь у дверей.
– Кому и быть, как не мне! В одиннадцатом часу! Но ты успеешь выспаться. Я ночным поездом еду обратно в Милан.
На лице сенатора выразился горький упрек. Маэстро почувствовал, что должен оправдаться.
– Я провел здесь, в Венеции, друг мой, всего лишь несколько часов – приехал на один день. Навестил несчастного Винью. Одна из тех безотчетных причуд, которым я, к сожалению, часто поддаюсь последнее время.
Сенатор потащил Верди за собой.
– Идет! Используем хоть тот час, которым ты располагаешь! Но как это необычайно!
Поднявшись по лестнице, они очутились в темной передней, которая доказывала, что очень многие венецианские дома только кажутся тесными и ветхими. За облупленными и обшарпанными фасадами часто скрываются огромные пышные залы, и нам чудится, когда мы в них вступаем, что в этом городе чувство пространства изменило нам. Гостиная оказалась просторной и высокой комнатой и смотрела четырьмя огромными окнами на тихий и чистый канал.
В убранстве комнаты полностью отсутствовала безвкусная пышность, присущая почти всем домам венецианских патрициев, на ней не было отпечатка музейности, который создается тем, что вся мебель, люстры, зеркала унаследованы новым временем от великого венецианского прошлого. Но ветер минувших времен не освежит вас в этих склепах; При всем своем пристрастии к гуманизму, сенатор ненавидел всяческую антикварность; и Венецию, поскольку она представлялась ему огромным амбаром, где скоплен урожай с нивы многих веков, он тоже не любил. Однако в злобе на Рим и Милан он предпочел обосноваться в своем родном провинциальном городе.
– Смотри, – сказал он другу, – у меня ты не найдешь прадедовской рухляди. По мне, она хлам для старьевщиков, и только. Проклятое время! Бесплодная молодежь! Сочиняют стихи а-ля Гораций, драмы а-ля Софокл, пишут картины а-ля чинквеченто,[11] делают политику а-ля Византия… а-ля… алля-алля, великий аллах! Сплошной снобизм, дорогой мой!
И правда, в этой благородной старинной зале все, казалось, выражало протест ее исконному стилю. Так, в великолепном мраморном камине, доказавшем свою непрактичность, стояла раскаленная чугунная печурка, а сверху на доске, перед красивым своеобразным зеркалом, горела керосиновая лампа самого обыденного образца.
У окна примостился рояль, заваленный кипами нот. Широкую стену напротив заняла библиотека – фаланги книг, которые жались друг к другу, натрудившиеся, потрепанные. Перед стеллажами стояла лестница, на двух столах лежали фолианты. Несмотря на неприязнь ко всему антикварному, классическая филология была любимым занятием сенатора.
Когда друзья вошли в комнату, из-за массивного стола, стоявшего посередине, встали два молодых человека – сыновья сенатора: Итало и Ренцо.
Итало – высокий, очень тонкий, в безукоризненно сшитом фраке; на красивом аристократическом лице ироническая улыбка, к которой так охотно прибегают все неуверенные в себе честолюбцы. Ренцо, названный так в честь героя поэмы Манцони, вялый увалень, придерживал на коротком носу сломанные очки в облезлой никелированной оправе. Этот двадцатилетний юноша, чье рождение стоило жизни его матери, подражал в одежде русским и немецким революционерам, которые в те времена искали убежища в Швейцарии. Год назад в Риме он стал учеником историка-материалиста Лабриолы. Теперь он приехал на зимние каникулы к отцу.
Юноши, узнав гостя, бюсты которого неизменно украшали спальню их отца, стояли навытяжку, как солдаты. В присутствии знаменитого или значительного человека молодых людей, в их еще несломленном честолюбии, охватывает тщеславное волнение. Почти эротическое стремление показать себя (блеснуть перед незримой женщиной) пробуждается в их сердце при виде того, кто уже всего достиг.
– Мои сыновья! – Сенатор представил их несколько брюзгливым тоном.
Итало и Ренцо невольно склонились в глубоком поклоне, когда маэстро протянул им руку.
Верди и сам, не только его слава, производил очень сильное впечатление на всех, кто знакомился с ним. Но он не обвораживал, не привлекал, а скорее внушал какую-то робость, и долго-долго молва несправедливо называла это холодом. Дальнозоркие синие глаза под нависшим лбом, в которых, как это часто говорится о голосе чувствовался металл, у многих вызывали беспокойное сомнение: правильно ли я себя веду?
Сыновей сенатора, как видно, смутило то же чувство, потому что оба они отвели глаза. Но, точно усиленное жаждой реванша, на их еще ребяческих лицах появилось вскоре первоначальное выражение; у Ренцо – подчеркнуто равнодушной решимости, у Итало – иронической учтивости, чуть преувеличенной от нетерпения и высокомерия.
Сели вчетвером за стол. Сенатор, согретый глубокой радостью, был полон удовлетворения и гордости. Сейчас он был бы способен на добрый порыв, на подвиг и дерзание, если б его пыл не гасило сдержанное обращение друга, сознание, что его любовь не встретит столь же сильного отклика.
Мальчик-слуга стоял в дверях; откровенное любопытство отражалось на его лице.
– Санто! Подай мое санто!
Когда заветное темно-золотистое санто засверкало в хрустальных бокалах, сенатор начал очень обстоятельно рассказывать об этом вине, производившемся в его имении: о прививке винограда, об уходе за ним, о выдерживании вина. Эта тема оживила и маэстро, и он в свою очередь рассказал, как посадил у себя в Сант Агате бордоскую лозу, как при каждой своей поездке во Францию норовил тут и там выведать что-нибудь о способах изготовления красных вин; и как теперь он мог наконец похвалиться, что держит в своем погребе вино, которое ничуть не уступает лучшему бордо и, не в пример итальянским винам, только выигрывает с годами.
Во время этого разговора оба старика отнюдь не производили впечатления гурманов, а скорей напоминали двух зажиточных крестьян: сидят вечерком после базарного дня в кабачке захолустного города, беседуют о купле-продаже, о погоде и урожае.
– Постой, ты ведь куришь!
Сенатор нервно пошарил в поисках ключа, бросился к ящику и методично отпер его. Он нагромоздил перед Верди гору коробок с гаванскими сигарами. Тогда и в лице маэстро зажглось на миг нечто вроде жадности. Они перебирали и нюхали сигары всех марок: «Генри Клей», «Упман», «Бокк», «Роджер», «Карваяль» – длинные узловатые сигары, потолще и потоньше, тупо обрезанные и заостренные, с широкими и узкими колечками, сигары в свинцовой обертке.
Мужественный, чисто растительный запах американского табака Распространился вокруг. Сенатор особенно расхваливал один сорт, присланный ему в подарок офицером, который некогда состоял на службе в южных штатах. Друзья закурили две большие сигары в зеленых крапинках. Насыщенный гармонией благоуханный дым поднялся к темному потолку.
– Эх вы, с вашими глупыми папиросами, – со вздохом сказал сенатор сыновьям, точно сокрушаясь о женственности нового поколения.
– Я не курю, отец, – поучительным тоном сообщил Ренцо, который к тому же и не пил.
Маэстро смерил взглядом молодых людей, потом обратился к отцу и сыновьям:
– Мне очень жаль, господа, если я помешал вашей беседе…
– Вздор! Я этим не хотел сказать ничего другого.
Бросив свое восклицание, непонятное и необоснованное, сенатор отер лоб, взмокший от слишком сосредоточенного возбуждения.
Верди вопросительно посмотрел на него.
– Вздор, и только! Ты меня знаешь! Видит бог, я не laudator temporis acti.[12] Но мы стоим уже на вершине горы и показываем нашим детям обетованную землю. Да! Благодарю покорно! Они снова спустятся вниз по другому склону. Один мой знакомый, некто Паллавичино, отослал Виктору-Эммануилу, сыну предателя, свой (правда, всего лишь позолоченный) орден Аннунциаты. И это сделал старик! А что нынешняя молодежь?! К чему были все наши порывы, заряженные динамитом слова и дела? Чтобы шайка пошлых льстецов и карьеристов, вымазав рыла во вчерашнем навозе, искала позавчерашние зерна? Дорогой мой Верди!.. – Сенатор жадно глотнул в одышке воздуха. – Верди, мне теперь думается, что мы с нашей патриотической моралью, с нашими идеалами были пустые болтуны, а современные заправилы, чего ни коснись, гораздо лучше во всем разбираются. Они же реалисты…
Застыдившись, что сделал промах и что выразился неясно, сенатор стукнул по столу кулаком и повторил брезгливо:
– Реалисты!
Как будто этим безобидным словом весьма растяжимого смысла пригвоздил врагов к доске.
Ренцо посмотрел на отца взглядом человека, который умеет признать крупицу истины в чужом мнении, даже если оно высказано неполноценными некомпетентным противником. Итало сорвал свою досаду, незаметно отвесив сенатору дерзкий поклон.
Верди с тихой улыбкой неодобрения повернулся к другу, как бы показывая, что справедливость для него важнее всего.
– Эх, старина! Конечно, среди нас больше было фразеров, позеров и горлодеров, чем честных людей. Но и честные все же были. Почему же сегодня окажется иначе, чем было вчера, чем бывало всегда?
Итало с изысканной вежливостью кивнув в сторону Верди, робко произнес:
– Благодарю вас, синьор маэстро: папина филиппика была направлена прежде всего против меня.
Как часто бывает с добродушными людьми, сенатор болезненно почувствовал, что допустил несправедливость. Но, сам страдая, он заговорил еще возбужденней, еще туманней и обидней:
– Ты тоже хорош! – Он не глядел на сына. – Тебе что… Испанский претендент милостиво принимает тебя в своем дворце, вся эта милая компания – Мочениго, Морозини, Альбрицци, Бальби, Колальто – находит тебя очаровательным… Это для тебя предел мечтаний!
Итало обладал неоценимой способностью становиться в гневе спокойным, – преимущество людей, которым никогда не изменяет сознание своей обаятельности. И теперь он сумел сказать вполне учтиво, без тени раздражения:
– Папа, чем же это общество хуже всякого другого?…
Но, смущенный присутствием маэстро, он покраснел и смолк. Теперь и Ренцо вмешался в разговор:
– Ведь мы вели отвлеченную беседу, отец; к чему же личные выпады?
Верди без слов дал понять, что и он в данном случае предпочитает отвлеченную беседу. Ренцо стал в позу:
– Обсуждался вопрос: можно ли мыслить искусство в пределах человеческого общества вне какой-либо цели… Нет, цель – не то слово… смысла… задачи…
Юный теоретик смутился, начал запинаться:
– Является ли слушатель… входит ли слушатель в драматическое или музыкальное произведение составною частью, столь же необходимой, как сама эта драма, эта музыка? Или же произведение искусства живет независимой жизнью…
Сенатор, вскочив со стула, перебил:
– А я вам говорю, у искусства одна-единственная цель – воодушевлять и возвышать людей. Все прочее не искусство, а экскременты больного честолюбия.
Итало и Ренцо с одинаковой иронической снисходительностью относились к своему запальчивому отцу. С простоватой самонадеянностью мальчика, только месяц назад овладевшего ученой терминологией, Ренцо, дав сенатору договорить, продолжал наставительно:
– Лично я стою на той точке зрения, что ни одну часть сложного социально-экономического организма нельзя рассматривать как нечто независимое. «Если ты хочешь понять, что такое часовая стрелка, загляни в механизм часов», – говорит пословица.
– Опять ты со своими Лабриолой и Марксом! – Сенатор снова сел. – Маэстро! Здесь ты один можешь быть судьей.
Верди хуже черта ненавидел такого рода «разговоры об искусстве». И все же в бесчисленных морщинках вокруг его глаз снова заиграла пленительная улыбка:
Не знаю, способен ли я правильно судить, – ведь я уже Давно не создаю того, что называется «произведениями искусства». Но как агроном, как сельский хозяин, я, коль угодно, могу сказать, что все растущее, хоть оно и растет безусловно только ради самого себя, в конце концов становится кормом.
– А цветы, маэстро?
Итало вполне логично ввернул свое возражение. Однако сенатора задела дерзость его правоты. Его опять подстегнуло осадить своего первенца.
– Цветы, цветы! Хорошенький цветок твой Вагнер!
Имя было названо. И на мгновение, хотя исходила она, конечно, не от маэстро и не от сенатора, ни тем более от его ничего не подозревавших сыновей, установилась торжественная напряженность. Сенатор, который сегодня, как это часто с ним бывало в часы душевного волнения, пытаясь исправить оплошность, делал за промахом промах.
– Итало, знаешь ли, играет на скрипке. Он сегодня участвовал в симфоническом оркестре молодежи, исполнявшем Вагнера. Кстати сказать, он понимает толк в рекламе, этот бог современной музыки! Выйдешь ты в полдень на Пьяццу[13] прогуляться на солнышке и выпить вермута у Флориани или Квадри и со всех сторон слышишь в публике: Вагнер да Вагнер! Н-да!
Итало точно подменили. Самодовольная улыбка исчезла, уступив место тому экстазу, который в фойе театра Ла Фениче горел на лицах молодежи, обступившей немецкого мастера. Положив руку на сердце, юноша обратился к гостю:
– Вы, конечно, знаете Рихарда Вагнера, синьор маэстро?
– Нет, я его не знаю. У меня очень мало знакомых.
– Жаль, жаль!
В глазах молодого человека секунду медлило раздумье.
– Но его музыку, эту бессмертную музыку, должны же вы знать и любить?
Сенатор расхохотался.
Верди стал холоден как лед и, точно считая молодого человека слишком ничтожным, повернулся к неприсутствующему в комнате лицу и к нему отнес свой ответ:
– Из музыки Вагнера я знаю «Тайгейзера» и «Лоэнгрина», а более поздние его произведения – только по отрывкам. Мы – итальянцы. Принцип нашей музыки в корне отличен от немецкого. Немецкая музыка покоится на так называемых темперированных инструментах, как рояль и орган, на отвлеченных, пожалуй, только лишь теоретически существующих нотах. А наша, итальянская, – на свободно льющемся голосе, на пении, на вокальности. Мы должны знать, кто мы родом.
Эти слова, как ни тихо и спокойно были они сказаны, звучали так определенно, так явно подводили итог долгой борьбе и терзаниям, сомнениям и победам, что они, как слова властителя, падали слишком веско для обыкновенной комнаты и вызывали замешательство.
Сенатор обрадовался, когда вошел мальчик-слуга и доложил: – Господин маркиз только что изволили вернуться из театра.
– Господин маркиз каждый вечер изволит возвращаться из театра. А где сегодня был спектакль?
– В театре Россини!
Слуга не уходил. Хозяин удивленно посмотрел на него.
– В чем же дело?
– Господин маркиз просят о них доложить.
– Вот как! Великая, редкая честь! Ренцо, иди! То есть… – Сенатор посмотрел на Верди. – То есть… если только ты ничего не имеешь против…
Маэстро взглянул на часы.
– Что за маркиз?
– Наш домохозяин. Старый болван. Гритти!
– Гритти? Гритти?! Как! Знаменитый столетний старец?
Да, ему за сто. Утешительно для нас с тобой, мой Верди.
– J га живая легенда, эта сказка восемнадцатого века – твой домохозяин?
– Да, он владелец этого дома, владел им еще в те годы, когда тут был театр. Шестьдесят пять лет тому назад он велел его перестроить.
– Гритти! Гритти! Тот самый, который с тысяча семьсот девяностого года – или, может быть, черт его знает, с тысяча шестьсот девяностого – каждый вечер ходит в театр! Призрак…
– Он-то на даты не поскупится.
– Я познакомился с ним… – маэстро подумал секунду, – в Петербурге. Лет двадцать пять тому назад. Каждый вечер он сидел в ложе Мариинского театра. Он был в то время папским ambasciatore.[14] Преклонный возраст, по-видимому, нисколько не смущал его. Борода и волосы были у него черные, и даже с лиловым отливом.
– Он, верно, узнал, что ты здесь, и хочет показать тебе свою сокровищницу. Она весьма своеобразна.
Снаружи донесся звонкий, небрежно протяжный голос, характерный для светских людей, когда они учтиво-беззастенчивой манерой говорить отводят все возражения, прежние и будущие. Вместе с тем этот голос пользовался совсем особенным языком: он был как будто итальянским, однако в произношении и оборотах носил черты того смешанного, нарочито беспочвенного жаргона, того волапюка, какой усвоили себе дипломаты, дабы отмежеваться jт прочего мира.
Голос, несомненно, обладал властностью, – недаром все глаза устремились на дверь, когда она медленно отворилась и впустила из черноты привидение, за коим выступали разрезвившийся Ренцо и седовласый, невозмутимо важный лакей.
В очень новом, очень модном фраке, в белоснежной, туго накрахмаленной манишке – ни складочкой, ни тенью, ни вмятинкой она не выдавала своевольной жизни кряхтевшего под нею тела, – в долгоносых парижских лакированных ботинках, надетых, казалось, не на ноги, а на колодки, задвигался по комнате в освещенном кругу автомат гран-сеньора. С правого плеча на безжизненном ремне свешивался футляр с биноклем. Одна рука, в белой лайковой перчатке, опиралась на удивительно старомодную трость с набалдашником слоновой кости. Только от другой руки, без перчатки, еще, казалось, исходила жизнь, – потому что эта рука откровенно производила впечатление мертвенности. На три четверти прикрытая съехавшей круглой манжеткой, она висела, словно иссохший почернелый трупик какого-то зверька. Череп, на котором давно не росло ни волоска, ни пушинки, был совершенно гладок и если не блестел, как зеркало, то все же производил такое впечатление, точно его разгладили утюгом.
В чертах лица было что-то равнодушное, нереальное, лежащее по ту сторону старости и молодости, бытия и небытия, что-то вовсе не существующее. Губ не было; в подвижном отверстии рта белел неестественный оскал зубов. Мощная громада носа выступала вперед и от середины, точно перешибленная, кренилась набок под тупым углом. Только в птичьем глазу, без бровей, без век, с красной каемкой, еще бродила жизнь лихорадящего животного. Высохшая шея имела в обхвате едва ли больше двадцати восьми сантиметров. Как бурые чешуйчатые наросты, нависали одна над другой складки дряблой кожи. При каждом вздохе выдвигался до смешного большой кадык. Как механик по движениям поршня следит за жизнью машины, так можно было по исправной работе кадыка наблюдать жизнь этого призрака.
Глаза маркиза уже привыкли к свету. Не останавливая взгляда ни на ком из присутствующих, он отменно изящным движением поднес ко рту обе руки – ту, что в перчатке, и маленький голый трупик – и кокетливо поцеловал большие пальцы. Этим жестом мода Венского конгресса выражала восхищение.
Потом призрак слегка наклонил свою гладкую голову, и звонкий голос, принадлежавший, казалось, совсем не ему, произнес:
– Я почитаю за счастье эту встречу с великим артистом.
IV
Андреа Джеминиано Мария Арканджело Леоне Гритти был – или называл себя – потомком небезызвестного дожа того же имени, который в начале шестнадцатого века имел перед Венецией некоторые заслуги в области музыки, скульптуры и зодчества. Этот правитель, чьей гробницей в Сан Франческо делла Винья и поныне может любоваться ревностный турист, если дерзнет преступить заповеди Бедекера, призвал к себе на службу Сансовино, создателя «Лестницы Гигантов», и поручил ему постройку Библиотеки, Лоджетты и еще нескольких замечательных зданий. Далее у Фетиса,[15] Геварга[16] и других знатоков музыки можно прочитать, что тот же дож покровительствовал основателю венецианской музыкальной школы Андриано Вильярте,[17] творцу знаменитых «Вечерен» для Сан Марко! О сложных многоголосных композициях этого мастера, о его мотетах, мадригалах, фроттолах, о его антифонах, о его «симфониях с эхом» пущено было современниками прекрасное слово – «aurum potabile» («золото, которое можно пить»).
На оного дожа, родоначальника и покровителя музыки, охотно ссылался маркиз Гритти, когда заходил разговор о его собственной музыкальности. Но что в его родословной значилось имя знаменитой поэтессы Корнелии Гритти, урожденной Барбаро, он умалчивал. Этого требовало его сословное презрение к литературе.
Свое рождение маркиз относил к 1778 году, так что сейчас ему должно рыло быть сто четыре года. Однако же – о бездна суеты, о неисповедимые пути человеческого четолюбия! – маркиз представлялся старшим, чем был. На самом деле он родился в 1781 году, и, значит, сейчас ему шел сто второй год.
Из всех своих страстей Гритти сохранил только две, и одна из них – страсть быть старым и становиться все старше.
Не то чтобы жизнь еще как-то интересовала его и была для него ценна – нет, но каждый день, каждый новый день сам по себе означал славу.
Давно освободившись от пут сложных человеческих взаимоотношений, от цепей какой бы то ни было судьбы, не имея ни родных, ни друзей, ни детей, непостижимо одинокий в мире, где все его моложе, он видел в жизни лишь спортивную задачу и в страстной жажде достижений ставил во славу себе самому (под воображаемые рукоплескания неведомых зрителей) ежедневно новый рекорд.
Как художник, как изобретатель, завершивший великий замысел, он надменно проходил по улицам, ибо достиг столетнего возраста. Каждая прогулка доставляла ему удовлетворение, и ни за что не променял бы он это удовлетворение на радость юноши, окрыленного робким приветом возлюбленной.
Каждый полдень, ровно в двенадцать, маркиз появлялся на Пьяцце в сопровождении семидесятипятилетнего камердинера, который, воплощая безнадежную дряхлость, должен был оттенять твердость его собственной гордой поступи. Обычно он трижды обходил огромную площадь и останавливался здесь и там, принимая почести, которые неоспоримо подобали его гению, оттягавшему у закона природы еще один день.
И когда с подрумяненных губ прекрасной княгини А. и еще более прекрасной графини Б. срывались лестные восклицания: «Ах, ему дашь лет пятьдесят!» – «Ну что вы – тридцать!» – он чувствовал себя, как жокей на ристалище, подхлестываемый в затылок криками неистовый толпы: «Гип! Гип!»
С бесконечным высокомерием смотрел он тогда на эти обреченные разрушению женские лица, на плохо скрытую под кремами дряблость кожи, на утраченную свежесть и будничное увядание матрон. Женщина была для него уже не женщиной, а жалким существом, которое борется без таланта и счастья. Заурядная, как все, что слишком подчинено законам природы, женщина боролась за молодость. А он, высоко вознесенный на пьедестал избранничества, – он боролся за старость.
Бывали мгновения, когда эта борьба, или, верней, высокомерие победы, принимала демонические формы.
В день его мнимой столетней годовщины синдикат города Венеции устроил в Зале Бонапарта большое празднество. Оно должно было доставить юбиляру случай завещать свое колоссальное, уже по закону прогрессии изрядно возросшее состояние благотворительным учреждениям города. Вечер закончился неимоверным скандалом.
Ужин подходил к концу, общество в благодушно приподнятом настроении. Вдруг вскакивает один молодой человек, безвестный офицер, поздравляет Гритти и в задорной речи предлагает ему дать ответный банкет синдикату и всем присутствующим в свою сто десятую годовщину.
Маркиз встает и с полной серьезностью, без тени юмора или тихой покорности, произносит приглашение на это проектируемое празднество, как будто не допуская мысли, что через десять лет оно может и не состояться!
Слова столетнего звучат так уверенно, так высокомерно и кощунственно, что внезапно наступает тишина. Оскорбленный кардинал и патриарх Венеции, сосед по столу верного католика Гритти, наклоняется к нему и вполголоса делает ему внушение по поводу его недопустимо неприличной речи.
И тут старика взорвало: при всем своем условном благочестии он не переносит, чтобы его долголетие почиталось милостью божьей, а не собственной его заслугой. Как нож, прорезают воздух его слова:
– Иду на пари с этим молодым господином и ставлю все свое имущество против тысячи франков, что пятого января 1891 года я буду угощать всех вас на банкете в моем доме, поскольку вам будет угодно или же возможно принять мое приглашение!
Тогда большая часть гостей, в том числе патриарх и почтеннейшие граждане, не прощаясь, покинули зал, где Гритти остался с толпою приверженцев, продолжавших чествовать его с удвоенным, с удесятеренным пылом.
Правда, назавтра набожный маркиз исповедался и покаялся. Пари тем не менее осталось в силе. Оно не принесло ему ущерба. Бойкот со стороны официальных кругов при первом же удобном случае был снят, ибо несомненно явствовало, что особа столетнего священна и стоит вне законов такта и приличия.
Как же, однако, возросло восхищение его приверженцев, как укрепился престиж старика, когда молодой человек, принявший пари, год спустя, в ночь на пятое января, скончался от какого-то острого заболевания. В последующие дни Гритти каждый час показывался на площадях и улицах победителем не только земных, но и высших сил, и в народе многие, завидев его, спешили перекреститься.
Эта неслыханная воля победить в конечном счете природу составляла самую важную пружину его жизни; и он безошибочно, как искушенный мастер, знал, что надо делать, чтобы тело благодаря крайней экономии сил не изнашивалось. Его механизм надо понимать и щадить, как щадят тончайший и драгоценнейший инструмент. Самое главное – соблюдать мудро продуманный минимум питания, чтобы не перегружать работой невосстановимый аппарат восстановления вещества и крови, – даже почти не пользоваться им. Далее, с тонким чутьем поддерживать равновесие между покоем и движением. Мышление, даже простая смена представлений, было под запретом, ибо маркизу казалось, что мышление, как и переваривание физической пищи, есть процесс распада, родственный смерти.
Но каждый вечер, неизменно между восемью и девятью, в этом механизме вступала в действие другая, обратная сила, контрмина, и тогда обнаруживалось – в этом случае, как и в каждом другом, – что в мире ничто живущее не избежало раздвоения между богом и дьяволом. Маркиз в глубине души со всей серьезностью решил прожить двести лет и больше. Коль скоро смерть, пока не постигла нас самих, познается только по чужому опыту, то почему бы маркизу Гритти не льстить себя надеждой, что с ним будет иначе, чем с другими людьми? Истинный дворянин не склоняется ни перед чем, тем паче перед заключением по аналогии. Никто, во всяком случае, не станет отрицать безмерного величия его замысла. И в те минуты, когда старик позволял себе роскошь самолюбования, величайшие властители мира – от Ганнибала до Наполеона – исчезали перед ним, как перед гордой вершиной жалкие пригорки.
Над всеми движениями своего существа имел он власть, кроме одного – того, что властно захватывало его между восемью и девятью часами вечера. Тут он подчинялся стремлению делать то, что делал ежедневно, с тех пор как ему исполнилось двадцать лет: неукоснительно вновь и вновь проводить вечер в театре.
Была минута, когда он колебался: не следует ли ему насторожиться против этой потребности, не помешает ли она его намерению прожить двести лет? Но взяло верх другое, более мудрое соображение, а именно, что победа над старой привычкой потребует большей затраты жизненных сил, чем решение ее сохранить. И он так устроил свою жизнь, что это его стремление не встречало помех, а веселье, когда оно применялось с должной осторожностью, можно было в жизненном балансе заносить в актив.
Когда кончался в Венеции театральный сезон, Гритти уезжал куда-нибудь, где гастролировала та или другая труппа (как почетному клиенту, директора и антрепренеры заранее присылали ему программы своих постановок). И он убедился даже, что в умеренной дозе езда по железной дороге действовала на него благотворно. Итак, не смущаясь расстоянием, маркиз проводил лето и осень в таких шикарных местах, как Сан Себастьян, Остенден, Монте-Карло, Висбаден и Париж, но непременно только там, где имелся оперный театр.
Этот обычай каждый вечер просиживать в ложе, являвшийся сперва приятной привычкой, отвечавшей его наклонностям и положению в обществе, а потом превратившийся в таинственное «должен!», хорошо знакомое невропатологам, простирался только на оперу…
Маркиз посетил театр двадцать девять тысяч триста восемьдесят семь раз, прослушал девятьсот семьдесят одно произведение, но только семь из них были драмами или комедиями.
Можно сказать, что Гритти знал почти все оперные театры в Европе, потому что он, как дипломат, объездил немало стран. Он состоял на службе многих итальянских государств. Как и положено человеку, который не обладает никакими личными качествами и выдвинулся только благодаря высокому рождению, он постепенно поднимался от атташе до секретаря и до советника посольства, до полномочного посланника и, наконец, до посла. Начал службу в Модене; затем, когда Наполеон Первый, которого он лично знал, положил ей конец, упразднив самое государство Модену, карьера сотрудника кабинетов по иностранным делам Пармы, Тосканы, Неаполя завела его через столицы германских княжеств в Париж и в Испанию, чтоб окончиться в петербургском представительстве Римской Курии.
Политическая история не запомнила имени маркиза Гритти. Служба была для него лишь необходимым занятием, подобавшим человеку его ранга. Бесконечно далека от него была теперь суматоха, то кипучая, то косная, посольских дворцов в Дрездене, Ганновере, Париже, Мадриде, Петербурге.
Незабываемы были только те двадцать девять тысяч вечеров, когда он, гордясь своей изысканной одеждой и благородной осанкой, вступал во все эти красно-золотые театры. Он ненасытно упивался возбуждающими звуками, когда оркестр в животворных квинтах и нетерпеливых диссонансах настраивает инструменты, а в ложах, наперекор всем модам века, сверкают в волнах света обнаженные женские плечи. Незабываемый, дышал через все времена запах пыли из-за кулис, где стоишь среди этих накрашенных, костюмированных, чуждых существ, как путешественник среди туземцев.
Сладость мимолетного бурного объятия была давно забыта, но не был забыт порочный запах артистической уборной, где он вкусил эту сладость.
Какое море музыки шумело за спиной маркиза! Он был знаком со всеми этими маэстро, обращающими на зрителя давно изваянные в камне страстные лица мыслителей, каких он никогда у них не наблюдал. При встрече с ним, высоким вельможей, они спешили согнуться в изысканном поклоне и гордились, когда он, бывало, запросто бросит им «саrо amico».[18]
Жизнь, которая больше не прельщала его, которая пустою небылью шумела вблизи и вдали, – эту жизнь он хотел теперь продолжить лишь затем, чтобы посрамить столь же мифическую смерть. Но все ж и эта жизнь мумии имела свою цель. И этой целью был иной чудесный мир, тот, что из вечера в вечер с неослабной силой таинственно манил его к себе.
Однажды в девятом часу, когда он, как всегда, с щепетильной аккуратностью начал переодеваться для оперы, к нему вошел с расстроенным лицом вестника смерти его камердинер.
– Ваше превосходительство! Брат вашего превосходительства, его светлость…
Маркиз перебил на полуслове:
– Ах! Только не сейчас! Доложите завтра!
И пошел в театр.
Но самым любопытным следствием этой страсти была коллекция столетнего, которая, к сожалению, частью уничтоженная пожаром, частью расхищенная, не дошла до наших дней.
Сенатор оказался прав. Гритти, довольный, что получил в жертву прославленного маэстро, пожелал похвалиться перед ним своей коллекцией.
Речь маркиза, так же как и ткани его тела, давно перестала развиваться вместе с течением жизни. И ее развитие остановилось, очевидно, на очень раннем этапе, потому что Гритти прибегал к оборотам, которые вышли из моды еще в детстве сенатора и Верди; они оба не помнили, чтобы им когда-либо доводилось слышать подобные выражения. Может быть, это был язык высшей знати восемнадцатого века.
Маркиз обратился к Верди по-прежнему в третьем лице:
– Я уже однажды имел честь познакомиться с маэстро. Через несколько дней мне исполняется сто пять лет. Память моя отменно хороша. Только путаются время и место. Смею ли я попросить помочь ей?
Верди предупредительно и коротко напомнил о Петербурге. Голос без всякой модуляции подхватил нить:
– Россия! Русские! Я их знаю. Любезный народ. Они поняли наше лирическое искусство. Здесь его больше не понимают. И они называли меня Андрей Джемианович. Подумайте: Андрей! Милые чудаки!
После этих слов голос воспроизвел какое-то подобие медленного смеха, причем на лице не проступило ни малейшей перемены.
– Моего отца звали Джемиано. Он родился 1740 году. А я, его сын, живу по сей день.
Сенатор спросил, какую оперу слушал сегодня маркиз. Старик ответил неопределенно.
– Была музыка.
Затем он обратился к камердинеру за своей спиной, действительно выказывавшему все признаки немощной старости, тогда как его господин не был подвластен даже смерти.
V
Пока маркиз не вошел в комнату деревянным шагом автомата, там, невзирая на спор, на радостях затеянный сенатором по случаю нежданной встречи с другом, царило настроение, полное человеческой теплоты.
Присутствие столетнего все изменило. Ибо необычайное жило не только в мечте старика, оно действительно возносило его над всеми смертными, так что всякая иная слава меркла рядом с ним. Он пренебрег приглашением сесть. Стоял без движения, опершись на трость, и только бегающие глаза да исправно работающий кадык говорили о какой-то, хоть и не человеческой жизни. Верди, как всякий выходец из народа, благоговевший перед всем незаурядным, встал и молча глядел на столетнего. Сенатор, которому доводилось видеть своего домохозяина раз в году, не чаще, тоже приумолк, подавленный чем-то противоестественным, что исходило от этого существа. Ренцо старался разглядеть в явлении его карикатурную сторону, однако в сдержанной веселости юного приверженца Лабриолы было что-то судорожное. Красивое лицо Итало не утаило ужаса и омерзения. При виде маркиза его всегда поташнивало. Он с радостью убежал бы.
Гритти – вернее, этот звонкий голос, лишенный, однако, вибрации, свойственной всем человеческим голосам, – начал говорить.
Наши языки на протяжении немногих десятилетий, которые мы называем своею жизнью, проделывают незаметное развитие. Когда мы были детьми, люди говорили иначе, чем говорят они сегодня, – и не только в отношении тех или иных модных словечек и технических терминов, которые, как устарелые машины, получают отставку. Слово меняется в самых своих потайных поворотах, изгибах, уклонах. Но лишь к исходу большого, естественно завершенного отрезка истории это изменение становится для всех ощутимо.
– Франсуа! Отмечено?
Слуга раскрыл записную книжку и надел очки:
– Так точно, эччеленца!
– Номер?
– 29388!
– Какая по счету пиеса?
– Двадцать третья!
– Объект?
Франсуа показал большую, аккуратно свернутую театральную афишу.
– Зарегистрировать! И в архив! Благодарю!
Слуга отвесил поклон.
Безбровое лицо обратилось к маэстро.
– Чимароза[19]был моим другом. Непревзойденные неаполитанцы! У них была flebile dolcezza.
Эти слова, означающие «блаженство слез», «горестная услада», которые сказал кто-то когда-то о какой-то музыке, прозвучали почти жутко в устах существа, которому менее, чем трупу, могли быть знакомы слезы и блаженство. Ренцо, по-детски не умея сдержать смех, прыснул в носовой платок. Деревянный голос продолжал:
– La flebile dolcezza, ее больше нет! Преимущество моих ста пяти лет: я могу говорить правду. Что мне до того, что чувствуют другие? – И в первый раз появилось выражение в звучании его слов – выражение предельной жестокости. – Что мне до того, что чувствуют люди? Maestro filosofo![20] Знаю! Слишком современно: в этом его слабость!
«Maestro filosofo» – так окрестили Верди в начале его карьеры, когда его искусство по сравнению с затейливой итальянской оперой той поры представлялось слишком глубоким и суровым. Теперь, через много десятилетий, онснова услышал это прозвище, – 1когда мир давно развенчал его музыку как нечто повседневное, само собой понятное, приевшееся. До чего же коротко дыхание у всех суждений! Вот стоит перед ним человек, который снова превращает его в юношу, в неотесанного новатора! «Слишком современно!» Его обрадовал этот приговор старика.
Тот, однако, подал знак, что беседа окончена:
– Если это угодно славному маэстро, приступим к обозрению.
Когда они выходили из комнаты, сенатор взял друга под руку:
– Ах, я так зол на себя, так зол! Мы могли бы все это время болтать с тобой наедине. А теперь приплелся этот болван! Но так уж у меня всегда! Я сам с помощью судьбы порчу себе всякую радость.
Верди не ответил. День настолько выпадал из привычной колеи его жизни, что он, обычно пунктуальный, забыл о времени: забыл, что скоро полночь и что в его распоряжении едва остается один только час.
В патрицианских домах Венеции культивируется одна приятная особенность: каждая квартира имеет отдельный подъезд. Не по мрачной, узкой, как прежде, но по роскошной, залитой светом лестнице поднималось наше общество под предводительством Франсуа в галерею маркиза. На площадке были две двери, ведущие в залы, – справа и слева, а между ними стояло высокое зеркало. Столетний, поднявшись наверх без малейшего напряжения для ног и сердца, остановился перед этим зеркалом, чтобы с удовлетворением констатировать: я существую на свете.
Итало, обычно не пропускавший ни одного зеркала, на это раз робко проскользнул мимо, словно опасаясь, как бы его отражение не задело отражения старца. Соприкоснуться с ним хотя бы так для него было бы ужаснее, чем окунуться в зловонную воду.
Двое слуг между тем зажигали канделябры в залах, по которым проходило общество. Двери распахнулись, и в тускло-красном свете перед гостями маркиза открылся своеобразный музей.
Первая зала являла вид чудесного игрушечного магазина, где выставлены на продажу очень большие кукольные театры, и ничего, кроме них. На затянутых парчою постаментах стояли восхитительные, сработанные искусной рукой макеты исчезнувших и еще и ныне существующих городских театров Венеции. Макеты в точности воспроизводили внешнюю и внутреннюю архитектуру, зрительный зал и сцену, причем открыты были либо фасад, либо крыша. Сердце каждого ребенка и каждого драматурга забилось бы радостью при этом зрелище. Маркиз, нежданно очеловеченный теплым светом залы, начал объяснения. И даже в голосе его появилась некоторая вибрация. Он указывал тростью на макеты более старых театров, которые почти все с течением времени были уничтожены огнем: Сан Касьяно, Сан Самуэле или Гримани, Санта Маргерита, Сан Джироламо, Сан Паоло э Джованни, Сан Моисе – все построенные между 1630 и 1700 годами. Словно храмы, из топи над лагуной вырастали десятки театральных зданий – святилища восторга, алтари игры и благозвучия, зеркала, установленные гениальным торжествующим народом, чтоб они отражали для него его собственное целостное мировосприятие, его красоту, дерзновение, его грубость и нежность.
Посреди комнаты был сооружен театр марионеток. На подмостках старый Панталоне, веселый слуга Педролин, влюбленная парочка, хвастливый шкипер, глупый Бергамаско и субботний хор евреев представляли заключительную сцену «Амфипарнассо», этого смелого новаторского произведения, которым прославленный Орацио Векки триста с лишним лет тому назад заложил основание opera buffa. Любовник-кукла стоял у самой рампы и, перегнувшись к зрителям, протягивал прикрепленный к его руке развернутый свиток пергамента, на котором Верди прочитал следующие старинным шрифтом набранные строки:
«Е voi cortesi ed illustri spettatori Ci date veramente Piacevol segno, che vi sia piaciuta Questa favola nostra, poi chi s'ode Grand' applauso, voci di lode».[21]«Как далеко отступили мы, – думал маэстро, – в сегодняшней нашей комедии от основного смысла этих слов. А все пошло от проклятого, напыщенного и лживого слова „искусство“! Но, как все святое, искусство только тогда является подлинным искусством, когда оно само того не знает. В дни моей молодости заказывали сочинение оперы; называлось это „scrittura“, и об искусстве при этом не слишком-то распространялись. А сегодня канатный плясун и тот не желает быть канатным плясуном. Оперы теперь пишут только ради красивых, густо испещренных нотными знаками клавираусцугов, пишут для музыкальных критиков, эстетствующих краснобаев и для своих же коллег. Лист будто бы сказал, что новое произведение не представляет никакой ценности, если оно не дает хотя бы трех не встречавшихся раньше аккордов. Ах, мы, может быть, были неграмотны. Зато уж эти грамотны, – грамотны, как буквари!»
Над этим сравнением, удачно найденным: «грамотны, как буквари», – Верди при всей своей досаде невольно рассмеялся. Между тем прошли несколько комнат, где на стенах висели сотни портретов певцов и певиц. Истинные герои венецианских вечеров, друзья и подруги маркиза, которые на исходе прошлого и в начале нового столетия потрясали упоенную толпу раскрывающимся чудом своих голосов, своими свободными руладами, каденциями ad libitum,[22] чистотой регистра, своими маркато, морендо, фермато, и бравурными финалами, и своим bel canto, – эти герои уныло молчали здесь на литографиях и гравюрах. Фотографий было совсем мало. На большинстве портретов можно было прочитать посвящения и надписи, сделанные крупным небрежным почерком, некоторые наискосок через всю грудь. С неизменно чарующей, словно бы оплаченной улыбкой или сияя, точно на заказ, смотрели лица этих женщин, которые некогда властвовали над королями и журналистами, вызывали восторги и самоубийства: Гризи, Персиани, Паста, Малибран, Веллутти, Пакьоротти, подруга Россини – Кольбран.
В просветленном самоупоении приветливо-высокомерно улыбались кавалеры этого суетного мавзолея: Рубини, Тамбурини, Лаблаш, Нурри, Дончелли, Лавассер, Дордонь и, наконец, Тамберлик и Грациани, из которых каждый в свой час был для парижан важнее Бонапарта.
За двумя комнатами, посвященными балету, открывалась зала композиторов, где стояли бюсты известных маэстро, а в витринах красовались посвящения и страницы партитур. Отдельная комната была отведена ранней неаполитанской школе. Под масками, похожими друг на друга, Верди читал написанные золотом имена, из коих лишь очень немногие были ему знакомы. Кто же они, все эти Анфосси, Джордано, Гарди, Гаццанига, Астаритта, Цингарелли, Маринелли, Капуа и Пальма? Не были ли они еще более мертвы, чем те певцы? Некогда любимые, чтимые, венчанные лаврами мастера! К чему все тщеславие творчества, последняя безумная мечта, которую невозможно умертвить?
«Что правильно? Что важно?» – громко выстукивало сердце. «Только для тебя, только для тебя!» – звучало в ответ. Когда-то он сказал: «Я много написал, могу теперь умереть». Но сейчас пробудилось иное чувство: «Я много написал. Не сегодня-завтра я могу умереть. Но все, что я сделал, уже не имеет для меня цены. Оно не существует. Все зачеркиваю. Как двадцатилетний юноша, я должен только начать свой труд. Горе, горе! Не слишком ли поздно?»
В следующей комнате маркиз, который здесь, в пределах своего царства, становился все менее автоматичным, обратил внимание Верди на бюст Симоне Майра.
– Маэстро знает, несомненно, что этот великий композитор был немцем. Тем не менее он не был чужд истинного искусства, идущего от песни.
Последний бюст изображал Винченцо Беллини, маэстро из Кантаны. Гритти почти отечески положил руку на голову изваяния:
– Он был последним. Святое дитя!
Вновь захваченный своей навязчивой идеей, он продолжал:
– Я на двадцать один год старше его, а он умер без малого пятьдесят лет тому назад. – И добавил: – У вас, у молодых, что за музыка, если в нее нужно вслушиваться?
Отворилась новая дверь. Тяжелый дух пыли, воска, сырости и тления ударил в лицо. Маэстро увидел пред собою очень длинную залу, где горели, как ему показалось, тысячи тысяч свечей, они беззащитно мигали, а вокруг огоньков плясали тучи моли.
Это было сердце коллекции. Здесь висели подлинные театральные афиши – без малого тысяча афиш к той тысяче различных опер, которые прослушал столетний за тридцать тысяч вечеров. Разнообразные по формату, стилю и раскраске, под стеклом и в рамах, они сплошь покрывали не только стены залы, но еще и ширмы, экраны, переборки, разгораживавшие это огромное помещение вдоль и поперек.
Снова зазвучал высокий голос маркиза. Но в странном смятении маэстро не слышит слов. Он хочет совладать с собою и, чтобы побороть все усиливающееся головокружение, принуждает себя прочесть первую попавшуюся афишу.
Он читает дату, читает название города и под ними такие строки:
Prima rappresentazione
del melodramma:
IL DILUVIO UNIVERSALE
del celebre maestro
G. Donizetti.[23]
Маэстро хочет неотрывно глядеть на афишу, потому что он знает: грозит нечто, чему нет имени. Но он не может противиться. Ужас сковал его: он видит, как пламя свечи лижет деревянную раму, как в одну секунду пожар охватывает весь этот бумажный мир. Шипение, треск! Огонь разбушевался. Страшный жар, черные тучи пепла, мертвящий дым, удушье!
Очень бледный, коротким, еле внятным возгласом подозвав к себе сенатора, Верди покидает зал и торопливо ищет выхода из галереи.
Остальные с удивлением смотрят вслед двум друзьям.
Видение пожара, властно и четко вставшее перед маэстро, оказалось, как это выявится позже, пророческим предчувствием.
VI
Маэстро не дал задерживать себя дольше. Он стоял на залитых водою ступенях, готовясь сесть в свою гондолу. Сенатор предложил проводить его. Он отклонил предложение.
– Невесело мы расстаемся, мой Верди!
В глазах добряка стояли слезы. Но друг в темноте не мог их разглядеть.
– Ох, этот химерический старик с его проклятой галереей!
Верди ответил уклончиво:
– Нет, не в том дело. В наши годы человек, хоть и чувствует себя неплохо, все-таки не должен переутомляться. Ах, друг мой, я стосковался по весне, по полям, где скоро начнется вспашка, по моим добрым животным; тяжело – и все тяжелее – ложится на меня тень города. Там, на воле, в своем доме, в хлевах, на воскресных базарах среди крестьян, – там я снова тот, кто я есть на самом деле. Лучше бы мне никогда и не становиться ничем другим!
Сенатор обеими руками схватил маэстро за руку.
– Верди! Хотел бы я хоть на день стать Джузеппе Верди!
– Не советую! Кто я такой? Ленивый, несчастный, опустошенный рантье славы, которая уже давно не слава. Я уже десять лет не композитор, но, к сожалению, и не крестьянин тоже.
Словно это признание было слишком откровенным, Верди поспешил проститься. Гондола быстро скрылась в ночи, потому что месяц спрятался, и легкий зимний холод справлял свое торжество.
Сенатор вернулся в комнату, к сыновьям. Ренцо читал книгу, Итало выказывал признаки крайнего нетерпения. Отец тоном оратора, привыкшего преподносить неоспоримые суждения, проговорил:
– Это величайший человек нашего времени, ибо он – самый подлинный! Вы почувствовали?
Никто не ответил на вопрос. Итало избегал раздражать отца, хотя считал мелодии «Трубадура» и «сантименты» «Травиаты» безвкусицей. А Ренцо, безнадежно немузыкальный, думал о Риме, о своих столичных друзьях.
Сенатор легко плакал, и чем больше входил в года, тем легче. Слезы расставания еще стояли в его глазах, и мысли его не могли оторваться от Верди:
– Вспомнить только, как взошло это солнце. Никто ничего не подозревал. Пришли послушать музыку безвестного маэстрино…
Итало знал наперед, что теперь последует рассказ о премьере «Набукко», давно набившей ему оскомину. Поэтому он при первой же возможности поспешил прервать сенатора. Правда, он сделал это тихо, немного натянутым голосом, – тоном, какой появляется у юноши, когда он в полночь сообщает отцу, что должен еще забежать к товарищу.
– Папа! Извини меня, я ухожу. Я договорился с Пиладом.
– Ладно, ладно! Ступай к своему Пиладу, мой Орест!
Старик не следил за путями сына. Хоть он и знал, что Итало редко ночует дома, он смотрел на это сквозь пальцы. Итало ушел очень быстро. Ренцо взял свою книгу и тоже простился.
Оставшись один, сенатор вдруг побагровел, словно силился подавить припадок бешенства; потом подошел к своим греческим текстам, раскидал их без надобности, вернулся к столу и закурил новую сигару. Его большое темпераментное лицо сразу стало приветливым. С чувственным довольством выпускал он дым, и голос его звучал лукаво и беспричинно весело, когда он, сам того не сознавая, процитировал латинский стих:
«Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor»[24].
Маркиз Андреа Гритти быстро утешился, когда так неожиданно оборвался осмотр его сокровищницы. Знаменитому маэстро, решил он, стало вдруг дурно. А он всегда бывал доволен и радостно растроган, когда смерть напоминала о себе людям моложе его. Всякий смертный случай в кругу знакомых он причислял к своим личным успехам.
В небольшой, хорошо натопленной комнате Франсуа приготовлял на ночь все, что полагалось. Маркиз никогда не ложился в кровать – лежачее положение говорило о поражении, о сдаче.
Лежащего скорее задушит коварный конец. Надо любую минуту быть во всеоружии. Столетний сел в глубокое кресло. Чтоб не свалиться ничком, он дал удобно пристегнуть себя ремнем к спинке. Впрочем, вот уже десять лет он не знал того, что люди называют сном. Подобно факирам или йогам, он умел, не засыпая (ибо и во сне организм изрядно изнашивается), приостанавливать в себе жизнь.
Он сидел неподвижно, изгнав из мозга даже беглые дремотные образы, дыша скупо и редко, полузакрыв глаза. В той же комнате на тюфяке спал красивый семнадцатилетний мальчик из его челяди. Если Гритти и не прибегал к доброму библейскому средству, следуя коему царь Давид оживлял свое ледяное старческое тело теплотой Авигаили, все же в свежем юном дыхании рядом с собою он чувствовал защиту.
Итало вышел из дому через боковые ворота прямо на церковную площадь. Недавнее самодовольное и несколько наигранное выражение начисто сошло с его лица. Дышал он глубоко, будто с него свалился тяжкий гнет. Он запоздал на добрых полчаса, а за это время многое могло приключиться. Но каких только предвкушений опасности, даже смерти не жаждет юность в тайнике своего сердца, хотя бы и страшась их! Итало накинул поверх фрака плащ и помчался как бешеный. Он бежал по мертвым черным улочкам, по лестницам мостов, мимо церквей и колоколен, которые, точно исполинские допотопные птицы, нахохлились в безмолвии ночных площадей. Он бежал, как можно бежать только ночью, без удержу и без устали, словно перерастая масштабы сжавшегося города. Он столкнулся только с тремя живыми существами, но эти трое – тени, в исступлении говорившие сами с собою, – едва ли принадлежали к человеческой породе.
Много лет спустя, давно завязнув в рутине более зрелого жизненного уклада, Итало вспоминал этот ночной марафонский бег, эту полноту и целеустремленность как самое острое в своей жизни ощущение счастья.
В одном из бесчисленных переулочков молодой человек остановился. На двери, в которую он, дрожа от волнения, дважды коротко стукнул, была прибита медная табличка: «Доктор Карваньо».
Тотчас дверь отворилась. Итало втянули в дом.
– Наконец! Наконец-то!
Страх был напрасен. Муж Бьянки, врач, возглавлявший одно из отделений в Ospedale civico,[25] сегодня, как это часто случалось последнее время, заночевал в больнице. Часа два тому назад приходил от него посыльный – взять книгу.
Все разрешилось без особых приключений. А за сильное нервное возбуждение Итало вскоре был вознагражден тем счастьем, которое своими долгими мягкими объятиями, своими умелыми ласками зрелая женщина дарит мужчине, когда он еще мальчик.
VII
Ночной миланский поезд давно проехал нескончаемый мост через лагуну, проехал Местре. Верди сидел у окна в купе первого класса, где, кроме него, не было ни одного пассажира. Он беспредельно устал после этого дня, а тут еще пришлось, наперекор своей твердой привычке, пожертвовать и ночью. Мысли, еще не сложившиеся, проносились в его голове; неоформившиеся образы колыхались перед ним. Но сильнее всех несложившихся мыслей и образов, независимо от них, привораживал ухо музыканта раскатистый ритм поезда, дикая смена такта в стуке колес.
Не сдаваясь удобному «будь что будет», Верди не позволил себе лечь или хоть упереть ноги в диван напротив. Прямой, не расстегнув даже пальто, сидел он в своем углу. Только седую голову откинув он резко назад, так что край воротника закрывал лицо. Дорожное состояние между сном и бодрствованием овладело им, – то состояние, которое, если едешь с легким сердцем, переходит в приятную истому и убивает время.
Но смутно и неудержимо сквозь все явления жизни пробивалась боль. Сознание, исчезая на миг, вдруг болезненным рывком возвращалось, и пассажир испуганно шарил вокруг руками. Ему все чудилось, что у него хотят стащить чемодан. Но этого он не допустит! Он будет его отстаивать даже с риском для жизни. Там, в чемодане, лежит партитура, которой никто не знает, которая тридцать лет пожирает его сердце, которая станет некогда его великим оправданием перед всеми врагами. Опять и опять, когда подкрадывался сон, маэстро тревожно пробуждался в страхе за свою партитуру, которую в часы трезвого размышления он проклинал.
Вдруг ему вспомнилось, что и в прежние времена при бесконечных переездах в почтовых каретах он, засыпая, нередко испытывал тот же страх. Какая-нибудь незаконченная партитура всегда лежала у него в чемодане, который он ставил, бывало, наверху или рядом с собою. Но тогда врагов было мало. А когда врагов мало, их можно с легким сердцем презирать: они копошились где-то под его ногами – все эти педанты, захолустные маэстро, журналисты, грамотеи от музыки… Теперь же враги забрались куда как высоко, поднялись выше него, все эти авторы музыкальных драм. Но вспыхнет пламя, разбушуется огненный потоп – и все столетние старцы, все лаврами увенчанные бюсты сгорят, а с ними и старая италийская flebile dolcezza. Раздастся некогда громкий клич: «Эй, Пиччинни! Эй, Глюк! Сюда!» Но оба они сгорели, и никто о них не печалится.
При этой мысли странным счастьем наполнилось сердце маэстро, и, пока не смешались краски в калейдоскопе сна, в ушах его звучало: «Лицо у немца незлое».
Когда сумерки сна сгустились в ночь, в чаще раскрылась светлая дорога, и эта дорога вела на вершину холма, который в то же время мог быть и театральной кулисой. Там многое произошло, пока не показался на той дороге король с неподдельными морщинами на лице и в мишурной короне. Скорбь короля была настоящая, и грозил он настоящему небу, по которому проносилась кавалькада черных облаков. Но мантия на короле была не настоящая, а из реквизита Ла Скала – театральная мантия, которую уже надевали сотни актеров.
Но чего здесь надо этой своре ряженых шутов на заднем плане, зачем они вертятся под глупо-симметричный ритм, загребают руками, выходят вперед, отступают? Природа вокруг становится все мрачней и зловещей, горят среди полей города и села, медленно тянется дым…
И вдруг случилось нечто страшное, нечто такое, что никак не должно было случиться: с трагическими жестами и мимикой король запел минорную быструю польку с резкими акцентами, длинную и нудную. Хор после каждого куплета подхватывает тот же мотив, между тем как король, не слушая, словно в безумии, выводит колоратуры на быстреньких и пустеньких шестнадцатых.
Маэстро божится во сне, что эта музыка чья угодно, только не его, даже в самой ранней юности он не писал ничего похожего.
Но ничто не помогает, такова божья воля. Нестерпимый стыд сжимает ему виски. Он оглядывается вокруг и прикидывает в уме: ради всего святого, как бы предотвратить беду? Как бы кто не вошел в какие-нибудь ворота, не стал свидетелем этого тяжкого позора! Но чем больше он остерегается, тем труднее избежать судьбы. Постепенно и все четче уясняет он себе, что он сам поет, что он сам этот король, пойманный и прикованный к быстренькой минорной польке, и никак ему не освободиться от ее подлого обволакивающего такта.
И тогда произошло то, чего он боялся с самого начала: в сопровождении двух прусских солдат в остроконечных касках входит Вагнер – поверх фрака желтое пальто внакидку, в руке цилиндр. Секунду он смотрит на зрелище. Но теперь лицо у него не доброе, а насмешливое и злое.
С мертвенным холодом в сердце маэстро вынужден все дальше и дальше петь во сне свои колоратуры, между тем как Вагнер надменно поворачивается к солдатам и небрежно бросает:
– Такие жиденькие кантилены я пишу одним росчерком пера.
Певец закричал и кинул наземь корону, а хор все тянет свой мотивчик дальше. Но Вагнер только сказал – коротко и по-немецки:
– Стоп! Арестовать его!
Поезд со скрежетом остановился.
Маэстро сразу пришел в себя. Ни усталость, ни тяжелый сон не оставили следа на его лице. В окно видны огни довольно большой станции.
– Верона! Еще только Верона! – Он вздохнул.
Глава третья «Король Лир» в чемодане
I
Бьянке Карваньо несколько недель тому назад исполнилось тридцать два года. Значит, она вступила в тот возраст, когда с женщины спадает последний покров девической прелести и, обретя себя, она расцветает вторичной, более высокой и подлинной красотой. В ней ничто не клонилось к увяданию. Ей не был знаком тот страх, который охватывает женщину, когда, встав утром с постели и поглядевшись в зеркало, она откроет, что здесь или там уже легла морщинка. Все же Бьянка часто недоверчиво смотрела в зеркало и со злобой, как бы что-то желая смахнуть, проводила по щекам пуховкой.
Мучившее ее беспокойство происходило оттого, что, хотя сама она была в расцвете молодости и красоты, Итало был моложе ее на много лет – на много невозместимых лет. Мог ли он понять ее красоту? Для его тонкого, легковесного тела не была ли эта красота слишком яркой, слишком зрелой, по-человечески солнечной?
Было, как бывает обычно при таких отношениях: женщина одна несла всю тяжесть опасностей, забот и страхов ежедневной игры счастья.
Люди – и мужчины и женщины – в первую половину своих двадцатых годов относятся с надменной жестокостью ко всем, кто старше их. Они ощущают молодость как отличие и заслугу. Это параллель к высокомерию столетнего Гритти, который требовал поклонения в силу своей старости.
Так в Итало в горделивом сознании своей молодости считал вполне естественным, что если Бьянка старше его на девять лет, умней и опытней, то она и должна все взять на свои плечи. Роль его сводилась к одному – дарить счастье, ежедневно и еженощно будить в женщине ликующий зов жизни и мужественно встретить опасность или приключение, когда они встанут на его пути. Он ни о чем не задумывался и был свободен душой.
Но чем свободней чувствовал себя возлюбленный, тем сильнее мучилась Бьянка. Как огромный камень, тяжела была ее судьба. Женщина старалась не сознавать этой тяжести, которая иначе раздавила бы ее, должна была все время взвинчивать себя, чтобы не поддаться смятению. В тот час, покуда Итало был рядом, был с нею, она легко скользила над пропастью, не заглядывая в глубину. Ностоило ему уйти, как ее начинал душить страх перед неизбежным будущим.
Карваньо, казалось, принадлежал к породе доверчивых мужей. За последние годы он достиг большой известности не только как лечащий врач, но и как организатор, как главный врач одного из отделений клиники. Лучшие университеты страны наперебой предлагали ему кафедру. Но он отклонял предложения, не желая слишком рано связывать свою рабочую энергию почетным постом. Неутолимая жажда деятельности уже приняла у него форму болезненной страсти. Для личной жизни Карваньо умер. Бьянка с легким сердцем обманывала его. Она не питала к нему неприязни. Только он становился все более чуждым, непостижимым, с каждым днем все больше отдалялся от жены в своей неизменной больничной тужурке, в торопливой рассеянности и профессиональном сарказме врача.
Тем страшнее была рука, мертвой хваткой державшая ее за горло. Бьянка уже несколько месяцев была беременна. Впервые, так как до сих пор у нее не было детей.
Никогда беременность после первых трудных месяцев не доставляет столько счастья, сколько она дает его женщине, когда ей за тридцать. Более разумная плоть, более зрелое, осознавшее свою силу тело наслаждается цветением, как весною должен наслаждаться разум Земли, если он существует. Так и Бьянка ощущала смутную радость пробуждения и роста в каждой клеточке тела. Но что ей была эта радость перед той тревогой, перед адским страхом, с которым просыпалась она по утрам, опять и опять задавая себе вопрос, от кого он, этот ребенок, чья кровь так быстро, так взволнованно билась в ней!..
Все эти причины, а в особенности беспечно-легкое отношение Итало к своей большой ответственности, порождали ревность и доводили Бьянку чуть не до безумия. Эту ревность Итало так же не понимал, как не понимал свою ответственность. Он был слишком молод, чтобы по-настоящему отдаться какой бы то ни было страсти, и люди – любовница, отец, друзья – были для него лишь поводом к переживаниям, к познаванию нежности, напряжения, ненависти. Сила притяжения, сгибающая каждого, кто хоть раз взглянул правде в глаза, еще не стала владычицей над ним. Только этим и объясняется, почему в пору самых тягостных личных переживаний Итало дал крепко связать себя еще и с другой стороны.
Через художника Волкова, который, в свою очередь, дружил с Жуковским, Итало оказался вовлечен в вагнеровский круг и однажды был представлен самому композитору. Этот день неизгладимо запечатлелся в его памяти: живость Вагнера, его доброта, умные шутки.
Даже зрелые люди, люди самостоятельной творческой силы, и те не могли не покориться магическому воодушевлению Рихарда агнера. Вспомнить хотя бы Петера Корнелиуса,[26] который не раз бежал от «душной вагнеровской атмосферы», чтобы снова подпасть под ее влияние. Как же мог не покориться мальчик, чье сознание проникнуто было смутными, неразрешимыми стремлениями?
Вагнер – в этом его тайна – оказывал воздействие не только как великий человек, каковым он был, не только как захватывающий художник, всегда, в любую секунду полный проникновенного взволнованного звучания, – помимо этого дара он обольщал – да, иначе не скажешь, – обольщал, точно женщина. Как от обаятельной женщины, никогда при всей страстности своих переживаний не знавшей поражения, неуспеха, раскаяния, от него исходило чисто эротическое излучение, тот электрический ток влечения и отталкивания, который порождает все формы несчастной любви. Чем старше он становился, чем уверенней в себе, чем больше он освобождался от невыносимой необходимости устремлять глаза на других, более сильных и равнодушных, еще не покорившихся ему, тем ярче излучалась эта его колдовская сила. А в те дни жившая в нем удивительная женщина царствовала, казалось, со всей полнотою власти; и едва ли случайно как раз в это время Вагнер работал над трактатом, которому дал название: «О женственном в человеке».
Вот уже несколько месяцев Итало ничего не делал – только учил немецкий язык да упивался клавираусцугами «Тристана» и «Валькирии». Когда он вставал из-за рояля, у него кружилась голова, в теле ощущалась тяжесть, как после изнурительной любовной ночи, а под глазами лежали темные круги.
Совсем по-иному действовала на его отца какая-нибудь мелодия Верди! Сенатору довольно было просвистать ее про себя, и глаза у него сразу прояснялись, каждый мускул наливался бодрым, воинственным духом.
Из-за страсти к Вагнеру Итало за последние недели, не сознаваясь в том перед самим собою, охладел к Бьянке! Если раньше он урывал каждую минуту, чтобы побыть с нею, то теперь он все свое время с полудня до вечера проводил на Пьяцце. Вагнер частенько заглядывал там в то или другое кафе.
Еще сегодня в кафе Лавены можно видеть памятную доску, вещающую о том, что композитор провел здесь немало часов в беседах, в раздумье, даже за работой.
С замиранием сердца, точно робкий юноша, патрулирующий часами перекресток, чтоб на миг узреть, как пройдет здесь его богиня, Итало по сто раз пересекал площадь. И когда, бывало, ему улыбнется счастье и Вагнер медленно, с растерянным лицом, оживленно сам с собою разговаривая, зайдет в кафе, Итало провожал его на расстоянии и через несколько минут, как будто бы случайно, заходил туда же. Потом, приняв невинный вид, он неожиданно узнавал композитора, срывал шляпу с головы, густо краснел, кланялся преувеличенно низко и пробирался к не слишком отдаленному столику.
Иногда Вагнер подзывал к себе красивого юношу, на лице которого теперь не оставалось и тени его обычной кокетливой самоуверенности. Спрашивал его о том о сем. Итало пробовал отвечать по-немецки, но в злом заклятии едва лепетал односложные слова, хоть каждый взгляд его метал огонь преданного почитания. Его отпускали приветливым кивком головы, и он тихо удалялся, изнемогая от счастья и тоски. Рихард Вагнер питал слабость к итальянскому темпераменту. Ничто так не льстило композитору, как то глубокое впечатление, которое к этому времени начинали производить его оперы на элиту древнего музыкального народа.
Неудивительно, что вся ревность Бьянки сосредоточилась на Вагнере.
Однажды утром – прошло более двух недель с того исторического концерта в Ла Фениче и краткого наезда маэстро Джузеппе Верди в Венецию – Итало сидел у своей любовницы. Бьянка лежала, ей сегодня нездоровилось. Итало держал ее за руку, а у самого дергались колени – обычный для него знак нетерпения.
– Сегодня с двенадцати до четырех он дома. А потом ему нужно на совещание. Ты будешь со мною, мой Итало! Будешь?
– Днем, после четырех?
Итало проговорил это как бы про себя и посмотрел в окно. В глазах Бьянки вспыхнул огонек. Она молчала. Он притянул к себе ее руку.
– Днем? Конечно! К четырем я буду здесь. Подожду внизу, пока он не уйдет. А потом я останусь… до…
– Ты останешься, останешься!
– Да, я побуду с тобой три четверти часа. В пять у меня, к сожалению, эта глупая встреча в связи с квартетом…
– Ах, квартет?!
Бьянка приняла вполне миролюбивый, равнодушный вид, чтоб его обмануть. Обрадованный, что, может быть, удастся избежать сцены, Итало горячо подхватил:
– Да, мы репетируем у Кортеччи. Претендент, ты знаешь, пригласил нас играть у него в это воскресенье. Мы наметили очень интересную программу.
Итало смолк, потому что Бьянка встала и спокойно, серьезно смотрела на него.
– Что ты? Что с тобой? Милая моя, моя Бьянка! Она все смотрела на него неподвижно и безмолвно.
– Бьянкина!
Он попробовал ее поцеловать. Она строптиво уклонилась.
– Но что же я сделал тебе, моя Бьянкина? Она сказала только:
– Квартет!
И тут прорвался так хорошо ему знакомый безудержный, истерический смех, которого он боялся больше всего на свете.
– Иди на свой квартет. Жалкий, жалкий лгун! Иди к своему «агнеру, иди! Как дурак, влюбился в старика и обманываешь меня сним, злой, тщеславный, вороватый трус!
Смех перешел в рыдания.
– Бьянка, Бьянкина! – оправдывался Итало. – Клянусь тебе, яне лгу. Вовсе я не к Вагнеру. Этот квартет совсем…
– Иди к своему Вагнеру, к Вагнеру… Она не слушала уговоров.
– Посмей только мне изменить!
– Что ты, Бьянкина! Как я могу изменить тебе с мужчиной, со стариком? Что за вздор! Это же совсем другое – духовное, нельзя за это сердиться.
Последнее слово окончательно вывело Бьянку из себя.
– Духовное? Да ну тебя с твоей «духовностью»! Хорошо ж ты судишь обо мне! Уходи! И не возвращайся больше! Я вынесу все одна! Не возвращайся больше никогда! Проклятый мальчишка! Иди к своему немцу! Ты мне противен! Иди! Иди!
– Бьянка, все, что ты говоришь, бессмысленно и грешно. Успокойся. Я останусь с тобой на весь день!
– Но я не хочу, чтобы ты оставался! Уходи! Уходи сейчас же! Я способна убить тебя, берегись!
Она схватила пресс-папье и замахнулась им. Большое, еще не изменившееся тело женщины напряглось в чудесной красоте.
Закипевшая в Итало злоба облегчила ему положение. Он выпрямился и небрежным тоном, засунув руки в карманы, сказал:
– Что же, кинь!
Всю тяжесть своего страдания стряхнула женщина. Смертельно бледная, лежала она на диване. Дыхание прерывалось, сердце замерло.
А он упал перед ней на колени, молил о прощении, винил сам себя, клялся и рыдал. Вспышка разрешилась, как всегда, блаженным примирением. Размягченная и бесконечно усталая, с материнской нежностью поглаживая его волосы, Бьянка, как уже не раз, дала ему свободу на весь день.
На улице юношу еще некоторое время беспокоило чувство внутренней измятости, грызло сомнение, был ли он вправе принимать подаренный день. Но затем, и даже очень скоро, неловкость прошла, и как будто не было на свете никакой любовницы, носившей под сердцем, быть может, его ребенка, как будто не ждало их темное будущее, полное невзгод и опасностей, – он весело, почти победно шел домой в ритмичном гуле переулков своего родного города.
Час спустя, когда последние следы волнения исчезли с лица Бьянки, доктор Карваньо вернулся домой. Задерганному человеку, который всегда без оглядки проходил сквозь свой шумный день, почудилось что-то непривычное. Он не хотел над этим задумываться. Если и веяло чем-то в воздухе, ему, всегда отзывчивому, не хватало времени разобраться – мысли были слишком заняты. Случилось, однако, так, что он со смутным чувством неловкости, почти с болью подсел к жене, которая сегодня (так ему показалось) смотрела на него внимательнее, чем обычно. Чужой, странно слабый голос спросил:
– Что с тобой, милый? Ты смотришь так печально!
Карваньо призадумался: что могло придать ему печальный вид? И вспомнил случай из сегодняшней практики.
– Так, глупая история!
Бьянка стала спрашивать настойчивей. Тогда бессвязно и устало, с некоторой досадой на самого себя за то, что его, закаленного врача, в сорок лет еще трогают такие «отвлеченности», он рассказал историю о красивом белокуром ребенке.
– Родители кто? Молодые немцы. Poveretti![27] Явно голодают! Ах, эта инфантильная порода, которая бог весть почему называет себя людьми искусства! Что у него? Я сам в недоумении: это не чахотка или во всяком случае – не обыкновенная чахотка. К тому же у больного, кажется мне, евфория, мания величия! Но ребенок удивительный! Волосы совсем золотые. Ангел!
Врач встал и тихонько коснулся губами волос жены. Она не шевельнулась, и от этого легкий поцелуй показался странно притворным, принужденным, тягостным. Застыдившись, Карваньо отошел к письменному столу. Непривычная нервная реакция была ему неприятна. Он принялся без нужды перебирать бумаги.
II
Ренцо давно уехал обратно в Рим, а Итало сидел дома реже чем когда-либо. Так что сенатор жил в просторной квартире один со своими текстами. Он почти не показывался, как прежде, на Пьяцце, где истые венецианцы проводят долгие часы, захаживают то в одно, то в другое кафе, вмешиваются в разговоры. Все реже его исполинская седая голова в широкополой шляпе демократа всплывала над маленькой толпой единомышленников, таких же старых, как и он, и таких же недовольных. Единомышленников становилось со дня на день все меньше и меньше. Вокруг, в буржуазной среде, царили успех, подъем, благоденствие, а потому прежнее свободолюбие утрачивало свой истинный смысл, великие принципы героической эпохи, как все, что пережило себя, превратилось в пустое фразерство; и незаметно для самого сенатора с течением времени в изменившейся обстановке его собственная непреклонность приняла столь ненавистные ему черты снобизма.
Слабый, без внутреннего костяка, как все вспыльчивые люди, сенатор был совсем иной натурой, чем сильный, деятельный Верди. Обладай он даром маэстро, его музыка остановилась бы в развитии задолго до «Риголетто» и десятилетиями, в упрямой обиде, прозябала бы на старых, однажды найденных формах. Верди, сколько ни приходилось ему бороться с людьми и господствующими воззрениями, никогда не бывал сломлен: всегда, какое бы время ни указывали великие часы жизни, всегда оставался он человеком своего времени – не вчерашним и не завтрашним человеком, а неизменно сегодняшним, и как таковой он стоял, свободный и одинокий, на вершине дня.
А сенатор давно уже не был человеком своего времени. Это наполняло его дни и ночи глухой, полуосознанной печалью. В последние годы один за другим ушли герои национального возрождения, и лучи того солнца, которое закатилось вместе с ними, уже не кидали отблеска на его собственный образ. В сгустившихся сумерках с тоской и ропотом протягивал он руки к погасшему источнику света.
Когда Итало после той дикой сцены с Бьянкой пришел домой, он, к своему удивлению, застал отца веселым и принарядившимся. Старик (хороший признак!) встретил его добродушно-ироническим приветствием:
– Ты больше сын своего времени, чем своего отца! У тебя, должно быть, много друзей, поглощающих всю твою жизнь, потому-то тебя совсем и не видно. Но я хвалю тебя за это. Живи, живи, живи! Я не стану проповедовать тебе добродетель. Если, как учат нас некоторые философы, все на свете – заблуждение, то калокагатия Сократа, по-видимому, величайшее из заблуждений. Не обязательно просидеть полжизни в тюрьме за революционные идеи, чтобы чувствовать за собою право на жизнь. Выпить чашу с цикутой – пустое тщеславие, вдобавок очень неприбыльное. А что касается креста, то правы, кажется, только те, кто под его сенью открывают лавочку. Впрочем, денди одинаково презирает все убеждения. В основе всего, мой мальчик, лежит мелодия. Нет родины на небе, нет родины на земле! Да здравствует мелодия! Я тут кое-что нашел…
Старик бросил на стол клавираусцуг «Золота Рейна».
– Если ты на этом нотном поле битвы найдешь мне хоть одну мелодию, ты получишь премию за находку.
Итало нарочно пропустил выпад мимо ушей. Он только удивленно посмотрел на отца, который торопливо надевал пальто и искал глазами шляпу.
– Ты уходишь, папа?
– Как видишь. И очень спешу.
– Могу я тебе чем-нибудь помочь?
Итало счел нужным выказать внимание сенатору. Не слишком избалованный отец лукаво и ласково посмотрел на него:
– Тебе нужны деньги, сын мой! Не отнекивайся! Я знаю! Ты не прочь получить премию вперед. Сидит человек сиднем, и вдруг его захватывает жизнь. Черт возьми, почему это мне пришло в голову именно теперь?…
Он сунул юноше в руку несколько золотых и ушел.
Причиной его веселости было следующее письмо, полученное утром:
«Дорогой друг!
Когда я в тот вечер простился с тобой, я искренне стремился бежать от всех городов мира с их треволнениями и как можно скорей вернуться в Сант Агату к моим обязанностям и повседневным делам.
Но все перевернулось. Выпал снег, снег лежит повсюду, – тот снег, которого я так боюсь, который, как оглянусь я назад, всегда отмечал самые мрачные часы моей жизни.
Итак, я не хочу и не могу сейчас вернуться в свое имение, в одиночество. Раньше я еще, может быть, как-нибудь с этим сладил бы, – но не теперь. И Генуя, которую я всегда любил, для меня не подходит: здесь слишком много людей, не умеющих понять, что я нуждаюсь в беспокойном покое. Послушай! Мне пришла в голову сумасбродная мысль, что ваша Венеция могла бы мне помочь. Раньше я не слишком доверял этому городу. Сказать по правде, он меня подавлял. Но теперь какое-то чувство (безрассудное и, вероятно, обманчивое) постоянно говорит мне: «В Венеции я бы мог работать!» Работать? Великое слово, но оно не должно вводить тебя в заблуждение. Речь идет, понятно, не о новой вещи – только о доработке залежавшегося старья: где-то подправить, где-то сократить. Но здесь и для такой пустячной поделки у меня нет ни охоты, ни досуга.
Таков мой обычай, ты знаешь, – ничего не оставлять неиспробованным; иногда сделать даже ошибку – лишь для того, чтоб доказать самому себе, что это ошибка.
Итак, за дело! Исполни мою просьбу! Поторопись, так как я, возможно, сегодня же извещу тебя телеграммой о своем приезде.
Сними мне большую комнату в отеле на набережной, где я останавливался в прошлый раз. Там свободней и больше мне нравится, чем в «L'Europe», где меня всегда, бывало, устраивал бедняга Пьяве. Позаботься, чтобы мне поставили в номере сносно настроенный рояль. И еще! Самое главное! Никто не должен знать, что я в Венеции, слышишь? Никто! Возлагаю на тебя заботу по этому самому важному пункту. Я хочу, я должен устроиться так, чтобы мне никто не докучал. Вот и все. Торопись! Торопись! Ты сам понимаешь, как меня радует предвкушение, что я хоть раз в жизни сумею в полной мере насладиться твоим обществом.
Addio, addio, addio!
ТвойДж. Верди.
Пепина, хоть и злится на меня за мою затею, шлет тебе сердечный привет».
Сенатор уже много лет не жил для других. Поэтому теперь с удвоенной силой в нем проснулась вся его подавленная, едва не иссякшая нежность. С горячим рвением новичка, который в первый раз украшает комнату к любовному свиданию, он тотчас же принялся за дело.
Он помчался в указанный маэстро отель, отвел хозяина в сторону, объявил ему, что одна блистательная особа, которую он не уполномочен назвать по имени, окажет ему, хозяину, честь остановиться у него. Он взял клятву с хозяина, что тот и виду не покажет оной блистательной особе, что ему известно, что она – блистательная особа. Потом в сопровождении взволнованной свиты из всего персонала, начиная с наистаршего из старших официантов и кончая мальчиком на побегушках, он вихрем помчался по комнатам, хлопал дверьми, распахивал ставни, передвигал мебель, сгоряча опрокинул на пол какую-то вазу, кричал, бранился, расхваливал, вздыхал и целый час не мог найти ничего подходящего. Только когда хозяин со всяческими заверениями и оговорками решился наконец открыть большую центральную комнату в первом этаже – так называемые «княжеские апартаменты», сенатор удовлетворился и с тем же неотразимым пылом выторговал божескую цену.
Далее посыпались приказ за приказом: письменный стол нужно, конечно, придвинуть к самому окну, поставить для работы самую лучшую лампу; и надо вынести кресло на этот красивый балкон, откуда открывается вид на лагуну до самого Сан Джордже Затем наниматель велел как следует протопить, условился о свободном столований, предупредил все требования, какие мог бы предъявить будущий гость отеля, оригинальнейшая личность, – так что в конце концов хозяин, подавленный такою массой условий, совсем присмирел и лишь беспомощно всему поддакивал. Бросив на прощание еще двадцать полувнятных наказов, сенатор помчался дальше. Под Прокурациями помещался в те времена музыкальный магазин, некогда принадлежавший знаменитому Галло – выдающемуся музыканту, еще более выдающемуся импресарио и едва ли не самому замечательному чудаку, какого только доводилось знать Верди и Венеции. После смерти Галло магазин, где рояль можно было взять и напрокат, влачил довольно жалкое существование.
Сенатор вошел в магазин и испробовал пять или шесть инструментов. Зажав во рту сигару, он, как настройщик, гремел по клавиатуре, выбивая патетическую цепь трезвучий, септаккордов, хроматических пассажей. Ни один рояль ему не понравился. Та же процедура повторилась в двух других музыкальных магазинах, пока в четвертом, на Мерчерии, не был найден, выбран и заказан подходящий инструмент. Сенатор заодно велел доставить полное собрание клавираусцугов всей светской и духовной музыки, написанной Джузеппе Верди. Зачем? Он и сам не мог бы сказать. Так – порыв бескорыстной любви. В основе его существа лежала гиперболичность. Может быть, она и была причиной тому, что никогда и ни в чем он не достигал прочного успеха.
Но этими хлопотами далеко не ограничилась трогательная заботливость сенатора. Цветочному торговцу было велено теперь, в эту мертвую пору года, сделать невозможное; потом в отель была направлена целая коллекция ликеров и еще многое другое.
Только под вечер сенатор в полном изнеможении вернулся домой. Но ему все не сиделось. Он занялся отбором книг для любимого друга. Нужно подыскать захватывающие романы с богатой фабулой. Это будет самое правильное. Такого, правда, нашлось не много. Все же том-другой Виктора Гюго и Золя получили одобрение. Но больше, чем вся беготня и спешка, сенатора измучила та узда, которую он вынужден был наложить на себя. Он не мог громко крикнуть каждому знакомому:
– К нам едет Верди!
III
Грустно смотреть на такого, как он, человека! Ему никто не дал бы и шестидесяти, он никогда в жизни не знал головной боли, ест с аппетитом подростка, может три-четыре часа кряду проработать в поле под палящим солнцем – только покроет голову большой соломенной шляпой… – и этот человек упрямо отказывается написать еще хоть ноту!
Высказывание Джулио Рикорди, относящееся к 1880 году, которое цитирует К. Браганьоло.
Сам на себя дивясь, маэстро два дня спустя стоял в роскошном номере гостиницы с прекрасным видом на лагуну. С большим трудом, но в твердой уверенности, что неразговорчивый друг, поглощенный далекими мыслями, хочет побыть один, сенатор заставил себя уйти, так и не вымолвив приглашения на обед.
Не часто случалось Джузеппе Верди сделать что-либо, чего бы он перед тем трезво не обсудил сам с собой. Он, привыкший строго, полностью подчинять свою жизнь воле, со дня. возвращения в Геную мог наблюдать, как, наперекор его воле, в нем растет желание, неодолимое желание, зовущее его в Венецию!
В этом тяготении было что-то чуждое, жуткое, оно казалось ему чуть ли не позорным.
Когда же все-таки решение было принято, он долго не мог произнести перед женой слово «Венеция».
Надо было как следует подумать. Что могла предложить ему Венеция? Покой? Но к чему же искать покоя именно там? Рабочее настроение? Он отлично знал, что тяга к творчеству у него не зависит от места, от окружающей природы, не нуждается ни в каких внешних возбудителях; вскормленное, выношенное в глубине, оно внезапно перехлестывало через край.
И все же в его жизни был один закон, которому он всегда покорялся после минутной борьбы.
Он твердо знал, что известные, решительные повороты в его судьбе совершились только благодаря находившей на него «дури», которой он сознательно поддавался. Такая «дурь», например, вызвала поступок, которому он обязан первым и самым существенным успехом во всей своей карьере: он написал импресарио – судье, от коего зависела жизнь и смерть его оперы, – грубое, глубоко оскорбительное, ужасное письмо! Всякого другого такое письмо отбросило бы назад в ничтожество. Он и сам, когда письмо было отправлено, ничего иного для себя не ждал.
Но именно это письмо настроило Мерелли, всесильного директора Ла Скала, поставить «Набукко», – и едва не загубленная жизнь была спасена.
Кто или что принудило его написать сумасбродное письмо? Да и позднее – что принуждало его сделать тот или иной шаг, которому противился трезвый рассудок? Если маэстро не говорил никогда об этих тайнах, все же они его мучили с юных лет, и многих из тех, кто благосклонно говорит о полнокровном, жизнерадостном создателе «Трубадура», изумила бы его библиотека в Сант Агате.
Маэстро давно знал, что в жизни бывают мгновения, очень редкие, когда в нас работает некая воля, стоящая явно вне нашего «я», – потому что, преступив пределы ограниченного, чувственного восприятия, она помимо нас уже исследовала ясновидчески время и пространство, покуда мы еще с трудом карабкаемся по утлым ступенькам умозаключений. Если он и не давал себе в этих вещах ясного отчета, они, подобно религии, владели его чувством. Сходные признания делал ему Манцони, чьи разговоры о католичестве, вечное поминание «небесной благодати» так часто его раздражали, когда он, Верди, человек революции, еще смешивал понятия «религия» и «поповство». Он глубоко ненавидел священников, хотя в глубине сердца любил церковь: ведь она была единственною красотой, какую знало его нищее детство, милою родиной музыки.
Итак, Верди приехал в Венецию с тайной надеждой, что не сам он покорился смутному влечению, но что в этом влечении громко звучал голос судьбы. Но, разумеется, он никогда открыто не признался бы себе в этой надежде, так как всегда любил утверждать, отвергая все сверхъестественное; «Мы скептики! Строгие скептики!»
Однако он невольно цеплялся за каждую надежду, тайную или явную. Потому что его состояние – на этот счет он больше не обольщался – было ужасно, было нестерпимо!
Маска зажиточного крестьянина, хозяйственного помещика ему не к лицу. Да! Он любит свои поля, любит свой конный завод, своих коров; любит свои дороги, свой водопровод, все те нововведения, которыми нарушил он покой бесхитростной старозаветной жизни. Но маска остается маской. Он не крестьянин. Пусть изолгавшиеся романтики-горожане умиляются сенсационным парадоксам, выдуманным журналистами, будто всемирно знаменитого композитора можно застать за плугом, – но старые косолапые мужички в его округе судят лучше: он не крестьянин, даже не настоящий помещик, потому что, несмотря на добросовестное, чуждое дилетантизму отношение к хозяйству, он не живет на доходы с земли.
Единственной и нерушимой правдой было: за десять лет он даже в мелких вещах не дал ни одной настоящей, ни одной полноценной ноты. Реквием, его последнее произведение, стал отходной по нему самому.
«За десять лет ничего!»
Снова и снова, вот уже много месяцев, он как одержимый твердит про себя эти слова. В них ад для человека творчества, который чувствует, как пролетает день за днем, унося драгоценный дар.
Работать! Это значит: ты чувствуешь странный жар и жаждешь поскорей от него избавиться! Работать! Это значит: ты чувствуешь рост и счастлив до безумия. Но если подумать хорошенько – терзания воли превосходят радость…
И все-таки! Каким паразитом становится человек, тунеядцем с нечистой совестью, когда он не может больше работать! Тысяча разбегов – а прыжка нет! Тысяча атак – и все отбиты! Что это? Ложное ощущение старости, которое растекается по телу мягкостью и слабостью после чрезмерного напряжения? Сознание своего бессилия? Или поражения? А достигнутое раньше? Слава стольких дел? Их совершил другой, совсем другой, который за это почти ненавистен.
Десять лет! Десять лет!
Маэстро вышел на балкон. Уже опустились январские ранние сумерки. Внизу на Рива дельи Скьявони по двум мостам катилась праздная вечерняя толпа. Плотный, вибрирующий гул – канат, сплетенный из многих тысяч голосов, – стоял над городом. У пристани Сан Заккариа стояли на причале пароходы, обеспечивающие связь с островами. На юте кораблей и на пристани уже замерцали первые фонари. Торопливо перемалывали колесами воду два-три старомодных пароходика, качающиеся, точно маятник, между двумя устьями большого канала.
Первый месяц 1883 года, хоть и необычно теплый, был все же бесцветно уныл. Облаком летней дорожной пыли повис туман над лагуной. Цвет этого тумана, не похожего на испарения, был вял – вял, как цвет самой лагуны, которая, казалось, вела свой род не от Адриатики, не от пурпурно-лазоревой матери песен, а от голландского Зюдерзее или глади Финского залива.
Сан Джорджо давно исчез в дыму, Догана и Мария делла Салюте плыли, точно угрюмые северные дюны, по темной поверхности. В быстром скользящем полете спускалась Бора. Тысячи маленьких остроголовых волн похотливо прядали на древней слепой воде – расплясавшаяся разнузданность. И все причальные мостики, все запотевшие гондолы на Пьяцетте, и гондолы там дальше на каналах, даже тяжелые баржи на Кьодже захватила пляска, тот баюкающий танец воды, который издревле сделал Венецию городом любви. Но унынию уделена была лишь одна минута. Ночь положила ему конец. Однако в то мгновение, когда тоска уже совсем было улеглась, тяжелый морской пароход прорезал тучу мрака, тумана, вихря и движения и медленно удалился со своим мертвым чревом и еле живыми огнями. Протяжно и страшно завыла в тумане предсмертная жалоба сирены.
Маэстро запер дверь балкона и зажег столько света, сколько было можно. Потом по давнишней привычке сто раз измерил ровным шагом большую комнату, в сотый раз обошел круглый стол посередине, наконец подошел к роялю и правой рукой быстро пробежал по клавишам. Нехотя прорвались первые два такта квартета из «Риголетто». Как будто коснувшись чего-то мерзкого, Верди захлопнул крышку.
«Вот я приехал сюда. Зачем? Ради чего? Но здесь это мне непременно удастся. Только здесь.
Кто же всему виной, как не он? Не будь его, я мог бы работать… Какое-то наваждение!
До сих пор я трусил!.. Да, черт возьми, трусил! Но теперь я снова я. Теперь я выхожу на борьбу. Сумасбродство! Но нет, я отчетливо чувствую, что будет борьба… Почему? Ах! Он меня не знает! Возможно, мы могли бы стать друзьями! Я мог бы говорить с ним с глазу на глаз! Что за ребяческие чувства!.. Я приметил каждую черту его лица! Меня почти влечет к этому человеку… Бороться! Да, бороться!»
Маэстро, однако, не отдавал себе сколько-нибудь ясного отчета в значении слова «бороться», к которому снова и снова возвращалась его мысль. Вдруг он остановился, стиснул зубы, что-то дикое и злое проступило в его лице. Каждый, кто увидел бы его сейчас, содрогнулся бы, почувствовав опасность. Резким рывком он вскинул на стол ручной чемодан. Затем повернул ключик в замке и вынул из чемодана увесистую папку с исписанными нотными листами. На заглавном листе крупными буквами была выведена надпись: «Il re Lear, opera di G. Verdi».[28]
IV
В тот самый час, когда маэстро мерил шагами свою комнату в гостинице, Итало в сотый раз быстро, почти бегом, то вдоль, то поперек пересекал Пьяццу. То перед Прокурациями, то перед Библиотекой, то наверху у Дворца Дожей, то внизу у собора, то покидая пост, то вновь на него возвращаясь, караулил он, когда же появится его кумир. Наконец он увидал приближавшуюся со стороны Ашенсионе изящную, маленькую фигуру композитора.
Вагнер шел с каким-то господином, который ростом был не выше его самого. Незнакомец – худощавый, с черной бородой, впалыми щеками, слишком тонким заостренным носом – производил впечатление ученого еврея-кабалиста. Но и в нем, казалось, погасло все индивидуальное, как это заметно бывало на всех людях в общении с Вагнером.
Великий человек говорил беспрерывно, со свойственной ему сильной жестикуляцией. Собеседник наклонял к нему ухо и с восторженной улыбкой глядел под ноги, как будто там на дороге раскрывалась чудесная сказка. Когда в речи наступала короткая пауза и Вагнер чисто риторически допускал ответ, на губах незнакомца играло немое дыхание слова, которому благоговение запрещало воплотиться в звуки. К чему говорить, когда все исчерпано до дна?
Два раза господин, – может быть, лишь для того чтобы установить хотя бы видимость равноправия, – попробовал что-то возразить. Но голос его обрывался на полуфразе, потому что Вагнер снова заводил речь. Он говорил взволнованно, проникновенно, торопливо, как человек, которому нужно провести затяжной разговор, а времени мало. Предмет разговора был, видимо, очень близок композитору, так как выражение его лица становилось все более нетерпеливым, даже страдальческим. Незнакомец же – не потому, что его осыпали упреками, а потому, что сам изведал в жизни великую горечь гонений, – весь как-то съежился, стал совсем прозрачным. Слишком тяжела была ноша для хрупких плеч.
Рихард Вагнер говорил все громче. Он досадливо тряс головой, словно отгонял осу, он топал ногой, хотя бородатый не только не возражал ни слова, но даже закрыл сейчас глаза. Впрочем, композитора, может быть, раздражала именно эта слабость, эта робкая, безликая мягкость; потому что теперь он занес кулак над совсем онемевшим человеком. Но вдруг он откинул голову назад, точно олень, почуявший охотника, глаза его расширились, как будто заслышал он вдали призыв, и, не глядя на спутника, он бессильно кивнул ему, делая знак, чтобы тот шел дальше и оставил его одного. Чернобородый послушался и в благоговейном страхе тотчас, пошатываясь, пошел вперед и ни разу не оглянулся.
А у Вагнера резко осунулось лицо, он мертвенно побледнел, губы ловили воздух, левая рука легла на грудь и скрючилась, словно сжимая сердце. Итало увидел, как это обращенное к небу лицо, дышавшее прекрасной, неувядаемой юностью, вдруг сделалось старчески жалким и по-человечески несчастным. Слишком тяжелая голова с развевающимися шелковистыми волосиками закачалась под напором серых сумерек и ветра.
Этот сердечный спазм, один из тех безобидных и легких приступов, какие Вагнер быстро преодолевал, не продлился и пятидесяти секунд. Композитор сделал сильный выдох, выпрямился и окликнул спутника, не успевшего далеко отойти.
Опять завязался разговор, но теперь уже свободный и веселый, часто прерываемый смехом. Незнакомец весь преобразился. Он, по-видимому, остроумно и без прежнего благоговения, неприятно каркая, ввертывал короткие слова. Так они вступили вдвоем под колоннаду Прокураций.
Итало был не в силах последовать за ними. Внезапная слабость, пугающее страдание, земная нищета этого человека, который был для него божеством, потрясли его до глубины души. Чувство, чуждое до той поры тщеславному, избалованному юноше, хлестнуло по каждому нерву: жалость к обреченным на смерть созданиям, к Вагнеру, к Бьянке.
Не владея собой, он помчался к ней. По дороге он плакал, кричал, молился, давал обеты и клятвы.
Она сидела за маленьким столиком. Ему показалось, что она как будто отложила в сторону шитье. На ней было очень темное платье, и волосы ее почти сливались с темнотою комнаты, так что выделялось только бледное лицо, запечатленное римской тяжелой печалью. Совсем новая, глубокая серьезность облекала ее; и хотя она всегда ждала его, готовя тысячу упреков, надеясь, ненавидя, впадая в отчаяние, помышляя об убийстве, прощая и всегда страдая, – теперь, когда он неожиданно пришел, она едва улыбнулась.
Он как подстреленный упал перед ней. И, не касаясь ее, Итало плакал впервые в жизни не только о себе.
Она не шевельнулась, она не схватила его за руки, не стала перебирать его волосы. С тихим величием беременной, зримым лишь человеку зрелой души, она сидела и спокойно наблюдала за плачущим. Потом, понимая и не понимая его слезы, она сказала только:
– Теперь ты чувствуешь?
Через несколько минут в комнату вошел Карваньо. Любовники едва успели овладеть собой. И снова врач не сумел разобраться в каком-то смутном, тревожном чувстве. Он внимательно поглядел на Итало. Самодовольные лица всегда действовали ему на нервы. Все же он был благодарен этому фату (каковым он считал его) за то, что он развлекает скучающую в одиночестве Бьянку. Промелькнувшее подозрение он тотчас, в порыве сложного эгоизма, изгнал из своего сознания.
Итало, совсем разбитый, был молчалив и вскоре ушел, отклонив приглашение поужинать.
Можно подумать, что бог, пока мы ветрено идем навстречу жизни, сам так же ветрено щадит нас, – но едва охватит человека первое тягостное предчувствие, без всякого снисхождения дает восторжествовать своему жестокому порядку.
V
В сущности, я не люблю никакого напряжения, а между тем теперь я бешено работаю. Одиночество и работа – вот моя жизнь.
Из письма Верди скульптору Луккарди. 1850 год.Лет тридцать тому назад Джузеппе Верди заказал венецианскому литератору Сомме либретто «Короля Лира».
Сомма, верный формам итальянской мелодрамы, какими они сохранились в ее развитии от Метастазио до Феличе Романи, втиснул шекспировскую трагедию в три акта, то есть в три большие сцены нарастающего напряжения, связанные между собою той беглой, небрежно построенной мотивировкой, которая даже такому тексту придает оперный характер. Вольно обращаясь с шекспировской трагедией, либреттист был не так уж неумен, как хотят нас уверить эстетствующие педанты: драма музыки развертывается в иной плоскости пепсели драмы изображаемых на сцене страстей, и две эти сферы никогда не соприкасаются.
Так называемая музыкальная драма есть рационализация иррациональной формы, тотчас теряющей всю свою прелесть, как только мы начинаем, оспаривать примат музыки и выдвигать на первый план психологический смысл вещи.
Истинное дитя девятнадцатого века, музыкальная драма явилась плодом его биологических, его материалистических тенденций, его стремления во всем устанавливать причинную связь.
На Верди легла миссия спасти традиционную оперу, оперу как таковую, и обеспечить ей развитие в будущем. Его гению история доверила трудную двойную задачу – сохранить старую опустошенную форму и примирить ее с человеческой правдой, но при этом не предавать ее музыкальной драме Севера. Конечно, эта задача не являлась для него программой, но она наполнила его, как жизнь, до кончика каждого нерва.
Вся музыкальная критика Европы взяла в привычку мерить творчество Верди по творчеству Вагнера. Но даже злейшие враги Вагнера смотрели на итальянца свысока, как на художника, чьи стремления, чьи цели несопоставимы со стремлениями и целями Вагнера, как бы ни был им тот ненавистен. Журналистика, которая, несмотря на все патетические заклинания, представляет собою не что иное, как всеобщую людскую привычку к шаблону, не сумела и в этом случае заглянуть глубже поверхности.
Бесспорно, произведения Вагнера – это многогранный поэтико-музыкально-философский сплав. Но их автор заранее отвергает какие бы то ни было границы, в развитии своих дарований он готов оторваться от мира. Витающее в межпланетных пространствах, свободное от всех ограничений, от принижающих тенденций практического мышления, подчиненное только законам собственного «я», это творчество вылилось в образы безмерные.
В сущности, Вагнер никогда не пытался бороться за мир человеческий, хоть он и домогался признания своих вещей. Ведь он, пока писал, нисколько не старался писать для какого-то реального народа. Он был немцем. А быть немцем – это значит: «Тебе все дозволено, потому что тебя ничто не связывает – никакие соотношения, никакая форма». Правда, Вагнер собрал громадную армию приверженцев. Но армию эту составляли не его соотечественники, как он желал и надеялся, а духовные отщепенцы всех национальностей, пресыщенные интеллигенты и романтики, отовсюду потянувшиеся в Байрейт.
Впрочем, если бы Вагнер не объединил эти элементы, может быть, сегодня не существовало бы вовсе никакого искусства. Едва не заглушив побеги, новый почвенный слой все-таки дал возможность их дальнейшему произрастанию.
Для молодого Верди, скромного композитора, писавшего оперы по заказу, к сезону, для той или иной труппы, слово «искусство» (он до конца своей жизни ненавидел, когда его произносили выспренним тоном) не было связано с романтическим понятием об избранничестве, о мансардном идеализме, о сверхчеловеке, – словом, со всей чернильной премудростью, которая, к сожалению, и по сей день не сдана в архив.
Удовлетворяя потребности в наслаждении высшего порядка, искусство занимало свое место в жизненном здании человечества. И сам он был тоже частью этого здания, должен был ему служить точно так же, как служили ему художники во все эпохи расцвета живописи, – они ведь тоже писали картины не ради того, чтобы разрешать проблемы света или формы, а потому, что для глаза и сердца были нужны благочестивые картины. Верди писал для людей, а не для утонченных умов, – для совершенно определенных людей: для тех, что переполняют театральные залы Италии.
Но и его бросили в мельницу века, которая так перемалывала все расы и сословия, что всякое связанное с народом искусство погибало.
Сперва он искал спасения в революционном подъеме Молодой Италии. Вскоре миновало и это, и он остался одинок. Но всегда и неизменно говорил через него народ – через него сильнее, чем через кого-либо из современников. И он пошел на подвиг. Не отбрасывая старого, старых, освященных традицией уз, не делая уступок высокоорганизованному новому искусству, создавал он в наивно-восторженных формах, предаваемых осмеянию, подлинно человеческий мир. Вагнер, лишенный корней, мог парить в свободном полете. Верди, узник с ядром у ноги, маленьким напильником подтачивал решетку своей тюрьмы.
Одолев эти длинные рассуждения, читатель, может быть, в недоумении спросит, на что же в произведениях Джузеппе Верди требовалось столько силы? Но если б он мог в тот январский вечер проследить за работой маэстро над рукописью, многое стало бы ему яснее.
Верди сидел за большим столом, на котором стояла красивая рабочая лампа, вытребованная сенатором у хозяина гостиницы. Зажав седую голову в маленьких, но широких ладонях, маэстро неотрывно смотрел на бумагу. С его лица не сошло еще выражение злобной решимости, воинственное выражение, знакомое только очень немногим его друзьям. Перед ним лежало либретто «Лира».
Мучительна была история этой тетради. Сомме пришлось семь раз наново все переделывать; каждый стих, каждый слог, прежде чем попасть на страницу, обсуждался в бесконечной переписке, отвергался, перестраивался, снова отвергался. И когда в седьмой раз поэт, до полусмерти замученный, закончил либретто, Верди все еще не был удовлетворен, самостоятельно и независимо взялся за переработку трагедии, вводил исключенные персонажи, придавая им новый образ, вычеркивал старые стихи, вписывал новые и не успокоился до тех пор, пока не перепахал каждую сцену и стихотворный текст, в тридцатый раз перебеленный его корявым почерком, не лег перед ним, готовый для переложения на музыку. От природы крайне скупой на слова, Верди не знал большей трудности, чем слагать стихи. Но со всею свойственной ему жестокостью к самому себе он заставлял себя работать над стихами до изнеможения. Ах, его так влекло к краткости – к возгласу, к выкрику, к междометию! Когда б это было можно, он сочинял бы оперы, где текст составляли бы одни только возгласы ликования, крики радости, вздохи, вопли боли и мести. К чему многословные фразы, если в волнах музыки их все равно никто не разберет. Музыкальная речь подчинена совсем иной логике, чем словесная. К чему же эти длинные – на много страниц – пререкания мифологических богов, ведущих между собой отвлеченные споры ради одной лишь цели: чтоб раздраженный оркестр всемерно старался затопить эту скуку! Нет! Это идет наперекор внутренней правде. Душевные потрясения, поступки человека, характер, конфликт могут претвориться в музыку, но абстрактное, созерцательное слово – никогда.
И все же ему не оставалось ничего другого, как самому сочинить множество стихов для своего «Лира». Но у этих стихов была лишь одна задача: связывая избранные места оригинала, модно продвигать действие или доставлять словесный материал мгновениям затишья в музыкальной композиции. Они не притязали на значительность. Зато размеры для них были подобраны очень обдуманно. Здесь не господствовали правильные семи-, восьми-, девяти– и одиннадцатисложные стихи, как в текстах Солеры, Каммарано или Пьяве.[29] Все разнообразие метрики – длинные строки и короткие, неправильные формы и строго выдержанные строфы – полностью покорялось ритмической необходимости мгновения.
Десятилетия усилий, опытов, разочарований были вложены в эту работу, про которую, если будет она когда-нибудь закончена, мир снова станет утверждать, что это жалкая смесь старого верхоглядства, нового тщеславия и беспомощного подражания.
Маэстро раскрыл тетрадь на одной из сцен в середине. Затем отобрал из папки соответственную часть партитуры – кипу исчерканных листов нотной бумаги – и поставил на стол метроном. Прямой нужды в метрономе не было. Маэстро мог свободно вести и без него какой угодно счет. Но этот инструмент служил для него возбуждающим средством, как для иного художника вино, коньяк, черный кофе или запретные наркотики. Когда быстрые удары в престо придавали ночи свой частый пульс, маэстро чувствовал, что у него как будто вырастают крылья, что его увлекает, как в атаку, боевой марш. Он знал по опыту: громкое отсчитывание долей такта подгоняет работу, заставляет шагать быстрей, и самые сцены в силу того, что они уже не всецело в его власти, выигрывают в логичности развития.
Листы разобраны и разложены. Это кульминационный момент трагедии: смертельно оскорбленный Лир застигнут бурей! Три картины оригинала: «Степь», «Другое место в степи – перед хижиной», «Комната на ферме» – сведены в одну: «Разрушенная хижина»! Стена заднего плана наполовину обвалилась. Справа – нары. Бушует непогода.
Действующие лица сцены – Лир, шут, Кент и еще один персонаж, придуманный самим композитором: безумный паломник, вообразивший, что в него вселился бес. Этот несчастный, конечно, не кто иной, как Эдгар Глостер, который у Шекспира, спасаясь от козней своего коварного брата Эдмунда, прикидывается сумасшедшим. Но маэстро не хотел перегружать оперу параллельной интригой – излюбленный у Шекспира прием; а потому он исключил трагедию Глостера и ввел фигуру бесноватого, необходимую, казалось ему, для сцены суда.
Ход действия таков: выход Лира и шута. Лир призывает богов и природу отомстить его подлым дочерям. Входит верный Кент, узнает своего господина (который, когда был королем, подверг его несправедливой опале) и уговаривает его поискать более надежный кров в эту страшную ночь. Шут изрекает свои горькие шутки и сентенции. Лир неистовствует. Вдруг из темноты доносится голос – это одержимый паломник бубнит свои молитвы и заклятия. Лир, уже совсем в бреду, требует суда над дочерьми, объявляет сумасшедшего судьей, а шута и переодетого Кента – членами суда. Мрачное безумие в хижине и буря в степи достигают кульминации. Лир, обессилев, падает и с невнятным бормотанием засыпает. Трое остальных кладут его на нары и безмолвно накрывают плащом. Занавес.
Введение такого акта в оперу было по тем временам большою смелостью. Три четверти часа подряд на сцене только четверо мужчин, и все четверо – безмерно несчастны. Главный герой – предательски отвергнутый отец, обезумевший от ярости и горя. Второй, доподлинный безумец, испускает сдавленные стоны и произносит страшные молитвы. Третий должен разыгрывать шута, потому что нужда и слишком чуткое сердце не дали ему другого исхода. Четвертый – благородный рыцарь, который за горькую обиду мстит, как херувим, великодушием.
Говоря практически: три баса (Лир, Кент, шут) и один тенор (паломник); последний, однако, лишен возможности использовать счастливые преимущества своего голоса. Далее: акт нигде не представляет случая для настоящего лирического кантабиле, для яркого выступления хора, для эффектных стретт.
В отличие от других мастеров, идущих от школьного образования и литературы, Верди отметал всякую оригинальность – не потому, что ему недоставало выдумки, а потому, что он, ясно видя существо своей задачи, попросту запрещал себе эту оригинальность. Да и что такое оригинальность? Чаще всего – отчаяние потерявших почву под ногами. Чем беспочвенней искусство, тем отчаянней оно бросается в область неизведанного. Верди не знал такого отчаяния. Со своим античным чувством справедливости, не склонный преувеличивать значение своего «я», он признавал внутреннюю правду условности, ее благородную ценность. Не мог он ущемлять ее только из злобы парии ко всему господствующему. Прежде чем на это решиться, он тщательно взвешивал: можно ли и нужно ли. Так, по крайней мере, он поступал до сих пор.
Музыкальное движение акта шло по следующему плану:
I. Речитативный монолог Лира, похожий на знаменитый монолог Риголетто во втором акте.
II. Дуэттино: Лир и шут; причем шут поет маленькую ироническую песенку.
III. Появление Кента – короткий, стремительный терцет: Лира убеждают укрыться в более надежном убежище. Он отказывается.
IV. Исступление и молитва бесноватого. Новый порыв бури в оркестре, женский хор без слов в верхнем регистре. Маленький, быстро обрывающийся квартет a cappella,[30] образуемый молитвой паломника с вмешательством трех остальных.
V. Нарастание бури. Лиром овладевает безумие – короткие, сбивчивые обрывки мелодий. Из отдельных моментов суда – от первого анданте грандиозо, жуткого по самой ситуации хорала, до последнего велочиссимо,[31] в котором главную партию ведет неистовствующий король, – рождается большой заключительный квартет. Номер непривычно обрывается сам собой на середине. Шут опускается на колени перед поникшим, лепечущим Лиром. Повторное соло английского рожка дает реминисценцию двух первых тактов его песенки. Короля кладут на нары, и сцена тихо погружается во мрак под широкие мелодические голоса духовых басов в оркестре.
Таков был план в целом. К этому имелось множество уже положенных на ноты музыкальных мыслей. Контрабасы должны были не только от паузы до паузы подвывать басам, но получали свои соло, взволнованно вступали в права. Когда пел шут, в партии аккомпанирующего инструмента возникали форшлаги – нередко в двенадцать нот. В одном месте на проклятия Лира весь оркестр отвечал в унисон мощной трелью. Маэстро не побоялся здесь ни частой, всегда неожиданной смены счета, ни судорожных ритмов.
Но прежде всего композитору здесь дорог был один принцип, которому он бессознательно следовал еще в квартете «Риголетто». Однажды в разговоре с Бойто он нашел для этой своей идеи такие слова:
«Дело не в полифонии, а в „поливокальности“. Каждый голос должен рождаться из пения и, следовательно, быть в смысле пения доподлинно голосом».
В другой раз он сказал:
«Чудо музыки в том, что она может говорить о многом сразу. Но главная цель все та же: чтобы из одновременного звучания многих голосов рождался единый новый голос, из разнородности – высшая гомофония, то есть мелодия. Не так ли полифония семи цветов дает гомофонию единого света?
В этом Палестрина, Лука Маренцо и композиторы, разрабатывающие стиль a cappella, стоят много выше Баха, который в какой-то интеллектуальной злобе пренебрегает сладостным слиянием многоголосия в высшую гомофонию. Полифония может быть хороша, но она должна оставаться неосознанной».
План был готов, мысли выверены, наброски лежали перед маэстро. Но когда он глядел на это месиво нотных знаков, на все эти полуфразы, темы, речитативы, разные формы аккомпанемента, его охватывало снова какое-то отвращение, оцепенение, которое вот уже десять лет отравляло ему жизнь. Так это и есть материал, и его должно хватить на создание нового произведения? Но все это уже сотни раз звучало – и у него самого, и у других!
Неужели он больше ничего не придумал, кроме топота аккордов, обозначающего ужас, напыщенных звуковых рядов, двадцать раз уже примененных им раньше, в разработке роли отцов, этих болтливых sostenuto religioso,[32] к которым охотно прибегали еще Доницетти и Россини, когда в своих шаловливых пьесах выволакивали на сцену бога? Разве все это не затаскано до бесстыдства? Не заслуживает ли он уже давно второстепенного места в затхлой коллекции маркиза Гритти? Достоин ли он называться хотя бы эпигоном Рихарда Вагнера? Ведь он никогда не создавал ничего нового и, очевидно, не по праву возвысился над Меркаданте, Пачини, Риччи, Петреллой, Мабеллини, – им просто меньше посчастливилось, чем ему. Он однажды дерзнул заявить: «Успех – это вовсе не удача, это таинственная сила удачника». Глупое, заносчивое хвастовство! В этой области царят, конечно, бессмыслица и слепая случайность!
Как он смеет равняться с Вагнером, который первой же своею нотой сделал то, чего он, Верди, до сих пор не может достичь! В добрые, упоительные минуты, когда он, прохаживаясь в одиночестве по аллеям парка в Сант Агате, обдумывал какую-нибудь мелодию и напевал ее про себя, как часто она ему казалась прекрасной и полной блаженства! А сейчас, когда эти ноты лежат перед ним – без звука, в своем обнаженном значении, – они похожи на противных раздавленных насекомых.
Что же, подняться и уехать? Чего он ищет в этом городе? Такое беспокойство, авантюра – разве это достойно старика? Как, неужели он стар? Но он чувствует себя не хуже, чем сорок лет назад. И все-таки старик! Без малого семьдесят! Может быть, в этом же году ему суждено умереть. И никто не удивился бы. Еще два года тому назад его «Бокканегра» был назван старческим завершением многославного пути. А теперь этот проклятый «Лир»! Прекрасный материал – неужели так и лежать ему зря?… Нет, нет! Он покажет, всем покажет, на что он способен. Ах, жалкое тщеславие! Не он ли так часто говорил друзьям, что если и напишет что-нибудь еще, то только для себя! А теперь он опять думает о том, чтобы блистать перед публикой, хочет творить ради миража славы! Неужели нельзя задушить этого дьявола? Этого беса тщеславия, который портит все, убивает каждое тихое наслаждение, который глупым гиканьем подгоняет секунды дня, не давая им опомниться? Сколько еще секунд осталось бесноваться сатане?… Все птицы, бедные перепела (с охотой под Буссето тоже покончено!) лежат подстреленные на поле, только парочка кружит еще в сумерках над головой… А для кого это все? Будь у него дети! Но детей у него нет! Только изредка, в глубоком сне всплывает личико умирающего Ичилио. Нет, он никогда не обнимет своего ребенка!
От старости, что ли, мысли, у него постоянно скачут и он не может сосредоточиться? Раньше, бывало, в шуме ли улиц, в сумасшедшей ли сутолоке Парижа – всюду оно рвалось из него, это буйство, эта радость радостей, эта сладкая судорога в горле, это счастье в каждом мускуле – мелодия! А теперь?… Когда она готова приблизиться, все другое оказывается сильней: рассудочность, сомнение, осуждение!
Нет, нет! Он не хочет сдаваться. Нужно попробовать еще раз – теперь и здесь.
Снова уставился маэстро на наброски партитуры, снова перечитал созданное, снова все в нем сжалось от острого недовольства.
Нет, невозможно! Это не было так скверно в его воспоминаниях. Тут какая-то ошибка. Глаз судит неправильно.
Верди встал. В неожиданно наступившем спокойствии он спросил у себя самого: «Как случилось, что я не могу больше верить в свою работу? Кто сделал это со мной?»
Был только один ответ, безрассудный и уже напрашивавшийся тысячу раз: «Вагнер!»
Чуть не плача, совсем по-детски, стойкий и пламенный человек запричитал:
– И зачем только он появился на свет? Все было так хорошо. А теперь он мучает меня. Я ему не делал зла. Он же только о том и помышляет, как бы меня уничтожить. В своем чудовищном высокомерии он притворяется, точно совсем не знает меня, ни одной моей ноты (о, надеюсь, что не знает!); и все-таки, что бы он ни делал, он это делает назло мне!
Верди вдруг сразу пришел в себя и сам удивился, до какой лихорадочной дичи довела его мука долгого бесплодия.
Чего он хочет от Вагнера? Неужели это зависть? Немец, блистательный, всеми признанный, всегда, в любую свою минуту полный творческой силы, идет, окруженный молодежью, по ярко освещенному пути.
Маэстро вдруг густо покраснел. Решение было твердо, как скала:
– Я сделаю «Лира»!
Он начал работать и в самом деле написал несколько новых тактов. Но потом стали напрашиваться всевозможные отговорки, лукавые враги художника: «Уже поздно… Я не в настроении… Утром пойдет лучше».
Медленно сложил он по порядку листы и снова принялся упорно кружить по комнате. Потом задержался у этажерки.
Какой пересмешник, точно в издевку, подсунул ему под нос полное собрание его сочинений? Кто же, если не сенатор! Как, однако, мучают нас друзья этим «вчера», вечным дурацким «вчера»!
Вдруг маэстро заметил большую тетрадь в красном переплете. Он схватил ее и прочитал: «Рихард Вагнер. „Тристан и Изольда“. В трех действиях».
Беспомощно держал он в руках клавираусцуг. А это кто сделал? Тоже сенатор?… Нет!.. Какой-нибудь враг?… Кто-то, значит, узнал о его приезде в Венецию?
Долго, точно оглушенный, маэстро не двигался с места. И вдруг его охватило страшное желание сделать то, чего он до сих пор остерегался: прочесть, сыграть эту музыку! Уже его пальцы впились в холодные листы, но в последнее мгновение он заставил себя оторваться, распахнул со всей силой дверь на балкон, вышел в ночь и стал прикидывать, как ему освободиться от страшного подарка. Вода тут же рядом, в нескольких метрах. Впрочем, ночью все кажется более близким. Размахнуться посильней, и «Тристан» будет утоплен… Но очень скоро, с тем чувством подавленности, какое бывает у порядочного человека, когда он задумал постыдное, Верди возвратился в комнату. «Над каждым, как видно, занесен бич судьбы», – подумал он. И затем: «Вагнер?»
Он осторожно запер ноты в ящик и припрятал ключ.
VI
Нет ничего удивительного, что Итало подсунул в комнату маэстро злополучный клавираусцуг.
После долгой борьбы с самим собой переполненное сердце сенатора не выдержало. Он посвятил Итало в тайну, пригрозив ему своим отцовским проклятием, в случае если тайна будет нарушена, а вдобавок еще возложил на сына задачу, чтобы тот со своим прославленным вкусом придал комнате высокого друга последние черты красоты и уюта.
При этом молодой вагнерианец в рвении прозелита и любопытства ради не преминул рядом с сочинениями Верди положить и вагнеровского «Тристана».
Глава четвертая Песня калеки
I
Маркиз Андреа Джеминиано Гритти имел обыкновение ровно в восемь часов пробуждаться от того состояния полной безжизненности, которое ему заменяло сон. Франсуа всегда ожидал той секунды, когда дыхание его господина участится, а полуоткрытые глаза, утратив сходство со стеклянными протезами, снова начнут кружить в своей кольцевой оправе, как у испуганной птицы.
Тогда камердинер сейчас же протягивал столетнему стакан хитроумного питья, живительную смесь белого вермута, кофе и лимонного сока. Полчаса спустя Гритти выпивал два стакана молока, для него брали от кормилицы.
Ровно в девять приходил доктор Карваньо. Отношение врача к пациенту было столь же своеобразно, как и отношение пациента к самому себе. Оба, и Гритти и Карваньо, были исполнены самого холодного, самого желчного, самого конкретного честолюбия: довести столетнее тело, обладателем коего был Гритти, через все указанные природой границы до небывалого возраста.
Даровитого терапевта это интересовало как высокая научная проблема, как опыт первостепенной важности. Венецианского аристократа тоже отнюдь не увлекало желание жить ради жизни: им руководила свойственная его сословию тяга к азартным играм и пари, поглотившая все его жизненные стремления.
Доктор Карваньо был человек решительный и резкий. Престарелый формалист часто бывал вынужден в интересах своего дела обуздывать бешенство, вызываемое в нем грубой прямотой врача, которую тот позволял себе по отношению к нему, эччеленца, послу его святейшества папы.
Внешностью доктор был типичный широкоплечий, приземистый галл – небольшие глаза под тяжелыми веками, резкие скулы, говорящие о скрытой силе чувств и опасной вспыльчивости. Сегодня, то есть на следующий день по приезде маэстро в Венецию, Карваньо был, по-видимому, особенно неприступен и раздражителен. Он без церемоний поздоровался с маркизом и тотчас же испытующе холодным взглядом посмотрел на красные веки старика.
– Вы благополучно миновали стопятилетнюю годовщину вашего рождения, маркиз!
– Ах, молчите, молчите!.. – вскричал Гритти, ибо в этом отношении он держался некоторых суеверий.
Врач приступил к опросу. Поскольку маркиз вел точную запись обо всем, осмотр пациента являлся излишним.
– Пульс?
– Пятьдесят два!
– Повысим его на десять ударов. Сердце нас не подведет. Ваше сердце – истинное чудо. Температура?
– Тридцать шесть!
– Чувство озноба?
– Все еще держится. Надо устранить!
– Что ж, прибегнем к займу! Я вам назначаю несколько повышенную дозу мясной пищи, а сверх того кое-что пропишу.
Карваньо впрыснул маркизу кроветворный препарат, им же самим изобретенный. Наконец, чтоб оживить кровообращение, он слегка растер тонким мохнатым полотенчиком это лишенное жира и мускулов тело; кожа, точно коричневая замша, висела на костях. Когда врач стоял уже на пороге, звонкий голос Гритти спросил:
– Сколько вы гарантируете?
– Полгода, если ничего не стрясется.
– Полгода? Это не дело! Больше, больше!
Карваньо не дал себя умилостивить и быстро ушел.
После беседы с врачом, требовавшей некоторой затраты сил, старик – единственный раз в сутки – ложился в кровать. Но и теперь он не лежал, а сидел, подпертый множеством подушек. В десять начинался наконец туалет, занимавший около часа.
Если вечером Гритти отправлялся в театр в обыкновенном фраке, то днем его наряд отличался той подчеркнутой нарочитостью, которая должна была показывать людям, что он вовсе не старается быть их современником и только по особливому великодушию оказывает им снисхождение, меняя благородство блестящих дней минувшего на мещанскую действительность. Так знаменитый столичный актер с высокомерным презрением проходит по улицам жалкого провинциального города, куда он соизволил приехать на гастроли.
Впрочем, он решил протянуть свои милостивые гастроли на очень долгий срок и чваниться не будет: за «последним» выступлением выступлением снова и снова должно было следовать «самое последнее». Если все, что свойственно твари живой, давно в нем угасло, вся влага (символ жизни) давно усохла, то все же две навязчивые идеи, две мании еще властвуют над его «я», не подпуская к нему скуку, омерзение, Агасферову тоску по смерти: старость и опера. Громадное большинство людей вовсе не знает мании. Значит он, стопятилетний, на голову выше этого мира молодых, еще не иссохших, вкушающих радость супружества и обильной пищи. Пусть он больше не знает похоти, требующей удовлетворения, – единственного, что заполняет пошлую жизнь обыкновенных людей, без чего они обратились бы в ничто, – зато у него есть цель, грандиозная цель, и она перевешивает всякую похоть и всякое удовлетворение. Франсуа, дряхлая фольга своего господина, чрезвычайно бережно подает ему в настоящую минуту одежду, у которой такой вид, точно ее ни разу не надевали. Так скупо, с такой гениальной расчетливостью тратил Гритти свои жизненные силы, так был ничтожен их износ на случайное усилие, что это сказывалось на его платье, не тронутом ни единым прикосновением жизни.
Он надел стянутые шнуровкой панталоны в широкую клетку, в точности отвечавшие предмартовской моде, узорный жилет, темно-кофейный полуфрак. Он носил вырезной воротник, не стеснявший его кадыка, и пышный галстук пластроном. Франсуа подал ему лорнет, который, как и все в его наряде, вязался с его обликом и не производил, как у нынешних фатов, впечатления щегольства и кокетства.
Гритти медленно прошелся по своей галерее, задержался подольше в комнате певцов и певиц, внимательно рассматривая тот или иной портрет, и самолично проследил, чтобы всюду тщательно стерли пыль. В зале театральных плакатов он также сделал ряд распоряжений. Некоторым афишам пришлось, неизвестно для чего, поменяться местами.
Жизнь его прекрасна. Он не видит, чего ради он должен раньше времени с нею расстаться.
Настал час выхода на прогулку. Франсуа принес большой свободный плащ с широким воротником, придавший костюму еще более причудливый вид, и к нему эбеновую трость с набалдашником слоновой кости. В довершение маркиз водрузил на свой высокий гладкий череп огромный темно-серый цилиндр – «пест», как называют его австрийцы.
Внизу ждала гондола с двумя ливрейными гребцами. Старец на сей раз приказал удалить черную кабину. Затем он сошел в этот старозаветно-красивый, обитый металлом плавучий гроб – единственный, какой был ему по вкусу.
Боковых каналов гребцы избегали; гонимая сильными ударами весел, гондола резала темно-зеленую гладь Большого канала. Причалили у Пьяцетты. Жадные до подачек гондольеры; старые бездельники с абордажными крюками, горлопаны, народ – все наперебой подобострастными возгласами приветствовали маркиза, гордость их города. Немногочисленные чужеземцы, случившиеся тут в эту пору года, с любопытством пробирались поближе, торопясь прибавить новую достопримечательность к скудным дорожным впечатлениям, жадно нахватанным за несколько недель.
Сознавая, что сейчас он менее чем когда-либо вправе проявить слабость, столетний деревянным шагом вышел на берег и в сопровождении Франсуа, усердно семенившего позади нетвердой старческой поступью, пустился в свое ежедневное триумфальное шествие.
Пушка Сан Джорджо послала вслед заклубившимся облакам свой полуденный выстрел. Как всякий день, густою стаей взвились в смертельном испуге тысячи голубей; слишком короткая память не позволяла им привыкнуть к безопасности этого выстрела. Дико взметнувшись, шумела и билась голубиная завеса над прямоугольником площади – сегодня так же, как было вчера, как будет завтра. Не так ли война заносит свой бич над беспамятными народами, которые живут, успокоившись, от одного дня истории до другого?
Сегодня, как всегда, едва раздался выстрел, маркиз, пройдя между первым и вторым знаменем перед Базиликой, вступил на открытую площадь. Прежде чем голуби успели успокоиться, он повернул направо к Прокурациям.
Высший свет Венеции и его приспешники избрали этот час, чтоб наслаждаться солнцем на площади. Молодые люди и господа постарше сидели в четырех классических кофейнях на Пьяцце и попивали свой вермут или другие аперитивы. Дамы, которым обычай не позволял заглядывать в кофейни – мужские клубы тех времен, прогуливались по площади с прелестной небрежностью, какой венецианка умеет вскружить голову мужчине. Этот полуденный час служил также соревнованию в модах той милой женственности, которая, еще не испорченная англосаксонским идеалом, не помышляла объявлять признаком благородства кичливую элегантность, чуждую прелести.
Гритти приветствовали оживленно-радостным гомоном, так хорошо знакомым каждому чемпиону искусства или спорта, появляющемуся в обществе. С отвращением смотрел он на женский пол, давно потерявший для него очарование. Как не презирать их, эти существа, если знаешь, что они периодически теряют кровь! С невозмутимым лицом, как герой, неуклонно идущий к цели, гордый своим превосходством над этими жалкими телами, подчиненными воздействию месяца, похоти и разрушению, позволял он чествовать себя. Группа за группой почтительно домогались, чтоб он соизволил к ним приблизиться. Он едва говорил, вперял глаза в одну точку, ни разу не приподнял своего громадного цилиндра и, когда к нему подходили, стоял навытяжку, как монарх, принимающий доклад наместника. Франсуа, держась на приличном расстоянии, подражал деревянным жестам своего господина, но так, что сам производил (это было, очевидно, заранее разучено) до жалости немощное впечатление.
Однажды маркиз даже как будто проявил интерес к разговору, ибо он дольше обычного задержался у соответственной группы. Речь шла о карнавальном stagione в Ла Фениче, о второй оперной труппе невысокого пошиба, в которой, однако, подвизалась незаурядная молодая певица, Маргерита Децорци. Вдруг какой-то молоденький граф начал что-то рассказывать про Рихарда Вагнера. У Гритти спросили, какого он мнения о нем.
– Кто такой Вагнер?
– Но, дорогой маркиз!..
– Ах, знаю! Это тот чудак, который отказался сочинить для парижской императорской оперы балет во втором акте. Помню! Вышел большой скандал. Заупрямился, что балет будет у него в первом акте. Ну, в моей коллекции Вагнер не представлен.
На этом с новым явлением было покончено. Гритти пошел дальше.
Эксцентричное полуденное солнце пробилось сквозь зимний туман Адриатики и щедро лило свет на купол и всю пестрядь собора св. Марка, на этот русский ярмарочный балаган господа бога. Как будто не солнце сияло, а какой-то надземный рефлектор пробивал конусом света тусклую истому дня, и в огненных его лучах одиноко высился собор и распластался маленький круг перед ним. И как в пасмурный летний день мертвым лежит некошеный луг, но вдруг пробьется одинокий луч, и сразу смерть побеждена, потому что тысячи мух, комаров, ос и шмелей заведут свой органный хор славословия, кружась в живительном теле света, – так и теперь на залитой солнцем площадке, среди стаи голубей, резвились дети.
Дети были всякие, всех классов и возрастов. Дети чужестранцев, маленькие англичане и англичанки, держались чинно и неприступно. Они безмолвно брали у продавца кулек кукурузного зерна и медленно клали монетку на его раскрытую ладонь, стараясь ее не коснуться. Потом эти дети, скучая и лишь потому, что так было принято, скармливали зерно разжиревшей касте сытых птиц.
Совсем по-иному вели себя дети – мальчики и девочки – зажиточных венецианцев. Для них кормление голубей было подлинным искусством, имеющим свои особые правила, свои законы. Тяжелые голуби, хлопая крыльями, висли у них на руке, садились им на плечо и с доверчивостью земляков клевали зерна.
Поодаль от племени счастливцев жалась ватага детей бедноты. Они враждебным взглядом взрослых пролетариев, одни завистливо, другие оскорбленно, смотрели на племя хорошо одетых. У иного из этих мальчишек карманы были набиты хлебными крошками, но тысячелетний, в каждой капле крови зудящий запрет мешал отверженцу вступить в замкнутый круг избранных и зачумить его своим присутствием. Лишь много позже, когда гонг отеля или палаццо отзовет на завтрак всех этих чистеньких, вскормленных на молоке и сахаре счастливцев, дети улицы завладеют оставленной позицией и в свою очередь поспешат рассыпать перед равнодушно прожорливыми тварями свой черствый хлеб.
Гритти, едва он увидел толпу детей в половодье солнечного света, устремился к ней, отбивая частый такт странно ходульной, почти что похотливой поступью. Маркиз тянулся к солнцу.
О солнце, медиум божества, при посредстве которого свершается явление материализации!
Вот и столетнего оно материализировало вновь и вновь, – его, чья материальная субстанция стремилась распасться, возмущенная противоестественной длительностью своего существования во плоти. Гритти знал, что краткие минуты облучения солнечным светом успешней отгонят тенденцию к распаду, нежели доктор Карваньо.
Он чувствовал себя тогда, как голая меловая скала в полуденный зной, когда в ее давно иссохших бороздах и морщинах вдруг начнет пробиваться былинка, травка, репей. И потом еще – дети!
Если престарелого холостяка нельзя было назвать в полном смысле слова другом детей, то все же только дети еще будили в нем последние остатки эротического чувства.
Он вступал в круг резвого народца, который давно его знал и отлично умел использовать, раздавал детям ежедневную порцию сластей, который Франсуа всегда закупал накануне в захудалой кондитерской. После раздачи гостинцев маркиз брал за ручку какого-нибудь малютку, спрашивал, сколько ему лет, смеялся медленным смешком и с удовлетворенной гордостью произносил стереотипную фразу:
– Вот видишь, я ровно на сто лет старше тебя…
И тогда детские глазенки недоуменно расширялись. В скрюченной холодной и бурой руке маркиз держал слабенькую ручку ребенка. Это была единственная форма сладострастия, какую он еще мог ощущать.
Мальчика ли рука или девочки, было ему безразлично. Важно было, какое она вызывает ощущение. Впрочем, счастье давала любая. Была ли она мягкая и уже робко одухотворенная, или же хваткая и забавно крепенькая, теплая или холодная, сухая или влажная, – всегда из детской руки шел живительный ток.
Гритти вертел ее, тискал, поглаживал пальчики, – и при этом высокомерный победитель смерти мурлыкал, крякал от восторга, дыхание со свистом вырывалось из его огромного носа. То было бодрое, освежающее чувство, благотворно действовавшее на кровообращение, – необходимая доза радости, в которой нуждается каждое живое существо.
Сегодня в некотором отдалении от бросающих корм богатых детей и от маленьких плебеев с улицы стоял мальчик такой поразительной красоты, что, казалось, она замыкала его в заколдованный круг одиночества. Особенно необычайны были длинные светлые волосы, отливавшие на солнце золотом. Мальчик был очень мило, даже изысканно одет в темный костюмчик и пальтишко, поверх которого был выпущен белый с вышитой каемкой воротник. Только маленькие башмачки были заметно стоптаны и явно залатаны на носках.
Такое же впечатление хорошо одетой дамы производила и его мать. Однако, присмотревшись ближе, можно было без труда заметить в ее платье признаки домашней переделки и перелицовки. Молодая и некрасивая женщина с тем раз навсегда опечаленным лицом, какое приобретают вскоре после выхода замуж очень многие немки-мещанки.
Гритти, сразу приметив красивого мальчика, подошел поближе:
– Как тебя зовут?
Только на повторный вопрос ребенок застенчиво и тихо ответил:
– Ганс Фишбек.
– А! Маленький немец. Я знаю твою родину. Хочешь, поговорим по-немецки?
– Я говорю по-итальянски…
Детский голос произнес эти слова совсем тихо и как бы отклоняя сближение.
– А сколько тебе лет?
– На прошлой неделе исполнилось пять.
– На прошлой неделе? О, браво, браво! Значит, я ровно на сто лет старше тебя – день в день!
Маркиз Гритти схватил робкую ручку маленького Фишбека и пощупал ее. Какое наслаждение! Хрупкая и теплая как раз в меру.
– Хочешь чего-нибудь, Джованни? Хочешь покормить голубей?
В глазах ребенка слабо-слабо затеплилось подавленное желание. Верно, мать перед тем отказала ему в денежке на кулек кукурузы.
Гритти в приятном возбуждении повел мальчика за ручку и купил ему зерна на несколько сольди, которые уплатил камердинер. Ганс принялся кормить голубей. Но грусть ли мешала ему или стыдливость, только он пренебрег всеми тонкими радостями кормления, торопливо высыпал все кулечки себе под ноги и побежал к матери.
Маркиз последовал за ребенком. Убежденный с давних пор, что за все прекрасное надо платить, он вынул из кармана дукат и втиснул его в маленькую ручку. Госпожа Фишбек, зорко следившая за всею сценой, злым рывком отобрала у мальчика монету и вернула ее старику, не удостоив его даже взглядом.
Потом быстро уволокла своего мальчика и скрылась с ним в воротах Оролоджо.[33] Но вдруг, словно в запоздалом приступе раскаяния, ее лицо с чисто очерченным девичьим лбом искривилось, и безудержно полились слезы. От всего своего измученного сердечка ребенок певуче повторял:
– Мама, что с тобой?
Равнодушно, как все старики, изменяя мгновению, маркиз тотчас же забыл красивого мальчика. Он схватил другую детскую ручку, чтоб возместить ущерб. Еще некоторое время можно было видеть стоявшую среди стаи детей и плещущих птиц длинную прямую фигуру в старомодном, почти театральном костюме.
Час спустя, когда солнце давно уже скрылось в облаках, столетний сидел у себя за столом и обедал, с железной энергией тридцать раз прожевывая каждый кусок. Ел он по предписанию доктора Карваньо наипревосходнейший сочный бифштекс. Хорошо прожаренный кусок мяса пропускался через мясорубку, чтобы старик не тратил за едой слишком много сил. Под свой бифштекс Андреа Гритти выпил крошечными глоточками полстакана бордо.
II
Часов в одиннадцать Джузеппе Верди, не обращая внимания на скромно любопытные взгляды челяди, вышел из гостиницы.
Он все еще не мог отделаться от удивления, что вот он приехал в Венецию, свернул с обычной своей прямой колеи, живет здесь чужим, безвестным человеком, не самим собою, а новичком, еще не приобретшим собственного окружения. Невольно вспомнилась ему одна биографическая статья, которую ему прислали. На ее страницах он был изображен каким-то патриархом, который «в единении с самим собою и своим искусством, радуясь обильному урожаю, в мирном созерцании проводит дни заслуженного покоя». Грубая ложь – как и все, что печатается!
После ночи мучительного самоанализа, голодного честолюбия, безрассудных мечтаний он шел по переулкам этого острова на лагуне, как выброшенный кораблекрушением, чувствуя себя юношей, незрелым, неуверенным, как после какого-нибудь провала в начале карьеры, все еще учеником – точно за спиной у него не двадцать пять крупных произведений, а еле заметные начинания.
И что-то еще, как семя болезни, бродило в его крови – постыдная лихорадка, не желавшая от него отстать.
Хоть он в своей жизни многого достиг трудом, – даже одна только сельскохозяйственная деятельность на голову поднимала его над общим уровнем итальянских землевладельцев, – маэстро по своей природе не был трудолюбив. Для него было высшим блаженством часами шагать из угла в угол по просторной спальне в Сант Агате, ничего толком не делая, предаваясь неясным и шальным мечтам.
Его тянуло к деятельности по-иному, чем людей повседневности, которые в тайном страхе перед бренностью всего сущего ежесекундно стараются заштопать свое беспокойство. Он, в сущности, избегал работы. Прежде чем она подчиняла его себе, он с отвращением, прилагая нечеловеческие усилия, принуждал себя взяться за нее. И все отчаяние последнего десятилетия порождалось тем, что она его уже не подчиняла и он должен был кропотливо выдумывать несуществующее, а не так, как прежде, – только подслушивать и удерживать то, что чудесно звучало в нем самом.
Чем скудней дарование, тем раньше привыкает оно экономить, хозяйственно себя организовывать, въедаться в себя, собирать все прочие силы в фокус слабенького таланта. А ему – превосходному хозяину собственного имения, – ему не удавалось экономно использовать свой внутренний источник. В течение целой жизни этот источник был слишком богат, слишком бурно выбивался, – его владельцу никогда не приходило в голову, что когда-нибудь он может иссякнуть. Не зная нужды, наполнял он всегда через край свою кружку то светлой, то мутной водой. Немудреное сравнение с источником приведено здесь не без причины. Верди, только что свернувший в обход Пьяццы в боковую улочку к Мерчерии, сам думал этими же словами. Он, собственно, даже не думал, потому что этот раньше – увы! – столь обильный источник и сегодняшнее оскудение были чем-то почти телесно ощутимым. Таинственным путем явилось сознание: «Много есть мест на земле, где возникают источники, но воды отпущена определенная мера. Если один какой-нибудь источник должен забить щедрей и сильней, то другому суждено иссякнуть. Горе ему, горе источнику, которому выпадет этот жребий!»
Маэстро старался припомнить один период своей жизни, когда его мучил такой же перерыв в работе.
Даль, беззвучная даль. Из его дома в течение немногих недель вынесли три гроба: Маргериты и обоих детей. А он все-таки должен был выполнить договор: написать для Мерелли оперу-буфф. Больной, смертельно усталый, сам не свой, он кое-как состряпал оперу из старых набросков, использовав частично даже свои ученические упражнения, написанные во времена, когда он учился у Лавиньи. Вещь получилась не хуже и не лучше любой комической оперы из свиты «Севильского цирюльника». Вполне терпимые мелодии на высоких голосах, им вторит комический бас быстрыми лукаво-глупенькими стаккато. Эта опера была его единственным крупным провалом. Публика в тот вечер превратилась в дикого зверя.
С той поры он узнал гипнотический закон успеха: «Если воля твоя ослабла, если ты робеешь в борьбе, если становишься уступчив в своем деле – ты пропал!» Тогда все было кончено, как сегодня. Опустошенный, без внутреннего напора, он навсегда отогнал от себя честолюбие. Сейчас ему кажется, что сорок лет назад в своем крутом решении отказаться от блестяще начатой карьеры он стоял выше, чем сегодня, потому что сейчас он вовсе не в силах превозмочь мучительное безумие. Две вещи помогли ему тогда пережить те унизительно горькие дни: запойное чтение тупоумных романов, испекаемых на испорченный вкус парижскими «синими чулками» той поры, и затем неустанное и безотчетное кружение по улицам Милана. Дни напролет он шагал и шагал по городу, бродил по его окраинам, не оборачиваясь, не присаживаясь. И вот сегодня, как и тогда, в его послушных ногах, не чуящих старости, проснулся тот же зуд – ходить, ходить, ходить!
И этот зуд не похож на ту любовь к прогулкам, пешим или на коне, которая его гоняла ежедневно по полям из Генуи в Аквесолу. В его сегодняшней ходьбе были одурь и беспокойство, словно он должен был от чего-то бежать, искать чего-то.
Шум венецианской улочки охватил маэстро – тот шум, что исходит не только от топота и голосов, но также от красок и запахов. Повсюду стояли над своими дымящимися котлами продавцы каракатиц и вылавливали из кипятка красных каламари, которые свисали с ложек, точно ошпаренные куски изрезанного человеческого тела. В витринах остерий и продуктовых лавок лежали груды морской белесой живности, серебряных рыбешек, колючих морских пауков, одетых в панцири лангуст, запеченных в оливковом масле сардин. У раскрытых дверей мясных лавок висели кроваво-красные бычьи окорока и рассеченные телячьи туши, выпотрошенные так, что видно было строение ребер, напоминающее внутренность полуснесенного дома, как будто это мясо и кости никогда не принадлежали живому существу.
В ларьках толпились гости приморского города. Над бочками с торчащими на них кранами и мерками можно было прочесть на белых дощечках: ром, настойка, пунш и названия крепких вин. В сотне антикварных лавок, где полумрак представляется обманным, искусственным, громоздилась старинная рухлядь подлинная и поддельная, которая своим металлическим блеском манила совсем по-человечески, точно притонодержатель. В подъездах, в воротах, в крошечных киосках жадные до новостей итальянцы рвали нарасхват газеты – одно из самых очевидных завоеваний Рисорджименто. Великие слова, порывы и деяния – теперь они расплылись в упоенную победой патетику передовиц, которые здесь, как и во всей Европе, разжигали шовинизм. В тележках, выдвинутых книгопродавцами на самые оживленные перекрестки, лежала национальная беллетристика. Здесь все бессмысленно перемешалось: растрепанные книги и вовсе еще не разрезанные томики в чудовищно пестрых обложках – свидетельство расцвета лубочного романа, – а рядом книга по астрологии, произведения Метастазио[34] в восхитительном издании и все те популярные авторы, которые только здесь, на родине, могли сойти за истинных поэтов.
По старой привычке маэстро останавливался перед всеми этими книжными лотками и невольно улыбался, наталкиваясь повсюду на либретто своих опер – на эти далеко не классические вирши честного работяги Франческо Мария Пьяве: они были ходким товаром и раскупались не только как оперные либретто.
Толком не зная, куда забрел, Верди пересек площадь, где стоял пьедестал, готовый через несколько недель принять на себя гордую фигуру Гольдони, и, взяв вправо от Риальто, вышел на Корсо Витторио Эммануэле – необычно широкую для Венеции улицу. Здесь город утрачивал все, что в центре еще отдавало чужеземным засильем.
Густо, двумя встречными потоками валил народ. И над всем этим людом властвовал запах прованского масла, сдобы, винных паров, серы и рыбы.
Маэстро пробовал думать о «Лире», сосредоточиться на ответственной сцене суда. Мотивов там достаточно. Надо теперь, чтобы что-то пробудилось в нем самом, чтобы к горлу, как бывало, подкатил комок, чтобы захватило дух и поплыло в глазах. Потому что только так, и не иначе – не через размышление и комбинирование, – может родиться мелодия. Она должна родиться. Правда, он достаточно набил руку, ему нетрудно пустить шеренгу нот по такой дороге, чтобы в нотном письме создалось подобие мелодии. Но когда он бывал нечестен, когда кривил душой, подменяя хитроумным измышлением то, что растет изнутри и почти физически рвется наружу, он каждый раз убеждался на опыте, что надуманное (а часто выглядит оно прекраснее истинной находки) на деле всегда оказывается несостоятельным. Нет, лгать он не мог, если б даже и хотел, потому что лгать бесполезно. Но в этот час, когда он был не способен на то, что очень многим великолепно удавалось, – просто сделать вещь, – он чувствовал себя шарлатаном.
«Неужели я должен умереть, не пережив еще хоть раз единственное доступное мне счастье!»
Едва он додумал эти слова до конца, как сильная надежда, поднявшись из тех непостижимых истоков, что определяют течение нашей внутренней жизни, наполнила душу маэстро.
Мимо прошла ватага матросов. Впереди шагал рыжеволосый рябой великан – несомненно главарь. За ним шли гурьбой загорелые парни с повисшими, точно гири, руками, будто они у них болели или были слишком тяжелы. Лица тупо и смущенно улыбались. Смущенно, может быть, от непривычки в праздник без дела шататься по городу. Но сквозь робкую улыбку проступала злобная готовность побуянить, затеять бесчинство и, если на то пойдет, в хмельном разгуле с четырех концов поджечь Венецию. Эта встреча навела Верди на другие мысли:
«Почему все мы пишем какие-то костюмированные оперы, которые разыгрываются в неведомые времена, отражают небывалые чувства, ультраромантические помыслы? Ах, если бы я был моложе! Если бы не был конченым человеком! Золя – вот кто великий человек![35] Нельзя ли написать оперу, где вместо попискивающего фальцетом сыча в трико вышел бы на сцену вот этот чумазый кочегар, плетущийся в хвосте за остальными? Право, может быть, такая мелодрама была бы сильней и новей всех «Зигфридов» и «Нибелунгов»? Ах, что это осаждают меня весь день пустые мысли!»
Как на резкий оклик, маэстро поднял голову и прочел название раскрывшегося слева перед ним узенького переулка: Калле Ларга Вендрамин.
«Здесь должен быть сухопутный проход к тому палаццо, где он живет. Но что мне до того?!»
Верди все-таки свернул в переулок и против воли медленно пошел вперед. Перед ним встал задний фасад Вендрамина. Боковой флигель и главный подъезд образовали маленький дворик, невидимый, однако, для глаза, потому что каменная стена эпохи Возрождения, с пирамидальными башенками, с высокими воротами, не давала заглянуть внутрь. Большие зеркальные стекла двух огромных окон в нижнем этаже вспыхнули, так как в это мгновение солнце пробило адриатический туман.
Маэстро казалось, будто за окнами играют на рояле, но даже для его изощренного слуха звуки были настолько слабы, что он не знал, воображение это или правда.
Внезапно, и впервые так отчетливо, встал вопрос: «Не посетить ли мне Вагнера? Не послать ли ему визитную карточку? Встретиться с ним лицом к лицу, поговорить?»
Едва он это подумал, как боль и гнев сжали ему сердце, словно такая мысль была оскорбительна для его гордости: «Мне к нему? К нему, который презирает меня, которому принадлежат слова о „жиденьких кантиленах“! Никогда, никогда!»
Но первый голос не давал себя заглушить.
«По правде говоря, разве я не ради этой встречи приехал сюда? Разве это не будет прекраснейшим переживанием – разговор с этим человеком? Не поможет ли это мне?»
А другой голос отвечал:
«Как поможет мне это, как, как, когда не помогает природа? А все-таки могло бы помочь? Это положило бы конец вечной горечи, двадцатилетним терзаниям, связанным с его именем». И потом: «Он увидит меня. Ястану для него тем, что я есть».
«Ах! Неужели я вечно буду все тем же нищим мальчишкой-пономарем, который всю жизнь не может забыть поповскую оплеуху? Не потому ли ношу я маску людоеда, что в моем раненом теле гнездится страх? Чего искать мне у этого человека? Ведь нечего?
Нечего!»
Тем не менее в эту минуту маэстро ближе подошел к порталу и увидел, что ворота распахнулись.
У Верди, как у мальчика, застучало сердце. А из ворот вышел господин, очень парадно одетый, и махнул цилиндром, точно кланяясь некоей высокой особе. Но не видно было никого, только дом да швейцар, который лениво вышел на улицу и не спеша, проникнутый сознанием собственного достоинства, начал разглядывать маэстро. Тот сразу принял равнодушный вид гуляющего, остро и непринужденно посмотрел в глаза швейцару и спокойно зашагал обратно по Калле Ларга Вендрамин, как будто досадуя, что забрел в тупик.
III
С того часа как Итало с великой болью бросился, рыдая, к ногам Бьянки, он больше никогда не заставлял ее ждать, приносил ей подарки, был само внимание и нежность. Однако в глубине души он все это ощущал как стремление заглушить нечистую совесть. С каждым днем он все больше отдалялся от Бьянки и даже начал, непонятно почему, ее бояться.
Она и сама очень изменилась. Не устраивала больше диких сцен, давала ему свободу, примирилась даже с его любовью к Вагнеру. Порой, когда она брала его за руки и долгим взглядом смотрела ему в глаза, в ее зрачках открывалась бездонная глубина, которая пугала его.
Ее порывистость, все резкое, кипучее в ее природе как будто исчезло. Она сделалась тихой, она не старалась больше нервным подъемом заглушить ощущение близкой катастрофы. Предчувствием, даже уверенностью в своей обреченности было проникнуто ее существо; ее движения стали медлительными под тяжестью неосознанных мыслей. Все городское, цивилизованное спало с нее.
Итало вдруг почувствовал, как необычно велик ее рост, как трагичен облик, и это тоже странно пугало его. Она больше не была женой врача, которой он пересек дорогу в юношеской тяге к бурным и опасным похождениям. Перед ним была рослая крестьянка из Джемоны: вот она, неся на голове корзину винограда, легко спускается под гору в свете вечерней зари. Какое-то ясное существо, принадлежащее всецело земле, более настоящее, чем он сам, не затерявшееся среди теней, которые закружили его в повседневной суете, существо, не могущее быть ему товарищем в его неестественных восторгах.
Как ни называл он мысленно свой страх, чтоб не стыдиться его, Бьянка, беременная, стала человеком высшего порядка, потому он ее и боялся. И к этому страху примешивались злые чувства, похожие на отвращение и ненависть. То, что стоит выше нас самих, мы можем издали чтить, но вблизи оно надламывает в нас чувство собственного достоинства и потому становится невыносимым.
В обманутой жажде наслаждений Итало втайне упрекал Бьянку, что она-де сама по разным причинам виновата в том, что их любовная связь пошла по этому трудному пути, что веселье и упоение сменились свинцовой тяжестью, что каждый поцелуй теперь оплачивался слезами. Не молод ли он для такого бремени? Неужели он должен сейчас, когда все его друзья, посвистывая, проходят по жизни, неужели он уже должен волочить крест на гору? Ах, когда он сидит теперь у Бьянки, притворяясь хорошим и серьезным, у него часто зудит во всех суставах от напряжения, от желания вскочить и убежать! Пусть его мозг, мозг начитанного, образованного человека, сознавал происходившее, все же его эгоизм, еще ни разу не получавший щелчка, глубоко возмущался!
Понимает ли она, что он переживает? Нет, этого он ей не покажет – у него слишком доброе сердце. Она никогда» не узнает этого во всей полноте. Пока возможно, он будет приневоливать себя к этой любви.
Бьянка за последнее время стала очень религиозна. Она теперь ходила к мессе не только по воскресным дням, исповедовалась, а однажды даже причастилась. Все резче выступала – в этой набожности, как и во всем, – ее исконная природа.
Карваньо бывал дома еще реже, чем раньше, а когда и бывал, то казался очень занятым и явно избегал оставаться с женой наедине.
Однажды утром Итало зашел в церковь – он хотел посмотреть одну висевшую там картину. И увидел Бьянку. Она стояла на коленях перед пестро убранной, нарумяненной восковой мадонной. Юношу точно ужалило в сердце. Как далека от него в своей примитивности эта женщина, способная молиться восковому богу простонародья! Что общего у него с таким душевным строем? Так случилось в первый раз, что он не бросился к ней в сладкой тоске влюбленного по любимой. На цыпочках, пока его не заметили, он покинул церковь, покинул любимую.
Судьбе в ее пристрастии к нечаянным контрастам захотелось, чтобы в тот же вечер он познакомился в обществе с Маргеритой Децорци.
IV
Сам на себя досадуя, маэстро не мог превозмочь некоторую нервную подавленность, когда побрел дальше не глядя куда. Вдруг он почувствовал, что кто-то с ним заговорил. Он уже готов был рассердиться на неуместную дерзость, но, узнав билетера из Ла Фениче, старого Дарио, сразу успокоился. Болтун обладал какой-то парализующей настырностью, от которой трудно было уклониться. Маэстро быстро шагал вперед и слышал лишь наполовину, как будто через сто дверей, эту поспешавшую за ним велеречивость.
– Я молчу, о синьор маэстро, я молчал и буду молчать… Так уж вы на меня не сердитесь!.. И вот они все-таки – подумайте только! – они меня выгнали! Перевели на пенсию, выражаясь по-ихнему… Выгнали меня!.. На пенсию!.. Много есть таких подсахаренных словечек до старости, – да что проку в том, что ты стар, если у тебя на шее семья?… А ведь я служил им верой и правдой, я сорок лет честно служил театру и музыке. Маэстро знает.
Верди спокойно и серьезно посмотрел на Дарио. Его нисколько не поразило, что старый капельдинер сказал то же, что сам он мог бы сказать о себе: «Я честно служил театру и музыке». Сейчас, когда чувство собственного достоинства было в нем надломлено жестокой, неустанной борьбой, он и свое служение расценивал ничуть не выше. Черствый обычай его смягчился, и товарищеская нотка прозвучала в его словах, когда он обратился к Дарио:
– Вот как? У вас, мой милый, семья?
Неожиданная теплота в голосе великого человека потрясла старика, на глазах проступили слезы.
– Синьор маэстро, все знают, весь мир это знает, что вы ангел божий!
И дальше:
– Да, семья! Жена… Пресвятая богородица! Жена у меня умалишенная. Потом дочка – та работает. Но мой Марио, мой бедный Марио – настоящее чудо!
– А что же с Марио?
– О синьор, синьор, я слышал их всех за эти сорок лет: Мирате, Гуаско, Тамберлика, Коллетти, – всех знаменитостей, которым выкладывали деньги на стол да еще кланялись в пояс. Я сам, бывало, нес в мешочке деньги вслед за секретарем, когда он после спектакля шел в уборную к какой-нибудь знаменитости. Но, поверьте мне, ни у кого из них не было такого голоса, как у моего Марио.
Старик съежился, стал совсем маленьким. Вся его напористость пропала; застенчиво запинаясь, пригласил он маэстро к себе: его убогое жилище тут как раз неподалеку… Никто не узнает, – он и под ножом не выдаст, кто этот знатный гость. Маэстро должен послушать несчастного Марио. О, какое это будет счастье!
Верди не признавал по отношению к «народу» того стеснительного расстояния, которое понуждает буржуа держаться фальшивого тона, когда он разговаривает с пролетарием. Эта смесь снисходительности, неуверенности, полуханжеской почтительности перед несломленной силой была ему совершенно чужда. Его детство протекало среди народа.
Выросши в самой ветхой хижине нищей деревни, в темной, прокуренной лавчонке, где его отец в фартуке и мать в косынке разливали батракам и крестьянам вино, продавали соль, табак, кофе и поленту,[36] он до десяти лет бегал босиком. А позже, когда робкий и неуклюжий подросток отвоевал у отца свое право на музыку, чем иным он был тогда, если не музыкантом-пролетарием? Правда, он жил теперь не в деревне и торговое местечко Буссето казалось ему чуть не столицей, все же постель в мастерской сапожника Пуньятты, выделывавшего деревянные башмаки, была еще жестче, чем его домашняя.
А юность? В полночь вылезать из постели и три-четыре часа плестись в далекую Ле Ронколе, в церковь, чтобы вовремя поспеть к ранней обедне! Правда, он носил лестное звание «органиста», но в темные декабрьские ночи тринадцатилетний мальчик нередко рисковал жизнью.
Свадьбы, крестины, похороны бывали каждую неделю, но годовой оклад в сто франков оплачивал все. И надо было ежедневно идти пешком обратно в Буссето, потому что те крохи образования, какие выпадали ему на долю, он мог подбирать только там.
Много лет спустя, уже будучи так называемым капельмейстером так называемого Буссетского филармонического общества, он должен был ежегодно совершать паломничество по домам и крестьянским дворам, чтоб у негостеприимных дверей выпрашивать, как милостыню, свое жалованье.
Чем он отличался от пресловутого странствующего музыканта Багассета – тощего, голодного, высмеиваемого сытыми мужиками чахоточного бродяги, чья безголосая скрипка ему, ребенку, дарила некогда счастье? Судьба Багассета, гостя с обмороженным лицом, ночевавшего в сараях, была тем жупелом, которым трактиршик Карло Верди пугал своего сына, чтоб отвадить его от искусства. А его первый учитель, добрый Байстрокки, беспомощный и простодушный раздувальщик органных мехов! Кому из музыкантов девятнадцатого века, одержимого бесом учености, приходилось начинать свое образование вот так, хуже чем с нуля? Верди часто говаривал: «Мне пришлось самому изобрести для себя до-мажорный аккорд».
О какой неслыханной обездоленности и о каком высоком преимуществе свидетельствует это признание! Как все легко давалось другим, учившимся в консерваториях, где их пичкали теорией гармонии, задачами на контрапункт, классификацией музыкальных форм, где были под боком и библиотеки и концерты. Условность, которую они сокрушали богатырским взмахом, была для них постылой гипотезой, навязанной им. Совсем как закормленные богатенькие дети: их тошнит от повседневной пиши, и вот они жадно тянутся к лакомствам.
Колумб общеизвестных истин, Верди должен был заново открыть для себя условность. Ему ничего не доставалось даром. И потому его судьба была сходна с судьбой народа. Но в этом и была его сила! Он не инертно принимал обыденное, а брал его с бою, и от этого обыденное превращалось в прекрасную условность, полную новых, неожиданных качеств. Это вынесло его на гребень вала, сделало в последний час спасителем оперы, уже приговоренной к смерти. Россини и Доницетти заливались трелями для элегантно загнивающего оперного мира маркиза Андреа Гритти, он же без показной революционности песней вызвал к жизни новый народ. Для него уже не существовало общества – милостивого судьи, раздающего лавры композиторам, – не существовало для него этой новой касты – интеллигенции, – которой он чурался, как черта: своим горячим сердцем он чуял то, чего не видит глаз.
Помещик из Сант Агаты близ Буссето высоко перерос свое происхождение. И он именно рос, как некое мощное, грустно-милое дерево. В числе весьма немногих граждан идеального бесклассового общества можно было бы назвать и маэстро, потому что, пока он достиг своего полного роста, он пророс сквозь все ступени общественной лестницы. Пусть холодное чистое пение его вершины было уже непонятно народу, все же и вершину дерева питали корни.
Как ни замкнуто жил в своей усадьбе Джузеппе Верди, не было в окрестностях ни одной крестьянской хижины, ни одного рабочего жилья, куда он не заглядывал бы время от времени.
Сенатор, питомец политической революции сорок восьмого года, слабо разбирался в рабочем вопросе, меж тем как Верди в своих письмах к графу Арривабене нередко проявляет подсознательный пророческий социализм, какой доступен был мало кому из его современников. Разумеется, этот социализм, ограничиваясь чувством и кое-какими практическими начинаниями, не имел ничего общего с политической теорией. Все же маэстро учреждал в своей округе фактории, фабрики, сыроварни (приносившие ему тяжелые убытки) исключительно для того, чтобы создать рабочие очаги и задержать эмиграцию. В один из периодов тяжелой экономической депрессии он мог с торжеством сообщить Арривабене: «Из моей деревни никто не эмигрирует». И в то время как современные властители дум все глубже погружались в пустоту эстетизма, итальянский оперный композитор, старший брат Толстого, писал такие слова: «Ведь вы должны знать – вы, столичные обыватели: нужда неимущих классов велика, неимоверно велика, и если не подоспеет предусмотрительная помощь сверху или снизу, то – горе вам! – произойдут страшные вещи».
Маэстро разговаривал с людьми не в пустой, бессодержательной манере, как говорят представители классов, разделенных пропастью. Кто посмотрел бы на него в таком общении, у того непременно явилась бы мысль: «Этот музыкант – король. Король – ибо он не подчинен никакому иному избранию, кроме как непостижимой силе, которая его так высоко вознесла».
Может быть, со временем, когда отомрут все лжеучения о нации, классе, государстве, народном хозяйстве, человечество созреет для единовластия не тех королей, что болтаются бездумно, как маятник, где-то наверху или, выбиваясь из подлесья, силятся подняться выше собственной головы, а тех, что остаются «снизу доверху» единым и цельным деревом.
Так и теперь, когда маэстро просто и естественно принял приглашение Дарио, он был королем. Никому не дал бы он заметить, что переживает дни самого глубокого смятения. К тому же, как было сказано, он любил, с тех пор как стал помещиком, навещать людские жилища.
В Венеции, в любом районе, едва оставишь главную его артерию, тебя тотчас охватит пестрая, шумливая жизнь самой горемычной нищеты.
Чем обильней производит природа семена, тем меньше придает она им цены. Таинственная трагедия всякого передвижения народов заключается в том, что на севере человек погибает от одиночества, на юге – от скученности. Каждая зона в сокровенной смене климатов земли имела однажды свой плодоносный период, и тогда кривая культуры проходила как раз через нее. Некогда в Венеции жили только богатые люди – дворяне и патриции. Об этом свидетельствует тысяча дворцов. Также и вдоль узкого Рио ди Сан Фоска, по набережной которого Дарио почтительно вел своего высокого гостя, мощно бок о бок стояли темные чертоги пурпурных времен. Но исполинские окна – готические или же втиснутые между витыми колонками – были замурованы кирпичом. Строго глядели они на прохожих рубцами слепых глазниц. Открытых ран, ссадин, струпьев было повсюду в преизбытке, но нетронутые и величавые, как встарь, томились черные порталы с гербами, масками, кариатидами и львятами. А какая бренно-пестрая жизнь гнездилась здесь в бездыханных телах каменных мертвецов! На веревках, протянутых от дворца к дворцу, как густые гирлянды флажков, развевалось линялое стиранное тряпье. В дыры выбитых окон одна за другой высовывались лохматые женские головы. И тогда слышались крики, раскаты смеха, каскады слов, тотчас же находившие отклик. В воротах цыганским табором устроилась детвора. В неустанной сутолоке, затевая драки, карабкаясь, кувыркаясь, барышничая, она колыхала пестрыми лохмотьями. Песни, ругань, приветствия, проклятья раздирали воздух. В своей бесконечной суете все эти тысячи, казалось, знали друг друга, и даже лодочники и рабочие, проплывавшие по каналу на землечерпалках, выкрикивали из мутной жижи свои гортанные угрозы, как старые знакомые. Маэстро не испытывал никакой неловкости в этом человеческом круговороте, из которого некогда, в незапамятные времена, выбился и его огонь. Он даже с радостью остановился, как знаток, когда прямо перед ним разыгралась такая сцена.
Две женщины вцепились друг дружке в волосы. Патлы падали на искаженные маски лиц, голоса пронзительно визжали:
– Эге! Всему свету известно, чертовка бесстыжая, что ты путаешься с патером из Сан Маркуолы!
– Враки, враки! Берегись, старуха! Ты старая, потому и завидуешь! Плетешь на меня, ржавая кастрюля!
– Я старуха, а ты ведьма! Бедный молоденький патер у тебя на совести.
– Видали немытое рыло? На нее никто и не посмотрит. Муж у ней уж на что старик, а и тот ею брезгует.
– Кто мною брезгует, чертова сука?… – И женщина с торжеством, как трофей, подняла над своей головой грудного младенца. Младенец разразился ревом, а толпа рукоплесканиями. Другая тоже не растерялась. С ироническим спокойствием – наилучшее оружие для защиты ослабленных позиций – она смерила взглядом горделивую мать.
– Бог ведает, какими средствами состряпали вы вдвоем эту бедную пичужку. А только рассказывают люди, что ты выпрашиваешь молоко у других женщин, сухая колода!
Но тут, задетая за живое, женщина-мать завопила, выдернула из блузы свою большую, дряблую грудь, и жирная молочная струя угодила любовнице патера прямо в лицо.
Зрители сразу оценили величие и страстность этого порыва. Женщине зааплодировали, как великолепной трагической актрисе, и с воодушевлением ревели: «Brava! Brava!» Нищий старик с умным, одухотворенным лицом приветливо смотрел на победительницу и одобрительно, как знаток племенных различий, приговаривал: – Да, недаром она из дикого края, из Романьи, наша Сорекка! В одном из пестрых дворов, переполненных детьми, бельем, лязгом рабочих инструментов и звонкой разноголосицей, в полуподвале с окнами на уровне земли находилось жилище отставного капельдинера. Когда он, стоя плечо к плечу со знатным господином, отворил закопченную, без щеколды, дверь, со всех сторон беззастенчиво сбежались соседи, аборигены двора, и уставились на маэстро, любопытные и ленивые, точно волы.
В помещении, где очутился Верди, было так темно, что он ничего не видел, кроме маленькой печурки с медным дымоходом. У печурки хозяйничало невеселое, похожее на тень существо, которое испуганно притаилось, завидев гостя. До полусмерти взволнованный Дарио бросил дочери несколько невнятных слов, с молниеносной быстротой исчез и молниеносно вернулся, на этот раз в параде – в зеленом фраке капельдинера.
– Окажите нам честь, окажите мне честь, эччеленца! Ох, где моя жена, мой тяжкий крест? Соблаговолите покинуть эту черную нору, разрешите проводить вас в комнату.
Он то и дело искоса бросал на гостя умиленно-отчаянный взгляд. Вся его храбрость исчезла. Маэстро, осторожно переступив сбитый порог, вошел в комнату, типичную горницу самого бедного мещанина.
Двуспальная кровать под старым выцветшим покрывалом, два оконца, на подоконниках щербатые бутыли в плетенках, на стенах галерея икон, под мадонной лампадка, даже целый маленький алтарь со всевозможным церковными побрякушками.
– Вот и жена! Не обращайте на нее внимания, эччеленца! Она уже десять лет, как… того…
Он пояснил недосказанное жестом.
– Понимаете? Это произошло, потому что она выучилась читать и писать, что совсем не годится для таких, как она. И вот теперь извольте… Ей постоянно надо иметь перед глазами что-нибудь печатное. Горе мое, горе! С чего это я вздумал жениться на образованной!
Пред гостем, подталкиваемое капельдинером, стояло и впрямь необычайное существо. От старости или от болезни женщина так сгорбилась, что бедренная кость у нее выпирала, образуя угол с линией спины. Десять одиночных белых волосков проходили черточками по красноватой лысине и терялись на затылке в самом жалком узелке. Очень толстые синие очки закрывали глаза, но, несмотря на неестественную выпуклость стекол, глаза за ними казались незрячими. Старуха приветствовала маэстро неожиданно деликатным голосом и изысканными оборотами речи, без тени угодливости, как будто после долгого вынужденного одиночества встречала наконец человека, с которым может говорить как с равным. Но вдруг она сделала перед ним торопливый реверанс и хитровато засмеялась, как бы показывая, что ей известно о госте больше, чем он думает. Ее приветственные фразы быстро иссякли, и она начала рассказывать какую-то историю о своем возлюбленном отце, о веселой поездке в экипаже, во время которой отец играл на гитаре и очарованные люди пускались в пляс, выбегая из квартир и со дворов. А сама она сидела на коленях у отца. И это происшествие она передавала не как давнишнее воспоминание, а словно все имело место не далее как вчера и сама она все тот же счастливый ребенок. Но, еще не кончив рассказа, она вдруг превратилась в героиню грошового романа и стала говорить о собственной судьбе и о каких-то неведомых персонажах, без запинки называя их пышные имена.
– Хватит, старая, хватит!
Дарио зажал ей рот. С покорностью впавшей в нищету принцессы она замолчала, бросив гостю, как заговорщица посвященному, выразительный взгляд, говоривший: «Теперь вы убедились сами!»
– Все из-за книг, эччеленца, – твердил Дарио, точно хотел объяснить благовидной причиной постыдную болезнь.
– А вот мой Марио!
Маэстро увидел сидевшего у окошка за столиком юношу. Лицо Марио – заостренный нос, изящно выпуклый лоб, мягкий рот – было поистине аристократично. Удивительно красивое, тонко вылепленное ухо, образец чистейшего совершенства, привлекло бы внимание каждого.
– Нина, Нина! – Капельдинер нервничал. – Обтереть кресло для эччеленцы! Скорей! И платок на колени Марио!
Только теперь Верди увидел, что красивый юноша сидел, поджав под себя скрюченные, жутко короткие, бесполезные ноги. Тяжелой тошнотой горечь жизни захлестнула сердце.
Нина, бедная девушка, на которую легло все бремя этой злосчастной семьи, вышла желтая, хмурая, недобрая, прикрыла брата одеялом, обтерла для гостя деревянное кресло и опять ушла. Дарио еще раз попытался оправдать семейное несчастье.
– Разве могло быть иначе? Посмотрите только на нее, на эту книжницу, так сразу поймете, откуда у него больные ноги!
Он усиленно старался свалить с себя вину. Молча, с болью в сердце, маэстро подошел к Марио. Тот снова склонился над работой. Он был одним из тех искуснейших ремесленников, которые выделывают из стеклянной мозаики столь безвкусные венецианские виды. С непостижимой быстротой, без всякого образца, Марио подхватывал щипчиками разноцветные полоски стекла и втыкал их узкой гранью в мягкий грунт будущей картины. Как ни быстро мелькали его пальцы, бесконечно медленно, почти незаметно обозначался рисунок, пока еще не позволяя разобрать, что будет на нем изображено – собор св. Марка или что другое.
– Долго вы работаете над такою вещью, Марио?
– Два-три дня.
– А для кого?
– Для одного фабриканта из Мурано.
– Сколько платит ваш фабрикант за стеклянную картину?
– Три лиры.
Подав свой тихий ответ, Марио опять принялся за работу. Снова и снова подхватывал он стеклышки и, не глядя, вставлял на место.
Вкрадчиво, почти подобострастно, подошел к нему отец в зеленой своей ливрее.
– Сыночек! Ты можешь найти свое счастье! Посмотри на господина! Он – эччеленца!.. Ведь правда, сыночек, ты нам споешь, да? Мы тебя давно не слышали.
Юноша качнулся и безмолвно поднял руку, как бы обороняясь. Старик стал упрашивать.
– Марио, милый! Ведь ты не захочешь огорчить меня. О, если б ты знал! Этот господин, наш гость, он – эччеленца, большой директор. Твой час настал! Спой нам, спой!.. Ты должен!
От этих неясных, неловких намеков Марио только пуще заупрямился.
Маэстро сам на себя дивился. Он, ненавидевший всякое дилетантство в музыке и считавший личным оскорблением, если пели при нем любители, – он сам просил калеку спеть! Благоговение перед необычайной судьбой, как всегда, победило его. Страдающий Марио с его тонким, отрешенным лицом склонил маэстро к удивительной обходительности, какой он до сих пор не знал за собой.
– Что вы охотней всего поете, Марио?
– О, ничего, синьор, ровно ничего!
– Песни или оперные арии?
– Да нет, синьор! Просто что в голову взбредет, разные глупости!
– Вы, значит, импровизируете, как делалось в старину?
– Да, видит мадонна! Он отлично это делает, эччеленца! – взволнованно воскликнул капельдинер, зажегшись гордостью при иностранном слове.
– Молчи, отец! Говорю тебе, молчи! Право, сударь, я ничего не пою!
Все медленней бегали по доске пальцы калеки, все чаще поднимал он взор к бородатому лицу: гость, казалось, вовсе забыл о себе и силился от всей глубины своей любви победить горе пленительной улыбкой. Марио постепенно сдавался.
– Мать играет, и тогда поется само собой, – сказал он уже совсем беспомощно.
– Мать, мать! – закричал старик, спеша воспользоваться мгновением. – Мать, бери гитару!
Минуты, когда она могла аккомпанировать пению сына, были для помешанной неземною отрадой. Пусть она сама давно утратила способность последовательно мыслить – в ней мыслила музыка сына, и тогда, ничего не сознавая, она не допускала ни малейшей ошибки. Свершалось таинство воссоединения матери и сына в музыке.
Она не заставила дважды себя просить. Сгорбившись, полуслепая за своими очками, старушка в упоении села рядом с Марио и, точно младенца, прижала к груди гитару. Она смотрела на сына, но он не менялся в лице. Она прислушивалась; но он не обронил ни слова. Потом она удовлетворенно кивнула несколько раз головой, как будто узнала уже все, что нужно, и медленно зазвучали аккорды. Марио сильно побледнел, откинул назад голову и закрыл глаза. Он начал без слов мурлыкать про себя – сперва проверил мотив пианиссимо, чтобы затем подхватить его в mezza voce.[37]
Верным, испытанным слухом, привыкшим разбираться в голосах, маэстро сразу определил, что у юноши очень красивый матовый тенор, нисколько не похожий на рядовое, немного блеющее voce bianca,[38] но и не то, что можно бы назвать неповторимым, потрясающим голосом. Не чувствовалось никакой обработки, но регистры стояли твердо. Кверху от ми тембр естественно затушевывался; верхи лились полнозвучно, а не выдавливались судорожно из гортани. Не было ни тени дилетантского кокетства. Звуки не растворялись в самоопьянении: приглушенной и обузданной раскрывалась их красиво окрашенная сила. То, что обычно профессор пения годами напрасных усилий старается выработать в ученике – la voix mixte, тот нежно-напевный средний регистр между горловым и грудным тонами, – было здесь дано от природы. Врожденный талант итальянца давать тон без жесткости и сладостно ткать звуковой узор расцвел в этом необработанном голосе во всем своем великолепии. Bel canto! Что рядом с ним всякое другое пение, когда только оно – самый высокий, самый одухотворенный инструмент разума, по ту сторону слова, смысла или декламации и независимо от них, – дает воплотиться в чистые тона всему, что поет в человеке!
Песня Марио, еще бессловесная, наполняла комнату. Постепенно из пустых слогов начали складываться слова. Но смысл этих слов был иным, чем их обычное значение. Песня, как бесприютная душа, в ограниченности языка искала воплощения, которого ей никогда не найти.
Так среди прочих родились такие стихи:
Уходят в море корабли. Я плыть их пускаю, мои корабли с островов. Где любимая – там или здесь? Радость пусть унесут, Но месть остается со мной. Корабли! Вы уходите в море, – Ahimé![39] Месть остается со мной!Или такие:
Я любил их всех поцелуями, Голосом я их любил. Но загудел на башне колокол, Смерть стучит по столу и в ларь. Я же зову: радость, веселье, радость! Ahimé! Колокол смерти гудит, Голосом моим красавиц я любил!Так, в бессознательной, не властной над собой душе певца высший язык музыки вызывал к жизни истинную поэзию. Это было прямо противоположно вагнеровской теории, по которой поэзия должна пробуждать музыку.
Маэстро отдавался своеобразным модуляциям красивого голоса, и сердце его наполнилось светлым счастьем от сознания: конечно, этот гениальный калека понятия не имеет о законах формы, и ухо его мало знакомо с музыкой опер, как на то указывает самобытность его импровизированных мелодий, – и все же он поет совершенные, законченные арии; мелодия найдена, потом она ширится и развивается во взволнованной фразе и затем, как заблудшее, тоскующее существо, возвращается назад в себя самое. Итак, квадратура арии, осмеянная симметрия, трехчастность – или как бы там ее ни называли – вовсе не произвол, почему-то, когда-то навязаннный миру, а естественный закон] Естественный закон, возвещенный и утвержденный итальянским гением.
Музыка протекает во времени. Форма временных переживаний именуется воспоминанием. Музыка есть постоянное воспоминание о себе самой. Те, кто хотят исключить повторение, ответ, исключить осязаемый возврат, посягают на самую природу музыки, на священную квадратуру, которой имя – Италия.
В самом деле, почему Италия своими монодией и генерал-басом[40] определила развитие всей современной музыки? Разве мало других школ? Взять хотя бы пресловутых нидерландских контрапунктистов. Почему не за ними осталась победа? Или немцы? Что они дали действительно нового? Разве их классики, наперекор всему, не остались рабами итальянской формы, итальянской арии, которую еще Фрескобальди, Корелли, Вивальди украсили инструментовкой, превратили в сонату? Так что же они умеют, немцы? Только разрушать!
Острая ненависть пронзила маэстро. Та же, которую он ощутил в себе после Седана. То была ненависть римлянина к варварам времен великого нашествия. От этой ненависти зажглась и глубоко запала мысль: «Идеализм этих готов и страсть их к разрушению есть одно и то же». Древняя боевая мелодия европейского мира зазвучала в сердце Верди. Он сам не понимал этого чуда: что он такое, этот тоскующий невоплощенный дух? Одно еще ясно: это дух разложения, аналитический, идущий против Природы, – злой протестантский дух, восставший против вечных, вещественных основ музыки.
Запрокинув голову, закрыв глаза, мертвенно-бледный, пел и пел человек, никогда не встававший с места, не знавший не то что свободы стремлений – даже отсвета жизни! С невероятной легкостью одну за другой находил он мелодии, все прекраснее их развивая, давая им новые и новые каденции. При этом голос, полнозвучный, матово-звонкий, с каждой песней становился все более радостным. Могла ли эта радость исходить из скованного сердца калеки? Нет! Это пело не его сердце, не его личность. Они были только гнездом, из которого взлетала абсолютно свободная музыка, только стеклом, через которое проникал яркий солнечный луч.
Умалишенная мать, казалось, впала в гипнотический сон или в глубокое просветление. Сама не зная как, блаженно улыбаясь из-под синих очков, она безошибочно брала аккорды в меняющихся тональностях, очень точно модулировала, а порой прибавляла к мелодии прелестные небольшие фигуры, которые находила сама в своей далекой мечте о счастье.
Под окнами собралась толпа, державшаяся для итальянцев необычайно тихо. Когда Марио пел (а это случалось все реже), неизменно собиралась толпа. Даже прожженный ценитель пения, бывший капельдинер из Ла Фениче, восторженно слушал тенор своего сына. Только Нина, бедная служанка своей странной семьи – беднее брата, на котором лежала божья благодать, беднее матери, от которой Марио унаследовал свой дар, бедней отца, который хоть мог шататься без дела по улицам, – только Нина сердито или безразлично гремела на кухне посудой.
На маэстро тоже нашло просветление. Пел несчастный, неграмотный, безвестный калека, стекольщик из Мурано, но природа, увидав, что натворила, казалось, почувствовала сама великую жалость. Никогда еще античное единство певца и поэта не было для маэстро так ясно, как сейчас. Совсем родную песню пел ему этот голос. И Верди понимал ее как утешение, как оправдание перед неким высшим судом, перед диалектикой музыки, перед Вагнером. Рассеялись все теоретические сомнения, все то презрение к себе, которое вчера, когда он работал над «Лиром», душило его смертельной тошнотой. Ох, на него навели порчу бесчувственные – те, что говорят: «Я люблю тебя», а сами думают о синтаксисе этой фразы. Может быть, теперь он все-таки сможет работать.
Последняя прекрасная каденция – и Марио закончил. Еще мгновение он смотрел неподвижно вперед, затем опять как ни в чем не бывало, быстро перебирая пальцами, склонился над своей мозаикой. Гитара со звоном упала на пол. Старуха заснула. На дворе под окном не поднялась буря восторгов, но слышно было много отдельных одобрительных возгласов, – как будто люди хотели через них удостовериться, что это не был сон. Маэстро нарушил молчание. Свое волнение он, как всегда, скрыл он мира под маской самой сухой деловитости.
– Будет сделано что нужно, Дарио! Завтра вы зайдете ко мне в гостиницу. Спросите господина из второго номера. Поняли? Я позабочусь обо всем.
Затем он подошел к импровизатору, просто и застенчиво положил руку ему на плечо и, отведя глаза, сказал немного надтреснутым голосом, негромко, словно речь шла о самом будничном предмете:
– Да здравствует наша старая, священная италийская мелодия! Хорошо, очень хорошо!
Восторженные проводы Дарио он решительно отклонил.
V
Само собой понятно, что с этого часа Верди стал всемерно заботиться о Марио. Однако в этом деле не было ему удачи. Естественно возникла мысль дать обездоленному музыкальное, вокальное, да и общее образование. Но это плохо отвечало особенностям данного случая. Марио оказался оторванным от почвы, – в результате обучения его талант зачах. Что мог дать импровизатору бумажный век кляузного педантизма?
Правда, жизнь его (хоть одно утешение!) была теперь обеспечена.
Что вышло из него? Недурной певец, лишенный, однако возможности выступить хоть раз на сцене? Очень вероятно! Медалист консерватории, умеющий ловко разложить на пяти линейках свою четырехголосную тему? Вполне возможно!
Кандидат в самоубийцы, которому в новой обстановке, средь новых волнений стало невмоготу нести свое уродство? Несомненно!
Маэстро вскоре потерял его из виду. Никаких сведений до нас не дошло.
Глава пятая Для гибеллинов гвельф, для гвельфов гибеллин
I
Сенатор, сколько он себя ни уговаривал, не мог побороть глубокой сердечной обиды: Верди, друг, не думает о нем.
Не всегда ли так у него получалось в жизни? Всем, всем – и женщинам и друзьям – приносил он свое нетерпеливое, жадное чувство бьющей через край любви. Ее принимали – кто цепкими руками, кто с благодушным снисхождением, – принимали как должное. Сенатору был давно известен один из законов равновесия: «Я наверху – ты внизу; я внизу – ты наверху!»
В последние годы великой борьбы, когда чаша весов пошла вверх и начало выкристаллизовываться государство, ему предложили министерский пост. Он отлично знал, что его считают человеком незначительным и беспокойным, но в тот момент его почтенное имя свободолюбца, его убедительное красноречие могли бы оказать хорошее воздействие. Однако с гордостью и щепетильностью истинного революционера он отказался, сознавая, что ход вещей далеко не отвечает ослепительной чистоте его идеалов.
Позднее он великолепным жестом сложил с себя сенаторское звание. Это ни на кого не произвело впечатления. А что знают о нем сегодня?
Только друзья и оставались теперь, когда родные дети более чужды, чем антиподы или папуасы. Много снесла голов ноябрьская буря. После смерти его наставника Мадзини неколебимо стоял один лишь образ верного Верди. Но и он, возлюбленный друг, чей путь сенатор сопровождал шаг за шагом, чьими песнями дышал, как никто другой, он, из светлых светлый, кому сенатор прощал (что может быть труднее) даже политическое инакомыслие, – этот Верди тоже только терпел его любовь, не отвечая на нее. Неужели же не замечал он всей нежности этого чувства? Не замечал, что сенатор никогда не рвался к нему на людях: на торжественных приемах в Милане и в других местах всегда держался в стороне, нигде не выставлял напоказ свою дружбу с маэстро, уважал одиночество художника, постоянно жертвуя собственной радостью. И каждый раз он снова убеждался, что навязчивые посетители оказывались правы, так как, несмотря на всяческое уклонение со стороны маэстро, они урывали свою долю, тогда как он – ровня ему, человек, имеющий и личные заслуги, – оставался ни с чем. Ох, эти люди, с которыми водится Верди! Ревность несправедливо и страстно подзуживала его против всех друзей маэстро. Кто он, этот граф Арривабене, что Верди так охотно берет его в свои поверенные? Проныра журналист – и больше ничего! Или сенатор Пироли? Политический обыватель, выставляющий свою ограниченность как достоинство! А Кларина Маффеи со своим пресловутым салоном, где, как говорят, скучал еще Бальзак? Старая тетеха, обратившая свой захирелый материнский инстинкт на покровительство художникам и литераторам, чтобы греться в лучах славы своих подопечных. Как ненавидел сенатор все это общество! Он не бегал за маэстро по пятам, не писал ему еженедельно фальшивых писем, ни разу не воспользовался приглашением погостить весною в Сант Агате. Неужели Верди не замечает этой сдержанности, не благодарен за нее? Как может он оставаться таким черствым, холодным, равнодушным теперь, когда он (из каких побуждений?) приехал в Венецию? Приехал, чтобы пренебрегать своим единственным, своим самым горячим другом! Он здесь уже три или четыре дня, а еще не уделил ему ни часа!
Сидя за большим рабочим столом, сенатор возмущенно отодвинул от себя гору лексикографических изданий. Фолианты застонали. Вот уже двадцать лет, как он работает над одной, очень мало склонной к росту рукописью: «Текстологическое исследование Еврипидовых трагедий». Начаты были и другие работы: «Конъектуры к фрагментам Менандра» и новая редакция естественнонаучных сочинений Аристотеля.
Этот кропотливый труд, взваленный сенатором на собственные плечи, был одним из тех разительных противоречий, какими любит тешиться природа человека. Огненная окраска его темперамента и белесая голубизна филологии – как согласовались они между собою? Может быть, эту размеренную работу сенатор избрал в противовес разрушительным силам той музыкальной стихии, которую он носил в себе.
Как бы там ни было, но только теперь он с крепким проклятием послал к черту груду пронумерованных стихов, примечаний, разночтений, сорвал с вешалки широкополую шляпу, классическую эмблему Рисорджименто, и бросился вон из дома.
На Кампо Сан Лука, перед одной из кофеен, облюбованных венецианскими политиканами, он пристроился к группе таких же широкополых шляп. Вокруг этого болотистого Острова Озлобления весело и деловито шумела жизнь.
Через десять минут сенатору нестерпимо наскучила беседа непреклонных старцев, которая с высокомерным презрением к настоящему вертелась вокруг персонажей, ошибок и тонких шахматных ходов минувших десятилетий. «Отслужившие паровозы! – решил он. – Вся их доблесть в том, что они давно повыдохлись. По всей вероятности, и я не лучше».
Сделав такое заключение, он уныло повернул в обратный путь.
У переправы близ Палаццо Гримани он увидел, как его сын Итало раскланивается, прощаясь с молодой, очень стройной дамой и с другою – в годах. «Могла бы сойти за англичанку, – подумал сенатор, – если бы не чисто итальянская жестикуляция». Итало, когда подошел к отцу, был слегка смущен.
– С моей неискоренимой нескромностью я спрошу тебя, сын, кто это воздушное создание, только что покинувшее тебя?
– Это Маргерита Децорци, папа! Ты, конечно, слышал о ней?
– Увы! Не в том я возрасте, чтоб вести непогрешимый список красавиц.
– Маргерита в этом сезоне дебютирует как примадонна в театре Россини. Труппа, в общем, посредственная, но Децорци величайшая артистка в Италии, а может быть, и в Европе. И ей всего двадцать три года.
– У нее такой чудесный голос?
– Голос красивый. Но в наши дни, папа, дело не в голосе!
– Вот как?! Значит, теперь певцы думают только о том, как бы отхватить побольше денег?
– Ты, наверно, оставишь свою иронию, когда увидишь Маргериту на сцене. В ней столько чувства, она так нервна, так нова… И при этом – ничего от театральной дивы. Самое чистое и неприступное создание. Никогда не увидишь ее без матери!
– Ах, как неприятно! Но, помнится, я где-то слышал, что в театре можно брать напрокат не только костюмы, но и матерей.
– Ну, папа, на тебя опять нашел дурной стих! Она чудесный человек!
– Черт возьми! Она – чудесный человек! Вы теперь и женщин склоняете в мужском роде. Это ново. Роскошная перспектива! Мужчины уже давно повывелись. Ты еще доживешь до нового века. Тогда не останется больше и женщин. Восхитительное сближение полов! Поздравляю и детей! Счастливая Европа!
Сенатор кивнул своему сыну, переправился на пароме через канал и поспешил домой. В подъезде его ожидал мальчик-лакей.
– Тут был синьор маэстро. Вы только вышли из дому, как он пришел. Оставил вам карточку!
Сенатор прочел следующие строки, начертанные столь ему любезным бурным почерком с неровными буквами:
«Прости! Эти три дня мне нужно было многое привести в порядок. Теперь хочу тебя видеть! Приходи к обеду! Приходи сейчас же! Поспеши!»
Не сказав мальчику ни слова, добряк тут же повернул, чтобы как можно скорей быть у друга. Обида бесследно прошла, ничто не омрачало радости. В этом были и сила его и слабость, позволявшие ему с бодрым духом переносить разочарования: умение забывать!
Как скупо был одарен маэстро этим светлым свойством!
II
Верди не любил обедать в ресторанах. Он уже с тридцати лет был так знаменит в своем отечестве, что не мог нигде показаться, не будучи узнанным. Ему претило, когда он бывал принужден лгать. А это ли не ложь, если надо сидеть с натянутым лицом и, как зудящие раны, ощущать на спине магическое действие множества взглядов. Он ненавидел всякое телесное прикосновение. А когда на тебя смотрят – это то же телесное прикосновение.
Однажды в Парме на людной площади его узнала толпа. Уже кое-кто закричал «эввива!». От ужаса, что сейчас разнесется весть о его присутствии, он бросился в какой-то дом и битый час проторчал на площадке лестницы верхнего этажа, пока не уверился, что может уйти незамеченным.
Так и сегодня, ожидая сенатора, он, как всегда, велел подать обед к себе в номер. Услуги официанта он отклонил. Его сопровождал в Венецию собственный лакей. Это был Беппо, славный заурядный человек, не тот знаменитый Луиджи, который соскочил с козел в Реджо и бросил коляску, чтобы последовать за своим излюбленным героем мелодий. Наряду с сенатором Луиджи был, наверно, самым выдающимся вердианцем. Подняли б его среди ночи от самого крепкого сна, из мертвых пробудили бы – и он в правильной тональности пропел бы какую угодно кантилену своего маэстро. И не только популярный мотив вроде «Quando la sera placida», «Eri tu che macchiavi», «Ai nostri monti ritorneremo»,[41] a и любой мелкий речитатив из «Двух Фоскари», «Жанны д'Арк» или «Макбета».
В течение двух дней после того, как случилось ему услышать пение Марио, маэстро неотступно воевал со своим «Лиром». Был даже написан целый связный кусок, но маэстро его не пересматривал, боясь разочарования и того страшного отвращения, какое вызывала в нем теперь собственная музыка.
Мимолетное утешение, которое дала ему импровизация калеки, та вдруг ожившая вера в извечную италийскую мелодию, снова угасла. Зато непрестанно тревожила нервы красная тетрадь, запертая в ящике. Он уже подумывал, не бросить ли в темную зимнюю лагуну если не самый чертов подарок, то хоть ключ, который держит его взаперти.
При этом никак не удавалось заглушить тот голос, что холодно и резко повелел ему перед Палаццо Вендрамин: «Ступай к немцу!» Каждый раз, как этот голос раздавался громче, болезненное возмущение потрясало гордого. Снова и снова вспоминалась ему история, которую он где-то когда-то вычитал.
Россини в бытность свою в Вене почтительно явился с визитом к Бетховену. Немецкий композитор – из равнодушия или же по нарочитой невежливости – не ответил на визит. И вот теперь Верди отождествлял себя со столь непохожим на него Россини, который никогда к нему не благоволил, а Вагнера отождествлял с Бетховеном. Как он ненавидел Бетховена за его совершенно негуманную силу, грубость и высокомерие! Подчеркнутая невоспитанность немца задевала его чувство чести, его национальное самолюбие. Не был ли тот давно забытый эпизод прообразом сегодняшних взаимоотношений?… И ему идти к Вагнеру?! Россини по молодости и легкомыслию многое мог снести, но он… он не стерпел бы отказа.
Так кризис достиг своей высшей точки. Как всякий больной, маэстро – может быть, впервые в жизни – почувствовал, что в его крови идет сражение между жаждой смерти и желанием жить, а он не является полководцем ни на одной стороне.
Пришел сенатор, обнял Верди, расцеловал его. Маэстро подавил в себе легкую беспричинную досаду. «Эта досада заранее определяет характер нашей сегодняшней встречи», – тут же подумалось ему. После обеда, когда оба закурили по гаванской сигаре, на этот раз из запасов маэстро, и благотворный, все сглаживающий дым подернул синью воздух, сенатор, собравшись с духом, завел разговор о том, что лежало у него на сердце.
– Верди! Ты, конечно, знаешь, как обстоит дело со мною?
– Как?
– Я конченый человек! Я уже не живу в ногу с веком.
– Так всегда только кажется. А поутру неизменно восходит солнце, или, как говорит Шекспир: «Каждый день идет дождь».
– Дело не во мне. Я-то, в общем, примирился. Странная вещь! Не сердись, это, может быть, покажется непрошеной навязчивостью. Но я свою ставку поставил на тебя. В моих мечтах ты – мой мститель.
– Ты классик, филолог. Я же у своего учителя Селетти едва добрался до неправильных глаголов. Так уж прости мне снисходительно, но я не улавливаю связь.
– Друг, у тебя тоже не все обстоит так, как мне хотелось бы, как мне нужно!
Маэстро бросил на сенатора неприступно враждебный взгляд. Он не выносил, когда кто-либо пробовал копаться в его психологии. Но он ошибся. Это меньше всего входило в намерения его друга.
– Верди! Я чую, что многое теперь не так, как прежде; что у тебя имеются не только два-три явных и грубых, но множество тайных и коварных врагов. Нечто направленное против тебя носится ввоздухе, нечто обидное даже, – обидное именно в силу этой невысказанности.
– Ага! Ты теперь тоже почувствовал? Меня это тревожит больше десяти лет. Началось с «Аиды»[42] и раньше. Мне уже много лет на репетициях в Ла Скала не подносят и стакана воды. Но это не враждебность, а скорее затушеванное пренебрежение.
– И сюда, в Италию, проползло это бесстыдство. Неблагодарные псы! Если молодежь отступилась от тебя, то это, может быть, в природе вещей. Но когда муниципальный совет Болоньи избирает господина Вагнера почетным гражданином – это чудовищно, Джузеппе, чудовищно! Хоть отрекайся от родины!
Маэстро зло усмехнулся.
– А что если они правы?
– Правы?! Правы?! Верди! Час настал. Великий час твоей жизни. Ты должен блистательно показать, кто ты есть, должен повергнуть в прах этих умников! Я все продумал. Хоть мы с тобой ровесники, ты все-таки много моложе меня, у тебя есть сила, у тебя достанет силы на двадцать произведений! Ты должен сразить их новой, неожиданной вещью, ошеломить их, посрамить! Должен восстановить наш божественный мир. Это твой непреложный долг!
Мясистые щеки сенатора дрожали. Верди с полным хладнокровием ответил:
– Во-первых, дорогой мой, ни один художник не создаст хорошей вещи, если он поставит целью сразить, ошеломить и посрамить. Малейшая суетность, малейший побочный расчет – это червь, подтачивающий тело произведения. А во-вторых… настолько и я еще помню латынь: «Tempora mutantur». Но мы-то, к сожалению, не всегда «mutamur in illis».[43] Очень вероятно, что общее настроение против меня объясняется разумными причинами. Мы оба, друг, должно быть, остановились на месте и сами не ощущаем этого обстоятельства во всей его страшной тяжести. И вот мы безрассудно восстаем против закона природы, против очень распространенного обычая: ржавые инструменты выбрасываются.
– Ты сам не веришь тому, что говоришь! Ты никогда так не думал, Верди! Иначе ты был бы не художником, не воином, а трусом. Нет, нет! Не упорствуй! Ты должен писать! Ты сам лучше всех это знаешь.
– Я должен писать, чтобы доказать их правоту, чтобы все ясно увидели, что я уже не тот, кем я был, а может, никогда и не был. Жизнь иной раз вносит запоздалую поправку, ставит прошлое на место – и это страшнее всего.
– Кто это говорит? Автор «Риголетто»?
– Ты все еще веришь в непреходящую ценность произведений искусства? Неужели коллекция твоего домохозяина Гритти ничему тебя не научила? Каждому свой день, и, заметь: один лишь день, когда бы ни расцвел он, раньше или позже!
– Ну, у тебя-то было уже немало дней, Верди! Создай себе еще один!
Маэстро помолчал. Потом тихо, безразличным тоном:
– А что если я работаю над новой оперой?
Сенатор вскочил и забегал по комнате:
– Он пишет! Я так и знал, что переработка старого – только отговорка! Он пишет!
– Так определенно я бы не сказал. Да и с годами мне становится все более неловко, когда из-за какой-то бумажной ерунды, из-за партитуры, поднимается такой переполох.
– Ты пишешь! О, я счастлив, Верди! Теперь ты покажешь этому варвару с его прихвостнями, кто ты есть! Доверься мне! Я не проговорюсь даже под пыткой. Это не «Марион Делорм», о которой ты как-то рассказывал мне? Ах, если не хочешь, ничего не говори мне!
Верди вдруг встал:
– Слушай, я, пожалуй, покажу тебе два куска из этой оперы. Мне очень интересно, какое они произведут на тебя впечатление. Но прошу: ты скажешь мне свой приговор только после второго!
Маэстро достал из папки с нотами «Лира» две тетради, по которым видно было, что уже вполне законченные части. Одна – монолог негодяя Эдмунда из первого акта, сложная, построенная на тонких современных приемах композиция, которую маэстро высоко ценил, хотя в последние дни она вызывала в нем изрядное недовольство. Вторая – дуэт Лира и Корделии, – сцена, которую он терпеть не мог. «Подогретая стряпня в духе „Риголетто“«, – думал он о ней.
Маэстро поставил тетради на пульт. Потом сел за рояль и с тем драматизмом в пении, который так захватывал, бывало, всех певцов, когда он с ними разучивал партии, начал, сам себе аккомпанируя, напевать монолог Эдмунда. Сенатор, пораженный силой исполнения, не мог, однако, разобраться в музыке этой арии. Ему казалось, точно Верди, отступив от своего пути, пытается обойти мелодию и подменить ее диссонирующими гармониями, далекими модуляциями и дразнящими скачками в интервалах.
Кончив монолог, Верди не взглянул на гостя и приступил ко второму номеру.
Тотчас безымянное, но радостное чувство подняло сенатора с кресла, весело, как всегда со времени «Набукко», заиграла кровь под ритмы боготворимого художника, тело стало легким, и, как напряженный мускул, блаженно остановилось дыхание.
Мелодию за мелодией дарил красивый тихий голос маэстро. Любовно сливались и, дразня, расплетались сладостные перепевы. В заключение они понеслись вскачь, и типичная для Верди стремительная «преста кабалетта» закрутила в бешеном водовороте захлебывающиеся восторги друга.
– Бессмертно, Верди, бессмертно! – вскричал сенатор, не владея собой. – Это выше всего, что ты когда-либо создал! Победа, победа!
Маэстро спокойно захлопнул рояль.
– А как тебе понравился первый кусок?
В тайниках сознания сенатор заподозрил, что ему поставлена ловушка. Сейчас он мог бы еще извернуться. Но он был слишком честен:
– Первый? О, все, что ты делаешь, великолепно. Но, может быть, я сразу и не понял эту вещь. Она трудно воспринимается. Прости меня, но это что-то не совсем итальянское. Зато дуэт, мой Верди, дуэт от бога!
Маэстро стоял чужой и чопорный. Волосы и борода, приметы седой доброты, потемнели, почернели синие глаза, лицо стало замкнутым. Теперь понятно было, что это человек держит связь между своими владениями и миром только через подъемный мост. Глубоко оскорбительным тоном и так, что его «ты» звучало неесте-стенно, он сказал:
– Первый отрывок, монолог, очень хорош, даже превосходен. Дуэт – пустая забава, поделка, устарелая приманка для публики. Теперь я, по крайней мере, знаю, что ты понимаешь не больше, чем понимала публика тридцать лет назад. И ты хочешь, чтобы я написал новую вещь? Последуй я твоему совету, ты первый отступился бы от меня. Если слева у меня сплошь враги, то ты мой враг справа!
Неразумные, некрасивые, оскорбительные слова сами срывались с губ маэстро, и он не мог их сдержать. Он, как пьяный, не знал, что делает. Сенатор двадцать секунд тупо и неподвижно глядел на него. Потом подбородок его задрожал, толстая шея зловеще вздулась и полиловела, он беспомощно шарил руками, ища шляпу. Потом с тяжелой одышкой снова остановил на маэстро долгий, долгий взгляд:
– Чтобы не сделаться поневоле твоим врагом, я ухожу, Верди!
Больше он не мог проговорить ни слова. Задыхаясь, он схватил в охапку пальто и ушел.
Маэстро, все такой же чопорный, смотрел ему вслед. Глубокий стыд и еще более глубокая боль росла, раздирая диафрагму.
Какой черт это сделал? Неужели он? Так бессмысленно обидеть верного, самоотверженного друга! И за что? За то, что тот не растаял от восторга перед вымученным музыкальным эскизом, который и автора ни в малой мере не удовлетворяет! Ну и безобразие! До чего он так дойдет? Теперь он потерял и эту душу!.. Он заскрипел зубами. Хотелось кричать от тоски.
Долго еще он стоял, застыв на месте, как человек, позорно оплошавший и готовый провалиться сквозь землю. Потом принялся быстро кружить по комнате. Мимоходом он с размаху ударил кулаком по ящику, где лежал «Тристан».
III
А знаете ли Вы, что для художника счастье, если его ненавидит пресса?
Из письма Верди, которое цитирует К. БраганьолоВ тот же вечер маэстро, совершенно уничтоженный, пришел к сенатору и стал уверять его, что сам не знает, почему наговорил глупые и возмутительные слова, – они ужасают его не меньше, чем самого оскорбленного. Сенатор нисколько не сердился, но был потрясен. Горше, чем от вспышки злобного каприза, страдал он от сознания: «Верди болен. Его дух, его гений в опасности. Тяжелая инфекция проникла в его мозг, в его сердце. Еще немного, и он потеряет самого себя… Хотел бы я помочь ему. Но как? Как? Надо действовать крайне осторожно! Я сам, как последний болван, вызвал катастрофу, ударив своим злосчастным ответом по оголенному нерву. Кто бы подумал, что этот здоровый, спокойный, уверенный человек охвачен таким смятением?… Какой я, однако, простак! Конечно, мои страдания каждый сразу заметит. Но он? Всегда рассудительный, умеющий правильно все разрешить, знаюший себе цену, – и вот он тоже сломлен! Верди сломлен! Непостижимо! Его тяжелая, смертельно опасная болезнь заключается в том, что он презирает свой дуэт – самую истинную, самую вдохновенную музыку. Этим презрением он упраздняет собственную личность, зачеркивает своя „я“. Ему в самом деле надо помочь. Он, как дитя, нуждается в матери, которая лаской излечила бы его тяжко раненное самосознание. Итак – осторожность!»
Вечером, когда Верди каялся перед ним, сенатора как будто подменили. Исчез его горький юмор, вечная горестная оглядка на былые времена и вечное его недовольство, от которого часто становилось невесело и окружающим. На извинения маэстро он отвечал ласковым смехом: он не вправе обижаться на нечаянную грубость. Уж кому-кому, а ему никак не приходится… чья б корова мычала… Он так часто сам грешит несдержанностью. В этом, как известно, альфа и омега его собственного неуспеха в жизни. К тому же он сам настолько все-таки художник, чтобы понять, как сильно должно было задеть композитора такое глупое суждение о монологе Эдмунда. Эта музыка, правда, не сразу доходит, но зато потом она преследует вас на улице, не отстает на поворотах, крадется за вами следом в темную комнату, точно бандит, точно наемный убийца. Вот это что называется характеристика: от подлеца Эдмунда, как от приблудного пса, никак не отвяжешься!
Верди, опечаленный, пытался напускной веселостью отплатить другу за его страдания.
Сенатор разошелся вовсю. Он отвел разговор от щекотливого предмета к успокоительно обыденным вещам: привидения, когда мы с ними встретимся, всегда оставляют у нас утешительное чувство, будто на самом деле только они и есть настоящая жизнь. Он сумел перейти на забавные шаржи, веселые анекдоты, даже на легкую болтовню и за один час добился того, что Верди, когда уходил, был искренне весел и нашел как будто прежнее свое равновесие. С крыльца сенатор еще раз крикнул ему вслед:
– Почтенный старец из Сант Агаты, боюсь, ты слишком мало спишь. Сегодня сразу ложись в постель! Я сделаю то же самое.
Маэстро возвращался в Сан Заккарию на пароходике. Удивительно, как мало людей знало его в Венеции. В Милане, в Генуе, в Парме это было бы невозможно, а тут он спокойно сидел на скамье, и ни крестьянка с баулом, ни два разговорчивых господина напротив даже не смотрели на него. Это успокаивало, снимало строгую ответственность. Все же он не чувствовал себя совсем вне наблюдения. В последние дни он замечал, что какая-то длинная мужская фигура часто переступает ему дорогу: пойдет за ним неровным шагом, забежит вперед, пристально посмотрит на него, исчезнет и вынырнет опять. Вот и сейчас та же тень вихрем пронеслась по темной палубе и опрокинула где-то корзину с бутылками, из-за чего поднялась перебранка, в которой голос виновника звучал задиристо и нагло. Наконец незнакомец беззастенчиво и прямо пробился к скамье маэстро, как будто собираясь согнать его с места. Однако в двух шагах от Верди он затормозил, вскинул руки, качнул верхней половиной туловища и опустился на скамью напротив, прямо под коротенькой мачтой с керосиновым фонарем. В свете этого фонаря маэстро увидел теперь одно из самых подвижных и самых отталкивающих лиц, какие ему доводилось встречать. Только в глазах горела гордость высшего существа, что смешно противоречило рту: приоткрытый рот как будто сам на себя брезгливо кривился, и в его пустой черноте висел большой зуб, привораживая взгляды своей неестественной формой.
Маэстро не мог уяснить себе, сидит ли перед ним умалишенный или же этот человек затаил против него какие-то опасные намерения, потому что незнакомец все время мигал, посылал ему двусмысленные взгляды, вызывающе дергал головой, бормотал, шипел, посмеивался; каждый член его тела, каждая черточка лица были охвачены неприятной дерзкой суетливостью. Только когда маэстро перехватил один из этих бегло-навязчивых взглядов, незнакомец потупил глаза и сгорбился, как под розгой. Будто зная в точности, куда направляется Верди, он вскочил как раз перед той остановкой, где маэстро высаживался, и в толкотне на сходнях протискался чуть не вплотную к своей жертве, так что Верди должен был весь подобраться и запахнуть пальто, чтобы не соприкоснуться с отвратительным существом. Только у ворот гостиницы долговязый отстал от преследуемого, и тот, не устояв перед соблазном, оглянулся. За ним, широко раскорячив ноги, стоял человек и на вытянутых руках держал в воздухе что-то невидимое.
Верди схватил глазом эту картину, и на мгновение с необычайно яркой остротой осветилась в его сознании вся нелепость того, что он приехал сюда и ведет здесь несвойственную ему, почти хаотическую жизнь. Почему он не остался в Генуе, почему не послушался жены?
На пороге его встретил Беппо. Он только что развел в камине огонь, который теперь в насторожившейся комнате конспираторски шептался сам с собой.
– Синьор маэстро, тут был один господин и передал вот это. У Верди очутилась в руках что-то печатное, какая-то брошюра или театральная программа, противная на ощупь.
– Что за господин? Кому известно, что я здесь?
– Он не назвался по имени, а только сказал: «Передай своему господину».
Когда Беппо удалился, маэстро прочитал заглавие:
«Музыкальный алхимик.
Орган борьбы с подкупностью в области оперного театра, музыкальных издательств и критической печати в Италии. Издается во имя и во благо истинного искусства
композитором В. Сассароли».
Внизу мелким шрифтом было набрано в виде эпиграфа:
«Увидишь ты золото, глядя в реторту, Если достанет отваги эссенцией острой Правду связать, кривду отправить к черту!»Текст был отпечатан на неаппетитной серой и дряблой бумаге тем бледным шрифтом, который издавна служит для опубликования кляузных пасквилей.
«Сассароли?» – задумался маэстро, но в памяти не возникло никакого твердого представления. Имя казалось скорее смешным, чем зловещим. Он раскрыл тетрадь. Как в восточной сказке, круто извился из бутылки нечистый дух.
Собственно, два нечистых духа: первый – чудовищно уродливое самомнение; второй – не менее уродливая ненависть к нему, Верди!
Самомнение сказывалось во множестве глупо-тщеславных примечаний, в перепечатке писем, давнишних рецензий, в напыщенном предисловии и в том, наконец, что автор, упоминая собственную особу, печатал свое имя жирным шрифтом. Среди прочего можно было прочитать такие вещи:
«В 1840 году, когда наш маэстро и издатель был еще любимым учеником знаменитого Саверио Меркаданте, этот высокопочтенный человек написал ему приводимое нами ниже весьма хвалебное письмо о его композициях». Засим следовало равнодушное высказывание, где вся похвала сводилась к словам: «Если ты хочешь чего-нибудь достичь, работай и впредь с тем же усердием!» К этим словам, заключившим в себе якобы намек на признание, адресат пристегнул следующую длинную тираду: «Меркаданте, как мы знаем, был очень строгим ценителем искусства. Он никогда не высказывал одобрения недостойному. Нашему маэстро, никогда не искавшему суетного успеха, он предрек блестящую карьеру. Но каков бы ни был приговор великого человека, ослепленная толпа судит иначе. Одураченная продажными журналистами и корыстными издателями, опьяненная перегаром пошлой музыкальной макулатуры, она рукоплещет какому-то господину Верди, в то время как маэстро Сассароли остается в безвестности. Однако слишком гордый, чтобы подражать методам грязных, падких на успех душонок, он сам твердо решил держаться в тени, покуда день в наши темные времена освещается только тем потайным фонарем, каким пользуются во мраке вор и шарлатан».
В другом месте разбитной рукой газетного писаки состряпана была следующая заметка, пестрящая всеми шрифтами:
«Как сообщает нам местный читатель „Алхимика“, в прошлое воскресенье муниципальный оркестр города Орвьето под восторженные аплодисменты собравшейся на площади многочисленной публики исполнил увертюру к опере маэстро В. Сассароли „Riccardo duca di York“.[44] Сей факт тем более примечателен, что наш издатель не знает, каким путем капельмейстер этого весьма незаурядного оркестра, один из его приверженцев, сумел раздобыть необходимые для исполнения ноты. Знамение времени! Наши читатели знают, что это музыкальное произведение, к которому маэстро, первый и единственный среди итальянских композиторов, сам написал стихотворный текст, было поставлено в генуэзском театре, Дориа» и вызвало у публики небывалую бурю восторга. Однако, несмотря на бешеное возмущение Лигурийского народа, пресса не осмелилась отметить этот успех. Почему? Потому что господин Джузеппе Верди, обосновавшийся в Генуе, испугался за свое пошатнувшееся единовластие и немедленно мобилизовал всю шайку тех, кто живет на его счет и на ком он, в свою очередь, наживается сам. Поднялась травля. На бедную дичь спустили свору прикармливаемых фирмой Рикорди критиков, дирижеров, певцов, музыкантов, даже театральных служащих, подстегиваемых угрозой лишиться насущного хлеба. После первого же блестящего спектакля жертву удушили. И вот по сей день это исключительное произведение, независимо и оригинально предвосхитившее реформу Рихарда Вагнера, остается ненапечатанным и больше ни разу не исполнялось на сцене.
Честь и слава высокому подвигу капельмейстера из Орвьето! Однако маэстро Сассароли, сознавая всю глубину национального позора, решил нигде и никогда не допускать при своей жизни исполнения этой партитуры. Возможность ее воскрещения после смерти автора давно предусмотрена и обеспечена его завещанием».
Верди прочитал все эти нелепые выпады без тени гнева или волнения. Только горько было думать, до чего же может дойти человек! Тем более горько, что он, Верди, одним своим существованием оказался виновен в том, что другой человек, быть может знавший толк в искусстве и даже умевший писать музыку, впал в исступление, ненависть, в эту манию преследования.
Приметил он, между прочим, одну подробность: в пасквиле его неизменно называли господином Верди. Полемические нравы остаются до смешного неизменны. Везде и всегда этот пристегнутый к имени «господин» означает глубочайшее презрение.
Затем ему бросилось в глаза заглавие одной из рубрик:
«Истинные суждения не подкупленной фирмой Рикорди прессы о господине Верди».
Этот человек был, как видно, чемпионом газетного чтения. Из самых мелких захолустных листков, самых крупных газет, обозрений иностранных журналов – отовсюду, где только можно было выискать неблагосклонное слово о маэстро, это слово было выцарапано и вставлено сюда. Напыщенные жалобы борзописцев юга на то, что Верди б своих последних вещах подменяет итальянскую манеру немецкой; упреки за недостаточную оригинальность мелодий в новом варианте «Бокканегры», указания на вычурность гармонии и суетную погоню за модой в той же вещи – и так далее.
Он наметанным глазом читал это все, эти издавна знакомые перепевы, не давая им по-настоящему запечатлеться в мозгу. Каждый укор был давно его собственной мыслью отточен, как нож.
Только одну выдержку из фельетона какой-то северо-немецкой газеты он прочитал внимательно. Может быть, по той причине, что любезный распространитель брошюры строчка за строчкой по линеечке подчеркнул ее красным карандашом.
«Э. Ганслик прав, когда упрекает Верди в пошлости. В новейшей истории театра нет ничего более необоснованного, чем успех этого человека.
Его сюжеты представляют собою то вавилоно-дилетантскую мешанину («Трубадур»), то пресную сентиментальность о соблазненных девицах («Травиата»), то скабрезную бульварщину («Риголетто»). И это еще лучше. Когда вспоминаешь «Эрнани» или «Власть судьбы», то просто темнеет в глазах. Но музыка своею тривиальностью далеко превосходит эти пиитические перлы. Мелодии уныло-симметричны, бесконечно скучны, снотворно-однообразны. Холодное, надуманное brio,[45] грубый прием задержанных аккордов, которых каждый раз заранее ждешь, – тщатся поставить на ноги эти мелодии. Ужасные унисонные хоры в ритме полонеза с успехом преследуют несложную цель – раздражать публике нервы. О гармонии сказать нечего, так как она попросту отсутствует. Тема жидка, как соло на пистоне. Инструментовка с невыносимым однообразием выпискивает и выстукивает быстренькие оловянные трезвучия.
Россини, Беллини, Доницетти еще держались грансиньорами, коим, как истинным аристократам, подобает известная трафаретность речи. Верди плебейским кулаком вдребезги разбил наследие. Он – самая обыкновенная бабочка-гусеница. И немецкая публика, смахнув со счета произведения Вебера, Мартнера, Шпора, новые творения Рихарда Вагнера, до сих пор валом валит на оперы Верди и требует, чтобы они составляли основу репертуара. Раньше (и это было еще до некоторой степени понятно) немцы льстились на итальянскую мишуру, теперь же они купаются в итальянском навозе».
Прочитав это, маэстро сразу почувствовал дурноту, у него засосало под ложечкой, как если бы он поднял страшно тяжелый камень. Пудовая гиря давила на мозг, и все усилия мысли скинуть ее были напрасны.
«Как же это? Я никогда не замышлял зла! Я почти и не жил в своей жизни, я только и делал, что писал ноты, ноты, ноты во все часы дня и ночи. Безотрадные часы по большей части – ведь редко когда загорится искра, все же прочее – работа.
И вот после пятидесяти лет каторжного труда я должен принять такое поношение? Разве нет у меня чести, или я не в праве отстаивать ее? Любой офицер, купец, ремесленник, крестьянин, рабочий стоит под защитой закона. Посмей кто-либо их оскорбить! Только я один беззащитен. Каждый зубоскал может смертельно оскорбить меня!»
Сделав сильный рывок, маэстро встал. Гнусная брошюра упала на пол.
«Итальянцы попрекают меня неметчиной. Немцы отметают мое творчество как итальянский хлам. Где же я дома, где моя родина?»
Ему пришел на память стих, который однажды в какой-то книге он встретил как цитату:
«Для гибеллинов был я гвельф, для гвельфов гибеллин!»
Теперь с большой силой растрогали его эти слова неведомого отверженца. Слезы проступили у него на глазах, когда он поднимал с пола злую книжонку.
Он прочел на обложке: «Этот номер печатается тиражом в двести экземпляров». Двести читателей, значит – двести Сассароли, двести ненавистников, двести соперников!.. А я? Я тоже соперничаю с другим! Чего хотят друг от друга люди? Какую муку, какую сумасшедшую муку готовят они один другому? Это не в природе человека. Наша душа на ложном пути, на страшном пути! Наше несчастное «я»! Мы сами им помыкаем. Мы позволяем другим помыкать им. О, ложный путь!
Маэстро вспомнил вдруг, как однажды из-за болезни горла он долго не мог курить, а потом, когда снова наконец затянулся сигаретой, дым табака, недавно столь приятный, вызвал в нем страх и омерзение.
«И здесь то же самое! Наши радости – ядовитый наркоз, а потому и страдания наши таковы же. Яд, яд! Мы разучились распознавать истинный вкус вещей! И очнуться, боже, слишком поздно!
Сассароли?…»
Верди положил грязно-желтую брошюру на стол, ему непременно нужно было видеть ее перед собой.
«Сассароли! Да ведь это тот самый Сасса…»
Теперь он вспомнил все.
Хоть было уже довольно поздно, маэстро сел за стол. «Лир» лежал раскрытый. С трезвой героической стойкостью, которая уже ни на что не надеется, ничего для себя не домогается, давно стерла с доски все свои личные заслуги и не видит перед собою счастья, а лишь последний, бесплодный долг, он приступил к работе.
IV
Слово разряжает, расслабляет, уничтожает.
Из письма Верди, которое цитирует К. БригоньолоСегодня, через сорок лет после тех событий, нелегко было бы собрать сведения о жизни и деяниях того человека, который так навязчиво преследовал по пятам маэстро Верди во время его тайной поездки в Венецию и подсунул ему пасквильную брошюру «Музыкальный алхимик». Если б нашелся чудак вроде Гритти, который задался бы целью восстановить анналы итальянского оперного творчества за девятнадцатый век, и если бы этот чудак обладал необычайным исследовательским талантом, то в его анналах долгоногий человек с почти беззубым ртом, Винченцо Сассароли, фигурировал бы как автор единственной, один лишь раз данной на сцене и провалившейся оперы. Что этот музыкант сочинил, кроме того, одну оперу-буфф «Санта-Лучия», одно «Tantum egro»[46] да одну, лишь раз исполненную мессу для хора с большим оркестром, что он был пианистом, органистом, преподавателем теории контрапункта, журналистом и памфлетистом, – такого богатства сведений нельзя было бы требовать даже от нашего всезнающего чудака.
Все же в одной давно распроданной книге мы встречаем имя Винченцо Сассароли. Правда, не так, как предвещал он сам везде и всюду в устной и письменной похвальбе, – не посмертным победителем Верди выступает он перед потомством, а печальной бабочкой, кружащей над ярким огнем. Эта книга, упоминающая о «племяннике и любимом ученике знаменитого Меркаданте», – работа Артура Пужена: «Жизнь и творчество Дж. Верди».
На каком макулатурном складе догнивают ныне малочисленные экземпляры «Музыкального алхимика» и памфлета «Размышления о современном состоянии музыкального искусства Италии вообще и о художественной ценности „Аиды“ и „Мессы“ господина Верди в частности», этого сейчас не знает никто.
Только Пужен сохранил для потомков два письма Винченцо Сассароли, обозначавшие кульминационную точку в трагедии этой жизни. Первое письмо, адресованное Тито Риккорди, в доблестном тоне какого-нибудь Гракха ставит издателю требование, чтобы тот, договорившись с Верди, предоставил ему, Сассароли, право написать новую музыку к «Аиде». Он-де, прочитав и прослушав египетскую парадную оперу всемирно прославленного маэстро, решил вызвать его на поединок. С обеих сторон должна быть избрана конкурсная коллегия из шести композиторов с седьмым во главе, коего назначат эти шестеро. Если приз будет присужден ему, Сассароли, то Рикорди обязуется уплатить за новую «Аиду» гонорар в двадцать тысяч франков, каковая сумма еще перед открытием состязаний должна быть вручена доверенному лицу. Если же, напротив, жюри отвергнет его партитуру, то депонент может получить обратно свои деньги. Но так как работа над «Аидой» лишит композитора всех прочих возможностей заработка, то он требует авансом некоторой части гонорара, достаточной, чтобы снять с него заботу о хлебе насущном.
«Как Вы видите, – говорит в заключении письмо, – это есть формальный вызов, с каковым я обращаюсь к Верди и к Вам, его издателю, и я жду на этот вызов Вашего незамедлительного ответа. Единственный риск, какому Вы подвергаете себя при этом состязании, заключается в потере вышеупомянутого аванса, на который, однако, если Вам это будет угодно, я могу представить поручительство.
Я же со своей стороны приму меры, чтобы Вы после такого моего предложения не выискали возможности раздавить меня, принудить к молчанию и затем восторжествовать надо мною: все газетные телеграммы из Каира, Парижа, Неаполя, превозносящие «непобедимого» Верди, будут посылаться корреспондентам на добровольных началах и без давления с нашей стороны».
Это курьезное письмо издатель дословно напечатал в юмористическом отделе своей «Гадзетта музикале» с коротким шуточным примечанием. Но разве этим остановишь отчаянного соревнователя? Директор могущественной фирмы вскоре нашел на своем письменном столе второе письмо, на этот раз заказное, с тщательно выписанным адресом.
«Генуя, февраль 1876 г.
Высокочтимый синьор!
В юмористическом отделе Вашей газеты я нахожу перепечатанным мое письмо от третьего января. В этом письме я бросил вызов Вам и господину Верди. Мой вызов имел целью доказать всему художественному миру, что его оперу «Аида» можно было бы сделать несравненно лучше.
Я бросил клич борьбы, потому что вижу, как подкупленная пресса объявляет «Аиду» не только шедевром господина Верди, но и неизмеримым прогрессом на пути искусства.
Я, всю жизнь горячо любивший искусство, всегда изо всех сил защищавший его от поносителей, могу ли я спокойно смотреть, как художникам и знатокам предлагается восторгаться вещью, которую, по-моему, лишь при большом снисхождении можно назвать посредственной.
Вы в моем вызове увидели только плохую остроту и, к ущербу для меня, опубликовали мое весьма серьезное письмо под видом шутки, дабы тем позабавить Вашу публику.
Сударь! Если бы мне вздумалось пошутить, я избрал бы мишенью других лиц, а не Вас и господина Верди. Мне не до шуток, когда дело идет о том, чтобы встать на борьбу с коррупцией в искусстве. Однако Ваш образ действий неоспоримо доказывает, что мне удалось крепко задеть Вас моим вызовом.
Угодно ли Вам услышать правду? Вы испугались! Испугались, потому что дело идет не о таком приговоре, какой могла бы вынести обработанная заранее публика.
Испугались, потому что при поставленных мною условиях подкупленная пресса не сумеет оказать давление на жюри.
Испугались, потому что приговор вынесут художники, которых не одурачишь длинными трубами, двухъярусной сценой, негритятами, боевыми колесницами, триумфальными быками, корреспонденциями, Каиром, хедивом и фараоновым скипетром.
Испугались, потому что избранные судьи-композиторы в мудрости своей, может быть, станут судить по незыблемым законам красоты.
Испугались, наконец, потому, что подвергнется обсуждению композитор, чьи заслуги при посредстве неустанной рекламы, через происки издательств и газет изображаются перед миром как нечто непревзойденное.
Страх Ваш усугубляется тем, что это был бы не первый случай, когда музыка господина Верди подверглась бы сравнению с моею. И горе нам, если для автора «Аиды» оно окажется так же невыгодно, как в первый раз.
Ибо, воистину, он не единственный, кто умеет связать две ноты, как нам ежедневно стараются доказать дорого оплачиваемые критики.
Если господин Верди, как утверждают, сумел в своей «Аиде» слить воедино немецкую и итальянскую школы (что весьма спорно), то я должен добавить, что он отнюдь не первый, кто в этом преуспел. Ибо в 1846 году, когда Верди еще честно гнал и гнал свои кабалетты (да делает ли он и по сей день что-либо другое?), неподкупленная критика восторженно воздавала мне ту же хвалу по поводу моих партитур со сложнейшим контрапунктом. Однако эти партитуры, представленные на просмотр в издательстве Рикорди, я сам вытребовал назад, воздержавшись от их публикации.
Неужели это все «юмористика», господин Тито Рикорди? Но если это не юмористика, Вы бы лучше поостереглись называть этим словом вещи более важные, нежели Вам представляется.
Довольно пускали пыль в глаза дурачью! Вашему непогрешимому Верди и Вам, его всемогущему издателю, бросил вызов человек, бессильный рядом с Вами. Вы на вызов ответили смехом. Этот ответ неопровержимо доказал мне, что вы испугались!»
Далее Сассароли переходит к вопросу о потребованном им гонораре в двадцать тысяч франков. Сумма, полагает он, не слишком высока для фирмы Рикорди, платившей значительно больше за произведения, которые давно и навеки почили сном забвения. Со злобной гордостью всегда отвергаемого он добавляет:
«Я потребовал эту сумму, потому что четыре года тому назад, в октябре 1871 года, через знаменитого маэстро Маццукато я предложил Вам одну свою opera semiseria[47] совершенно бесплатно, с тем лишь условием, чтобы вы посодействовали ее постановке… Вы великодушно отказались… Так что я не рискую предложить Вам бесплатно мою новую партитуру – из опасения, что уж это одно послужит для Вас основанием к отказу. И еще последнее слово: Вы с Вашей всеми признанной нелицеприятностью, конечно, напечатаете также и это мое второе письмо. Но если вы не желаете, чтобы я во всеуслышанье обвинил Вас в трусости, Вы поместите его не в юмористическом отделе!»
Когда и это письмо, наперекор угрозе, появилось все-таки вотделе юмористики, никто так не обрадовался, как Винченцо Сассароли. С выходом в свет очередного номера «Гадзетта музикале» пробил для него великий час. Его письма – что не удалось ни одному из прочих его творений – стяжали успех – и успех, обусловленный не только комической их стороной.
Надо учесть, что Италия XIX века, даже в последние его десятилетия, не в пример сегодняшней, еще кишела композиторами. Возможно, это было наследие политической раздробленности, но каждая деревня, каждый городок, каждый округ имел своего маэстро.
В прежние времена это явление объяснялось тем, что каждый кропатель нот должен был обслуживать свое родное захолустье операми и мессами. Эта традиция средневекового города со временем сошла на нет, партикуляристские задачи отпали, и как пережиток прошлого осталось разочарованное, хоронящееся от света, озлобленное племя музыкальных париев. В пору расцвета Россини каждый из этих сочинителей находил еще свое место в жизни и мог заработать на хлеб, потому что «Пезарский лебедь», как его называли, болонский домовладелец, парижский гастроном и биржевик был воплощением державной лени, гением, не знавшим честолюбия; в пятнадцать лет он уже проявил себя, солнце его славы не только не вредило «младшим братьям во Аполлоне», но даже всегда готово было их пригреть, лишь бы они не уклонялись от его лучей.
Каким приятным товарищем был этот самый ядовитый из гурманов, этот сладострастнейший злоязычник, этот покоритель мира – Джоаккино Россини!
Другое дело – неотесанный мужик, маэстрино из Буссето, которого никто никогда не видал смеющимся, – так честолюбив был этот синеглазый дьявол!
Выйдя из их же цеха, вначале не достигая даже и среднего уровня, он первыми своими операми сразу всполошил их всех. О, как возненавидели они эту серьезность, эту совсем не латинскую печаль, эту суровость, готовую все растоптать. Он был чужак, он сторонился их, он не вступал в их братство: он был из низших слоев – бесцеремонный и чудаковатый, ничему не обученный. И все же они не ушли от судьбы, которую им, сыновьям богоравного Россини, уготовил Верди.
Через двадцать лет лучшие из них были оттеснены, через тридцать – они все были зачеркнуты, а через сорок – буссетанец властвовал единолично на обоих полушариях. Повсюду народы блаженно стонали под сладостно-садистским бичом «Трубадура»; оперы Мейербера и более старые оперы оказались преданными забвению, и только в последние годы интеллигентная молодежь в лунатическом трансе тянулась навстречу вагнеровскому экстазу.
Тысячи композиторов десятилетиями сидели оглушенные в своих кофейнях и харчевнях. К этому человеку никак не подберешься, он неуязвим, он не дал повода ни к одному двусмысленному анекдоту, ни к одной пикантной сплетне, которая могла бы столкнуть его с пьедестала! Он и революцию принял с кавуровским мудрым спокойствием, чуждым людской суеты, и подчинил ей свои грубо-стремительные ритмы. И потом: он совершенно перевоспитал публику. За него народ.
В кофейнях за столиками завсегдатаев ненависть прикусила язык, потому что чванство было бессильно против этого холодного демона, который нигде не показывался, ни с кем не заводил ни дружбы, ни вражды и никому не доверялся. Все – хочешь не хочешь – молчали.
Но вот наступило десятилетие, когда и Верди замолчал и только однажды допустил неосторожность – поставил на сцене неуверенную переработку одной своей старой партитуры.
Старик окончательно сошел на нет!
Подавленная ненависть, мстительная злоба на маэстро подняли голову в час его слабости, и хотя никто не отважился на прямое нападение, все же ослиные копыта со всех сторон грозили затоптать мнимо мертвого хищника.
Такова была психическая обстановка, когда Сассароли обрушился своим письмом на Рикорди, который, как представитель маэстро, как монополист, подавлявший всякую конкуренцию, навлек на себя не меньшую ненависть.
Сассароли сделал то, на что никто до сих пор не осмеливался: бросил богатырю сумасбродное обвинение в нечистоплотных махинациях, в подстраивании своего успеха, в бездарности и вызвал его на борьбу. Как ни было все это нелепо, как ни потешались коллеги над самим автором «Дука да Йорк», все же в данный момент своей дурацкой отвагой он создал себе популярность. В кофейнях, где раньше старого пасквилянта едва замечали, да и то с жалостливым пренебрежением, его стали вдруг приветствовать как борца за правое дело. Теперь у него завелся собственный столик, и даже молодежь, склонная всегда к иронии и дерзости, воздавала ему почет из ненависти к Верди, то есть к авторитету славы и к технике вчерашнего дня. Фигура стареющего человека, долговязая тень отверженца, который всегда, сгорбив спину, прокрадывался стороной, вдруг расправилась. Теперь он председательствовал и ненасытно упивался собственным голосом, ночи напролет с бичующим красноречием прокурора импровизируя обвинительный акт против низкого, бездарного, двуязычного архипреступника Верди. Прожигатели жизни, завсегдатаи ночных кофеен охотно отдавались потоку этих страстных филиппик, потому что поношение всего вернее убивает время и приятно успокаивает гложущее чувство собственного ничтожества. В предутренних сумерках новый герой провожал до дому одного за другим новых своих друзей. Он ни в коем случае не позволял, чтобы его самого провожали домой. Он не мог допустить, чтобы общество, когда он останется один, продолжало свою беседу в настороженно подслушивающей ночи, обсуждая его особу. С последним человеком нужно отправить ко сну последний укор, последнюю возможность изобличения. Только когда замыкались последние ворота, он мог свободно и безбоязненно лечь и сам в постель.
Но такой успех, основанный на газетной шумихе и на злорадстве, нуждается в постоянном обновлении. Великая пора длилась для Сассароли, только покуда читались первые два номера «Гадзетта музикале», когда же вышел третий, несчастного постигла его судьба: Рикорди перестал печатать лившиеся потоком негодующие письма любимого ученика Меркаданте.
Для Сассароли начался закат.
Красноречие сокрушителя славы, противника прессы, душителя коррупции было слишком проникнуто ядом личной обиды, чтобы оно могло обмануть кого-нибудь, кроме двух-трех юнцов. За два месяца злоба Сассароли, отнюдь не представлявшая собою действенного средства борьбы, наскучила другим композиторам и их приверженцам.
К тому же не было уже и трибуны, шутки ради предоставленной ему тем самым издателем, на которого он нападал. И вот, чтоб окончательно не потерять под ногами почву, Сассароли написал брошюру против Верди и даже нашел издательство, польстившееся на выгоду сенсации. Книжонка заканчивалась старозаветной фразой: «Я вышел на арену и жду!»
Но даже самым горьким ненавистникам и неудачникам памфлет казался слишком глупым. Из тысячи экземпляров брошюры было продано только тридцать восемь. Сассароли с горя слег в жесткой горячке. Через три недели он встал полупомешанный.
Облик его необычайно изменился, волосы и зубы выпали, рот в отвращении перекосился, как у желудочного больного, которому претит его собственное нутро. На улице он визгливо разговаривал сам с собой, вечно спотыкался о собственные длинные ноги, замахивался в небо кулаком, путал знакомые лица и, случалось, забывал, где живет. Никто не желал больше с ним разговаривать. Прежние приятели переезжали с квартиры на квартиру, чтобы только отвязаться от него, ученики отказывались от уроков, потому что им было с ним не по себе. Началось обнищание в любом смысле этого слова.
Только в его глазах заблудшей, тюремной жизнью жил еще отблеск духовного высокомерия.
Изо всех смертных в лапы дьявола всех легче попадает кляузник. Его слепой, упрямый лоб, его дряблые щеки всегда и повсюду носили на себе клеймо сатаны, хорошо знакомое средневековым заклинателям бесов.
Обида и ненависть источили душу Сассароли, как жучок подтачивает дом. Но так как ненависть есть отрицание и, следовательно, не есть реальность, она всегда стоит в зависимости от скрытых токов любви. И вот когда Винченцо Сассароли оправился от болезни, он всем своим уже совсем осиротелым существом привязался к предмету этой страшной ненависти, к личности Верди.
Он начал в Генуе караулить его, часами ждал под его окнами в Палаццо Дориа и на расстоянии двадцати шагов следовал за маэстро в его одиноких прогулках по его излюбленным улицам, выходившим к морю. Если преследователь, несмотря на привычку вслух вести монолог и размахивать руками, до сих пор оставался незамеченным, то этим он обязан был рассеянности Верди, всегда погруженного в свои мысли и мечты.
При этом все его существо горело желанием (как могло оно осуществиться, он не знал), чтобы увенчанный лаврами враг заметил его. Каждый помысел его, каждое дыхание, каждое движение, самый сон его носили имя Верди!
Через несколько лет после тех знаменитых писем к Рикорди Сассароли на свои последние франки основал альманах «Музыкальный алхимик». Кроме нескольких бешено честолюбивых юнцов, которым всегда приятно разрушение, никто не читал этой желтоватой тетради. И хотя каждый номер печатался не более как в двадцати экземплярах (всего их вышло к тому времени три), издатель проставлял на книжицах более высокую цифру тиража.
«Алхимик» в его бесплодном суесловии поглощал у издателя все его время. В светлые минуты, когда он доставал из ящика свои партитуры или открывал запыленный рояль, Сассароли с ужасом чувствовал, куда завлекла его эта навязчивая идея.
Разве он не музыкант? Разве он родился бумагомарателем и пустомелей? О, если бы хоть раз, пока не поздно, могла заговарить за него его музыка! Все, все тогда переменилось бы! А он хранил (в этом он с каждым днем сомневался все меньше и меньше), он хранил в своем письменном столе сокровища захватывающей самобытности, смелого почерка, звездного величия. Это стало для него так ясно, что он и не думал проверять ценность этих сокровищ. Кого он должен привлечь к ответу – себя или мир? Разве не лежит на его нотах проклятие немоты, потому что так повелел некий интриган и подхалимы газетчики? Могла ли быть другая тому причина? Мог ли он дойти до такой слабости, такой распущенности, чтобы другой причиной объяснить свою неудачливость в искусстве?
И вот он вновь и вновь сторожил у ворот Палаццо Дориа. Вновь и вновь подавлял рвущийся из горла крик, сердцебиение, мысль об убийстве, когда в коричневом пальто, в широкополой шляпе на седой голове патриарха выходил из дому маэстро и добродушно щурился на солнце.
Однажды утром, пройдя вслед за своею жертвой на вокзал, он стал у кассы бок о бок с Верди. Маэстро взял билет первого класса в Венецию через Милан.
Сассароли побежал домой, вынул из ящика последние луидоры материнского наследства, сложил свои заношенные вещи в обшарпанный чемодан, сунул туда же несколько номеров «Алхимика» и следующим же пассажирским поездом, в вагоне третьего класса, выехал в Венецию. Надежда воодушевила его. Он почуял, что враг занял слабую позицию.
V
Почти сверхъестественным инстинктом вражды Сассароли с первых же дней открыл местожительство маэстро в Венеции. Тот же инстинкт подсказал ему, что Верди переживает смутную пору, что он беззащитнее, чем в Генуе, и что здесь, единственно в этом городе, можно будет – наконец-то, наконец-то! – припереть ненавистного к стене.
По переулкам вверх и вниз, под портиками Сотто, по мостикам, церковным площадям, по рынкам – повсюду он взволнованно следовал за маэстро и даже набрался храбрости – один-единственный раз – на полсекунды заглянуть ему в удивленные глаза. Было ясно – он должен с ним заговорить, бросить в него все бремя своего проклятья, чтобы почувствовать себя опять легко и свободно.
Некоторые обстоятельства придали Сассароли храбрости.
Он разыскал в Венеции старых друзей: своего бывшего ученика, устроившегося здесь органистом в бедной церковке, и одного своего товарища юных лет, мелкого мещанина. Оба они были ценны для него тем, что видели в нем музыканта, служителя высокого искусства, а когда он еще презентовал им «Алхимика», стали чтить в нем литератора и отважного застрельщика. От преклонения этих ограниченных умов он окончательно одурел. Правда, из суеверия он не выдал им своих неясных замыслов. Но, как придавленный побег, он начал выпрямляться, щеки его порозовели, он даже принял решение украсить свой обезображенный рот вставными зубами, – то есть тогда, конечно, когда он получит все те колоссальные гонорары, на которые мог теперь твердо рассчитывать. За что и откуда должны привалить ему деньги, он, правда, не знал, но в глубине сознания он ставил это счастливое будущее в тесную зависимость от своего объяснения с Верди.
Он станет перед маэстро во весь свой длинный рост и одним взглядом уничтожит старого карьериста. Он поставит его на колени, бездарного маэстрино, раба газет, наемника прессы, на колени поставит его, и тот будет плакать, молить о пощаде, ломать руки! Ибо ему, Сассароли, известны тайны, от которых содрогнется человечество. Сам ли пишет свои оперы господин Верди? Не живет ли в деревне, в захудалом приходе бедный попик, который умеет не только служить обедню, но и делать кое-что другое? Погодите! Немного ловкости да терпения – и скоро можно будет назвать по имени истинного создателя вердиевской музыки.
День и ночь Сассароли грезил великой встречей с врагом и делался час от часу храбрее.
Маэстро Верди на этот раз прекрасно выспался и проснулся бодрый и сильный, каждым мускулом ощущая жадность к жизни, – как будто в этот утренний час забыты были все терзания. Он встал и оделся. Потом выпил чашку черного кофе; до полудня он обычно ничего не ел.
Сейчас же после завтрака он сел за рабочий стол. Перед ним лежал «Алхимик», презренная, нечистоплотная стряпня. Маэстро оставил книжонку на столе. Может быть, он это сделал затем, чтобы приучить себя смотреть равнодушней на житейскую грязь. Ему, между прочим, припомнилась история с письмами Сассароли по поводу «Аиды». Он знал ее только в том виде, в каком она была известна рядовым читателям «Гадзетта музикале». Рикорди, не желая докучать ему этим смехотворным вздором, расправился сам с наглецом. Теперь он еще раз при дневном свете посмотрел на убогую желтую обложку.
Вдруг печатное обозначение имени превратилось в живой человеческий образ, и перед глазами маэстро встала длинная тень, как стояла она вчера у подъезда гостиницы, разрубая руками воздух. Это и был Сассароли! Верди ни секунды не сомневался. И тут же явилась уверенность, что именно этот человек всучил его лакею пасквиль. А в глубине сознания маэстро знал еще больше: «Наглец придет сюда скоро, через час-другой, и я приму его. Зачем? Я, может быть, найду в нем кое-что для своего негодяя Эдмунда».
Затем в острой жажде борьбы маэстро приступил к работе над «Лиром».
Между тем Сассароли уже довольно давно шатался вокруг дома. Быстро, слишком быстро пролетали для него секунды, и скоро должен был пробить час поединка. Страха не было. Только хотелось подольше насладиться взволнованным напряжением. Он следил, ничего не видя, за пароходиками у пристани и маленькими парусниками из Кьоджи, за тем, как их разгружают; зашел на полчаса в соседний кабачок, потом купил газету, но читать ее не смог. Уверенный в победе, он все же с удивлением убедился, что руки его, как два посторонних тела, дрожат на мраморной доске стола.
Смутно чудилось ему, что вся Италия с изумленно застывшим взором ждет великого часа разоблачения истины. Во всяком случае, сейчас ему показалось правильным, что он засунул в карман револьвер. Он решился на все.
В течение этого часа у маэстро Верди впервые за долгое время хорошо ладилась работа. Небольшая сцена с одержимым паломником решительно выиграла в смысле обрисовки образа. Сегодня возникло коротенькое андантино, которое в плотно переплетенной четырехголосности оттесняло лейтмотив и при этом создавало странно приглушенную гармонию.
Конечно, здесь не было вдохновения, но рука, казалось, вновь приобрела сноровку. Может быть, все-таки хорошо, что он предпринял свою отчаянную вылазку в Венецию.
Услышав, что вошел лакей, маэстро прервал работу. Но Беппо не успел и рта раскрыть, как Верди уже знал, что сейчас ему доложат о Винченцо Сассароли.
Гость стоял в комнате. Маэстро остановил на его лице синие спокойные глаза, всегда смотревшие, казалось, дальше цели, и ждал поклона.
Сассароли сразу почувствовал, что забыл учесть то воздействие, которое произведет своим веским присутствием его противник. Одно мгновение ему казалось, что сейчас небрежно-напряженная фигура Верди и эта увенчанная славой голова заставят его согнуться. Онрассердился на себя, и, как он ни противился, нижняя губа его отвалилась, настежь раскрыв запущенный, беззубый рот, в чем он усмотрел первый тяжелый урон.
Верди ждал. С удивлением видел он, как глаза этого человека наполняются неописуемым выражением, в котором смешались униженная мольба, наглость, издевка, подмигивающая доверчивость, ярость, хитрый намек – «мы-де кое-что знаем», – и все это в одном взгляде.
Как ни был он мерзок ему, Верди невольно поддался жалости к старообразному, болезненному посетителю. Вопреки своим намерениям, он первый приветливым голосом нарушил молчание:
– Садитесь, маэстро Сассароли!
Как? Верди, смертельно ненавистный, назвал его «маэстро» – сладостное звание, которым его уже давно никто не награждал! И услышать его теперь из этих, из этих уст! Эротический встречный ток, сопричастный всякой ненависти, взбурлил в сердце Сассароли. Послушно и смирно опустился он в кресло подле письменного стола. Беглым взглядом охватил он непросохшие страницы партитуры, набросанные знакомым буйным почерком маэстро. Он чувствовал, как тает его самый победный аргумент. Скорей овладеть собой!
Конечно, это почерк Верди. Но кто же утверждает, что маэстро, перед тем как сдать в печать партитуры деревенского попика, не переписывает их своей рукой? Ведь этого требует простая осторожность. Сассароли сдавленным смешком приветствовал свою новую выдумку и тотчас же заставил себя поверить в нее.
Непринужденность и сила были в осанке маэстро, когда он встал перед сидящим, и тому пришлось скрепя сердце смотреть снизу вверх.
В разговоре со своими противниками, к каковым Верди причислял театральных директоров, издателей, певцов, арендаторов и адвокатов, он имел обыкновение стоять, а их усаживал. То была бессознательная военная хитрость – игра на превосходстве. Маэстро не терпел, чтоб его лицо находилось на одном уровне с лицом такого собеседника.
– Что привело вас ко мне, маэстро Сассароли?
– Я… – Посетитель что-то бормотал запинаясь. Проклятый заставил его оробеть!
– Вы, маэстро Сассароли, прислали мне этот памфлет? Вы, выходит, издатель, не так ли?
– Почему вы спрашиваете?
– Да так, я думал, что вы композитор?
– Я композитор! Композитор!
Сидящий зацарапал пальцами по креслу и притопнул ногой, Стоящий спокойно, без особого ударения сказал:
– Но такого рода гнусное сочинительство недостойно истинного музыканта.
– Вы, вы, вы говорите о достойном и о недостойном!
Вспышка ярости помогла Сассароли освободиться от скованности. Он вскочил и закаркал:
– Я не позволю сильным затыкать мне рот! Я пролью свет на истину. И прежде всего я сорву маску с вашего лица. Для этого мое гнусное сочинительство окажется достаточно достойным. Я очищу авгиевы конюшни музыки!
Верди становился все любезнее.
– И что же вы мне ставите в укор, маэстро Сассароли?
– Вы с самого первого шага подкупили прессу. Еще успех вашего «Набукко» был подстроен заранее. Ваш тесть, богатей Барецци, которого вы удачно с расчетом подыскали, ссужал вас деньгами на ваши разные махинации. Вы день и ночь кутили с критиками, предлагали им такую высокую оплату, какая была не под силу прочим маэстро. Вы всюду пролезали вперед, годами держали импресарио Марелли за каменной стеной, всеми правдами и неправдами проваливали чужие партитуры, упорно осаждали парижских оперных заправил, и таким благородным путем вы добыли себе так называемую мировую славу. И это еще, вероятно, не все… Но есть на свете мститель, и, может быть, не один…
Сассароли должен был прервать свою обвинительную речь, чтобы всосать и проглотить поток слюны, густыми нитями повисшей на его губах. Маэстро из вежливости не заметил комичность положения своего преследователя. Он даже немного помедлил с ответом.
– Часть этих обвинений известна мне со вчерашнего вечера, так как я прочитал вашу книжечку. Могу ли я спросить, маэстро Сассароли, как обстоит у вас дело с доказательствами?
– Терпение, сударь! Большинство доказательств у меня в руках – прекрасные доказательства, замечательные доказательства! Я только жду, когда мозаика этих доказательств сложится в законченную картину!
– В таком случае с вашей стороны крайне неосторожно предостерегать меня этим вашим визитом.
– Предостережение вам не поможет. Ах, какая отрада для меня хоть однажды вам, баловню счастья, сказать правду в лицо!
– Это еще не вся правда. Вы скрыли от меня одну из причин вашего гнева.
– Вы не сами пишете ваши вещи!!
– О! Маэстро Сассароли, я не допустил бы мысли, что вы в свое время бросили вызов плагиатору!
– Доказательство еще появится!
– Возможно! Но в вашем «Алхимике» много говорится об одном обстоятельстве, которое сейчас вам угодно замалчивать. Там вы на каждой странице упрекаете меня в том, что я интригами закрываю вам доступ к сцене!
– Ясно! Только интригами, а не истинной ценностью вашего творчества вы закрываете дорогу для моих опер. Насилием, коварством, происками господ Рикорди, ваших музыкальных маклеров! Вам страшен мой верный успех!
– А что, если я не знаю ни одной вашей ноты?
– Господин Верди, кому же не известно, кто был любимым учеником Саверно Меркаданте!
– Гм! И вы полагаете, моя власть, лежащая вне искусства, простирается так далеко, что смогла пресечь вашу карьеру?
– Да, ваша власть! Я убежден, ваша власть и ничто другое!
– Если я кажусь вам таким могущественным, почему вы не попробовали обратить эту силу в пользу ваших опер?
– То есть как?
– Чем злобствовать и нападать на меня, почему вы не пришли ко мне, не попросили: «Маэстро Верди, помогите мне!»
– Вас, вас просить?
На лице Верди отразилось серьезное раздумье.
– Если моя музыка виной тому, что ваша не находит публики, я с удовольствием посодействовал бы постановке какой-нибудь вашей оперы.
Сассароли безмолвно глядел в пространство. Он еще не понимал, к чему клонит противник. Маэстро сделал несколько шагов, как бы совещаясь с самим собой.
– В конце концов трудами долгой жизни я заработал право, чтобы по моему указанию хорошая опера даровитого маэстро была поставлена в Ла Скала.
Когда Сассароли услышал слово «Ла Скала», его до костей прохватил озноб. Ла Скала! Последняя, высшая цель каждой мелодрамы! Ла Скала! Наряду с парижской Opéra – единственный источник музыкальной славы! Мир комнаты и мир за окнами зашатались перед ним в бурной качке. Как с бешеным шумом на полном ходу заторможенный экспресс, вздыбилась каждым нервом вся природа клеветника. Противник в своем духовном превосходстве сумел незаметно подчинить ситуацию своей воле. Все недействительное, кляузное, нездоровое должно отступить. Неумолимо раскроется правота другого. Помещик из Сант Агаты, прижимистый в сделках, дальновидный в замыслах, раз ухватив, крепко держал свою жертву в когтях:
– Что ж, маэстро Сассароли, есть у вас новая опера?
Захолустный композитор молчал. Маэстро был все так же вежлив:
– Вы, может быть, присядете?
Не противясь, человек сник в желательное положение покорности. Маэстро подошел ближе.
– Как я понимаю, у вас, маэстро Сассароли, есть опера, которая ждет постановки.
Сассароли овладел собой. Он метнул в стоящего мрачный взгляд аскетического презрения.
– У меня не одна, у меня много опер, настолько своеобразных, что их судьба ясна. Впрочем, я твердо решил не подвергать их суду современников. Я отказался от их постановки.
– Тогда вопрос исчерпан!
Маэстро резко оборвал свою мысль. Оно выразилось и внешне, это внутреннее движение, за которым Сассароли страстно следил. Еле выговаривал слова, пасквилянт переспросил:
– Исчерпан? Как это?
– На известных условиях я, пожалуй, мог бы вам посодействовать.
– Посо-дей-ствовать?
– Да! Посодействовать, чтобы Ла Скала, если это осуществимо, поставила вашу последнюю вещь.
Голова Сассароли как-то странно упала на левое плечо. Рот крепко сомкнулся. На лице заиграло выражение страдальческой мечтательности, сильнее ужаснувшей маэстро, чем прежняя ненависть. Но, хочешь не хочешь, надо было доводить дело до конца. С последним проблеском сознания в затуманенном мозгу Сассароли внезапно почуял опасность.
– Чепуха! – прошептал он.
– Нет! Клянусь вам, на известных условиях я вам помог бы. Причина сейчас не важна. Вы не желаете? Ну что ж!
Пальцы Сассароли заерзали по шее. Он коротко крикнул:
– Нет!
Но тут же незнакомый детский голос взмолился вдруг из его гнилозубого рта:
– Помогите мне, маэстро Верди!
– Как же я могу вам помочь? Вы устно и письменно обзываете меня подлецом, вы собрали доказательства и можете, как только захотите, обратить их против меня.
Сассароли свесил голову на грудь. Он думал только о Ла Скала. Его душа кряхтела, как полумертвая кляча, которую понукают к последнему пробегу.
– Вы видите, маэстро Сассароли, к чему приводит человека безрассудная ненависть и окаянная злоба? Вы многого могли бы достичь – и гораздо легче. А теперь нам придется заключить между собою договор. Я пишу на своей визитной карточке несколько слов. Они не только откроют вам вход в недоступные кабинеты Ла Скала, но и обеспечат вам самый благосклонный, самый внимательный просмотр вашей партитуры капельмейстером, импресарио и театральным критиком. Если хоть полсотни тактов скажут что-нибудь в пользу вашей музыки, она будет принята. Вот, смотрите! Я кладу эту карточку между нами на стол!
У Сассароли задрожали руки, когда он увидел драгоценный кусочек картона.
Верди выдержал паузу и продолжал, резко подчеркивая слова:
– Слушайте внимательно, маэстро Сассароли! Теперь – что требуется от вас. Готовы ли вы взять назад грязные обвинения, которые вы на меня возвели?
Враг, вконец обессиленный волшебным словом «Ла Скала», запинаясь что-то лепетал.
Маэстро холодно наблюдал за ним.
– Так как же?
– Я готов подтвердить все, что будет соответствовать правде.
Любезно приглушенный голос вдруг сделался очень громким.
– Клянусь вам, что не потребую от вас ничего, кроме правды! Пишите!
Сассароли, не отрывая глаз от карточки, тихо всхлипывал. Верди положил перед ним листок бумаги и дал ему в руки перо.
– Пишите!
Ради новой надежды на славу человек решился на все. Это было сильнее всякой ненависти. Маэстро диктовал. Выводя истерические каракули, памфлетист послушно писал:
«Настоящим заявляю, что все обвинения, нападки, нарекания, возводившиеся мною устно и письменно на маэстро Верди, являются голословными, подлыми измышлениями, к которым меня побуждали не какие-либо реальные основания, а зависть, ненависть и злопыхательство».
– Подпишите, пожалуйста, эту бумагу, как я подписал свою. «Ла Скала», – подумал припертый к стене противник – и вдруг передернулся, отодвинул от себя листок и начал медленно подниматься… Верди внимательно следил за его движениями, глаза его посветлели и твердо смотрели на Сассароли, как бы радуясь долгожданной опасности. Длинный Сассароли мощно перерастал противника. Он рос, казалось, все выше и выше, под самый потолок. Медленно запустил он руку в карман. В глазах Верди сверкал вызов. Но длинный съежился, упал в кресло, тупо осклабился и машинально подписал заявление.
Когда это свершилось, Верди, молча и не двигаясь, выждал тридцать секунд, потом взял листок и визитную карточку, изорвал и то и другое в мелкие клочки и бросил в корзину под столом.
Сассароли вскрикнул, вскочил.
Маэстро глазом не моргнул – холодный, сильный, стоял он перед ненавистником.
– Господин Сассароли, доказал ли я вам теперь, что вы подкупнее всех тех, кого вы сами ложно обвиняете во взяточничестве?
Ничего нельзя было поделать против этого голоса, теперь не такого уж громкого. Сассароли стоял, как разжалованный солдат. Голос Верди не отпускал его:
– Пока вы не пришли ко мне, я считал вас клеветником и негодяем. Если бы вы навели на меня револьвер, если бы вы оказались, по крайности, хоть смелым негодяем, я бы вам все-таки помог. Но вы только заурядный, жалкий, слабовольный человек. Ваше тщеславие – вот откуда ваш неуспех. Ступайте!
У Сассароли было лишь одно желание – скорей покинуть место своего поражения, уйти от страшного лица врага, чтобы в безопасном отдалении строить новые, более действенные планы мести. Он рванулся к двери. Взгляд противника его остановил.
– Сударь! Я принимаю людей всерьез, дьявольски всерьез. Я сударь, людьми не играю! Своим предложением проложить путь вашим операм я вас сразу выбил из вашей глупой позиции. С моей стороны это было злою шуткой, которой я так же мало могу гордиться, как вы своей готовностью попасть в ловушку. Письмо я напишу, но пойдет оно не через ваши руки. Направьте вашу партитуру в Ла Скала и обратитесь там к капельмейстеру Франко Фаччо. Я попрошу его отнестись к вашей музыке со всем вниманием. Беппо, Беппо! Проводи синьора вниз.
Когда Сассароли скрылся, непроизвольно отвесив просительный поклон, Верди, усталый, придавленный безграничным унынием, сел за стол. Сознание, что люди обычно примериваются друг к другу, злобно завидуя чужому счастью, таланту, величию, славе, богатству, было до крайности унизительно. Нет, не пойдет он к Рихарду Вагнеру!
Однако он тотчас написал главному капельмейстеру Teatro alla Scala следующее письмо:
«Мой милый Франко Фаччо!
Один маэстро, некто Винченцо Сассароли, предложит тебе свою оперу. У меня к тебе просьба: просмотри ее ради меня самым внимательным образом. Этот композитор, видишь ли, утверждает, будто я или если не я, то моя музыка виновна в том, что ему самому нигде нет ходу. Все возможно в этом нелепейшем из миров!
Так слушай: я не хочу, чтобы хоть одно существо терпело из-за меня или думало, что терпит из-за меня. Просмотри эту оперу так, как если бы она была лично твоей или моей.
Прошу тебя, извести меня о результате, как только узнаешь мой постоянный адрес.
Пишу наспех!
Твой Дж. В.»
Это письмо маэстро сам опустил в ящик. Потом пошел проведать своего смертельно больного друга Винью.
Сассароли в тот же день уехал обратно в Геную. Встреча с Верди так сильно расстроила его, что он не захотел даже еще раз показаться на глаза двум своим друзьям – органисту и мещанину.
Его терзала дилемма: воспользоваться ли добротой маэстро и представить свою партитуру в Ла Скала или же строить дальше и прочнее здание своей ненависти. Как разрешилась его душевная борьба, продолжал ли выходить в свет «Музыкальный алхимик» с его бессмысленным злопыхательством, на это сегодня никто не даст ответа.
Вернее всего было бы допустить, что между тщеславием и ненавистью в сердце старого музыканта установился компромисс. Он, должно быть, представил партитуру и в то же время вел дальше свою исступленную полемику.
Если просмотреть годичные картотеки миланской Ла Скала за время с 1883 по 1900 год, мы не найдем в них ни единой оперы Винченцо Сассароли ни в списке поставленных, ни в списке намеченных к постановке опер.
VI
Здоровье доктора Чезаре Виньи настолько ухудшилось, что больной утратил всякий интерес к своей собственной жизни, к прошлому, настоящему и будущему. Поэтому приезд маэстро не был принят, как всегда, за особый знак внимания. Глубокое эгоцентрическое равнодушие, царившее в комнате больного, еще мучительней, чем в первый раз, обдало Верди лекарственными запахами развязки.
Он был рад, что ему не пришлось сидеть одному у кровати пожелтевшего, исхудавшего друга, который без очков и без волос, в ночной рубашечке производил жалкое впечатление чего-то размаскированного, жутко обнаженного. Такими маленькими и опавшими выглядят после спектакля снявшие грим певцы, которые только что красовались у рампы в пламенных локонах, в парчовых мантиях, на огромных каблуках, в фальшивом величии и фальшивом свете.
К больному как раз пришел доктор Карваньо. Ярким доказательством выдающихся способностей этого врача было то, что не только маркиз Андреа Гритти, для которого жить было профессией (не стремлением), искал его поддержки, но и коллеги-врачи наперебой приглашали его.
Карваньо был полной противоположностью тем врачам, которых можно раскрыть, как медицинский справочник, и найти в нем для каждого диагноза соответственное указание.
Избегая предвзятых идей, подвергая сомнению всякое печатное слово, весь чужой обобщенный опыт, он непоколебимо верил только силе своей интуиции, не склонявшейся перед книжными авторитетами.
Каждый случай был для него особым, ни с чем не сравнимым миром, и в этом мире он, как буйвол, как открыватель новых стран, как рвущийся к полюсу путешественник, боролся с хитростью и происками разложения. Блаженно закрыв глаза, больные отдавались этой силе, потому что чувствовали, как из тела склонившегося над ними врача вливалась в их собственное хлипкое существование полнокровная жизнь. Они беспрекословно доверялись даже его всегда неожиданным, часто рискованным экспериментам и любили его, несмотря на холодно-страстное безразличие в его обхождении с ними.
Такой человек должен был понравиться маэстро, любившему людей, которые рьяно отдаются делу и не находят покоя, пока не завершилась борьба. Сразу возник между ними симпатический ток, и не последнюю роль сыграло здесь то, что Карваньо, услышав имя Верди и узнав его в лицо, до смешного изумился и пришел в замешательство.
Как ни строго подавлял в себе маэстро всякий тщеславный порыв, все же ему приятно было чувствовать, что имя его производит впечатление.
Когда оба посетителя, выйдя от больного, спускались по лестнице, маэстро спросил у врача, что думает он о судьбе Виньи. Совсем не похожий на кудесников своего сословия, Карваньо откровенно смутился.
– Уважаемый синьор маэстро! Ведь вам я не должен объяснять, что наши пророчества большей частью пустой обман. Случалось у меня, что люди воскресали из агонии. Только ослы не верят в чудеса. В моей практике чудо – повседневное явление. В случае Виньи глупо одно: он не хочет больше помогать мне! А когда пациент начинает саботировать собственную волю к жизни, то это уже опасно. Все нужно делать с талантом, даже болеть. У меня есть только один поистине гениальный пациент, и это – столетний старик!
– Маркиз Гритти?
– Да, Гритти! Он колосс, он Прометей среди пациентов.
Они вдвоем свернули в переулок. Маэстро очень приветливо обратился к врачу:
– Вы куда держите путь, доктор Карваньо?
– К больным! Но если вы мне разрешите, если вам это не помешает, то я охотно проводил бы вас, синьор маэстро Верди! Такое счастье мне не представится в жизни вторично.
– Нет, этого я никак не могу допустить. Вас ждут больные. А я сейчас просто гуляю. Если вам не помешает, я пойду с вами.
Когда скромный Карваньо попробовал отклонить эту честь, маэстро рассеял все его сомнения.
– О, сопровождать вас будет для меня в своем роде приключением!
Из центральной части города, где стоял дом Виньи, врач и маэстро пошли по длинным набережным и по горбатым мостам на северо-восток, в направлении к новым «фондаменти». Маэстро, заложив руки за спину, шел немного впереди, вернее сказать, Карваньо оставлял небольшое расстояние между собой и почитаемым человеком. Этого требовало чувство преклонения.
Верди задавал врачу много вопросов, но ни в одном не коснулся самого себя и своего здоровья. Маэстро, с кем бы он ни разговаривал, любил выспрашивать у собеседника тайны его профессии. В нем всегда говорила жажда новых знаний, и он умел неожиданным и проницательным вопросом приохотить человека к подробному разъяснению приемов своего ремесла. Но никогда не заводил он разговора о себе.
Карваньо воспользовался паузой в беседе, чтобы изменить ее предмет.
– Все мы, врачи, страдаем более или менее несчастной любовью к музыке. Вот и у меня, маэстро, лежит на сердце один вопрос.
– Что же, спрашивайте.
– Вам, вероятно, известно, что в осенний стаджоне Ла Фениче давал «Травиату»? После долгого промежутка я снова услышал эту упоительную музыку, и тогда мне пришли в голову кое-какие мысли, которые я охотно высказал бы вам. Но они, по всей вероятности, очень глупы и наведут на вас скуку.
– Нет, нет! Мне любопытно послушать!
– Вы, синьор маэстро, почти через все ваши драмы проводите один и тот же женский тип: любящая женщина, приносимая в жертву мужчиной или же сама жертвующая собой ради него. Не так ли?
– Мне это никогда не приходило на ум. Я должен подумать.
– Позвольте, я назову несколько примеров: обольщенная Джильда добровольно принимает удар ножа, предназначенный ее обольстителю. Виолетта, чтоб не бросить тень на буржуазного сынка, должна отречься от великой, чистой любви, озарившей ее ветреную жизнь, и не может пережить своего отречения. В «Трубадуре» Леонора идет на самоубийство, чтобы спасти возлюбленного. Луиза Миллер падает жертвой сословных предрассудков. Аида, уже спасенная, все-таки разделяет с Радамесом его каменную могилу.
– Да, относительно этих героинь вы правы.
– В женщине, синьор маэстро, вы олицетворяете явление жертвы и страдания. И этому явлению посвящены у вас самые проникновенные мелодии… Совсем другое видит в женщине этот прославленный Визе! Беспощадную, дьявольскую силу природы!
Маэстро взглянул на врача своими синими чуть дальнозоркими глазами:
– Вы знаете Париж?
– Нет!
– Только зная Париж, можно до конца понять Кармен. Когда я впервые – целая вечность прошла с тех пор! – ходил по тротуарам этого города, изо всех городов наиболее достойного и ненависти и любви, я не мог отделаться от неприятного чувства, что у меня трясется под ногами замля. Мне чудилось, будто под этими красивыми улицами и бульварами скрыты гигантские заводы, где день и ночь гудят приводные ремни. Понятно, это была только нервическая галлюцинация. Но вскоре я убедился, что она таила в себе долю правды. Париж, вся Франция работают в полную силу. А ради чего?
Только ради женщины, ради ее кокетства! Гекатомбы модных изделий, платьев, шляпок, туфель, рождающихся рано по весне и вянущих к осени, как цветы, – ради женщины! Подумайте только, сколько отраслей промышленности обслуживают производство готового платья, сколько фабрик отведено под все эти бесчисленные виды косметики, под галантерею – самую бессмысленную область хозяйства!.. Да, в Париже вся сила, весь труд мужчины поглощается дамским будуаром. Кармен – это Париж, загримированный под «дитя природы» в испано-разнузданном стиле; Париж, который высасывает мужчину и приводит к гибели. Не знаю, понимаете ли вы меня?
– То, что вы говорите, синьор маэстро, кажется мне смелым и правильным!
– Мы, итальянцы, слава богу, не зашли так далеко! Примись варварской крови спасает нас. Мы еще хотим иметь детей. Галльская женщина, Кармен, делает отчаянные попытки пикантными возбуждающими средствами спасти эту ленивую на деторождение расу.
В этом смысл ее мужеубийственной роскоши, посредством которой она мстит мужчине и за его бесплодие, и за его упадочное нежелание кормить большую семью. Для Франции каждая война – непоправимый роковой удар.
Вы заметьте: у нас в Италии еще не перевелись родители, имеющие по пятнадцати детей и более. Я сам в нашей местности знаю нескольких таких гигантских семей. Пусть иностранцы поносят вас, называют промотавшимися, некультурными наследниками прошлого! Сейчас в моде Север. Но мы стоим у истоков. Пока народ еще видит в своих женщинах матерей, он не выродился!
– А ваши женские образы, маэстро?
– Если видеть в женщине не только источник наслаждения, но пораженное болью, стонущее человеческое существо, тогда не так-то легко отделаться от того чувства преклонения, робости и сострадания, которое мы так хорошо знали мальчиками. Возможно, что именно это чувство и влекло меня к образам тех несчастных девушек, которые введены в операх, названных вами. Но это, конечно, не более как предположение, сам я никогда не задумывался над такими вопросами.
– Сострадание к женщине! – медленно проговорил Карваньо. – Да, это слово дает ключ к вашей музыке, маэстро. Сострадание к женщине!
Верди остановился на одну секунду и слушал, странно понурив голову. Потом решительно зашагал дальше.
– Я расскажу вам один маленький случай из моей ранней молодости, доктор Карваньо!
Мне было тогда четырнадцать лет, и хотя я уже именовался органистом при нашей сельской церкви, я должен был помогать в деле своему отцу. В нашей лавочке продавались не только продовольственные продукты и разные хозяйственные мелочи, но также и некоторые наиболее употребительные лекарства, от каких крестьяне в простоте душевной ждут помощи.
Раз в две недели у нас показывалась одна необычайно примечательная фигура, появлению которой я неизменно радовался. Это был Беттелони, неприкаянный цирюльник, обновлявший у нас свои запасы безобидных пилюль. Беттелони был также знахарем и гаером старинного пошиба, точно вышел прямо из милой комической оперы «Любовный напиток»… Ах, как же она хороша, как народна и правильна, – и как несправедлива современность к несчастному Доницетти!..
Беттелони, самохвал, острослов и бесподобный враль, в будние дни был ни дать ни взять цыган, которого с опаской сторонятся деревенские фарисеи, но по воскресеньям он превращался в степенного, прилично одетого артиста. Он, видите ли, дул в тромбон в одном деревенском церковном оркестре – знаете, banda di campagna, – они были благословением старой Италии! Так как в то время в этих «филармонических обществах» уже исполнялись мои первые марши, я легко завоевал симпатию нашего знахаря и музыканта.
Когда он заходил к нам, он всегда просил моего отца, чтобы тот отпустил меня с ним в поход, и зачастую я получал отпуск до обеда, а то и до вечера.
Для меня было истинным праздником, шагая рядом с его осликом или же сидя в тележке, слоняться с Беттелони по деревням и поселкам, где он на площадях собирал вокруг себя толпу, – ученый, актер, политик, стратег, журналист, пропагандист, имитатор, сатирик и предсказатель погоды в одном лице.
Потом селяне приглашали его навестить больных. Он тотчас напускал на себя профессиональную серьезность, надевал бутафорские черные роговые очки, кивал своим почитателям, чтобы они шли вперед, а я, как какой-нибудь фамулус, нанятый за жалованье, стол и квартиру, должен был его сопровождать.
Раз мы вошли в дом, где мне приказано было ждать в сенях и присматривать за тележкой с осликом, оставленными у ворот. Но не успели остальные скрыться за дверью соседней комнаты, как воздух пронзили женские крики, такие безобразно-неестественные, что у меня замерло сердце, как со мною сроду еще не бывало. Крики все учащались, усиливались и слились в ревущую песнь боли, когда цирюльник там, за дверью, приступил к лечению.
По сей день не понимаю, как пережил я тот час, как вынес этот истерзанный мукой человеческий голос, не знавший ни хрипоты, ни устали.
Я, мальчик-подросток, молился, давал обеты, чтобы бог смилостивился и прекратил эту пытку. Не знаю, унялись ли крики, – я оглох, онемел, был весь в поту, когда Беттелони повел меня прочь и вымыл руки у ближайшего колодца.
– Трудненько было, парень, – сказал он. – Вот видишь, так появляются на свет дети. Бедные женщины!
Много недель после этого случая я ходил сам не свой, от еды меня тошнило, ночью мне снились страшные сны. Мать была вне себя, видя, что за короткое время я исхудал, как чахоточный. Моему сердцу был дан небывалый толчок – детство, беспечные мечты миновали. Я не мог с этим справиться. Мои бедные, слабые мысли бились в лихорадке, силясь изгнать из мозга тот протяжный крик. Напрасно! Чудо жизни, полное страдания, вошло в него как болезнь.
Я клялся самому себе, что никогда не совершу этого убийства – не коснусь женщины, стану монахом… Бог знает, каких только не давал я клятв.
Все это складывалось очень непросто; и много лет прошло, пока я превозмог воспоминание о криках роженицы.
Так-то, милый доктор, я рассказал вам длинную историю. Но она недаром припомнилась мне. Нет! Никогда не стал бы я сочинять музыку для «Кармен»! Эка важность, если и есть на свете несколько холодных, корыстных девок. Литераторы верещат о демонии, когда одна какая-то чувственная цыганка, прожженная распутница, сделала несчастным никчемного, безвольного человека. Ну а миллионы, миллионы женщин в мире, которые так часто издают эти страшные крики! Чего только мы, мужчины, не должны прощать им за нашу вину!
Когда Верди кончил, Карваньо, как бы задумавшись над его словами, приотстал, оставляя еще большее расстояние между собою и спокойно шагавшим впереди маэстро. Оба долго молчали. Наконец Верди повернул голову к Карваньо.
– Но, милый доктор, вести должны вы. Боюсь, что я и так давно увел вас в сторону от вашего пути.
Карваньо остановился:
– Мне очень жаль, синьор маэстро. Но я уже у цели! Верди поднял голову. Они находились в довольно запущенной части города, где только узость переулка выдавала, что это все та же Венеция. Холодно-расчетливые дома, не старые, но заселенные до последнего закутка.
У одного из подъездов стояла хорошо одетая молодая женщина с разительно белокурым мальчиком и, казалось, ждала. Когда женщина узнала врача, лицо ее вспыхнуло радостью, она хотела тотчас же подбежать к нему, но застеснялась, увидав незнакомого господина, и осталась на месте. Карваньо дружески кивнул ей. Потом пояснил:
– Мои пациенты! То есть не она сама, а ее муж! Немцы! Он, между прочим, музыкант. Только в нем сам черт не разберется!
– Ребенок очень красив.
Маэстро, как и все, был очарован благородным изящным лицом маленького Ганса. К тому же вид детей часто – он и сам не знал почему – наполнял его ласковой грустью. Он глаз не мог отвести от ребенка. Карваньо подтвердил:
– Я тоже в жизни не видел мальчика красивей. Скрытные, между прочим, люди: впали в нужду, но не дают этого заметить.
– Приступайте, милый доктор, к вашему делу. Я и так слишком задержал вас.
– Мне совестно, что вам, синьор маэстро, придется теперь одному пройти такую длинную дорогу.
– Я привык и люблю гулять в одиночестве.
Врач откланялся с почтительной приветливостью, которая приятно растрогала маэстро, как и все в его новом знакомце. Крепко пожимая его руку, он попросил:
– Вы никому не должны сообщать, что я здесь, что вы со мною разговаривали. Это вызвало бы для меня ряд неудобств. Обещаете доктор Карваньо?
– Ваш приказ – закон, синьор маэстро!
Врач поздоровался с женщиной, потрепал ребенка по щеке и минуту спустя всех троих проглотил равнодушный дом.
Маэстро, заложив руки за спину, устремив вдаль взгляд своих чудесных глаз, пошел обратно и сделал шагов двадцать.
Потом остановился, как будто не в силах преодолеть затаенное желание, и повернул голову.
Но белокурого мальчика уже не было.
Глава шестая Матиас Фишбек
I
В музыке, как в любви, нужно прежде всего быть искренним.
Высказывание Верди, которое цитирует Джино Мональди.Давно уже Рихард Вагнер не показывался в обычный час на Пьяцце.
Итало стоял у самой периферии того круга, который притягивало к себе в Венеции неугасимое жизненное пламя немецкого мастера. Вельможи, художники, русские, чехи иерархической лестницей входили в этот круг – кучка сверхутонченных эстетов, из которых лишь очень немногие лично встречались с Вагнером.
Когда немец много лет тому назад здесь, в Венеции, писал своего «Тристана», им почти никто не интересовался. Но этой зимой он был в моде, как никогда, и не только в Венеции, но и в высшем свете всей Италии.
Итало узнал, что Вагнер чувствует себя лучше, чем когда-либо, и не показывается только потому, что поглощен новым философским сочинением и отдает ему также и послеобеденные часы. Молодой человек был этому отчасти рад: можно не упрекать себя в неверности, если и сам перестанешь ходить на Пьяццу.
Впервые в жизни Итало испытывал тяжкую душевную угнетенность.
Угнетенность неизбежна, когда к нам стучатся мысли, которые мы гоним от порога. Разделаться с ними мы можем лишь тогда, когда отважимся отворить дверь.
Итало дверь не отворял, он даже заложил ее на засов. Его слабая жаждущая наслаждений душа возмущалась: чем он заслужил такую кару, что в юные годы уже не может приветствовать каждое новое утро бодрым и радостным возгласом? С того дня как он познакомился с Маргеритой Децорци, его жизнь закачалась между двумя точками притяжения, – и не хватало духа сделать выбор.
Теперь его часто тянуло к Бьянке. Но около нее он чувствовал себя несчастным, чужим, сидел как на привязи. Она теперь подолгу оставалась одна, потому что Карваньо даже свою частную практику перенес в больничную амбулаторию, чтобы легче управляться, как он объяснял, с огромной работой.
Итало сознавал, что в своем таинственном преображении подруга переросла его. Ее душа понимающими глазами смотрела куда-то, где сам он еще ничего не мог разглядеть, и черпала силу из чужих источников, ему недоступных. Давно ли он почувствовал в церкви свое высокое превосходство над молившейся по-крестьянски женщиной, – а теперь он был слишком мелок, слишком беден переживаниями, чтобы ее понять.
Многое в словах и поступках Бьянки пугало его и сердило, потому что он не умел так постигать, так чувствовать все, как она. Бьянка купила на рыбном рынке несколько крупных черепах. Часами сидела она, склонившись над большой корзиной, наполненной листьями салата, и наблюдала, как ленивые животные высовывают из-под панциря плоские змеиные головы. Она и в руки не брала иглу, чтобы шить детское белье, – то, чем прежде всего занимаются женщины в ее положении.
На улице она могла с отвращением отогнать от себя старую слепую нищенку, а потом отдать все деньги из кошелька какому-нибудь наглому мальчишке.
Нередко с губ ее срывалась фраза, бессмысленная как будто, но вместе с тем казавшаяся Итало полной непостижимого значения. Часто она описывала какой-нибудь предмет совсем простыми словами, но это не был человек, собака, дом; какой-то другой, невидимый образ стоял за названным предметом, вдруг раскрывшийся ее ясновидящему взору.
С некоторых пор она совсем перестала говорить о будущем. Ни единым словом не напоминала она любовнику о страхе, об ужасе перед тяжелым испытанием. И всего сильней его пугало это молчание. Он не знал, с безнадежностью или с доверием думает она о грядущей судьбе. И он тоже не открывал рта. В ее поведении ему попеременно чудились сложное душевное заболевание, редкое легкомыслие, тайная уверенность.
Как-то утром он поехал с ней пароходиком на Лидо. Пустынной, запущенной аллеей, под сенью акаций, они прошли от лагуны к морскому пляжу.
Закутавшись в туман и облака, зимняя хворая Адриатика выплевывала на берег длинные тяжелые валы. Лишь два косых, наполненных ветром паруса стояли в мареве, сквозь которое нет-нет да прорежется узким клином луч надежно спрятанного солнца. В море, растянувшись длинной цепью – последний в пятидесяти метрах от берега, – полуголые озябшие рыбаки, крича, рывками вытаскивали из воды тяжелую сеть, невидимую и, казалось, не сдвигавшуюся с места.
Пляж, которым любовники брели в направлении к Маламокко, сильно сузился из-за прилива. Их ноги уходили в серое зеркало песка, оставаясь сухими, но вдавливая глубокие влажные следы.
Итало видел, что нога беременной оставляет подле него тяжелый, крупный след – крупней, пожалуй, чем его собственный. Вид этой зрелой поступи побуждал в нем недовольное, предательское чувство, и, как он ни противился, влечение к другим – легким, скользящим стопам, к другому стану дразнило его фантазию.
Море в лихорадочном ознобе гневно выбросило на песок тысячи несчастных тварей. Тщетно силились косолапые крабы достичь спасительной воды; лежали пластом неподвижные медузы среди еще живых моллюсков, водорослей и белесых, похожих на кости, обломков морского тростника.
Пасмурней становился день, ворчливей море, острее привкус соли на губах у двух одиноких.
Шли молча, крупным шагом, словно не гуляли, а спешили куда-то по важному, неотложному делу. Вдруг Бьянка, тихо вскрикнув, остановилась.
Перед ними лежала дохлая корабельная крыса, огромная, с непомерно длинными вытянутыми ногами и тонкой веревочкой хвоста. Морда зверька – серая и четкая, с розоватыми ушами, со щетинистыми усиками – ощерилась совсем по-кошачьи. Живот был широко распорот и кишел трупоядными паразитами. Итало, ухватившись за мысль, что для беременной вредно такое отвратительное зрелище, потянул Бьянку в сторону.
– Повернем назад!
Ничто не внушало Итало такого омерзения и страха, не было так невыносимо для него, как вид чего-либо тронутого разложением. Мальчиком он увидел однажды раздавленную, облепленную мухами змею. От потрясения он едва не заболел. С той поры он не мог зайти на кухню – из боязни, что вдруг увидит там мертвую, ощипанную курицу. Бьянка, напротив, казалось, нелегко отрывалась от уродливого. Она долго, пристально глядела на крысу.
Они шли обратно по своему одинокому следу. Итало стиснул зубы, так у него было тяжело на сердце от горести и отвращения. Минут пять оба молчали. Бьянка вдруг остановилась и устремила взгляд в морскую даль:
– Так сгинет женщина, которая отнимет тебя у меня.
Одно мгновение Итало чувствовал, что должен как-нибудь разбить это проклятие, лишить силы это вверенное морю заговорное слово, но не нашел способа. Женщина, все еще оглядываясь в невидимую даль за горизонтом, покачала головой.
– И чего ей надо, криводушной лгунье? Ей хватит времени. Остались считанные дни.
– Ради бога, Бьянка, что ты говоришь?
Она как будто очнулась и теперь понимала не больше, чем он. Быстро – точно стало ему невмоготу с ней наедине – Итало повел подругу прочь.
Позже они сидели в зале ресторана и пили глинтвейн.
Бьянка гладила руку любовника: она угадывала его смущение, все чаще заставлявшее его вздыхать.
– Ты печален, мой мальчик, я знаю. Слишком это все обременительно для твоего маленького избалованного сердца.
– У меня день и ночь все та же забота, Бьянка!
Он сказал эти слова, после долгих недель опять заговорил о том, что его давило. И вдруг пробудилось злое сомнение: он ли виновник? От него ли ребенок? А может быть, все-таки от Карваньо? Не лучше ли сбежать в Париж, сбежать в Палермо, в Африку или в Гренландию, лишь бы не слышать больше об этих страшных вещах? Правда, они с Бьянкой взвесили все возможности, и его чаша, а не чаша врача, опустилась ниже под тяжестью доказательств. Но ведь он почти не знает женщин и должен беспомощно сдаваться на их непонятные хитрости и уловки. Электрические токи в руке друга выдали Бьянке помысел о побеге.
– Я тебя угнетаю, Итало. Не отрицай, – я знаю, я все понимаю. Что тебе делать теперь со мной? Но слушай, я не хочу угнетать тебя, ты должен быть свободен, мой мальчик! Я тебя очень люблю. Я часто мучила тебя своею ревностью. Теперь я больше не ревную, друг мой! Иди сегодня после обеда на Пьяццу, походи по кафе, разыщи его – твоего возлюбленного Вагнера. Я не обижусь и не буду скучать. Он великий человек, и он тебе поможет, начнет тебя выдвигать, ты у него поучишься. Ты и сам станешь великим музыкантом, мой Итало! Ты так красиво играешь на скрипке! И ты должен быть свободным! Свободным! Сегодня после обеда и – всегда!
– Нет, Бьянка, этого я не принимаю. Я останусь с тобой… сегодня после обеда…
– Я не рассержусь на тебя, нет, это не ловушка.
– Сегодня после обеда и всегда я буду с тобою, Бьянкина.
– Ну, так выбери часок для развлечений, чтобы снова ты стал веселым, мой мальчик!
– Бьянкина… если ты позволишь… я хотел бы…
– Чего? Говори!
– Но только если тебя это не обидит! Если ты поклянешься, что это тебя не обидит… Я пошел бы…
– Опять квартет?
– Не совсем. Сегодня у графа Бальби соберутся поиграть. Музыкальная вечеринка! Очень интересная! Ты ведь знаешь, я без твоего согласия никогда не бываю в обществе. Так вот, решай!
– Там будут женщины?
– Нет! Едва ли! То есть…
Итало хотел ответить отрицательно, но что-то неодолимое, то ли ужас, то ли сладострастие, принудило его назвать имя:
– Должна прийти Децорци…
Чувство сладострастного удовлетворения щекоткой пробежало по его телу, когда губы в присутствии любовницы слагали возбуждающие звуки другого имени. Он должен был приложить все усилия, чтобы сладить с собой, чтобы взгляд, оттенок голоса, сдавленное дыхание не выдали его. Но Бьянка, которая обычно знала все заранее, которая часто отвечала на невысказанную мысль, тут ничего не заподозрила:
– Певица, да?
– Конечно! Потому ее и пригласили, насколько мне известно.
– Ты с ней знаком?
– Нет, лично незнаком!
Блестяще удалась и дальнейшая ложь:
– Что я слышал ее раз в глупейшей опере Понкьелли, ты уже знаешь. Хорошая певица, исключительно хорошая…
Но, как будто эта похвала показалась ему слишком дерзкой, он добавил:
– Только, мне кажется, она излишне манерна, и это у нее оттого, что она недостаточно красива… По крайней мере со сцены…
– Ты в самом деле хочешь пойти в это общество, Итало?
– Ну, Бьянкина, я вижу, что тебе это обидно, что ты будешь мучиться. Я не пойду. Посижу вечерок дома, поработаю. Так будет лучше. И это и всякое другое общество, с музыкой и без музыки, для меня погребены!
Итало с улыбкой, не выдав и тени разочарования, поцеловал Бьянке руку, подозвал официанта, расплатился и встал. Вышли на террасу.
Фигура мужчины, полная еще не тронутой юности, стояла прямо и твердо пред тяжко дышащей стеною моря. Ветер, пронесясь по зимней неприютной террасе, растрепал его темные волосы, и несколько мягких прядей упали на лоб.
В эту минуту Бьянка любила его, как никогда. Ей хотелось расплакаться от любви. Каждая клеточка ее тела жаждала уничижения.
Это была одна из тех редких минут, когда такие вот сильные существа беззащитно стоят перед угрозой смерти и могут вдруг сами себя погубить.
Ласковая и бесхитростная, как в первые дни их связи, пошла она рядом с юношей, точно самый звук ее шагов должен был раствориться в шагах любимого.
Пароходик пенными колесами рвал древнюю мудрую воду лагуны, а она лежала темная – не море, не озеро, не река, а некое обрученное с Венецией сказочно-человеческое существо. Бакены и буи плыли мимо, кружились вдали туманные острова, проносились городские сады с зелеными пятнами лавров, пиний, кедров и миртов, уползали залитые чернью, оцепленные колышками отмели, все предметы двигались уныло и тупо под огромной скорбной тяжестью облачного дня.
У пристаней Венета Марина и Брагора пароходик вставал на причал. Невеселые пассажиры – их тела тоже были пронизаны зимним туманом – входили и выходили: рабочие и мелкий городской люд, ни единого иностранца, богача или праздного гурмана.
Был один из тех часов, когда и Венеция, продымленная северной горечью века, являла будничное, увядшее лицо.
О, скоро Север ее совсем проглотит, – и ее и все великолепные памятники золотой поры Средиземноморья! Ибо ему, Северу, предстоит принять власть, и землю уже метит жесткий знак его сатанинской морали; прямоугольная форма, куб, суровость, машина, снаружи четкая гримаса и туманная расплывчатость внутри, казарма тысячи видов, бесстрастное убийство, высокие свершения от душевной пустоты, порочность от половой холодности, пьяный разгул и разнузданность мысли, американская сутолока бессмысленно одиноких, безысходная печаль тех, кто обречен сеять хлеб на льду и петь без голоса. Он еще только вступает в тысячелетие варварства, северный Люцифер, а уже отравил все умы.
Осмеянные, утратившие цену, сами себя застыдились ветреные добродетели солнечного Юга: возведенная в дворянство косность, спокойное самодовольство среди преизбытка, упоенный поцелуй без раскаяния, без побочных мыслей, кипучий жар в крови и внезапный холод, каждодневное пиршество, нерассуждающий удар кинжала, быстрая война в реянии знамен, которая к вечеру мирит врагов за круговою чашей, искусство пения, передаваемое из рода в род, чтоб ни на час не смолкала песнь хвалы, священная сладостная симметрия. Звезда ваша надолго закатилась. Живите во славу, умрите во славу!
Любовники молча сидели рядом на скамье у форштевня. Дворец, Пьяцетта, Кампанила и вид на Канал встречали их безрадостным приветом. У Сан Тома они сошли. Перед церковью Фрари, как тысячу раз до того, они остановились, прощаясь.
– Поклянись мне, Итало, что ты исполнишь мое желание!
– Если это то, что я читаю на твоем лице, я не стану клясться.
– Ты меня очень огорчишь, мой мальчик, если откажешься. Поклянись!
– Нет! Нет!
– Поклянись, что ты пойдешь сегодня на эту вечеринку!
– Ни за что!
– Но я умоляю тебя! Я хочу, чтобы ты радовался жизни. Я только тогда и счастлива, когда счастлив ты. Ах, мне так больно, что я не могу при этом быть рядом с тобой. Но придет день, когда мы будем всем наслаждаться вместе. Я знаю. А потому исполни мою просьбу, Итало! Пойди туда!
– Ты говоришь наперекор себе, Бьянкина; думаешь, я не чувствую?
– Нет, жизнь моя! Не наперекор себе. Это мое искреннее, горячее желание. Слышишь? Я знаю, что ты верен мне и останешься верен.
– Да, Бьянка, я верен тебе.
– Так иди же к Бальби! Вечером я буду радоваться, представляя себе, что вот ты говоришь, вот засмеялся, вот глубоко вздохнул, что снова ты веселый ребенок! Иди! Это не жертва!
– В самом деле, Бьянка, не жертва? Я тебе не верю.
– Клянусь тебе! А теперь поклянись и ты, что ты послушаешься!
– Посмотрим, сердце мое, мое большое, единственное сердце! Сейчас я сам еще не знаю. Я сделаю то, чего ты желаешь в душе.
В подъезде дома она его поцеловала так по-новому, с такою особенной силой, что всю дорогу до дому Итало шел потрясенный, нерешительный и вдвойне несчастный.
II
Маргерита Децорци пела. Она подобрала изысканную программу из старых венецианских канцонетт и арий. Голос ее всех захватил, но не потому, что он звучал красиво, как некий редкостный инструмент (пресытившись за минувшую эпоху виртуозности чудесами тембра, рафинированные итальянцы теперь отворачивались от них); голос Маргериты производил впечатление тем, что, нежно-приглушенный, без пышной полноты, он был весь – энергия, весь – выразительность.
Так же мало, как этот голос, притязало на явную красоту ее лицо; но строгость нисколько не театральная, одухотворенное честолюбие, девический облик вызывали при ее появлении более возвышенный восторг. Острее вглядевшись в ее лицо, зоркий глаз без труда разглядел бы удлиненный овал, немного жесткие, недобрые черты и смуглую бледность простонародного венецианского типа: давно преодоленная вульгарность – наследие предков, из которого напряженная воля сумела выжать все, что можно, до последней капли.
Однако в неподдельном спокойствии и простоте выступления певицы что-то непривычное, что должно было действовать отрезвляюще на самые тонкие умы, оставаясь для них непостижимым. Но большинство не судило, а безотчетно отдавалось обаянию.
Потому что Маргерита Децорци была удивительно сложена; казалось, тело ее жило под платьем лишь послушным дуновением, не пробуждая желания оскорбить целомудрие, сорвать покров; ибо чудо, скрытое под покровом, доставляет радости, которые не хотят наготы.
Итало отчетливо, как струны музыкального инструмента, ощущал сплетение своих нервов. Чужая сильная рука ударила по этим струнам и натянула их для грозного, нестерпимо сладостного аккорда, не давая ему разрешиться в звуках. (Не был ли это один из тех задержанных аккордов с жаждущей разрешения уменьшенной септимой, которыми немецкий романтик опьянил все молодое поколение?)
Итало не хотел освободиться от этого напряжения. Он дышал стесненной грудью, втайне молясь, чтобы никогда не иссяк блаженный наркоз, завладевший его слухом, зрением, сердцем. Он видел ее лицо, слышал ее голос, его слепил ее луч. Но чудилось ему, что это не он своими органами чувства воспринимает счастье, но будто какие-то иные, более таинственные уши, глаза, чувства вбирали образ девушки. Когда он отводил глаза, проверяя себя, память его, сколько ни старалась, не могла воссоздать лицо и голос Маргериты. Только мощное, блаженное чувство наполняло его грудь, осязаемое и тяжелое, почти как камень.
Пред лицом этой женщины чувственность была мертва, всякая похоть, всякое желание казались побуждениями невообразимых зоологических правремен. Ее плечо в серебряном флере, мило обрисовывающееся под шелком колено, узкая и легкая нога – все было не так, как обычно: не мутило кровь, а вызывало (так, по крайней мере, ему думалось) духовное и незнакомое блаженство.
В этот час он не понимал своей связи с Бьянкой. Серым и угрюмым вспоминалось их утреннее свидание, поездка на Лидо. О состарившаяся любовь! Оплетенная сотней тысяч прикосновений, поцелуев, ласк, бесстыдных слов, она теперь представлялась ему чем-то нечистым, почти унизительным.
В Бьянке он вновь обрел рано утраченную мать и материнскую нежность, которая со временем всегда надоедает ребенку.
«Мужчина должен освободиться от матери, – храбро думал он теперь, – чтобы завоевать любовь девушки. Матери в ревнивом нетерпении тянут нас вниз, к земле, хотят вогнать обратно в свое лоно».
Напротив, образ Маргериты приглушал в нем все печальное, будничное, все, что заботит, что пригнетает к земле; и юноша до корней волос был полон нетерпеливого стремления неслыханно отличиться, совершить подвиг, засиять – пусть хоть талантом или остроумием.
Его красивое, юное лицо стало огненно-красным, кожа туго натянулась, пульс на шее бешено стучал под тесным воротничком манишки. Вопреки желанию блистать, Итало не мог произнести ни слова. Позже он разбил заклятье, и ему удалась ложь – в чем, однако, он не ощутил ничего постыдного.
Вышло это так: они остались в комнате почти наедине, и Маргерита спросила его о Вагнере.
В венецианском обществе стало известно, что Вагнер раза два удостоил Итало разговора, и это создало юноше некоторую славу.
Он стал рассказывать Маргерите всякие небылицы о своих встречах с Вагнером: приводил его слова, изречения, суждения. Он сам удивлялся, как пламенно работает его фантазия, слагая многозначительные, и притом правдоподобные, формулировки. Ах, он только хотел приковать ее, убедить в своем влиянии, в своей значительности, чтоб она не ушла от него в другую комнату.
Не раз и не два она на нем останавливала взгляд своих темных глаз, который он не умел понять, – взгляд очень одаренной женщины, дьявольски честолюбивой, не знающей иной страсти, кроме актерской игры и стремления к цели. Женщина, все еще пария рода человеческого, раз преступив положенные ей границы, проявляет в тысячу раз больше воли, упорства, готовности к жертвам, чем любой мужчина.
Взгляд Маргериты, который только проверял правдивость его слов и взвешивал его возможности, Итало тщеславно переоценил: он истолковал его как скрепление договора, как призыв ее души. У него шумело в голове, он чувствовал во всех суставах изнеможение после неожиданной победы.
Разговор иссякал. Но Итало казалось, что артистку может занимать только подобная же тема, и вот, не подумав, что нарушает слово, он начал опять:
– Ах, синьорина Децорци, я мог бы открыть вам еще одну тайну. Вы не проговоритесь?
– Спросите у моей матери, слышала ли она от меня когда-либо хоть одну сплетню! Она даже бранит меня за скрытность. Это, по ее мнению, неженственно. Но меня попросту не занимает то, что составляет интересы других женщин. Так что можете на меня положиться.
– Отец взял с меня слово, что я этого никому не выдам. В настоящее время в Венеции находится еще и другой знаменитый композитор. Правда, называть его рядом с Вагнером кощунство. Это – Верди!
Маргериту явно заинтересовало сообщение. Она ближе подошла к И тало.
– Он! Маэстро Верди! Очень хорошо! Вы не знаете, долго он здесь пробудет?
– Слышал я, всего лишь несколько дней.
– И вы с ним знакомы?
– Отлично знаком. А мой отец – его лучший, можно сказать, единственный друг. Но неужели вы неравнодушны к старому Верди?
– Я певица. О нем судят сейчас несколько опрометчиво. Подошедшие к ним гости услышали имя Верди, и завязалась одна из бесед, в то время очень распространенных в Италии, – когда консерваторы в пух и прах разносили Вагнера, а прогрессисты – Верди. На этот раз прогрессисты оказались в подавляющем большинстве, и у маэстро не нашлось сторонников.
Пианист и историк искусств Кортечча, приятель Итало, человек ультрапарижской формации, холено-бледное существо с белокурой эспаньолкой художника, рискнул даже на такое противопоставление: Вагнер не только своею музыкой, но и как поэт, философ и героическая личность является выразителем современности… Верди же, чьи музыкальные достоинства более чем спорны, – просто стилистическое недоразумение в итальянском искусстве. Сперва наполовину погрязший в рутине кропатель, потом – пописывающий музыку ловкий журналист Рисорджименто, он в конце концов достиг довольно высокого мастерства, тем более опасного, что оно прикрывает собою грубость и тривиальность стиля.
– Не Россини и не Беллини, – добавил в заключение небрежно-изысканный ценитель искусств, – а именно Верди сделал смешной в глазах Европы красивую и своеобразную форму нашей лирической драмы. Его оперы можно, ни на волос не меняя, ставить в театрах варьете. Они сами на себя пародия.
Децорци с явным неудовольствием выслушала этот приговор. На ее девически гладком, жестком лбу залегла между бровей складка, безусловно предвещавшая большую карьеру. Набросив шаль на плечи, певица сказала:
– Вы не правы, господа; боюсь, вы совсем не понимаете музыку Верди. Виновны в этом в первую голову певцы, а затем дирижеры – они трактуют ее до ужаса схематично. Поверьте мне, эти оперы что угодно, только не мертвы! Я как-никак четыре года на сцене и научилась чувствовать зал. Когда исполняют Верди, его музыка «пронимает» слушателей, как никакая другая. Мы, певцы, не слышим тогда ни кашля, ни разговоров, ни возни; дети и ге сидят тихо. Я часто говорила об этом с моими коллегами. Мы чувствуем себя так, точно в зале каждый подпевает про себя мелодиям. А в не очень благовоспитанных театрах подпевают и вслух. Ах, господа, вы тут по большей части, что и говорить, отличные музыканты, но в данном случае вы судите неверно. Я, между прочим, собираюсь показать вам, как совсем по-иному может действовать наш старый Верди даже и на вас. Мы даем на днях «La forza del destino».[48] Приглашаю всех присутствующих.
Итало, ошеломленный умными и вескими словами Маргериты, бессознательно повернул нос по ветру и открыл в себе пристрастие к Верди. Кровь разбушевалась в его сердце, язык развязался. Он возразил Кортечче:
– Если Вагнер более чем человек, мы совершим несправедливость, когда захотим этой сверхземною силой уничтожить земного человека – Верди. Синьорина Децорци нашла превосходное слово: музыка Верди и впрямь «пронимает». Пусть его оперы построены на марионеточных текстах, на избитых эффектах; но он изумительно владеет ритмикой. Он – душа ритма.
Итало подбежал к роялю и, яростно работая пальцами и педалью, подкрепил свое утверждение вторым финалом «Травиаты», который знал наизусть. Но, играя, он не думал ни о своих утверждениях, ни о взятом под защиту композиторе, – он хотел поразить Маргериту своей музыкальностью.
Она подошла к нему, и он повторил финал, перебросив его в другую тональность, очень далекую от первоначальной. Децорци тихо стала подпевать, а Итало, только теперь вполне оправившись от прежнего ошеломления, чувствовал, как души их – его и ее – проникают в надземную сферу музыки.
Подле Бьянки он познавал только землю. И земля своим непреложным законом причины и следствия причиняла боль. Теперь же он парил, теперь в просторах красоты, не знающих о долге, он был ближе к той единственной, которая превосходила всех и которую он один умел понять.
Его привычные к музыке Вагнера пальцы находили (откуда, откуда?) все новые и новые пластические мелодии, как будто эти мелодии никто не сочинял, а с сотворения мира они лежали готовые в двенадцати ступенях октавы – бери кто хочет.
Децорци тихо подпевала. Он слышал вблизи слабый запах ее духов, чувствовал ее стан – не тело, казалось, а только форму тела, дающую складки платью, – он видел пятилучия ее простертых нежных и тонких рук и знал: «Я звуками приворожил ее к себе». Неверный не чуял в ту минуту, что изменяет не только Бьянке, но и Рихарду Вагнеру.
Что ощущала Маргерита, об этом он не думал, это было ему почти безразлично, потому что теперь он переживал новое, неплотское блаженство обручения в краю, где нет ответственности.
Итало со всех сторон осыпали похвалами за его игру на рояле. До сих пор было известно, что он блестящий скрипач, – теперь обнаружилось, что он прирожденный пианист. Его даже убеждали посоветоваться с Листом, который в то время гостил в Венеции.
Влюбленность и успех полностью преобразили Итало, его неуверенно-насмешливую манеру. Он сделался вдруг речист, говорил в неоспоримом тоне, перебивал других своими сентенциями и очень быстро овладел вниманием этого круга, где чуть ли не все были старше его. Он был так молод, так красив и воодушевлен, что ему охотно, не противясь, уступили первенство. Такой огонь не опасен.
Одно только тревожило его: от Маргериты ему не перепало ни слова похвалы. После сцены у рояля незаметно было, чтоб ее сколько-нибудь увлекли его мастерство, внешность, остроумие. Она молчала задумчиво и озабоченно или же тихо разговаривала с матерью, а та походила на толстое дрессированное животное и восседала в своем кресле безучастная, чопорная и вместе с тем смущенная. Если б Итало не был слишком оглушен своим внутренним хмелем и нарастающей влюбленностью, он мог бы заметить, что его экзальтация, его шумливое владычество оскорбляли Маргериту. Она даже вышла из комнаты, где он блистал ради нее.
После он снова застал ее одну в маленьком, заставленном древностями зале, типичном для венецианских палаццо. Он ждал, что сейчас она его осчастливит словом, – каким и о чем, он не знает, но слово будет решающим. Однако, пристально глядя в завороженные зрачки молодого человека, с полным равнодушием к нему, певица спросила только:
– Хотите исполнить одну мою просьбу?
– О, с наслаждением, синьорина Децорци!
– Раз ваш отец в дружбе с Верди, не уговорит ли он маэстро посетить наш театр, когда у нас пойдет его опера? Для меня это было бы очень важно.
– Насколько мне известно, Верди крайне тяжел на подъем, а в последнее время он избегает ходить в театр, в особенности на собственные оперы. К тому же он принципиально не показывается на людях. Но я обещаю сделать все возможное, чтобы ваше желание исполнилось. Вот вам моя рука!
Итало испугался, когда сжал руку Маргериты. Рука у нее была холодна, как у всех малокровных женщин.
– Для меня это очень важно, – повторила она и улыбнулась с почти нарочитым отсутствием кокетства. И снова чувства Итало онемели, как под глубоким наркозом.
К концу вечера все опять собрались в большом концертном зале. Теперь разговором завладел граф Бальби. Острослов и коллекционер, он был, как знали посвященные, самым ловким перекупщиком картин в Италии. Если венецианские вельможи восемнадцатого века – даже наиболее родовитые – не стеснялись самолично держать банк в открытых игорных домах и с каменным величием загребали лопаткой червонцы, то граф Бальби и подавно мог считать свое приватное занятие вполне совместимым со своей сословной гордостью.
Растягивая слова, он обратился к Децорци:
– Моя высокочтимая Маргерита! Вы никогда не помышляли принять участие в нашем прекрасном венецианском карнавале?
– Когда я была молода, мне часто этого хотелось.
– «Когда я была молода»! Синьоры, вы слышали этот приговор жестокого самопознания? О милая моя, вы не должны отказываться! Наша Венеция – единственный город в мире, где праздник, ряженье, маскарад являют непрерывную традицию и сохранили еще живой смысл. В других городах это все пустой фарс, здесь же – нет. У нас праздник карнавала вошел в плоть и кровь. Моя мечта – оживить и выявить эту красивую своеобразную черту нашей природы.
Вот почему я и учредил особый карнавальный комитет. Я хочу прежде всего снова привлечь к участию высшие сословия, которые вот уже почти сто лет как отошли от карнавала. Прелестная Маргерита! У меня есть для вас идея – восхитительная, несравненная!
– Но подойдет ли для ваших намерений профессиональная актриса, для которой ряженье стало ремеслом?
– У вас это совсем не то, моя дорогая! Вы – сама муза! Сегодня вы доставили нам счастье слышать чудесные канцоны и баллады нашего музыкального прошлого. Я буду вечно благодарить вас за них. Но во время вашего пения мне и пришла в голову одна мысль.
– Какая мысль?
– Я храню у себя несколько чудных гравюр. Они изображают сцены и фигуры из самых первых опер, какие ставились в нашем городе в начале семнадцатого столетия, и выполнены они современниками этих спектаклей. Некоторые из этих опер-родоночальниц написал величайший композитор своего времени, Клаудио Монтеверди, умерший здесь, в Венеции.
Кто-то воскликнул:
– Вот как! А маркиз Гритти был с ним знаком?
Все, воспользовавшись поводом, дружно рассмеялись. Граф Бальби, однако, не обратил на это внимания.
– Правда, самая знаменитая опера Монтеверди – кстати, довольно полно представленная в моих гравюрах – впервые была дана в Мантуе, но это ничего не значит. Я говорю, как вы и сами уже могли догадаться, о его «Орфее». Дорогая Маргерита, вы должны посмотреть на фигуру Эвридики. Это такое прелестное сочетание античности с ранним барокко, что вы, при вашем высоком художественном чутье, будете совершенно очарованы. Как пошло бы вам это одеяние – изо всех женщин лишь вам одной!
Бальби принес несколько гравюр. Действительно, всех поразило изящество рисунка, благородство одежд. Не могли быть простыми актерами те, чьи тела облекались в эту изысканную роскошь. Децорци сосредоточенно рассматривала картины. Граф снова обратился к ней:
– Посмотрите, какая группа! Орфей с лирой в руках шагает впереди, за ним идет Эвридика, придерживая перед лицом покрывало, а вслед им злобно смотрит Плутон. У нас есть Эвридика для прелестной группы к шествию шестого февраля. Час назад нашелся и Орфей – наш милый Итало. Полагаю, возражений не встретится?
Слова Бальби были покрыты аплодисментами. Итало и Маргерита молчали.
– А Плутон? – спросил чей-то голос.
– Я думаю, мы выкинем из нашей группы Плутона или, еще лучше, заменим его. Пожалуй, будет недурно, если мы заставим несчастного старого композитора, самого Монтеверди, разочарованно смотреть вслед своим героям? Эту идею я, понятно, предлагаю только в порядке дискуссии.
– Великого композитора и прародителя оперы должны изображать вы сами, граф! – воскликнул тот же голос.
– Я отнюдь не отвергаю возможность, что сам буду смотреть печальными глазами вслед синьорине Децорци. К тому же у меня есть и гравюрный портрет Монтеверди. Мы не погрешим против исторической правды. Я, пожалуй, похож на этого маэстро. Как всегда, один пожилой синьор более или менее похож на другого.
– Великолепно! Группа готова! – с увлечением подхватили некоторые из гостей.
Бальби соблазнял:
– У меня, между прочим, найдется несколько кусков бесподобной старинной парчи и бархата, которые тоже придутся кстати. Я жертвую их на ваш костюм, Маргерита! Посмотрели бы вы на эти материи! Для какой-нибудь современной королевы я их не отдал бы. Ах, посмотрели б вы только на них!.. Ну как, решаетесь?
Упоминание о парче, видимо, произвело наконец впечатление на Децорци. Тело певицы патетически изогнулось, нежась в чужом великолепии. Лицо на секунду примерило маску Эвридики.
– Не знаю, – сказала она. – Поговорим еще раз.
С этими словами она откланялась. Итало не успел проронить ни звука, как она уже сошла по сходням в гондолу. Мать, как дуэнья, неукоснительно следовала за нею, чопорная и в то же время пронырливая, начисто отрезая ее от мира. Дочь и бессловесная мать, которая нет-нет, а кинет на вас умный взгляд, были обе непостижимы.
Весло врезалось в черноту воды, кавалеры сорвали шляпы с голов и при свете графских шандалов смотрели вслед уплывавшему чуду.
Вконец разбитый всем перечувствованным за один день, Итало шатаясь брел домой.
Он исполнил обещание, вынужденное у него великодушием Бьянки, ее безотчетной игрой с огнем или, может быть, судьбой. С полным сознанием опасности шел он на этот вечер. И вот свершилось то, против чего он последние дни еще пробовал слабо защищаться: он любит Маргериту. В каждом его нерве болью и счастьем горит ее образ. О сопротивлении нечего и думать.
Что будет дальше? Осуществится ли карнавальная группа? Как покажется он на глаза бедной Бьянке?
От страха, тоски, любовного жара, от раскаяния он был не в силах представить себе даже и завтрашний день. Оставалась одна надежда: может быть, удастся хоть во сне скинуть бремя опасных коллизий!
Однако и сон легкомысленной юности, верный, как смерть, сегодня – в первый раз – не смог заглушить голоса совести. Снова и снова Итало со стоном просыпался в темноте. Внизу, в большой прокуренной комнате, шагал из угла в угол его отец, друг Верди, шумный, бессонный, покинутый.
На другой день, в двенадцатом часу, перед Итало уже лежало на столе письмо от графа Бальби, которым его приглашали на спешное совещание в связи с карнавалом.
III
Заявляю, что я готов сделаться горячим приверженцем композиторов будущего, но при одном условии, что их музыка будет не системой и не теоремой, а музыкой.
Из письма Верди к Арривабене, 1868 годЗимою остров Джудекка, расположенный к югу от Венеции, с утра до полудня залит ярким солнцем. Знатокам Венеции известно, что длинный, прорезанный пятью каналами южный берег Джудекки с притаившимися на нем садами в первые месяцы года, в погожий день, не уступит Ривьере.
Эти сады, по большей части скупленные или же арендованные богатыми англичанами, содержатся в добром порядке: длинные остекленные парники, виноградные тенистые аллеи, усыпанные вместо гравия мелкими ракушками; даже зимой здесь зелено от миртов, кипарисов и некоторых более выносливых пальмовых пород.
Один из этих садов, «Эдем», или же «Парадизо», отличается особенно красивыми теплицами, беседками, клумбами, чудесной старой виллой садовника и широкой береговой аллеей вдоль полуразрушенной стены, с которой, шурша, срываются камушки, а то и целые глыбы в мелководье лагуны. На середине аллеи стоит в кольце кипарисов открытый резной павильон с полукруглой скамейкой внутри. Здесь часто, в особенности зимой, сидит какой-нибудь старый синьор и, разомлев на солнце, смотрит неотрывно в даль лагуны или читает газету.
В тихой Венеции, где слышишь не грохот экипажей, а только короткие раскаты людских голосов, это самое тихое место – уже по тому одному, что лишь немногие няньки и матери с детьми проведали о «Парадизо».
Сюда, в этот павильон, обнаруженный им лет тридцать тому назад, маэстро любил забираться и теперь, убегая от своей бесплодной и гнетущей работы над «Лиром».
Его муки, его мятущиеся мысли успокаивались, когда он глядел в даль лагуны, которая своим зеркалом недостаточно, точно промокшее платье, прикрывала наготу огромного болота, тянувшегося от Джудекки, мимо Лидо, мимо Маламокко и Пеллестрины, к невидимому, утонувшему в тумане берегу острова Кьоджа.
В первый день февраля, в одиннадцать часов утра – солнце грело почти по-летнему, – случилось так. что в эдемском павильоне, откуда открывается широкий вид на лагуну, маэстро Верди познакомился с пациентом доктора Карваньо, Матиасом Фишбеком. Знакомство завязалось, понятно, через посредство красивого белокурого мальчика, память о котором маэстро, однажды его увидев, сохранил в тайниках души.
Все итальянцы, как известно, друзья детей. А в Джузеппе Верди, в добавление к этой национальной склонности, говорила еще и крестьянская кровь. Катастрофа, постигшая его на пороге зрелых лет, – утрата жены и детей, оставила в нем глубокий след и никогда до конца не забывалась, она стала связующим элементом, соединяющим незаметно в одно целое все превратности его жизни. Как неотступный аккомпанемент органа, тяготело над жизнью маэстро горе бездетности.
Второй его брак, с певицей Джузеппиной Стреппони, так и остался одинокой дружбой. Глубочайшей близости, взаимопонимания он не принес.
Верди, этот твердый человек, при виде детей испытывал зависть и тоску, как осиротелая мать.
В стороне от родителей маленький Ганс собирал в мешочек ракушки с дороги. В его тихой игре чувствовалась какая-то подавленность, как это всегда бывает у детей, когда им приходится страдать из-за стесненного положения семьи.
Мать мальчика, аккуратная непривлекательная немка, вовсе не была так некрасива, как это казалось на первый взгляд. Некая строгая воля – может быть, устремление к аскетизму или же страдание – побуждала ее делать все, чтобы производить как можно менее выгодное впечатление. Ее большие глаза, измученные страхом, прикованы были к мужу, сидевшему рядом с нею на полукруглой скамье павильона, как раз в середине дуги, так что маэстро, примостившийся у выхода, мог удобно наблюдать чету.
Когда поднялся ветерок и солнце спряталось на миг, жена хотела было укрыть колени мужа пледом, но его, как видно, это рассердило, и она беспрекословно свернула плед и положила на скамейку.
Только тут маэстро подумал о докторе Карваньо и вспомнил женщину и ребенка, как ждали они у ворот. Значит, молодой человек был болен. Однако ничто не выдавало характера болезни. Он не кашлял, был довольно широк в плечах, вовсе не чахоточного склада. На подозрение наводили разве что слишком яркий румянец на щеках да еще неодолимая дрожь, охватывавшая временами его ноги.
Верди, при всей своей доброте достаточно высокомерный, – обычно он тщательно взвешивал, кого удостоить взглядом, – не мог отвести глаз от Фишбека.
Может быть, его приворожил золотой отлив очень светлых волос, одинаковый у отца и у сына. Маэстро всегда привлекали белокурые люди. Сказывался ли в этом житель римской земли, которого исстари прельщали волшебно красивые волосы варваров? Или, может быть, лангобардский предок, чья кровь текла в его жилах, в изумлении раскрывал глаза перед лицом забытой родины?
Но его привлек не только золотой отлив волос: лицо незнакомца было так своеобразно, что не могло не приковать внимания.
В первую секунду встречи новое лицо оставляет у нас впечатление, в котором, как в зашифрованной телеграмме, полностью содержится наше будущее отношение к нему. Чтобы ни сталось потом, в более светлый час, но сразу мы еще не можем разобрать шифр этого впечатления.
У Фишбека было лицо классного наставника. Так казалось на первый взгляд. Резкие и мелковатые черты носили отпечаток замкнутости и педантизма. К тому же рот, нос и глаза связывали между собой странно глубокие складки, указывающие не на болезнь, а скорее на полное бесстрастие. Не верилось, что человек едва вступил в двадцать седьмой год своей жизни. Лицо распадалось на две чуждые друг другу части, которые шли вразброд, не признавая гармонии: верхняя часть – прекрасный, над всем главенствующий лоб мыслителя и глаза значительного человека; нижняя – рот и подбородок – тесно сжатая, забытая в пренебрежении, невеселая; казалось, она препятствовала развитию лба. Здесь была только борьба – без примирения, без уступки. Нет, никогда лицо Фишбека, явно вызывающее, не пробудило бы симпатии маэстро, который сам до последнего дня своей жизни был всегда недоволен собою и не терпел самонадеянности в других.
Но лоб и глаза молодого немца были отмечены чем-то еще, помимо гордого и, быть может, глупого самомнения: от них исходил свет. И это сказано не для метафоры, нет, – настоящий зримый свет, сотканный из внутренних диких и разрушительных лучей. Быть может, этот свет и был болезнью Фишбека, – и вместе с тем причиной того, что маэстро, сколько ни противился, не мог преодолеть такой же судороги сострадания, какая овладела им, когда в горнице отставного капельдинера калека пел свои арии, полные боли и стремления к борьбе.
Между тем ребенок, заигравшись, приблизился к тому концу скамьи, где сидел Верди. Красная острая ракушка выпала у него из рук и покатилась прочь. Мальчуган побежал за ракушкой и споткнулся о ноги маэстро, обутые в деревенские тупоносые сапоги. (Пеппина, к своему отчаянию, никак не Могла отучить ненавистника всякой элегантности от грубых мужицких сапог.)
Верди поднял ребенка, уже скривившего рот, и успокоил его немецкой фразой, смешно составив ее из десятка знакомых ему слов. Родители, окончательно покоренные, тепло глядели на незнакомца.
Немецкой ли фразой, голосом ли, пленительной, милой, как заходящее солнце, улыбкой в морщинах около глаз («ангельски добрая улыбка старика», – сказала о ней певица Ромильда Панталеони) или достойной осанкой – чем было обусловлено это теплое впечатление? Молодая женщина вскочила, спеша освободить незнакомца от мальчика. Но маэстро притянул Ганса к себе и старательно проговорил:
– Jetzt ist gut! Jetzt ist gut![49]
Затем он обратился к матери по-французски, похвалив ее ребенка. Родители оба поблагодарили.
Фишбек бегло, без единой ошибки, сказал по-итальянски:
– Вы говорите по-немецки? Это редкость среди итальянцев.
– Нет, нет! Я только подцепил несколько словечек в своих путешествиях. Но так как вы, я вижу, в совершенстве владеете итальянским, я лучше поостерегусь, синьор, выкладывать перед вами остальной запас моего словаря.
– Ах, вы знаете Германию?
– Знаю ли? Это слишком сильно сказано. Я пробыл несколько дней в Вене, в Берлине, в Дрездене и Кёльне. Германия велика, так что это очень немного.
Разговор, едва завязавшись, заглох. Фишбек не сводил глаз с незнакомца. Он ни разу не видел портрета Верди. Но слава, слишком часто притягивавшая взоры к человеку, таинственными волнами колеблет воздух вокруг его головы. Маэстро чувствовал, что молодой немец с надменным лицом не продолжает разговора только из почтительности.
Опытным глазом он приценился к иностранцам и увидел, что на них лежит гнет бедности, хоть он не уяснил еще себе, какого рода была эта бедность. Ему захотелось продолжить знакомство, которое пока что завязывалось туго, и он спросил молодую чету, постоянно они живут в Италии или только остановились проездом.
Матиас Фишбек ответил охотно, как будто радуясь случаю поговорить с незнакомым:
– Мы живем в Венеции шестой год, с самой нашей свадьбы. Так что мы отнюдь не принадлежим к тем неприятным парочкам, что проводят здесь только медовый месяц.
– А мальчик? Как вы думаете его воспитать? Кем он будет у вас – немцем или итальянцем? Вы уже решили?
– В современном мире это безразлично. Покуда возможно, я буду следить, чтобы его не затронули мерзости нашей культуры и воспитания.
– Я не вправе давать вам советы. Но я не считаю это безразличным. Каждый из нас принадлежит к своей нации: и если мы не хотим окончательно лишиться корней и характера, нам следует сохранять в себе свои особенности и развивать их дальше. Иначе получится только интеллигентский винегрет.
У Фишбека нервно искривилось лицо.
– Каждый к своей нации? Современный национализм есть не что иное, как знахарское заговаривание расовых болезней в целях воспрепятствовать их исцелению. Я, сударь, нигде не вижу этих ваших наций, винегрет же вижу повсюду.
– А почему вы живете в Венеции?
– Есть на то причины. Во-первых, я принадлежу к так называемой свободной профессии и, следовательно, принужден жить с семьей там, где жизнь обходится дешевле, чем в Германии. Во-вторых, Венеция хорошо действует на мое здоровье…
Нерешительно покосившись на колени немца, которые опять задрожали неодолимой мелкой дрожью, Верди спросил:
– Вы больны?
Молодой музыкант и его жена оба заторопились ответом. Они говорили наперебой, как будто желая что-то замять.
– Болен? Это не то слово. Наоборот, я чувствую себя теперь на редкость хорошо. Еще ни один врач не нашел у меня настоящей болезни. В корне я здоров. Легкие у меня отличные, все органы отличные. Вот только подтачивает меня эта проклятая бессмысленная лихорадка.
– Я слышал, что бывают будто бы лихорадочные явления на нервной почве.
Агата Фишбек с восторгом приняла замечание маэстро и высоким голосом, который не изливал слова, а как будто бы всасывал их, подхватила:
– Конечно, Матиас, лихорадка у тебя на нервной почве, как говорит синьор! Доктор Карваньо тоже так думает.
Дав жене досказать, Матиас, вполне убежденный, кивнул головой.
– Злой дух всегда становится на пути тому, кто должен явить истину.
Маэстро, не поняв смысла последних слов, продолжал допытываться:
– Вы как будто хотели назвать еще одну причину, почему вы предпочли поселиться здесь?
– Да! Венеция от всего далека. Она не принадлежит современности.
– Что хотите вы этим сказать?
Лицо классного наставника преобразилось в странный и озлобленный лик средневекового мечтателя.
– Я должен совсем уйти из этого проклятого века, если хочу завершить свое дело.
Маэстро сделался очень серьезен. Высокопарные проклятия веку, так часто раздававшиеся за последние годы, ему претили, как всякое проявление слабости и отвращения к своему «я». Он и сам был поэтом скорби, но скорбь его, полная силы, была его особым восприятием объективной жизни, в ней была сила, а не пустая рефлексия о собственной ценности или ничтожестве. К тому же патетического драматурга оскорбляло всякое выспреннее слово в разговоре. Его хороший вкус насторожился против сказанной Фишбеком фразы, хотя итальянец все еще не понимал до конца ее дерзкого смысла.
– Почему вы хулите наш век? Он принес нам, людям, много хорошего, даже чудесного.
– Что же это за чудеса, разрешите спросить?
– Вы молоды, синьор, а я стар. Вы, может быть, больше учились, чем я. Зато я с тридцатых годов мог наблюдать наш век в его росте. Еще и сегодня я с недоверчивым удивлением ощущаю огромную перемену. Моя первая поездка на почтовых из Пармы в Милан длилась без малого сутки. Сегодня я могу за несколько часов проехать до Парижа. Первую свою работу я вел только при дневном свете. Теперь же, как видно, начинает прививаться электрическое освещение. Когда я написал свое первое письмо, я должен был много недель ждать ответа. Сегодня я могу послать каблограмму на край света и в тот же день получить ответную депешу.
Вы, молодой человек, иного не знавали и потому презираете эти исполинские, я сказал бы, осчастливившие мир завоевания девятнадцатого столетия.
– Не вижу, чтобы мир через технический прогресс хоть где-нибудь стал счастливей.
– В этом виновен мир, то есть люди. Они рождаются голыми и потому хотят каждый раз наново примерить на себя все нелепости.
– Разве этот проклятый так называемый прогресс не загубил, не умертвил в человеке духовное начало?
– Эх! Дух-то был всегда, а железных дорог не было.
– Приятная замена!
– Разрешите узнать ваше имя.
– Фишбек.
– Ох, сразу и не выговоришь! Вот видите, господин Фишбек, когда я в своей молодости бежал от поповской муштры, нас воодушевляло великое слово, наследие французской революции: «разум». Ныне это слово обросло длинной бородой. Зато в любом фельетоне, в любой газетной статейке можно прочесть слово «дух», «духовность». Поверьте вы мне: и «дух» обрастет бородой.
– Но ведь вы согласитесь со мною, что наша культура лежит на смертном одре?
– Почему вы так думаете?
– Ни в одной европейской стране больше нет искусства.
– Если мне позволительно судить о литературе, напомню, что Манцони, автор книги прямо гомеровского размаха,[50] ушел из жизни всего лишь несколько лет назад. Виктор Гюго жив и сейчас. Золя и Толстой пишут роман за романом. И это только по моему скромному подсчету – я читаю не так уж много.
– Золя и Толстой писатели-критики, а не истинные творцы.
– Вы, господин Фишбек, в этом, вероятно, более тонкий судья, чем я. Но одно вы и сами признаете – что музыка в наш век возведена на вершину.
Маэстро произнес это так, как высказывает человек свое ясное убеждение, разделяемое всеми на свете, так что оно не может вызвать возражений. Он успокоено смотрел в землю. Но Фишбека слово «музыка» привело в сильное возбуждение. Он вскочил. Жена посмотрела на него с отчаянием, как будто подумала: «Ну вот, стряслось!» Но он подошел ближе к маэстро.
– Музыка? Кто же это возвел музыку на вершину? – С напряженным лицом охотника Фишбек ждал ответа, чтобы уложить его метким выстрелом.
Верди помолчал с минуту, потом выговорил медленно, как будто пересиливая себя:
– Бетховен и Вагнер.
Мгновенно готическое лицо монаха преобразилось в азиатскую маску злобы. Фишбек расхохотался как сумасшедший, прижал руку к бьющемуся сердцу и, выскочив из павильона, забегал взад и вперед у замлевшей под солнцем лагуны – точно искал, кого бы ему призвать в свидетели своей правоты. Совладав с собою, он остановился перед маэстро. Тот, однако, не поднял глаз, а только пригласительно подвинулся на скамейке, и немец послушно и вежливо сел. Но тут же он пролаял:
– Бетховен и Вагнер?! Они-то, ваши герои, и есть убийцы музыки!
– Так как вы сами, кажется, музыкант, вы должны просветить меня, господин Фишбек.
Матиас Фишбек смотрел в пространство. Рот его шевелился без слов, молча прожевывая неубедительные формулы; пустая ладонь загребала воздух, точно ему нужно было приманить далекие, неуловимые тени.
И вот с трудом, как человек, который должен в немногих и бледных словах выразить свое сокровенное, тысячекратно продуманное, неисчерпаемое знание, он начал:
– Некогда она была чиста, музыка, ангел жизни земной. Друг подле друга шли голоса, одинокие, углубленные в себя, как звезды, ничего о себе не зная, каждый в стройном порядке свершая свой отчетливо замкнутый мелодический период. Гармония была для бога – человеческому духу была доступна только часть архитектурного целого… простите, я не могу выразить это иначе…
Потом пришел гуманизм, и с ним – дерзкое «я», чванная особа, которая есть не что иное, как ненасытная жажда наслаждений. Голоса, лишенные божественности, пошли вразброд. Вместо того чтобы кружить по своим орбитам в бесконечном, непостижимом для человека порядке, они распались на две тощие системы: мелодию и бас. Впрочем, мелодия стала уже никакой не мелодией, а пустеньким мотивчиком, чириканьем с удобными интервалами в твердо выдерживаемых – на потребу плебсу – тональностях и при строгом разделении полов. Басом же завладел сатана! Бас перестал быть подлинным голосом и превратился в логовище зверя, похоти, голого ритма, – словом, воистину злого начала. Сперва жизнерадостно признали источником и целью музыки наслаждение. Но кончился восемнадцатый век, и тут откуда ни возьмись выскочил верховным вельзевулом Бетховен. Ему удалось внедрить в музыку праздность, грубость, ограниченность своей персоны. И завоеванное таким путем средство бесстыдного нервного возбуждения получило наименование «души»! Ныне во всех концертных залах мира задешево продается сластолюбивой черни эта самая «душа» – расплывчатое психологическое содержание плюс дурная музыка.
Маэстро, которому эти мысли показались чудовищными и до крайности чуждыми, был чем-то в них задет за живое, – а чем, он и сам не сознавал. Он попробовал яснее разобраться в сумасшедшем кощунстве молодого человека.
– Вы, как всякий немец, хоть и на свой оригинальный лад, ненавидите и презираете итальянское начало в музыке. Я, видит бог, не какой-нибудь ученый историк, как великий праотец Фетис, но все же я понял, что вы в вашей речи, господин Фишбек, относите упадок в музыке за счет возникновения арии, монодии. Здесь, на нашей, на италийской почве музыка высвободилась из когтей церкви – какие бы чудесные плоды ни приносила она в грегорианском пленении стиля a cappella… Я сам, заметьте, почитаю Палестрину величайшим композитором, какой когда-либо существовал. Но так или иначе, она высвободилась; и когда отжил мадригал, когда прозвучал первый «recitativo», первая «aria», она возродилась, ожила. С того времени не существует больше другой музыки, кроме оперной, «содержательной». Вы вот не верите в нацию, а между тем в основе вашей ненависти к современной музыке лежит, мне кажется, скрытая национальная ненависть. Да, мы изобрели мелодию для пения, арию, оперную мелодию с ее accompagnamento, с ее басом, задуманным только как ритм, нарочито немузыкальным, – и это есть великое завоевание новой истории, победоносно нами завершенное, наперекор враждебным тенденциям Севера. Возможно, что опера, как вы утверждаете, есть снижение музыки. Пусть так! Но вот уже триста лет в музыке, во всех ее жанрах, нет ничего другого, кроме оперы. Хорошо! Опера – это профанация, простоватая, плебейская, прикладная форма искусства! Но разве литургия не была точно так же прикладною формой? Да и есть ли вообще, как требуют ваши эстеты, некая абстрактная, абсолютная музыка? Нет! Это неосуществимое требование! Если я вас правильно понял, вы и в Бетховене ненавидите все ту же оперу. Его симфонии, по существу, те же оперы, только без слов, мелодраматическое действие с «частями» вместо актов. А в Девятой он вводит даже самый ортодоксальный финал. Ах, к чему все эти рассуждения! Они только вносят путаницу! Мы, итальянцы, – бедные, наивные туземцы. А у вас, господа, слишком много «духа», уж слишком много!
В удивлении смотрел Матиас Фишбек на старика, который в своей поярковой шляпе, коричневом зимнем пальто и тупоносых мужицких сапогах походил скорее на честного деревенского лекаря, чем на художника.
– Вы музыкант, синьор?
– Боже упаси! Я земледелец или, если хотите – с некоторым преувеличением, – помещик! Но в молодости я занимался музыкой, правда, только вокальной…
– Однако у вас неимоверные познания…
– Что вы! Образованность на вашей стороне, синьор Фишбек! Но одно вы должны мне еще объяснить: я постоянно слышу, что Рихард Вагнер – спаситель музыки, могучий новатор, что он освободил ее от банальщины разных Россини, Мейерберов и Верди, вернул музыку к ее полифоническим истокам…
Фишбек опять вскипел:
– Ага! Ага! Где она у него, полифония? Это – гнуст, нечистоплотная спекуляция на эффектном громыхании, на подслащенной болтушке из средних голосов… Вагнер – спаситель?… Да он же подлинный губитель музыки! Он архиидол презренного сластолюбия!
После долгой паузы светловолосый добавил:
– Последними композиторами были Букстехуде и Бах.
– Суровый приговор и очень далекие даты!
Молодой немец повернул к маэстро неестественно зарумянившееся лицо:
– Мы едва полчаса как знакомы, сударь, а говорим уже о самых глубоких и тонких вещах. Мы хорошо друг друга понимаем. Но теперь вы, может быть, сочтете меня за сумасшедшего, если я, чужестранец, незнакомец, скажу вам следующее: мне, сударь, мне удалось – и удастся еще лучше…
Такая наивность светилась на юном, но старообразном лице, что маэстро растерял весь свой сарказм, и его охватило глубокое удивление перед этим человеком.
Фишбек смотрел на лагуну сине-зелеными – в цвет морю – глазами.
– О, поверьте мне, милый господин… господин…
– Каррара! Зовите меня Каррарой!
– Да, господин Каррара, мне уже почти удалось!
– Что вам удалось?
С непреклонным упрямством немец выдвинул силу своего убеждения против всех злобных насмешников в мире:
– Я поставлю музыку на совсем новую, чистую, никому не снившуюся основу. Но об этом нельзя говорить.
Лицо Верди стало строгим и замкнутым. Фишбек это уловил.
– Господин Каррара! Против итальянцев я могу сказать лишь то же самое, что говорю против немцев. И даже итальянцы в своей прямолинейной простоте честнее. Но, поверьте мне, довольно этого, Довольно! Я несу то, что должно прийти. Как трудно это говорить!.. Ах, что мне до проклятой современности с ее вагнеровской дудкой! Меня еще никто не знает. И слава богу! Мне нужно быть свободным, чуждым тщеславию… Но она уже почти найдена, утраченная, новая мелодия – мелодия безличная и бесполая.
Приступ мелкой судороги охватил молодого человека. Это и была его лихорадка? Молодая женщина, все время мило молчавшая, бросила на мужа умоляющий взгляд, который остался для маэстро неразгаданным. Фишбек (его сжатые губы дергались) схватил незнакомца за руку в порыве той внезапной симпатии, которой мы так легко загораемся в минуту расслабленности.
Верди глядел в это фанатическое лицо, озаренное верой в себя, тем завидным довольством собой, которое так редко выпадало на долю ему самому, – потому что жестокий дух неудовлетворенности вечно гнал его дальше и дальше, к пределу отчаяния. А этот полувзрослый мальчик – бедный, больной, безвестный – был преисполнен сейчас такой благодати!
Маэстро думал сейчас почти то же, что думал он, слушая Марио: «Предо мною гений». Хотя здесь для этой мысли не было никаких оснований и ничто ее не подтверждало, маэстро не мог отогнать ее прочь. Глубокая нежность охватила его, отеческая и самоотверженная.
Фишбеку, верно, захотелось ослабить резкость признания, сделанного им, в сущности, самому себе.
– Не считайте меня болтуном, господин Каррара, или одним из тех тщеславных пророков, которые теперь повсюду реформируют искусство при помощи недозрелых теорий. Я не стараюсь быть во что бы то ни стало радикальным, нет! Для меня это более глубокий вопрос… Я только ненавижу модную бесформенность и грязь… Я и сам не вполне свободен от нее… Но ее нужно выжечь огнем – и во мне самом в первую очередь. Я хочу освободить искусство от современной аморфности, от психологизма, от безответственно-субъективного. Я консервативен. Ибо я хочу вновь завоевать для нас то, чем безотчетно владели старики. Мы дошли до ручки. Этим нашим кумирам не хватает порой простого умения. Допускаете ли вы, к примеру, что хоть один из наших знаменитых композиторов, дающих оперу за оперой, может написать грамотную фугу?
Этот новый кичливый выпад рассеял на минуту у маэстро чувство симпатии. Но тотчас же пришла в голову мысль, показавшаяся настолько забавной, что он едва сумел скрыть усмешку.
Верди всегда носил при себе нотную тетрадь в зеленой обложке. Этой тетрадкой, однако, он пользовался не для записи неожиданных идей, а для регулярных упражнений. Он имел обыкновение писать каждый день по фуге. Когда тетрадь заполнялась, он ее выбрасывал, так как самое плохонькое вдохновение ценил выше наилучшей «сделанности», а писание фуг он рассматривал только как лечебное средство, как смазку своего внутреннего музыкального механизма или, может быть, как шуточную добровольную епитимью за прежние свои оперные грехи. В этих тетрадках, которые, к большому сожалению, все для нас потеряны, – в этих тетрадках, в строгих нотных записях, можно было бы найти удивительные вещи. Потому что из любого шума – из выкриков мороженщика или лодочника, из рабочих возгласов молотильщика и виноградаря, из детского плача, из интонации случайной фразы извлекал он тему для фуги.
Однажды (этот случай рассказывает нам профессор Пицци) он поверг в изумление своих соседей по сенаторской ложе, своего друга Пироли и даровитого Квинтино Селлу, переложив на четырех листках нотной бумаги в длинную осложненную фугу сумятицу бурных парламентских прений. Сей вполне достоверный документ находится, говорят, во владении семьи Пироли.
Многих любителей музыки возмутило бы, если бы автора «Риголетто» назвали величайшим композитором своего времени. Но быстротою он несомненно всех превосходил. Ибо тем же непостижимым образом разрозненные обрывки мелодий, подслушанные в самом себе или извне, сразу облекались у него в нотный образ. И это было для него одним из немногих предметов тщеславия, какими маэстро любил иногда поразить. С молниеносной быстротой он выхватывал из какого-нибудь звукового явления музыкальную фразу и буйными нотными гвоздочками закреплял ее на странице зеленой тетради.
Не доводить ничего до сознания, не обдумывать, не мудрить – вот тайна его искусства.
Дерзкое слово Фишбека подстрекнуло его. К тому же заговорило и национальное самолюбие: захотелось показать немцу, что рядовой итальянец (ведь Фишбек знал о нем только то, что он итальянец!) – хотя бы он сам – не только умеет состряпать унисонный хор, но владеет и более высоким мастерством.
Медленно вынул он зеленую тетрадь и посмотрел вокруг, как смотрит рисовальщик, выискивая натуру для наброска.
– Господин Фишбек! Я, конечно, жалкий кропатель, и вдобавок итальянец. Но вы говорите, что в наши дни никто не умеет больше построить фугу. Я не более как дилетант. Однако, рассчитывая на вашу снисходительность, я, пожалуй, отважусь сейчас написать – не фугу, правда, а маленькое фугато.[51]
Он раскрыл тетрадь с обратной стороны, чтобы другие нотные записи не выдали в нем профессионала, и выдернул карандаш.
– Слышите, кричат дети в той парусной лодчонке? Голоса девочек. Вполне пригодная тема: Fis-dur. Шесть диезов. Так и запишем.
Семь минут – и две тетрадных странички сплошь, без полей, покрылись четкими нотными знаками. Не рассуждая, подчинялся ритм, с бессознательной уверенностью вступали один за другим голоса, выстраивались в ряды настоящие жемчужины. Ошеломляющее колдовство! В довершение господин Каррара еще искусно добавил часть со стремительно ускоренным вступлением.
Фишбек ударил себя по лбу:
– Неслыханно! Изумительно! Я не встречал ничего подобного! И вы, господин Каррара, уверяете, что вы не музыкант?
– Что вы, синьор, бог с вами! Какой же я музыкант? Нет, нет! Когда я полстолетия тому назад робко постучался в Миланскую консерваторию, меня вышибли за бесталанность. И я им только благодарен. Сколько ужасающей учености пришлось бы мне тогда набраться! А так я остался просто другом музыки и земледельцем. Помаленьку упражняюсь, только и всего. Но если вы когда-нибудь вернетесь на родину, расскажите вашим землякам, что в музыке итальянцы как были, так и остались вертопрахами, но что у них даже выгнанные из консерватории ученики без труда справляются с контрапунктом.
Фишбек, совсем очарованный личностью незнакомца, в глубоком волнении схватил маэстро за руку.
– Господин Каррара, я не хочу навязываться. Ведь вы меня не знаете. И Агата говорит, что я всем кажусь невежей. Я и сам думаю, что я не внушаю симпатии. Но вы… за долгие годы вы первый, кто меня заставил сильно об этом пожалеть. Вы мне внушили доверие, и у меня к вам просьба: не придете ли вы ко мне? Или мне к вам прийти? Ах, у меня нет никого, кто понимал бы мою музыку! А теперь я твердо уверен, что вы, хотя я много моложе вас, что вы могли бы меня понять. Мне с вами о стольком хотелось бы поговорить, – именно с вами. Ах, я вижу, что был сейчас навязчив!
Маэстро медлил секунду с ответом. Он знал по долгому опыту, как больно брать на себя бремя чужой судьбы. Слишком был он стар, чтоб не опасаться каждой новой привязанности. Что она принесет ему? Обязательства, заботы, недоразумения и – рано или поздно – одной печальной разлукой больше. По возрасту и положению он всегда с неизменной односторонностью снова и снова оказывался дающим и дарящим. И боялся он неблагодарно-оскорбительного равнодушия молодости. Но он поглядел на Агату Фишбек. Она напряженно следила за его губами, точно для нее не могло быть большего счастья, чем его согласие. И, глядя так, с напряжением, она нечаянно улыбнулась. Улыбка решила вопрос.
– Хорошо. Я приду к вам!
– Когда? Сегодня? Скажите, что сегодня!
Фишбек записал на клочке бумаги название улицы и номер дома. Перед тем как пожать на прощание руку женщине и новому знакомцу, маэстро долгим взглядом посмотрел на мальчика и сказал:
– Но и ты будь обязательно дома.
Быстрым, бодрым шагом Верди шел из сада. На Фондаменто делла Кроче он нанял для переправы простую лодку. Не присаживаясь на источенную скамью, он всю дорогу простоял на ногах. Успокоительные – непонятно почему – голоса вели разговор в его душе:
«Если бы они знали, как они все смешны со своим „я“, потрясающим мир. Ах, не в искусстве дело, не в разговорах об искусстве и тому подобном. Многое, лишенное смысла, мы склонны переоценивать, потому что отучились от дельных занятий. Этот человек хочет преодолеть свое „я“ – и при этом, вероятно, помыкает бедной белокурой женщиной и требует, чтоб она жертвовала собой ради его шального бреда. А любопытно бы все же узнать, что это за объективное искусство? Верно, опять какая-нибудь левая программа, и к ней неумелая музыка – как и всегда. А все-таки он произвел на меня впечатление. Может быть, он новый человек?… Наше главное несчастье (я давно это знаю!) в слове „Искусство“ с большой буквы! Оно полно тщеславия, полно лживых целей и чувств. Надо жить! А жить – это значит убивать химеры, все ближе подходить к реальности… Бедный Вагнер!.. Все заблудились, всюду привидения!.. Ах, мне все-таки следует с ним повидаться! Но, видно, и сам я не совсем еще разделался с химерами!»
Лодка плыла мимо больших пузатых морских посудин, еще не принявших груза, так что выступала из воды красная часть их бортов.
Верди с радостью думал теперь о том, что один из его любимых проектов – устройство больницы в Вилланове – отлично продвигается, как сообщила ему утренняя почта. Вот это – реальность. Новые счастливые ассоциации пробудились в мозгу. Маэстро думал о разделении больных на разряды по видам их диеты и довольствия, о дневной норме хлеба, макарон, поленты, молока и вина, о стоимости дневного рациона, хирургических инструментов, оборудования операционных, о числе коек, о наборе персонала, о том, где экономить, а где вводить усовершенствования, – и о тысяче других вещей.
Те несколько минут, пока шла переправа, он не был великим оперным композитором, всему миру известным художником, который вот уже десять лет как молчит и чувствует себя осмеянным, затравленным, превзойденным. Сердце его мерно билось, свободное от гнета бесплодия, соперничества, славы. Он был бездетным старым человеком, который благодаря удаче и упорному труду нажил большое состояние и теперь с разумной расчетливостью тратит его на бедных.
Он решил сегодня же разыскать Карваньо и под его руководством осмотреть Ospedale Civile. Может быть, окажется возможным перенять то или другое нововведение для своей больнички в Вилланове.
Глава седьмая Мгновение
I
Впоследние десятилетия древний и столь знаменитый праздник венецианского карнавала уже захирел. Правда, большое шествие от Ривы[52] к Пьяцце совершалось и теперь, однако в нем не было прежнего живого веселья, а просто из года в год на масленичный вторник возникало, точно призрак в пестром рубище, хромое старческое воспоминание о былых временах.
Великий день карнавала, который некогда в оргиях, дуэлях, приключениях, любовных встречах, интригах, кутежах, убийствах, комедиях, супружеских изменах, в свете факелов, под пляску ряженых, пьяные крики, любовный призыв, объединял и раскалывал все городские сословия, – этот день карнавала выродился ныне в ярмарочный праздник, в особый вид народного гулянья.
Но в феврале восемьдесят третьего года благодаря комитету эстетствующего графа Бальби ожидалось нечто другое. Не только Маргерита Децорци и еще две видные актрисы согласились принять участие в маскированных группах карнавального шествия, но даже несколько дам из венецианской знати были покорены красноречием старого франта.
Бальби, разумеется, глубоко ошибался в своем толковании природы карнавала: зародившийся в пьяном разгуле, похоти, разбойном юморе и закрепленный обычаем, праздник карнавала, несмотря на свое нечестивое языческое происхождение, все же прочно вошел в католический календарь, и в мишурном наряде обрядности и простодушной веры он если и не утратил, то все же в корне изменил свой исконный смысл.
Это было на исходе той эпохи, когда буржуазия и люди искусства совсем потеряли почву под ногами. В то время как машина с ее угловатыми движениями, прообраз бездушного человека будущего, преображала лик земли, романтически настроенный буржуазный мир упивался живописными панорамами с рыцарями на вздыбленных к небу конях (искаженные дикие морды), с реющими знаменами и странствующими монахами, прячущими в дыму плохо выписанных факелов свои расплывчатые лица. Пилоти в Мюнхене, подражатели Делакруа в Париже заполняли полотна смерчами давно отшумевших битв. В Вене Макарт инсценировал пышные шествия в «костюмах эпохи». Но за этой роскошью (сегодня любой ученик Академии справился бы с этим) не крылось никакой необходимости, никакой жизни – только пустота любителей декоративности.
Граф Бальби был, в сущности, из той же породы. Свою предприимчивость, свою страсть к декоративности он, заразившись макартовским честолюбием, надумал обратить на карнавал.
Группа Орфея была утверждена, костюмы и маски обсуждены на нескольких заседаниях. Маргерита, как всегда, когда дело касалось репетиций или подготовки к спектаклю, была деловита, трезва. Она не выказывала никакого интереса к Итало; но так как она согласилась быть его Эвридикой и никого другого не отличала своим вниманием в большей мере, чем его. он предался томительным мечтам.
Как надменна была его любовь к Бьянке! Никакая услуга, никакая жертва женщины, дарившей себя без остатка, не казалась ему чрезмерной.
И как была смиренна его новая любовь к певице, ни в малой мере не желавшей понимать его красноречивые взгляды и обращавшейся с ним в лучшем случае как с коллегой.
Итало, ежедневно проводя у Бьянки два-три часа под мучительным бременем лжи, чувствовал, что так продолжаться не может. Перед настороженным сердцем любящей женщины он спасался полупритворной меланхолией, непрестанными стонами, вздохами и внезапными приступами слез, которые выплакивал, уткнувшись головой в ее колени.
Такие жесты страдания могут легче всего обмануть женщину относительно подлинных его причин.
Но однажды утром, проснувшись в неизведанном дотоле блаженстве от сознания, что живет на свете Маргерита, он перестал колебаться и решил: узел нужно разрубить немедленно. Есть лишь два пути!
Первый: сознаться во всем Бьянке! Но как сознаться? Она носит его ребенка. Убивать ее он не хочет.
И потом – разве он обязан делать ей это признание? Пусть вся его любовь к Бьянке отгорела. – все же новый огонь он носит запертым в сердце, еще ничего не случилось, Децорци едва смотрит на него.
Он избрал другой путь, более легкий – торный путь обмана. Бьянка редко выходила из дому, это он знал. С некоторых пор она страдала нервической боязнью пространства. Она не выносила большого скопления людей, не выносила уличного шума.
Можно было не опасаться нечаянной встречи с нею. Вот он и придумал, точно школьник, эту отговорку, которая освобождала его от любовницы и давала ему волю дурманить себя предвкушением нового счастья, в сладкой щекотке ждать, куда поведет совратительница-судьба. Подавив в себе все благородные побуждения, он рассказал в это утро женщине вымышленную историю, будто его брат Ренцо опасно заболел, а сам он по настоянию отца должен сегодня же ехать в Рим и вернется, пожалуй, не раньше как через десять дней.
Бьянка, обычно такая недоверчивая, чутко подозрительная, приняла выдумку на веру. До нее дошло только одно: предстоит разлука с любимым. Боль этой короткой разлуки ее совсем ослепила.
Когда Итало вышел от нее, он сплюнул в отвращении к самому себе: никогда еще не лгал он так легко и свободно. Эту первую большую ложь он ощутил как моральную потерю невинности. И все-таки уже много месяцев ему не было так легко, как сейчас. Жребий брошен, сделан злой маленький шаг, неминуемо ведущий к трагедии. Он хочет без раздумья идти вперед, и пусть она никогда не снизойдет к его молениям, он будет благоговейно наслаждаться присутствием, видом, милым обликом, гением певицы.
Под предлогом карнавальных приготовлений Итало в тот же день пришел к Децорци на квартиру. Его приняла нудная матрона, пришлось битых полчаса в крайне неуютной комнате поддерживать вялый разговор. Эти полчаса сделали его несчастным. Ради чего принес он в жертву Бьянку?
Наконец, как бы исполняя данный ей вдруг тайный приказ, матрона поднялась и повела гостя к дочери. Всегда, когда он видел Маргериту, его влюбленность переходила в панический страх и он начинал идиотски заикаться.
Она сидела у секретера, склонившись над календарем, и по какой-то непонятной для него причине отчеркнула красным карандашом четырнадцатое февраля. Потом, выпалив витиеватое приветствие, она сказала:
– Двенадцатого идет премьерой «Власть судьбы». Вы уже поговорили с отцом о приглашении маэстро Верди на спектакль?
– Отец обещал мне все устроить. Я надеюсь скоро получить ответ.
– Отлично.
Высокая и необыкновенно тонкая фигура поднялась из-за стола.
– Вы меня извините на этот раз. Но, видите, мне пора на репетицию.
У Итало вытянулось лицо. Он иссиня побледнел от горя. Она сразу отсылает его, не дав ему слова сказать! А ведь он пришел поведать ей все, признаться, что ради нее он оставил женщину, которая любит его, что он преступник, он губит большую душу этой женщины. Губы его напрасно старались вымолвить мертвое слово. Он отвел глаза. Маргерита передумала:
– Мне очень жаль, что приходится идти. Но вы можете проводить меня. Я пойду в театр пешком.
Послушный и счастливый, шел он рядом с ней. Он онемел и отупел. Ему не удалось объясниться. Но Децорци, по-видимому, испытывала полное удовлетворение, когда ее личность именно так действовала на человека.
II
Имя у меня очень старое и скучное. Для меня мучение, когда приходится его называть.
Из письма Верди к БойтоДоктор Карваньо провел с маэстро осмотр венецианской городской больницы, которая благодаря его неустанной деятельности превратилась из маленькой захолустной лечебницы Scuola San Marco в современное учреждение мощного размаха. Верди, не раз с содроганием глядевший на мрачные, полуобвалившиеся стены больницы, тянувшиеся вдоль Рио деи Мендиканти,[53] сильно удивился, когда нашел внутри этого каменного прямоугольника большой парк, чистые кухни и просторные палаты.
Карваньо, счастливый тем, что удостоен представить свои достижения на суд почитаемого человека, водил его повсюду, горячо отвечал на каждый его вопрос, демонстрировал операционные залы, показывал подсобные помещения, кухни и прачечные. Верди с жаром вникал во все. Новшества, казавшиеся ему особенно удачными, он брал на заметку и даже мысленно тут же набрасывал письма и приказы, намечая в тот же день отправить их будущему куратору своей «Больницы для неимущих больных в Вилланове».
После часового обхода, очень утомительного, они сидели вдвоем в светлом кабинете доктора Карваньо. Окна комнаты выходили на лагуну и обрамляли темно-зеленый пейзаж венецианского некрополя – остров Сан Микеле с его кладбищенскими кипарисами.
Маэстро спросил врача о болезни Матиаса Фишбека. Перед тем он успел уже рассказать про утреннюю встречу на Джудекке. Карваньо после докучливых поисков извлек наконец из выдвижного ящика коробку сигар и остановил на госте напряженный взгляд очень близоруких глаз.
– Не стану, синьор маэстро, утомлять вас профессиональными медицинскими терминами. Во всех науках, а тем более в чисто прикладных, как наша, терминология большей частью скрывает за собой растерянность. Молодой немец страдает непрекращающейся лихорадкой, которая длится вот уже несколько месяцев, никогда, однако, не давая сильного повышения температуры. Причина этой лихорадки неясна. Насколько позволяют судить наши методы исследования, ни один орган у больного существенно не задет и легкие тоже здоровы.
Понятно, я строю сотни предположений, но ни одно не кажется мне достаточно обоснованным. Мои коллеги, конечно, забросали бы меня камнями, если бы услышали то, что я сейчас скажу вам: возможно, что возбужденное состояние организма иногда вызывается причинами духовного порядка. У Фишбека, кажется мне, весь жизненный процесс проходит крайне возбужденно и в нетерпении спешит отгореть в повышенной температуре. Но поставить твердый диагноз я, откровенно говоря, пока еще не могу.
– Молодые супруги живут в нужде?
– Этого я тоже никак не пойму. Они никогда не жаловались мне прямо на свои обстоятельства. А ведь я часто у них бываю – из чувства долга и еще потому, что этот человек меня интересует. Я уверен, что они голодают. Тем не менее вы не можете себе представить, какая нужна осторожность, если хочешь контрабандой доставить в их дом что-нибудь съестное. Деньги они просто швырнули бы вам под ноги. Они горды, как идальго… Вас узнали, синьор маэстро?
– Нет! Для них я помещик и зовусь Каррарой.
– Мне совестно, что я даю вам слишком скудные сведения. Вероятно, я вовсе не врач, а упрямый невежда, не желающий в том признаться. Настоящий врач может наперед назвать явление по имени и знает, что предписывается делать в том или ином случае. Но людские болезни задевают меня за живое, дразнят меня, вызывают на бой, – и в этом мое несчастье. Мне трудно это объяснить, мой уважаемый маэстро, у меня иной раз голова почти не работает – вдруг охватит какая-то беспокойная страсть, чуть не боль… Но что за гнусность, я точно рисуюсь перед вами!
– Ах напротив, дорогой Карваньо! Я прекрасно понимаю вас. Вы рассказываете о вдохновении, каким оно вам знакомо. Я понимаю.
Через несколько минут Верди распрощался.
Согласно своему обещанию, маэстро на следующий день после обеда пришел к Матиасу Фишбеку. Квартира представляла собою попросту одну довольно большую невысокую комнату, разделенную занавеской на спальню и столовую. Однако, едва переступив порог, маэстро, сам не понимая, откуда взялось это чувство, был странно растроган. В комнате, казалось, царил какой-то чужеземный и чистый дух, который сразу завладел им и на одно безумное мгновение заставил мысленно перенестись через десятки лет назад, в минувшее. Вот он, сам молодой, навещает в Париже молодого Вагнера.
Эта ли выдумка послужила причиной его волнения, иное ли туманное воспоминание о том, чего в жизни и не было, или же вид заботливо накрытого стола с таким неитальянским самоваром и большою миской домашнего печенья? Верди не ожидал, что его примут как гостя, и теперь, когда его встретили напряженно ожидающая комната, накрытый стол, у него защемило в груди.
Все в этой комнате носило в корне чуждый ему и потому, казалось, неприязненный характер. Чудилось, будто его приветствует чья-то непонятная душа, сильная – и все-таки беспомощная, лишенная родины. Сам он был сейчас готов, откинув предубеждения, любовно обнять эту чуждую душу.
Неприязненно и вместе с тем трогательно смотрел на маэстро каждый предмет вокруг. Белая скатерть на столе, пианино с нотами и книгами, старый, здесь совсем неуместный, телескоп в углу, – Фишбек получил его в наследство и всюду возил за собою.
Фрау Фишбек, по-видимому, питала пристрастие к скатеркам и салфеточкам. Они разостланы были везде, где только можно, и накладывали на комнату отпечаток чего-то стародевичьего, чего-то покорного смерти.
Большая радость охватила маэстро, когда маленький Ганс по собственному побуждению тотчас же к нему подошел и протянул ему руку, как старому знакомому. Гость почувствовал, что пришел не к врагам.
Матиас почтительно помог ему снять пальто, глаза Агаты засветились радостью, а мальчик неумолимо приволок свои самые любимые игрушки, чтобы сразу посвятить гостя в их тайны. Маэстро жестоко упрекал себя, что не сообразил принести Гансу подарок.
Молодой музыкант сидел в плаще, хотя в комнате было хорошо протоплено. Заметив, что маэстро обратил на это внимание, он поспешил извиниться:
– Не обижайтесь на меня, господин Каррара! Но меня постоянно знобит, и мне никогда не бывает тепло. Вы можете себе представить, как изнуряет работа, когда ты в таком состоянии? Но тем лучше! Сильнее трение, ярче искра!
Он выкинул руки вперед, щеки его вдруг неестественно зарделись. Мнимый синьор Каррара покачал головой:
– Зачем же вы живете зимой в холодной, северной Венеции? В Италии так много мест, где весна сейчас в полном расцвете и где жизнь куда дешевле, чем в этом городе!
– Представьте себе, я могу жить только здесь и больше нигде! Здесь я чувствую себя прекрасно. Ни за что отсюда не уеду.
– Говорят, волшебница Венеция особенно опасна для музыкантов. Легенда рассказывает, что встарь из этих волн среди рыбачьих островов родилась музыка. Но вам, господин Фишбек, при ваших принципах и теориях, музыка Венеции не нанесет вреда.
– Ах, господин Каррара, я, как и всякий наш современник, тоже перегружен тяжелым балластом скверной музыки. Я отлично понимаю музыкальный магнетизм этого города. Бродишь часами по улицам, смотришь до одури на широкий канал или на лагуну. Всюду, даже когда стоишь на суше, тебя баюкает ритм прибоя. Здесь властвует не ясная музыка звезд, а хаотическая музыка воды.
И здесь, где она всегда предо мною, мне легче ее преодолевать. Наплыв тумана, переплески волн, игра бесформенностей, музыка водной стихии – не в этом ли весь Вагнер? Старик прекрасно знает, почему он опять и опять приезжает сюда.
– Я слишком мало знаком с музыкой Вагнера, чтобы судить о ней, милый Фишбек! Но вы-то – неужели вы так мало обязаны этому композитору, что вправе его ненавидеть?
Агата Фишбек – пар давно шипел, вырываясь из самовара, – позвала мужчин к столу. Сперва маэстро, опять-таки с трудом, преодолел смущение, охватившее его при мысли, что ввел в расходы этих бедняков. Но его угощали так радушно, так непринужденно, что он стал пить и есть так же непринужденно, чтобы не выдать своих мыслей. Только предложенное к чаю молоко он отклонил – боялся ограбить маленького Ганса.
Все больше росли его симпатии к этим людям и чувство отеческой заботы. Когда отпили чай, стало совсем уютно. Больной давно не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Сильная личность Верди действовала на него благотворно, давала счастье. Жена видела, что они приобрели друга, достойного пожилого человека, чьи черты, сурово-добродушные, как будто говорили, что можно на него положиться. Она была еще так молода, эта женщина. А столько ответственности, столько грозных страхов, столько гнетущих забот лежало на ней! Присутствие гостя она ощущала как успокоительно ласкающую руку. Это ясное бородатое лицо с устремленным вдаль (даже в тесной комнате) взором дружески оттягивало на себя все горести и устраняло их. Агата сбросила ношу с плеч и, как ребенок, грелась в теплых лучах, исходивших от этого лица. Еще сильнее, чем Матиас, ощущала она значительность этого человека, но, не находя другого средства выразить переполнявшую ее благодарность, она неотступно понуждала маэстро, чтоб он ел и ел.
Фишбек поднес спичку к сигаре гостя:
– Вы больше не станете отрицать, господин Каррара, что вы музыкант. Я все не могу забыть, как вы, не задумываясь ни на миг, набросали на бумаге фугу, услышав детские голоса. Меня не так легко запугать, но это было щелчком по моему самолюбию. У вас есть нечто такое, что давно утратили наши первейшие знаменитости, – крепкая хватка. Да и письмо у вас не дилетантское.
– Милый Фишбек, музыка тут ни при чем. Это жонглерство, ловкость рук. Другие так же легко показывают фокусы на картах. Я помещик. Не будем об этом говорить.
– Нет, нет! У вас есть стиль.
– Вам должно быть только приятнее, что я не какой-нибудь нотный кропатель. Иначе, согласно вашим принципам, вы должны были бы меня презирать. Но я не затем пришел к вам, чтобы разговаривать о себе. Я хотел бы узнать побольше о вас самих.
– Мою историю недолго рассказать!
– Сколько вам лет?
– Двадцать шесть!
– Двадцать шесть, – медленно повторил маэстро, словно взвешивая это число, такое для него далекое.
Лицо Фишбека спряталось под маской средневекового аскета. Детским тоном подвел он итог своему творчеству:
– Да! Двадцать шесть! Но до двадцати пяти меня не существовало. Истинный час моего рождения настал этой зимой.
Маэстро вспомнил себя самого на двадцать шестом году: «Я тогда как раз закончил своего „Oberfo, conte di San Bonifacio“. Боже, каким незрелым и непритязательным был я тогда по сравнению с этим юношей».
– Раз уж я начал, – сказал он, помолчав, – снимать с вас показания, как в суде, буду продолжать допрос: где вы родились?
– В Биттерфельде. Есть такой город в Средней Германии.
– Биттерфельд? Campo ataro.[54] Неужели ваши предки не могли окрестить свои города более счастливыми именами?
– Уважаемый синьор Каррара! Город по праву зовется «горьким полем». Мне тоже там пришлось несладко. Я сын тамошнего церковного органиста. Еще отец мой (он умер три года тому назад) был на дурном счету у господ обывателей. В Германии каждый незаурядный человек становится либо алкоголиком, либо чудаком, а порой тем и другим сразу. Отец всю жизнь писал исторический труд: «Городские общества духовой музыки в Тюрингии после Тридцатилетней войны». Так как он был единственным настоящим человеком в Биттерфельде, он повернулся спиной к своим почтенным согражданам. Те его травили… Как обернулось со мной, вы сами легко себе представите. У меня нет больших оснований тосковать по родине. Моя Агата проморгала безоблачное биттерфельдское будущее бок о бок с каким-нибудь благонадежным чиновником или кандидатом в пасторы. Она позволила мне похитить ее. Finis.[55] Вот и вся наша биография!
Маэстро Верди имел некоторое представление о немецком филистерстве и его нагло-победоносном развитии после 1870 года. Все же для него было непостижимо, как может человек с таким явным отвращением говорить о своей родине. Итальянец не понимал стародавнего немецкого несчастья – всенациональной ненависти немцев к самим себе, коренящейся в глубокой неспособности к установлению народного уклада жизни. Еще во времена трагической расколотости, поддерживаемой чужеземным владычеством и папским престолом, итальянцы все-таки имели свою исконную и жизнеспособную демократию, какой немцы и раньше не знали, а после «счастливых» Бисмарковых войн – меньше чем когда-либо. Но сейчас для маэстро важнее было другое.
– Не обидьтесь на мое отеческое любопытство, господин Фишбек, если я задам вам такой вопрос: коль скоро вы порвали всякую связь с вашей родиной, на какие средства вы живете?
Музыкант явно затруднялся ответом. Он постарался легкостью тона замаскировать важность предмета.
– Да так, в общем справляемся. У меня есть вроде как бы меценат. Кроме того, я начинаю приискивать учеников. Я надеюсь, что через две-три недели буду по-прежнему совсем здоров и трудоспособен. И видите ли, господин Каррара, Агата много рукодельничает, вышивает разные красивые вещицы…
Агата покраснела, взяла ребенка за руку и скрылась за занавеской. Маэстро посмотрел вслед этому молчаливому существу, сохранившему в себе что-то девическое, почти детское. Никогда не встречал он подобных женщин. Ушла ли она, стыдясь своего пролетарского положения, или же уклоняясь от похвал и расспросов, или просто чтоб оставить мужчин вдвоем? За занавеской было совсем тихо. Ни разу ребенок, этот слишком серьезный ребенок, не напомнил о себе смехом или лепетом.
Верди почти укоризненно обратился к молодому мужу и отцу:
– Позвольте, господин Фишбек! Вы музыкант, и, я уверен, очень дельный музыкант! Ваши критические теории мы оставим пока в стороне; но, мне думается, молодой композитор с вашим умом, с вашим проникновением в искусство мог бы в наши дни найти неплохой заработок. Так редко встречаются творческие натуры. А мир изголодался по музыке, как никогда!
– Этот мир сластолюбцев? По моей музыке он, уж конечно, не изголодался.
– Не надо отказываться от попыток. Найдется в Германии издатель, который напечатал бы ваши вещи.
Фишбек вскипел:
– В Германии? В Германии Листа и Вагнера, одурелой от оркестров? Или в Германии сухих академиков? Нет, там для меня нет издателя!
– Тогда издатель, если вы пишете настоящую музыку, найдется в Италии.
На миг в глазах Матиаса Фишбека вспыхнула искра. Это был тот же алчный всполох слабости и надежды, какой маэстро подметил у злосчастного Сассароли. Но тотчас же соблазн отступил перед все отвергающей твердостью.
– С этим покончено. Я пишу не для современности!
– Вы уповаете на потомков?
– К ним я равно безразличен. Я просто выражаю в своих композициях сущность музыки, как выражает дерево сущность природы. Как их применит мир и применит ли – мне все равно.
– Вы говорите, к современности вы безразличны. Но послушайте, мой милый Фишбек, перед вами, может быть, еще полвека жизни. Безразличие будет вам даваться все трудней и трудней.
– Этого я не опасаюсь. Я намерен умнеть, а не глупеть.
– Вы, немцы, может быть, более возвышенно понимаете успех! А вот я не представляю себе, чтоб музыкант не желал оказывать воздействие. Музыка – не философия и не какое-то выявление абсолютной истины, иначе ее выразительные средства не устаревали бы так быстро. В своем воздействии на людей она более, чем прочие искусства, связана с временем. Как и любовь, она есть блаженный окольный путь к удовлетворению. Поэтому аплодисменты после музыки вовсе не знак невоспитанности, как утверждает новая мода, а необходимая составная часть каждого музыкального произведения. Их бы следовало даже отмечать в партитурах. Как политика без массы, так музыка немыслима без публики.
– При всем почтении к вам, господин Каррара, я буду с этим спорить. Только по упадочным воззрениям нашего времени быстрый эффект – это все. Мир независимо от человека вершит свой путь, и космос звуков – тоже. Разве необходимы уши, чтоб существовала музыка?
Маэстро напряженно старался вспомнить, где слышал он подобную же фразу. Наконец он вспомнил, как маркиз Гритти в сочельник сказал перед бюстом Беллини: «Ах вы, молодежь! Разве это музыка, если в нее нужно вслушиваться?»
Суждение престарелого гурмана, любителя оперы, странно сходилось с принципом молодого аскета.
Верди оборвал теоретические рассуждения. В упрямстве Фишбека он ощущал что-то фальшивое, неестественное. Как же можно разделять музыку и ее воздействие? Абсолютно непостижимо!
– Разрешите мне все-таки, милый друг, изобразить собою ухо. После всего сказанного я просто горю нетерпением послушать что-нибудь из ваших вещей.
Фишбек, вдруг занервничав, начал разъяснять предпосылки своего творчества:
– Я, господин Каррара, ненавижу оркестр – старый оркестр с грохотом аккордов и во сто раз больше новый – слащавое и вязкое звуковое болото. Новый оркестр с его хваленым многоголосьем, представляющим собою тот же аккорд, но только ломаный, и все то же бессильное тремоло, – новый оркестр есть отражение современного половинчатого человека, которого должно преодолеть.
Для пения я тоже не хочу писать. Оно развращено оперой. Итак, мне остаются (помимо разве струнных квартетов) только темперированные инструменты: рояль и орган, в которых звук живет не только чувственной, но также и духовной, более высокой жизнью. Вот посмотрите! Покажу вам несколько рукописей.
Фишбек разложил композиции на столе. Это были нотные листы, озаглавленные «Токката», «Чакона», «Пассакалья» или просто «Opus»[56] и очень тщательно, каллиграфически выписанные, – почти без всяких указаний для исполнителя, без динамических обозначений. Подзаголовки отсутствовали. Отдельные части были только помечены номерами. Обозначение темпа ограничивалось простейшими терминами и цифрами для метронома.
Уже своим внешним видом эти страницы как бы провозглашали борьбу с какой бы то ни было взволнованностью стиля.
Человек звуковой стихии, Верди не любил поддаваться обману нотного письма. Он потребовал, чтобы Фишбек исполнил одну из этих вещей.
Немец сел за рояль и начал играть, неловко, деревянно, угловато передавая свою музыку.
На втором такте маэстро счел молодого человека за сумасшедшего, на десятом – за шарлатана, к тридцатому он был убежден, что тяжелая неизъяснимая лихорадка разрушила в Фишбеке способность к критической оценке и породила бред. Под конец же он спрашивал себя: «Неужели мои стариковские уши настолько закостенели, что я не слышу в этой игре ничего, кроме беспорядочного столкновения звуков, наугад извлекаемых из клавиатуры?»
Голоса шли обособленно, как будто каждый принадлежит другому композитору. Они то и дело сшибались, точно пьяные, и тогда возникал ужасный, раздирающий ухо аккорд; точно усталые ноги измученного путника, ритмы спотыкались, не держали шаг. Тональность, едва найденная, тотчас же оставлялась. Основной тон и доминанта были как будто вовсе выброшены за пределы музыкального отрывка полицейской властью, зато беспрепятственно выскакивали самые неприятные интервалы.
Что это – подлинное безумие, разрушительная болезнь? Издевательство с нарочитым старанием удивить? Или маэстро оглох для новых звуков? Все же, когда вещь была доиграна, Верди не нашел в себе ни следа злобы или раздражения. Фишбек с такою чистой страстью отстаивал свое несуразное творчество, так упорно и так безнадежно, что невольно вызывал сострадание. И помимо сострадания, это наивное служение тщетному требовало также уважения. Долго молчал маэстро, перед тем как высказать свой приговор:
– Вы, конечно, заранее знали, господин Фишбек, что мне, старику, этого не понять. Так как я считаю вас искренним и правдивым человеком, я должен искать вину в себе самом. Я, как видно, не просто стар, а слишком стар. Может быть, уже сегодня родились – или завтра родятся – такие уши, которым ваша вещь что-то скажет. Я, однако, совершенно не представляю себе, как устроены эти уши.
– Господин Каррара, ясно, что вы не можете так, с налету, одолеть мою музыку. Вы должны сперва освободиться от всех звуковых предрассудков.
– Вряд ли я на это способен.
– Подумайте, чему только не научило нас в этом направлении время?
– Верно. То, что сейчас звучит устарелым, в дни моей молодости освистали бы как неприемлемое для слуха.
– Ну вот видите! Со временем и эта музыка, хотя сегодня она вас пугает, станет вполне доходчивой. Я просто слишком рано родился на свет.
– Я скоро умру. Годы мои истекают. Миру и после моей смерти многое предстоит пережить. Желаю вам, чтобы вас поняли еще при вашей жизни.
– Вы просмотрите мою музыку, господин Каррара. Глаза должны сказать вам, что она хороша.
– Спору нет! Движение ваших нот выглядит превосходно. Если бы дело было только в этом, я без колебания стал бы вашим приверженцем.
– Поверьте мне, господин Каррара, хоть вы их пока не распознали, – это настоящие мелодии.
Маэстро передернуло от этих слов, от этой безумной самонадеянности.
– Мелодии? – переспросил он и тут же смолк.
Тонкий рот Фишбека стал и вовсе безгубым.
– Я не боюсь. Когда вы лучше познакомитесь с моими вещами новая мелодия дойдет до вас. Мы все испорчены.
– Как итальянец, я держусь, конечно, узких и далеко уже не современных взглядов на мелодию.
– Что же вы называете мелодией?
– Определению это не поддается, это можно в лучшем случае описать. Как я понимаю, подлинная мелодия подчинена характеру и возможностям человеческого голоса. Даже инструмент может давать мелодию только тогда, когда он подражает пению. Мелодия, следовательно, покоится на доступных интервалах, доступных для голоса, и на нашем осознании тональностей, которое нельзя безнаказанно оскорблять. Но это только беглое описание, не люблю я разводить теории.
– Наше осознание тональностей? Но ведь оно меняется.
– Не спорю! Мелодия связана со своей эпохой. Она не висит, подобно гробу Магомета, в эфире. Она не может быть бесконечной – ни в смысле времени, ни в смысле пространства.
– Но ведь вы допускаете…
– Я допускаю, что со временем, когда у человека выработается соответственное восприятие тона, ваша музыка, возможно, будет понята. Но ведь вы сами ни во что не цените людское одобрение.
Фишбек поник головой. Закоренелый аскет, спокойно низвергавший богов своего века и без стеснения превозносивший самого себя, заговорил так тихо и так по-детски, что у маэстро рассеялась последняя тень недоверия.
– О, мне очень хотелось бы, чтобы три-четыре человека понимали, к чему я стремлюсь.
Доброе лицо гостя совсем смягчилось:
– Когда становишься старше, начинаешь – уже ради того, чтоб тебя понимали, – искать простоты. Художник по природе одинок, незачем ему усугублять свое одиночество. Вы тоже к этому придете!
А теперь вот что, милый Фишбек! Дайте мне с собою две-три ваших вещи. Я их проштудирую. Потому что, как я говорил, мое ухо, мой вкус – да и сам я – состарились, отстали. В искусстве я всякий приговор считаю ложным. Мне недостаточно поверхностного впечатления.
Фишбек выбрал самые, на его взгляд, понятные рукописи; он чувствовал, что мнение помещика Каррары для него важнее, чем он сам себе признавался. Старик, однако, лишь тогда согласился принять рукописи, когда автор заверил его, что они у него переписаны в нескольких экземплярах.
Маэстро еще раз обвел глазами комнату, где не было ничего итальянского, ничего привычного, где все дышало чем-то глубоко чуждым, какой-то провинциальной аккуратностью, провинциальной ограниченностью. Еще раз посмотрел он на белокурую голову учителя-педанта, на его лицо со складками, глубокими не по годам, с горящими глазами, – на этого человека, который в сумасшествии, в бреду ли, ради оригинальничания, или из упрямства, или еще по какой-то причине создавал нелепое искусство, предназначенное удовлетворять лишь его одного. И опять у Верди против воли возникла мысль: «Если человек, с такой верой в себя, в таком духовном взлете, из ненависти к своему веку создает нечто совершенно незнакомое и неиспробованное, разве нет в этом величия?»
Женщина и ребенок вышли из-за занавески. Прощаясь, маэстро почувствовал, что рука Агаты не хочет разлучаться с его рукою, что она как будто выпрашивает обещание, молит в заговоре с нею оказать снисхождение неразумному мечтателю, больному любимому человеку, которого она в любой день может потерять. В хмелю лихорадки и безумия он, не думая о жене, ежечасно подвергает себя опасности. Над нею висит приговор. Почувствовал ли это гость?
Рука маэстро ответила обещанием. Больше ради красивого и грустного ребенка, который должен жить недетской жизнью между отцовским витанием в мечтах и материнской молчаливой печалью.
Чего больше всего не хватало большому парку Сант Агаты с его аллеями, лужайками английского газона, рощицами и просеками, если не голоса и беготни ребенка? Всегда его дорожки, тихие и аккуратные, были старческими, слишком были угрюмы вершины старых деревьев.
III
Не приближайся к урне,
Принявшей прах мой бренный.
Навек в земле священной
Остыл мой страстный пыл.
Томят напрасно эхо
Твои пустые пени.
Смирись – и грустной тени
Покой не нарушай.
Из стихотворения Джакопо Виторелли «Non ta'ccostar all' – urna», которое Верди в 1838 году положил на музыкуИзмученный, с болью в висках, изнемогший маэстро сидел в этот вечер над рукописью «Лира».
Как далека была музыка! Не верилось, что когда-то он писал, подчинял гармонии и ритму звуки, которые теперь каждый вечер плясали и кружили в театрах над напряженным залом. Кто был этот Верди? Только не он! Чужой, непонятный ему человек. С полным правом присвоил он себе честное имя адвокатов и нотариусов – Каррара. Верди! Им он чувствовал себя сейчас не более, чем Каррарой.
Он бежал из Генуи, из Милана, отовсюду, где было ему уютно, где его ограждали привычные лица и голоса, – бежал сюда, в этот бесконечно чуждый город, чтобы совершить невозможное; чтобы сделать еще одну попытку все-таки создать напоследок новую вещь; чтобы побыть одному, совсем одному, в очной ставке с самим собой. И вот. несмотря на борьбу, на яростную самозащиту, ему открылась правда: настал конец! Порой еще обольстит быстролетная надежда: здесь и там удалась какая-нибудь фразочка, счастливо слаженное сплетение голосов. Но все это лишь отголоски прежнего, эхо приобретенного навыка. Никакой самообман не поможет. Творческий дар утрачен. Как профан, маэстро сам теперь дивился тому, что существуют люди, которые без труда, в полете фантазии, за несколько часов могут покрыть две-три страницы образами, еще недавно не существовавшими на свете и вдруг зажившими подлинной, независимой жизнью.
Ему в этом отказано навсегда, сколько лет ни оставалось бы ему прожить.
Маэстро вскочил и начал свое привычное кружение по комнате. «Теперь, как раз теперь, когда я так продвинулся, когда перерос все условности, когда так много знаю, так изощрен, – как раз теперь я должен сложить оружие! От этого можно взбеситься! Я жив еще, я чувствую себя, как в тридцать лет. Сила, энергия, кровь – в полном порядке… И вот теперь – черт возьми! – я должен всем пожертвовать, все оставить на погибель, потому что сердцевина во мне мертва? Я бы не был теперь плебейским оперным композитором, стряпающим свои кабалетты! О, я бы ему показал! Я нашел бы самое мощное, непоколебимое, самое неслыханное! И вот теперь, как раз теперь – всему конец!»
Вновь остановился маэстро перед запертым ящиком. Но пересилил себя и опять закружил по комнате.
Где-то лежали рукописи Фишбека. Он решил не просматривать их. К чему? Немцу он и без того поможет – непременно! А все это кичливое чудачество только снова смутило бы его, обозлило бы. Молодые супруги и мальчик не выходили у него из головы. Вновь и вновь вставала картина убогой комнаты с белой скатертью на столе, с удушливой провинциальной аккуратностью. Он видел перед собой лицо классного наставника, больное и горящее, слышал рубленую, несвязную и плохую игру этого человека, который с не-остывшим пылом только что достигнутого знания отрицал титанов сегодняшнего искусства и ценил одного лишь Баха, как единственного своего предшественника. Сколько возражений против тезисов Фишбека приходило теперь на ум! Почему дает он своим вещам старинные наименования – «Токката», «Пассакалья»? Не скрывается ли за громкими словами аскета все тот же современный снобизм – любимый конек сенатора в его сатирических выпадах?
А ведь немцы всегда были как будто нацией неизлечимых начетчиков, нацией прилежных школьников. Они куда как любят выставлять напоказ свою образованность! С месяц назад маэстро прочел гётевского «Фауста». Разве бьется в этих высокоумных стихах живое сердце? Нет! Зато они сплошь напичканы научной терминологией и всякой посторонней ерундой, притянутой ради тщеславия. Какая ложь – называть такую вещь народной поэзией!
Фишбек, при всей своей нелюбви к собственной национальности, без сомнения насквозь немец!
Маэстро чувствовал проникновенное рукопожатие Агаты, пожатие загрубелой в работе руки. Невзрачная молодая женщина была, конечно, истинной героиней трагедии. И в этот тихий час бессловесная незаметная Агата стала вдруг живей и реальней Фишбека. Верди почти что слышал ее высокой, немного испуганный голос. Этот голос точно шептал ему на ухо жалобу. Маэстро угадал печальную долю загубленной молодости: тяжелую работу до глубокой ночи, жестоко попираемое самолюбие, полное одиночество женщины в ее жизни бок о бок с мономаном, не замечающим существа, которое постоянно у него перед глазами. Не Агата ли вызвала перед маэстро забытые образы, которые вскоре должны были им завладеть?
Когда же он думал о мальчике, становилось стыдно, что он не принес ему подарка.
Вдруг он сам себя одернул. Он здесь, в Венеции. Его жизнь не должна окончиться посрамлением! Рано еще отказываться от борьбы.
И опять сидел он, и смотрел на ноты, и силился перенестись сознанием в ту нелюдимую степь, где Лир проклинает грозовое небо. Но эти привычные для пальцев бурные ноты – он их ненавидел, они звучали только повторением старых бурных пассажей из «Корсара», «Риголетто», «Арольдо». Нет, так дело не пойдет!
Он уронил голову на руки. Все тело, каждую частицу тела сковало странное оцепенение. Маэстро знал по опыту, что это чувство разбитости ему не одолеть. В такой усталости, не разрешавшейся сном, он часто просиживал ночь напролет, потому что сон у него, как у всякого человека в годах, давно шел на убыль, становился короче.
Часто мучительная полудремота, как враг, нападала на него врасплох. Бесчисленные образы – детали картин, отложившиеся в памяти старика за шестьдесят девять лет его жизни, – как запруженный поток, прорывали в такие часы плотину его сознания и увлекали его за собой. Казалось, будто эта усталость была лишь предлогом, лишь средством для потока еще не изжитых, не исчерпанных воспоминаний опрокинуть тело, сделать волю беззащитной, чтобы ничто не мешало ему вновь безудержно разлиться.
Маэстро едва мог подняться, так был он утомлен. Он знал, что это в нем возмутился внутренний мир и теперь не отбить его натиска. Ничего не оставалось, как только погасить свет и, не раздеваясь, растянуться на гостиничном диване.
Отсветы газовых фонарей на Риве и фар на мостах и пароходах колыхались в комнате, ложились блеклыми косяками и квадратами на кресла и на ковер.
Состояние, в которое впал маэстро, не было ни сном, ни дремотой. Даже закрывая глаза, он ни на миг не терял из виду комнату, ни на шаг не оставляло его сознание, что он не спит.
Независимые от него, уже как будто и не порождения его мозга, давние события, – а с ними и сам он, – вступали на таинственные подмостки и вели то же существование, какое некогда вели в действительности.
Подобное состояние Верди называл «воспоминаниями», не задумываясь над тем, что не он вспоминал былое, а прожитая жизнь сама по каким-то непонятным законам вновь обступала его. Сперва «на полотне воспоминаний» возникла такая картина.
Он молод и сидит с двумя знакомыми за столиком в саду при одном миланском кабачке, очень популярном в тридцатых и сороковых годах. Один из них – плотный мужчина с благодушным и потасканным лицом сластолюбца – импресарио Бартоломео Мерелли, самый влиятельный человек в миланской Ла Скала и в придворном оперном театре близ Кернтнертора в Вене. Второй – поэт и либреттист Солера, разработавший текст к самой первой опере Верди «Oberto, conte di San Bonifacio». Солера сидит напротив маэстро – широкоплечий, грузный великан и явный забияка; монокль на широкой ленте почти комически контрастирует с его монгольским лицом, обрамленным короткой густой бородой. Про Солеру ходят по городу самые дикие истории. Он цыган и еще мальчиком сбежал из венского Терезианума, чтобы затем выступать в нескончаемой смене профессий – стихотворцем, журналистом, шпионом, заговорщиком, политическим сердцеедом, оперным композитором, плагиатором, крупье, придворным испанских Бурбонов, полицмейстером каирского хедива. Его авантюрная биография в точности напоминает биографию моцартовского либреттиста, который называл себя аббатом Лоренцо да Понте и волей судьбы умер, как и Солера, в Нью-Йорке.
Явственно видя, как Солера наливает ему в стакан деревенское медвяно-золотистое вино, маэстро думает о том, как рано даровитый поэт и друг его юности ушел из его жизни. Будущий автор текста к «Набукко» через два-три года скрылся без следа, даже неизвестно было, куда послать его долю гонорара. Правда, впоследствии он вернулся в Италию, но таким морально опустившимся, таким по-нищенски наглым и несносным, что Верди больше не мог сотрудничать с ним.
Но сейчас, в светлом летнем садике, на таинственной эстраде хроники, Солера многословно убеждает в чем-то маэстро, а Мерелли одобрительно хмыкает и строит свои неисповедимые планы. Верди чувствует себя усталым и печальным, и в то время как отголоски вечернего веселья врываются с Ривы к нему в окно, он щурится от солнечного света, который играет, пробившись сквозь ветви, на столике, на бутылках, на стаканах.
Эта картина, непонятная и незаконченная, вынырнув, быстро исчезает. Возникают новые, еще непонятней, еще отрывочней, но они все откровенней ведут его за собой.
Верди видит себя в маленькой квартирке у Порта Тичинезе в Милане. Он смотрит в зеркало. Из стекла глядит на него почти чужое чернобородое и мягкое лицо.
Примечательно: у него не слишком хорошая память на вещи; но сейчас, в это мгновение, он мог бы описать каждый предмет, вплоть до стенных часов, в трех комнатках, с которыми расстался сорок четыре года тому назад.
Он не во сне это видит – он вспоминает.
Перед ним встает молодая женщина. Это не мещаночка Пеппина, так быстро сбросившая с себя облик примадонны, чтобы десятилетиями терпеливо выносить тяжелое бремя его личности; и не Терезина Штольц, его Аида, мужиковатая чешка, которая держит его в могучих объятиях и нашептывает чуждые, жесткие слова любви. Это другая женщина, другая девушка, другое счастье.
Давно, давно не думал он о Маргерите Барецци, о спутнице, которая делила с ним первые годы его безвестного и бедного начала. Сейчас он видит ее, хрупкую женщину, в несколько месяцев сбросившую с себя налет буссетского провинциализма, видит темные кольца волос, лицо с глубокими тенями, глаза с красивыми ресницами, стройный в изящной одежде стан, пленительную ножку. Она молчит. Голос ее угас. Но он говорит: «Маргерита!» – и говорит не только на эстраде хроники, где он выступает совсем молодым человеком, – он произносит это имя седобородым стариком, на диване в номере гостиницы.
Вот в их запущенной комнате он вынимает из кармана два золотых браслета и подает их жене, а та весело ему улыбается. Она заложила их не из-за подлинной нужды, а скорей из-за его глупой педантичности: деньги были на исходе, а подходил срок платить домохозяину. Слышно тихое треньканье – она надевает браслеты, – и он до ужаса отчетливо чувствует на губах дыхание незнакомого, чужого поцелуя, который тотчас же тончайшей и горестной отравой пронизывает все его существо.
За окнами ревет сирена парохода. Вскипел и рассыпался снопом разноголосый смех.
Маэстро не может ухватить бездонную мысль, что этот поцелуй одновременно и настоящее, и явление внутренней жизни – простой и горячей, нисколько не загадочной. Он не может овладеть сумасшедшей мыслью, что наше «быть» означает не блаженное стояние на месте, а страшный отрыв от любимых других и от любимого себя, что мы ежевечерне хороним не только всех сотоварищей, но и собственное отошедшее «я», что каждое дыхание на земле – подлая измена.
Мысли скользят к смерти, к смерти скользят образы.
Он стоит посреди комнаты с двумя кроватками, где за сетками мечутся в лихорадке его дети. Молодая мать хлопочет вокруг них. Она шатается, измученная бессонными ночами. Но разве может она отдохнуть?… Он видит, как Маргерита приносит воду, греет ее, наливает в тазики, мочит полотенца, помешивает в кастрюльках кашу для детей. Из кухни в комнату, из комнаты в кухню. Как мало облегчения приносит он ей своею неумелой помощью!
Но как ни давит горе, он и теперь, после долгих десятилетий, снова узнает женщину в ее самом святом, самом светлом деле, – женщину в самом бесспорном смысле этого слова, – мать в ее ореоле.И еще он знает, что в этих страхах, в этом мучительном единении семьи заключается единственное счастье мужчины, обетованное счастье, перед которым ничто и слава и искусство – эти печальные береговые огоньки для потерпевших крушение.
А она? Что есть у нее, кроме сотни огорчений, однообразия, неполадок повседневной жизни? Она живет в таких стеснительных условиях, не может, подобно богатым женщинам, наслаждаться роскошью, упоительными радостями моды, светского общества, безделья. Как она все же обездолена, эта мать в ее ореоле! У него есть работа, пьянящая надежда, жажда славы. А ей домашние хлопоты ничего не приносят, кроме вечного недовольства со стороны мужа-маньяка, начинающего композитора, который продвигается слишком медленно, терпит горечь неудач и убогих успехов, принимая как обиду каждую не слишком пылкую похвалу и сотни мнимых знаков пренебрежения. Да, он понимает величие ее самоотверженности, ее святого самоотречения, и когда она снова входит в комнату, он хочет ее обнять.
Но тут его трехлетняя дочурка начинает плакать укоризненным плачем страдающих детей и животных, что так еще близки блаженно-бесчувственной ночи. Маргерита подбегает к девочке и, поборов смертельную усталость, болтает, рассказывает, поет, чтоб утешить ребенка.
Мальчик, Ичилио, у чьей постельки сидит он сам, не плачет. Верди любит сына любовью честного крестьянина к своему первенцу. Мальчик ловит воздух короткими, отрывистыми и мелкими глотками, личико побурело от жара, сжатые кулачки ударяют по одеялу. Отец смотрит на мальчика, и его собственное сердце – сердце молодого музыканта, сердце старого маэстро на гостиничном диване – бешено бьется в такт с пульсом больного ребенка.
Вдруг – только на секунду – переплетается с воспоминаниями сегодняшний день, и в эту секунду маэстро не знает, видит ли он собственного сына или маленького Ганса Фишбека.
Но вот он чувствует, как в страшном испуге он выхватывает ребенка из кроватки и прижимает к своей груди, точно в этом соприкосновении с отцовским телом – единственное спасение. От детского лобика отхлынула краска, в горлышке подозрительно забулькало. Отец прижимает к себе пылающее, сведенное судорогой тельце и следит, как все неестественней вытягиваются ручонки, все неправильней становится дыхание. Всеми силами противится он воспоминанию о страшном мгновении, когда за последним хриплым вдохом не последовало нового…
Маэстро удалось вовремя прийти в себя. Его трясло от приступа кашля. За окнами пели матросы. Отсвет какого-то фонаря горделиво протянулся по стене.
Лежащий сделал слабую попытку встать, но напрасно. Мир, никогда не умирающий в нас, еще держал его в своих таинственных оковах. Он напряг всю силу, чтоб им не завладел поток последующих событий, чтоб не видеть умирающей жены и детских трупиков, распахнутых дверей, гробов, людей из бюро похоронных процессий – в грязных сапогах и пропахших винным перегаром, не видеть размытых дождем кладбищенских дорожек.
Только когда встала перед ним Маргерита Барецци в удивительно современном и красивом летнем платье, он оставил сопротивление и сдался. Но силы его были исчерпаны, и он заснул на несколько минут, и эти минуты обернулись сновидением – как будто умершая хотела теперь действовать свободнее, чем это возможно в тисках воспоминаний.
Он спускался с Маргеритой по лестнице их дома. По солнечным улицам они прошли к потонувшим в парке укреплениям миланской цитадели. Маргерита шла очень быстро, и он, человек в годах, едва за ней поспевал, все время немного отставая.
Своею легкой поступью она побеждала пространство, от берегов совсем чужой Ломбардии спустилась по японскому резному мостику в совсем чужую Венецию, а маэстро, ничему не удивляясь, следовал за нею. На Пьяцце она купила у старухи цветы – охапку мимоз, из которой все время роняла по веточке. Маргерита, как видно, прекрасно ориентировалась в этой преображенной Венеции и все время – из вежливости или из лукавства – выбирала ту дорогу, которую предпочитал и сам маэстро. Эти улицы и переулки являли причудливый вариант венецианского пейзажа, будивший неясные, очень завуалированные ощущения – жуть, подкравшуюся тоску. Вот она свернула в Калле Ларга Вендрамин. Сновидец нехотя последовал за нею ко дворцу. Она остановилась как бы в раздумье, повернулась – в первый раз – к супругу и рассмеялась так по-детски, так гордо, так победно, как будто знала заранее, что все разрешится хорошо и счастливо. Потом она встала на цыпочки и, опять рассмеявшись, с дерзким задором перебросила через ограду три веточки. Тут она сразу сделалась серьезной и поглядела вокруг, как бы разыскивая какой-то дом. Пройдя еще несколько шагов, она нашла этот дом, поклонилась с неприступным видом, как еле знакомая дама, и скрылась в подъезде.
Маэстро очнулся от своего короткого сна. Он не успел подумать о его значении, потому что с новой силой нахлынули новые воспоминания, в которых он среди прочих образов видел и себя.
Верди сидит в театре Ла Скала, в комнатке, отведенной для авторов. Он отказался занять в оркестре традиционное место композитора между первой и второй виолончелью и по старому обычаю, в качестве автора исполняемой оперы переворачивать ноты скромному оркестранту. Он прекрасно сознает, как сомнительна сегодня надежда на успех, как шаблонна его новая комическая опера «Мнимый Станислав». Но эта заурядная opera buffa – плод самого богатырского напряжения воли за всю его жизнь. Он, может быть, не создал истинно художественной вещи, но героически исполнил долг в эти месяцы нечеловеческой тоски, оцепенения, тяжелой болезни, когда более слабый просто пошел бы ко дну. Он не гордится своею оперой, она ему безразлична, – он гордится совершенным подвигом, и ради него не хотел бы потерпеть фиаско. Но что знает публика – эти постоянные абоненты, критики из фойе, эти так называемые ценители музыки и офицеры Радецкого,[57] – что знают они о нем и его подвиге? Прошли уже два акта. Он ничего не слышал. Несчастье не стряслось, хоть он и знает, что аплодисменты были жидкие. Дело еще не потеряно.
Кое-кто из знакомых заглянул к нему в его комнату: его покровитель граф Борромео и его друг инженер Пассетти – ничтожество, преданный и вместе с тем трусливый человек, принявший в нем участие в дни его тройной утраты. Оба, однако, обошли молчанием его музыку, только пространно говорили о певцах, дотянули кое-как до первого звонка и распрощались смущенно.
Верди с трудом подавил опасную вспышку злобы против этих неискренних, нестойких друзей.
Вот уже двадцать пять минут идет последний акт оперы. Там найдутся три-четыре ярких номера, три-четыре выигрышные ситуации. На несколько секунд рассеивается глубокое уныние молодого композитора, старого маэстро. Спектакль пройдет благополучно. Квартет совсем не плох, в нем есть удачные повороты, он несомненно понравится. А финал и подавно.
Верди видит, как в сотый раз пробегает он по этой комнате, которую знает наизусть, потому что впоследствии не раз ожидал здесь окончания премьеры. Время тянется, и надежда все успешней обманывает автора. Не выдержав, он бежит вниз по нескончаемым обветшалым лестницам Ла Скала, плутает, попадает в погреб, заваленный ветошью кулис, пропыленным реквизитом, и наконец, обливаясь потом, добирается до сцены.
Тут его сразу обдало ни с чем не сравнимой, сокрушающей сердце атмосферой театральной катастрофы. Перешептывание потерявших голову режиссеров, хористов, ламповщиков, рабочих сцены. Хормейстер рвет на себе волосы. Человек у занавеса, уцепившись судорожно за канат, смотрит вдаль разодранными глазами застывшей трагической маски и ждет избавительного сигнала. Певец в театральном костюме проносится мимо молодого композитора, вращая налитыми кровью подведенными глазами. Он сыплет бранью, орет и смачно сплевывает. Какая-то певица сидит на приступочке и плачет, истерически завывая… Только закаленный Мерелли, которому, в сущности, придется одному нести все убытки, как смущенный генерал во время бегства, с вельможной улыбкой успокаивает свое ошалелое войско. Его пухлое чувственное лицо с голубым налетом на чисто выбритых щеках уже не благодушно и уютно, а являет бледную решимость и спокойствие какого-нибудь Цезаря, какого-нибудь Калигулы.
Маэстро еще услышал последние звуки затихающего оркестра, голоса отчаявшихся певцов. Еще пыжился упрямый гортанный фагот. Затем донесся снаружи глухой, раздираемый режущими, колющими выкриками рев, изо всех звериных ревов самый злобный и подлый – вскипающий рев линчевания. Стоголосый вой, хохот, гиканье и свист подавили все остальное. В течение десяти секунд после первого оцепенения несчастному казалось, точно в горле у него застряло что-то черное, тошнотное. Никто не смотрел на автора, не замечал его. И слава богу! Наконец, зажужжав, упал занавес и оборвал этот звериный рев – только вдалеке прокатился мертвый гул прибоя.
Одурев от ужаса, маэстро несется по улицам ночного Милана. Старик на диване в гостинице чувствует, как тот, молодой, – как он сам бежит и бежит. Горе свежо и не изжито. Этого никогда не загладят никакие триумфы. На Верди лежит проклятием неумение забывать. Его тягчайшая жертва долгу осмеяна. А ради кого он ее принес? Ради какого-то импресарио – чтоб не нарушить слово!
Он бежит теперь в пустую ночь. В горле камень, и никак его не проглотить. Сам не зная, как сюда попал, маэстро остановился перед домом на Корсиа ди Серви, где он снял комнату после внезапной смерти жены и детей. Он отворяет дверь и, не зажигая спички, в глубокой тьме, через две ступеньки взбегает по лестнице. Вот наконец четвертый этаж, наконец он у себя, в мертвой, пыльной комнате.
Здесь он ждет час, два часа. Может быть, кто-нибудь придет еще, свистнет снизу или окликнет, не захочет оставить его одного в эту ночь? Он прождал два часа с половиной. Никто не пришел, никто не свистнул, не окликнул – ни Мерелли, ни Борромео, ни Пассетти, ни даже маэстро суджериторе – суфлер театра, который перед ним в долгу. Нескончаемая ночь! В несколько минут старый маэстро наново переживает ее драму со всеми одинокими сценами взрывов ярости и помыслов о самоубийстве.
Тусклый свет глядит в унылое окно, и вот решение созрело: он больше не напишет ни единой ноты! А раз уж он на беду взялся за это проклятое ремесло, ничего не остается, как сделаться посредственным пианистом. Может быть, если привалит удача, он станет концертантом, но всего вероятней – тапером: Багассет, Багассет! Жалкая костлявая фигура выползает утром из сарая и плетется со скрипкой через плечо по улице, прочь из Ле Ронколе. Багассет! Отцовская угроза! Из столицы дорога крестьянского мальчика ведет обратно в села.
Снова пробует маэстро встать с дивана. Но скованность все еще держит его. Он должен терпеливо смотреть картину за картиной.
Он сидит за плохоньким своим роялем и, оглохнув душой, онемевшими пальцами, будто назло себе самому, выколачивая по сто раз одну и ту же фразу, долбит этюды Калькбреннера и Гуммеля, – тупая музыка, от которой теряешь зрение и обоняние и набираешь пыли в легкие. Он долбит и долбит без перерывов, как тибетский монах бубнит свои молитвы. Он долбит до потери сознания, он низводит свои пальцы и мускулы до степени автоматов, которые, едва их оставят в праздности, тянутся снова и снова стучать по клавишам, лишь бы не жить!
Семь раз на день врывается к нему в комнату старик сосед в распахнутом шлафроке и шипит, затыкая уши, что маэстрино сведет его с ума.
Наконец вмешивается своим веским словом домохозяин.
Теперь несчастному не остается ничего, кроме обезболивающего яда зачитанных романов со всякой чертовщиной. Вот он лежит в неубранной комнате, немытый, нечесаный, полуголодный, – и читает, читает запоем!
На Рива дельи Скьявони, под балконом Верди, завязалась ссора. Хрипло перебраниваются мужские голоса. Дело, видно, принимает опасный оборот: кто-то дико заорал. Из сумятицы голосов сверкнули ножи. Но прежде чем случилась беда, вся банда, вдруг объединившись, дружно пустилась наутек от приближающейся стражи.
Маэстро не успел еще перевести дыхание, а уже слоняется – с тяжелой головой, с красными глазами – под стеклянной крышей «Galleria Christofori» в Милане. На улице декабрьские сумерки, а в мозгу – сумерки темного мира романов. Кто-то берет его под руку. Всесильный Мерелли! Разговор идет о безразличных вещах. Слов, лежа на диване, маэстро не слышит, но ему понятен смысл немого разговора, больше того – хоть он и не улавливает ни единого слова, в ушах у него стоит жирный и хриплый голос Мерелли. У Мерелли нет новинки к карнавалу. Он говорит с благосклонно-иронической доверительностью театрального директора по музыкальной части, как только и может обратиться такое божество к молодому, не совсем бесталанному автору. Отто Николаи, немец, приехавший в Милан делать карьеру, вернул ему либретто Солеры, а между тем это стоящая, даже замечательная вещь, очень сценичная и по сюжету и по стиху.
За стеклом падают липкие, тяжелые хлопья снега. О, этот вечный, ненавистный снег, привет враждебного Севера!
Мерелли с оскорбительным цинизмом комиссионера от искусства говорит о театре, о певцах, о композиторах. Правда, он дает почувствовать молодому собеседнику благодушное пренебрежение, но вместе с тем и некоторый интерес к нему, не поколебленную недавним провалом в прессе и перед публикой уверенность: «Из тебя может выйти толк!» Слов не слышно, но маэстро понимает смысл его жеваной речи. Он хочет уйти, отделаться, ищет повода, чтоб распрощаться, но повод не находится.
Верней, он вовсе и не хочет, чтоб повод нашелся, так как знает, что Мерелли идет в театр, и страшная колдовская сила, вдруг проснувшись, тянет драматурга-композитора к зданию Ла Скала. Он борется с собой: он не поддастся слабости, он же принял твердое решение. Но эта хитрая бестия прекрасно знает людей, а в особенности слабую и маниакальную породу музыкантов. Он даже играет с жертвой – так он уверен в успехе. Когда маэстро хочет откланяться, он его удерживает всякими пустяками, прогуливается с ним перед проклятым притягательным зданием, а затем отпускает его. Верди медленно удаляется. И только теперь Мерелли окликает его и под каким-то невинным предлогом тащит в театр.
Человек, который вспоминает, и тот, о ком вспоминают, оба чувствуют запах сцены – смешанный запах дерева, краски, холста, смазочного масла, плесени, помады и пота, какой стоит в любом театральном подъезде. Заходят в кабинет Мерелли. Ищут и находят весьма посредственную рукопись (предлог), которую молодой маэстро Верди уже однажды отклонил, хотя импресарио делает вид, что об этом ему ничего не известно.
Но есть еще одна рукопись. Она совсем случайно лежит на столе. Против Мерелли никто не устоит. Этот мягкий с виду человек – на деле рассудительный и волевой самодержец. Как ни уклоняется маэстро от просмотра либретто, всесильный повелитель навязывает ему эту синюю тетрадку, исписанную крупным витиеватым почерком Солеры. На обложке каллиграфически выведено заглавие: «Nabucco-donosor».
Захотелось ему еще раз вдохнуть губительный, приятно возбуждающий воздух театра. И вот это желаньице, эта тихая слабость обернулась для него блаженством на всю жизнь – и на всю жизнь проклятием.
Мерелли сует ему рукопись в карман, не допускает больше разговоров. Уже совсем не благосклонно выталкивает его за дверь и запирает ее на задвижку с видом крайне занятого человека, решившего оградить себя от посетителей.
Верди выходит на улицу, в декабрьскую мокрядь, под густой, крутящийся в воздухе снег. Рука все время нащупывает в кармане тетрадь Солеры. Он ускоряет шаг, предчувствуя, что теперь произойдет ужасное. Он еще помышляет о бегстве. Но поздно. Охватывает страх, что вот сейчас тело сломится наконец, что сейчас его сразит удар. Но нет, тело не отказалось служить, надвигается нечто совсем иное.
Молодой человек делает еще несколько шагов, но вынужден остановиться, обеими руками он вцепился в ледяное железо решетки. Чувство неописуемой жути нарастает в нем, ощущение невыносимости жизни, точно не тело, умирая, готово расстаться с душой, а сама душа умирает.
Неизреченный ужас перед гибелью, перед гибелью более полной, чем смерть! Вот оно, грозное мгновение…
Маэстро вскочил с дивана, будто увидел привидение, дрожащими руками нащупал спички. В комнате загорелись газовые лампы. У последнего предела он избежал этого мгновения, о котором и вспомнить непереносимо. Что угодно, только бы не пережить его вновь! Да это и не назовешь переживанием. Но как назвать ее, ту грань, где временное соприкасается с жутью вневременного? Не такова его природа, чтобы выходить за пределы человеческого. Это уничтожило бы его. Один-единственный раз он смог это выдержать. Вторично, в своем нынешнем возрасте, не смог бы.
Теперь, при свете лампы, когда предметы приняли привычный вид» к нему возвращается спасительный скепсис, а с ним и слова: «Нервный припадок!» Но лучше смерть, чем еще раз подобный припадок.
В тот раз «мгновение» произвело перелом в тяжелом кризисе. Исчерпанный до дна, как выходец с того света, пришел он тогда домой, бросил тетрадь на постель и без единой мысли в голове глядел в пространство. Но вот тетрадь соскользнула, упала на пол. Он поднял ее и прочел непроизвольно стих:
Va pensiero, sull'ali dorate! (Взлети, о мысль, расправь златые крылья!)Судорожно сжалась диафрагма, все мускулы напряглись чуть не до вывиха, в горле защекотало, сперло дыхание, и слезы, которые не исторгла ни тройная утрата, ни катастрофа на избранном поприще, от крылатого стиха хлынули из глаз раздавленного человека. И в слезах полилась мелодия.
Тогда кризис немоты продлился два неполных года. Мгновение ужаса, настигшее маэстро на пути домой из кабинета Мерелли, бросило его обратно в жизнь.
Теперь более жестокая немота длится вот уж десять лет. С ним кончено. От сердца – так он сам любил повторять – остался только маленький комок, заскорузлый, лишенный слез. Все его попытки теперь оказались напрасны. Больше не упадет ему под ноги спасительная тетрадь, не подарит драгоценного стиха. При нем остались только рассудок, знание и умение – приобретенные навыки, да и те устарелые, мужиковатые, формалистические, превзойденные другими. Вагнер, победитель, которому ничто не трудно, в ночной этот час в своем Палаццо Вендрамин работает, верно, над новой партитурой, чтобы ею опять все перевернуть и обновить. Немец, глубокий «тяжелодум», смеясь, шагает через прошлое, превращается без околичностей из бойца на баррикадах в королевского фаворита; он мчится сквозь время, словно годы не ложатся тяжестью на его плечи. А он, маэстро Верди, «легкодумный», «поверхностный» итальянец – как все они его зовут, – он лежит, придавленный грузом воспоминаний; стародавняя судьба не отступает от него, жена и дети, умершие сорок лет назад, явились ему сегодня, вот в этой комнате, – и страх перед нервным припадком, который он назвал «мгновением», все еще бродит в его не вполне успокоившейся крови.
Маэстро сунул разрозненные нотные листки в папку с надписью «Король Лир». Эти страницы тоже были созданы только чувством долга, потому что ни один человек не вправе жить праздно, без работы. Это чувство глубоко укоренилось в нем.
Наводя у себя порядок, он опять натолкнулся на рукописи Фишбека. И опять возникла мысль, что при всем своем музыкальном нигилизме молодой немец не просто сумасшедший, страдающий лихорадкой, а есть в нем что-то значительное.
Сам он в своем творчестве всегда зависел от приговора света. А этот человек – и, может быть, все будущее поколение – избежит тлетворных последствий общественных устремлений.
Но и это будет ложный путь.
У Верди все еще гудело в ушах от прилива крови. Почему сильнее всего остального расстроило его воспоминание о том «мгновении»? Он боязливо осмотрелся в настороженной тишине комнаты, точно где-то притаилась опасность. Потом вышел освежиться на балкон.
Простирались незримо вода. Была нерушимая, полная ночь.
IV
Чувствуя себя виноватым перед сенатором – он не мог забыть той внезапной гневной вспышки, – маэстро чаще навещал теперь старого друга.
А сенатор с каждой встречей все больше утверждался в мысли, что Верди болен, что у него тяжелое заболевание: он потерял веру в себя. Говорить о музыке оба они избегали, и потому на их свидания лег давящий туман невысказанности, как на людей, когда их постигло горе и они не отваживаются заговорить о нем.
В эти дни сенатор удесятерил свое внимание к Верди. Он каждый день отправлял в гостиницу посыльного с вином, гаванскими сигарами, книгами, прилагая к посылкам письма и записочки, полные сарказма, шуток, парадоксов; он делал все, чтобы отвлечь своего слишком серьезного друга от самоистязания и заставить его смеяться.
Всякий другой при сходных обстоятельствах давно пришел бы к выводу, что такие старания не только бесполезны, но даже оказывают обратное действие. Ни один больной не утешится тем, что, несмотря на все мучения, его болезнь незначительна, – как измученного непосильной работой не радует сознание, что всякому насилию приходит конец, и ни один сомневающийся не успокоится на том, что у других возникают сомнения. Такова природа страдания: оно ищет не утешения, а самоутверждения.
Между тем сенатор своим дружеским вниманием хотел именно утешить, и это оскорбляло гордость маэстро, не терпевшего сострадания ни в каком обличье.
Сенатор чувствовал, что его усилия ни к чему не приводят, что они только усугубляют уныние маэстро. С утра до ночи он думал, выискивая решающее средство. Времени было у него предостаточно. Его работа над текстами подвигалась не спеша, она была не более как игрой в терпение, к которой он в порядке добровольной нравственной казни принуждал свой необузданный темперамент. Ренцо жил в Риме. Итало бывал дома меньше чем когда-либо. Сенатор подозревал, что в жизни юноши наступила полоса треволнений, но либеральный образ мыслей бывшего революционера не позволял ему хотя бы вопросом задеть свободу личности, даже если дело шло о родном сыне.
К этому у него присоединялся своеобразный эгоизм, простиравшийся не столько на собственную особу, сколько на поколение, к коему он принадлежал. Молодежь его нисколько не интересовала. Ее стремления и взгляды были для него уже потому неприемлемы, что помечены были иною датой, нежели дата его великой эпохи. Все же фанатическая преданность сенатора своему поколению представляла собою нечто в корне отличное от тривиальных воздыханий стариков о добром старом времени.
То была еще не иссякшая вера, что в 1848 году, в пору цветения человечества, явился на землю новый, неведомый людям мессия, по сей день неопознанный, и придал эпохе радостно-бурный характер. Пусть великие люди той юной поры побеждены, пали, умерли – все еще жив ее непревзойденный, еще не вкушенный человечеством, неувядаемый дух, который люди сейчас презирают. И если в нем горит этот дух, почему он должен мириться со слабосильной, старческой и неспособной на подвиг действительностью? Этот дух в своем чистейшем явлении жил еще только в Джузеппе Верди. Любовь сенатора к Верди была самым страстным следствием его фанатической веры в свое поколение. Он был привержен другу с почти болезненным пылом. Тот один держал еще знамя над полем, где легла костьми побежденная юность прошлого.
Итало теперь по большей части не являлся даже к обеду. Так что сенатор, осиротев, проводил в одиноких монологах, маниакальном кипении и за благословенным вином свои дни и бессонные ночи.
Однажды он зашел в сверкающий роскошью главный подъезд дома – навестить маркиза и справиться о его здоровье. Однако час для посещения – седьмой час пополудни – он избрал неудачно, так как Гритти ждал уже Франсуа, который должен был принести фрак и прочее снаряжение для вечернего выезда в театр. Сенатор, заметив нетерпение маркиза и его досаду на излишнюю трату сил в разговоре, даже не присел и успокоил старика:
– Не бойтесь, маркиз, я сразу же уйду. Но, черт возьми, одно вы мне должны объяснить: как вы умудряетесь каждый вечер выискивать оперу?
Звонкий, безжизненный голос дипломата поучал свысока:
– Другу искусства пристало бы знать такие вещи. Четыре дня в неделю общество Ла Фениче дает оперу, а в остальные три дня дут гастроли в Сан Бенедетто, или, как называют этот театр теперь, у Россини!
– Ага! Вы, значит, слышали там примадонну по имени Децорци?
Автомат в человечьем обличье, Гритти с бесконечной предусмотрительностью и вниманием одолевал обматывание шеи. Поглощенный этой важной процедурой, он сопел, кашлял, стараясь при этом не разгорячиться, и в довершение сплюнул в носовой платок, после чего основательно рассмотрел мокроту. Только тогда он дал ответ:
– Децорци! Отвратительна! Стеклянный голос! Никакого дыхания, никакой подачи звука! В мой благородный век такую дилетантку побили бы камнями.
В этот вечер сенатор сидел один за столом и пил, ревностно предаваясь своей любимой думе: как бы вытянуть Верди из затмения и незаметно для него самого возвысить его? И пил за стаканом стакан свое санто.
Его постепенно окутывал пестрый летний воздух легкого опьянения. В растущем сознании собственной значительности, в тихом воодушевлении, в сладостном примирении с миром, какое дает человеку вино, он перебирал в уме всевозможнейшие абсурдные планы спасения.
Самый наиневозможнейший из этих планов, тот, что меньше всех вязался с обычаями Верди, он подхватил с радостным «эврика!». В хмелю он спутал маэстро с самим собой.
Так мало чуткости друг к другу у людей (у самых близких друзей!), даже когда они хотят помочь.
V
Уже пять дней Бьянка думала, что ее возлюбленный в Риме. Смиренная, полная предчувствия покорность судьбе, угнетавшая женщину в последние недели, с удалением юного Итало вдруг опять покинула ее. Она его больше не видела, не видела больше – в ужасе и восторге, как тогда, на пляже Лидо, – его юношеское лицо, прекрасный образ человека в весеннем расцвете, которого она в своей меланхолии, казалось ей, не стоила.
Она позволила ему уехать, как будто не имела на него прав, не вправе была его удерживать, отпустила его, как тогда, на вечер к графу Бальби. Но теперь, когда он был далеко, она не могла выносить разлуку, тоску, самое себя. Не одиночество сводило ее с ума. Разве жила она так годами, одинокая подле своего Карваньо? За последние месяцы она была благодарна судьбе, что так мало приходится лгать, говорить, раскрывать себя.
Подобно многим беременным, она часами отдавалась страху перед своим располневшим, отчуждающимся телом. Те несчастные, что должны бояться будущего и не смеют наслаждаться внутренним цветением, вдвойне подвержены этому страху. Часто она среди дня отсылала служанку, снимала с себя одежду и бродила нагая по холодной, плохо отапливаемой, унылой квартире, глядя на себя с невыразимым удивлением. Она видела, как ее высокий стан делается грузным и нескладным, как живот выпячивается и на нем лежат тяжелые груди. Ноги, недавно длинные и стройные, теперь отекли, стали толстыми, тяжело ступали.
С ужасом смотрела она на себя, на эту незнакомую бесформенную женщину, и думала о нежном Итало, который теперь еще менее к ней подходил, чем прежде. Он, стремившийся всегда к красоте, может ли он не отвернуться от нее, не искать девушку с изящным, неизуродованным станом? Она проклинала ребенка, который шевелился в ней несчастным узником, – непрошенного, нежеланного ребенка, через столько лет, наперекор ее молитвам, посланного ей в наказание мадонной.
Пустячного обстоятельства оказалось довольно, чтобы сделать ее страдание окончательно невыносимым. Она сломала зуб – коренной зуб, самый крайний, его можно легко и незаметно заменить вставным. Но ей это представилось вдруг каким-то позорным несчастьем, символом безвозвратно уходящих лет. Часами плакала она в тишине.
Питаемая всяческим самоунижением, безудержно вскипала в иные минуты ее склонность к бешеным порывам. Тогда она громко кричала, колотила кулаками в стену, каталась в отчаянии по полу.
Хождение в церковь, молитва, покаяние не помогали больше. Слишком ушла она в свое одинокое, безысходное горе, и каждый день, каждый час без милого становился все более душным.
Ей могло бы помочь письмо от Итало. Уже за час до прихода почты она, мертвенно-бледная, металась по комнатам, все забрасывала, ошибочными распоряжениями нарушала ход хозяйства, забывала подсыпать свежего салата черепахам. Почта приходила. Но письма из Рима не было. Чувство безмерного горя, удушливой жалости к самой себе сковало в ней жизнь. Она сидела часами, уставив глаза в одну точку. «Почему он не пишет? Пять дней, как он в Риме. Могло бы уже прийти пять писем. Почему он не пишет?»
Но тут же она находила оправдания для возлюбленного, сотни возможностей, объяснивших отсутствие писем. Ведь у нее нет никаких оснований думать, что Итало ее не любит. За полтора года он и не взглянул на другую женщину. Как зорко она за ним наблюдала, как часто ставила ему ловушки, спрашивала с безобидным видом: «Тебе нравится эта девушка (или эта женщина), что сейчас прошла мимо нас?» Ни разу он не попался. Ни разу искра в темных его глазах не выдала затаенного изменнического желания. Нет, он ей верен! Она не должна его подозревать. Но Рим, Рим! Сколько он там увидит женщин! Устоит ли он? И пока она уговаривала себя: «Мне нечего тревожиться», – ближе подкрадывалась скрытая болезнь.
В воскресенье на масленой неделе Карваньо в неурочный час вошел в комнату. Бьянка лежала на диване. Она сжала виски, потому что у нее болела голова. С непривычным, настойчивым вниманием муж посмотрел на нее.
– Ты одна?
– Конечно, одна.
– У тебя, я сказал бы, очень нерадивые кавалеры.
– Что ты этим хочешь сказать?
– Да взять хотя бы Итало! Чем шататься по Пьяцце, посидел бы лучше с тобой.
– Итало в Риме, у него болен брат.
– Вот как? Он в Риме?
– Тебе это кажется таким уж неправдоподобным, Карваньо?
– Странно!
– Что тут странного?
– Да я же только что видел Итало. Он сидел с Кортеччей у Флориани.
Бьянка почувствовала, что она должна проявить сейчас сверхчеловеческую силу. Она спокойно села, спокойно взяла со столика рукоделье.
– Ты видел Итало? Неужели он уже успел вернуться из Рима? Вот бы не подумала.
– Он сидит у Флориани!
– Слушай, ты в этом уверен? Конечно, вполне возможно, что он в Венеции. Но я не могу себе представить, чтобы Ренцо так быстро поправился.
Бьянка с самой непринужденной улыбкой смотрела мужу в лицо. Карваньо заколебался.
– Право, я мог бы побожиться… Впрочем, ты же знаешь, что мне с моими куриными глазами не раз случалось глупейшим образом обознаться.
– Ты был в очках?
– А черт их знает! Не помню. Кортеччу-то я сразу узнал по его претенциозной бороде. С ним сидел молодой человек, которого я принял за… Но сейчас я и сам не уверен.
– Да нет! Вполне возможно, что это был Итало.
Оба замолчали. Вдруг Бьянка подняла вверх ладонью руку. Карваньо заметил на ней несколько капель крови. Он схватил эту руку и увидел, что игла на половину своей длины вошла в ладонь.
Врач усмотрел в этом простую неловкость, вытащил иглу и промыл лизолом ранку. Весь день до вечера он просидел с женой. Она с остервенением продолжала свое бессмысленное рукоделье, точно была рабыней-негритянкой и плантатор занес над нею плеть. Карваньо чувствовал странное смущение. Он был необычно разговорчив, рассказывал разные случаи из своей практики. В эти часы досуга сознание вины перед женой стократно в нем возросло.
Десять лет они были женаты. За последние два года, с той поры как он стал в больнице старшим врачом терапевтического отделения, не было дня, когда бы он мог урвать время для жены. И вот он проснулся. До сих пор все, что было связано с нею, даже подозрения, он отстранял от себя, чтобы целиком отдаваться работе. Прозрение всегда приходит неожиданно. Его речь перемежалась завуалированными извинениями, глупыми, наполовину непонятными. Жена шила, он даже не мог, когда хотелось, взять ее за руку. Что-то произошло, что-то стало между ними, а что, он не умел разгадать. Но все сильнее чувствовал он свою вину.
В пять часов Бьянка упала в обморок и в семь опять. Второй спасительный обморок длился довольно долго. Лицо стало желтым, волосы распустились, голова глубоко ушла в подушку.
Тяжелое малокровие мозга в связи с сильным приливом крови к сердцу было в ее положении – Карваньо знал – далеко не безопасно.
Когда она очнулась, взгляд ее заклинал: «Оставь меня одну!»
Карваньо не сразу понял эту мольбу.
Когда приняты были все врачебные меры, на кровати, лицом к стене, в белой ночной рубашке, лежала женщина, покорно отдавшая свое тело во власть пространства, из которого не могла уйти. Она не говорила больше.
Еще никогда не чувствовал себя Карваньо так мучительно не на месте, как сейчас.
И хотя он знал, что жена не спит, он на цыпочках вышел из комнаты. В висках у него гудело.
Глава восьмая Сожжение карнавала
I
Колокола Кампанилы еще бросали вдогонку только что закончившейся поздней обедне золотое треньканье звона, когда капельмейстер собора св. Марка, преемник на этом посту богоравного Габриели,[58] вышел на Пьяццу из боковых дверей, что ведут на хоры. Клаудио Монтеверди, к старческим глазам которого льнет еще медвяный мрак собора, сощурился в пурпурном ослеплении на весеннее самодовольное солнце карнавального вторника 1643 года. Опершись на длинный посох, старик делает, пошатываясь, несколько шагов – точно пьяный, когда выходит из кабака, потом останавливается и терпеливо ждет, пока глаза привыкнут к резкому свету. Эти лучи, это тепло и блаженство, что разливается от них в каждом теле, его не радуют больше. Против воли чувствует он, как и его собственное тело вялым, иссохшим цветком тянется навстречу этому колдовству и выпрямляется по всесильному велению Феба.
Зачем божественная сила живительными средствами задерживает распад? Ему семьдесят шесть лет, и миру он, конечно, только в тягость.
Старик поднимает глаза на башенные часы. Еще нет и десяти. Ему предстоят два часа томительной праздности: генеральная репетиция к завтрашнему представлению его оперы «Incoronazioni di Poppa»[59] – общество Сан Паоло э Сан Джованни снова ставит ее сейчас, как и в прошлом году, – начнется в полдень.
Монтеверди дышит трудно, он чувствует неизбывную усталость сердца, сдавленность легких. Стоит ли вообще идти на репетицию? Не лучше ли сказаться больным, лечь в постель – лежать, умереть? Что ему до глупых театров, разросшихся за последние годы по Венеции, как сорная трава!
Не о том помышляли во времена, когда благородный Пери, когда сам он почти полвека назад писал своего «Орфея». Извечная судьба всех реформаторов, всех новаторов, всех бунтарей, в свободных ли искусствах или в общественном строе, кажет ему злой оскал: не о том помышляли!
Он довел до конца идею флорентийской камераты. Контрапункт – раздирающая поэзию имитация голосов[60] – был устранен, чтобы могла свободно запеть душа отдельного человека. Несколько лет он и вправду думал, что ему удалось вдохнуть новую жизнь в античную трагедию, что вновь Эвридика за новым Орфеем из подземного мрака выходит к свету дня. Музыке указано ее место, поэзия восстановлена в правах первенства. Тонам не позволялось больше, глумясь над словами, вступать в своевольные сочетания, они стали лишь высшим подъемом речи. Напевно-упоенная, бесконечная декламация – recitativo – вздымалась теперь, как свод, над упрямым фундаментом баса, вознося к небу горестный или ликующий стих. Так, и не иначе, должны были строить свои произведения Эсхил и Сенека.
Но сколько ни взбалтывай масло с водой, все равно оно всплывет в конце концов наверх. Как мудро ты ни сочетал бы музыку с поэзией, – возникая из более легкой стихии, музыка неизбежно получит главенство над смыслом. Он, Пери и певец Каччини изобрели оперу по ошибке.
Человек, глупое животное, носится со своими высокими замыслами, а Мойра – судьба – вершит при их посредстве действительное и обыденное.
Строгое, суровое старое искусство умерло. Песнь души, величаво-свободная речь классической драмы должна была сменить чопорные каноны многоголосия. Но что же получилось на деле? После короткого упоения наступило непонимание, и с непониманием пришел грандиозный успех нового направления в искусстве. «Не так было задумано». Как народ, скинувший гнет самодержавия, музыка в час переворота радовалась свободе. Но час миновал, и она уже ищет новые формы, новые узы. Королевские скрижали, освященные традицией, разбиты, и вот музыка подпадает под власть плебса, под власть улицы, пошляков, балаганных певцов.
«Марсий сдирает кожу с Аполлона», – думает старик и сознает, что он и сам способствовал не только освобождению музы, но и разнузданию похоти.
Не драма вступила в силу, не героическое потрясение, завещанное Аристотелем, а драматическое пение, новое пение одиночного голоса и хора, покорившие толпу нежданным чувственным восторгом. Сам Монтеверди, увлекаемый потоком, должен был пядь за пядью сдать свои позиции. В его собственных произведениях единство драматического речитатива все отчетливей распадалось на речитатив и арию; он был вынужден, поступившись поэтической правдой, дать место излюбленным улицей формам. Так от него требовали. Он писал теперь арии da capo,[61] вводил легкомысленные песенки – так называемые канцонетты, перекладывал на музыку Дурацкие тексты – вроде этой «Поппеи», – которые писал ему какой-нибудь жалкий марака, пустой рифмоплет вроде того же Бузенолли. Ах, дело идет не о том, чтобы усилить через музыку поэтическое произведение, высокие трагедии, какие сочиняли когда-то Ринуччини и Стриджо. Театр властвовал единолично, под управлением хитрых работорговцев с подхалимствующей челядью певцов, все менее музыкальных, все более тщеславных и продажных, кривляющихся перед шайкой похотливых ротозеев.
Как многие реформаторы, старик шаг за шагом измерил дорогу разочарования, ведущую назад, к реакции. Но хотя он вновь и вновь отказывался от драматической композиции, хотя недавно он вернулся к духовному мадригалу своих юных лет, в глубине сердца он все же ничего так не любил, как оперу. Если бы он с полной искренностью проверил самого себя, он пришел бы к сознанию, что любит ее по-прежнему, хотя она идет своим путем – от возвышенной музыкальной трагедии к глупенькой мелодраме. Его сердце теоретика и гуманиста глубоко страдало, но где-то в самом темном уголке ликовало похороненное сердце, влюбленное в музыку и жизнь. Ревность старого мастера, который дожил до того, что подрастающее поколение оттесняет его, являлась главным источником его филиппик о «профанации возрожденной трагедии». Обидно было слышать, как превозносят имена Кавалли, Феррары, Сарторио, Легренци, Сакрати. В особенности – Франческо Кавалли! Будучи на тридцать три года моложе его, он быстро стяжал небывалый успех рядом опер: «Аполлон», «Дафна», «Нарцисс». Театры дрались между собой за этот товар. Кавалли не только был главным виновником измельчания искусства: в своем надменном невежестве он еще не желал оказывать должное почтение ему, Монтеверди, своему старому предшественнику, земляку и достославному капельмейстеру собора Сан Марко.
Клаудио Монтеверди снимает свою большую шляпу, чтобы ветер вольно развевал его седые, подстриженные в скобку волосы, и распахивает широкий капуцинский плащ, позволяя видеть под ним черный камзол, какой подобает носить светскому служителю церкви или ученому. Звонко постукивая посохом по мостовой, он степенно шагает по Пьяцце.
Она сегодня переполнена зеваками, гуляющими, купцами, барышниками, рабочим людом. Вдоль колоннад установлены большие канделябры, а на них – чаши со смолой. Уже колышутся красивыми дугами гирлянды, реют флаги, из окон один за другим уже вывешиваются коврики, медленно всползают по штангам три исполинских знамени республики.
С каждой минутой растет толпа, растет шум, самая многоголосная музыка в мире: крики продавцов и покупателей, возгласы возмущения и одобрения, тысяча обрывков песен, любовный лепет и обыденная болтовня – все это вскипает и сливается воедино.
Опять, как ежедневно, а сегодня особенно, владычица Венеция устраивает праздник. Кругом воздвигнуты эстрады и трибуны – для сановников и городских властей, для нобилей, для музыкантов. Костер между двумя колоннами на Пьяцетте уже готов принять шутейного короля.
Старый музыкант, воскреситель античной трагедии, остановился, смотрит вокруг и видит дерзкий, шумный, нечестивый народ Венеции. Желчь закипает в нем. В неразумной стариковской ненависти мономана он возводит на город вину за все свои действительные и мнимые муки, за свое разочарование, за возвышение нового поколения, за свою старость, за упадок изящных искусств, на который жаловались все века.
– О urbem vilem et mature perituram,[62] – цитирует он по Саллюстию слова Югурты. Даже в страсти он остается эстетом и гуманистом, лелеющим в себе свою образованность. – О грешный город! – Но, сплюнув, добавляет: – Ты, Венеция, со своими одиннадцатью театрами, ты – потаскуха! Ненавижу тебя и твою похотливую чернь!
Едва он отвел таким образом душу, его уже начинает тянуть, как всегда, как ежечасно, прочь из этого шумного, бесстыжего, поющего города. Он не может не думать о родине, о гнезде своего детства – о Кремоне, городе, где он хотел бы умереть.
Однако его Кремона имеет мало общего с городом того же имени. Это фантастическое место, с которым старик связывает все свои томительные мечты, город-сон с чудо-площадями, с дворцами под благословенным небом, неизменно синеющим над отзвучавшим детством.
И вдруг, словно силой своей тоски приворожил он город, старик слышит оклик:
– Сиор! Сиор!
Не старый еще человек, наверно увидавший его в окно кофейни, загребая руками, бежит к нему.
– Ах, мой Гаспаро! Ты здесь!
Гаспаро стоит перед ним – маленький, лохматый, в черной рясе.
– Высокочтимый господин! Ваш друг и мой прославленный мастер Никола, посылая меня сюда, поручил мне навестить вас.
– Весьма приятно! Я очень рад! Как там у нас дома, в Кремоне?
Старик всегда говорит про Кремону – «дома», хоть он едва узнал бы теперь и четвертую часть родного города. Он путает Кремону своих еженощных снов с той Кремоной, где живет Гаспаро. Маленький человечек напряженно мигает глазами, подбирая слова для ответа.
– В общем, все по-старому. Вот только умерла Помфилия Бертулли, жена аптекаря. Ведь вы ее знали? Она умерла двадцати трех лет.
– Что? А, возможно! Как же не знать! Знал, конечно! Ну а как мастер Никола Амати, который послал тебя ко мне, Гаспаро?
– Путешествует! Поехал в Тироль, в Карнунтум, в дикие дебри, или, как говорит поэт: в паннонийские земли!
– Так, так! С какой же целью предпринято это трудное и опасное путешествие?
– Он ищет хороший клен, мой хозяин, особенный клен, какой нам нужен для нашей мастерской.
При слове «мастерская» несколько рассеянное выражение вдруг сошло с лица Монтеверди и сменилось неприкрытой нервической жадностью:
– Ага, мои Гаспаро! Ты, я чувствую, привез мне кое-что, привез подарок от своего мастера!
– Вы угадали, высокочтимый сиор! Никола Амати посылает вам на выбор две свои самые новые фиалки. Вы будете изумлены.
– Идем же! Скорей! Где ты стал на постой, Гаспаро?
– Неподалеку отсюда, сиор! У одной вдовы, в чье жилище я не смею привести почтенного человека.
– Не важно! Идем! Идем! Две свои божественные фиалки посылает мне на выбор удивительный, несравненный Амати! Скорей! Спешим!
Старый Монтеверди весь преобразился. Он уже не следует за чопорным постукиванием своего посоха, а держит посох высоко над землей, чтоб идти без помехи. Его тонкие семидесятишестилетние ноги бодро чеканят шаг.
Как очень многими людьми, не исчерпавшими до конца в течение своей жизни всех возможностей любви, им в старости завладела страсть. Он кремонец. Как иной помешан бывает на картинах, так любит он эти новые скрипки, которые великие мастера его родного города с неподражаемым искусством, с бесконечной нежностью, за семью печатями сохраняя священные розенкрейцерские тайны своих знаний, создают в благоуханных, чистых мастерских.
Он любит скрипку не только как музыкальный инструмент, но и как форму, как совершенное создание, более недоступное и неисчерпаемое, чем женщина.
Никола Амати, последний из великой династии, внук Андреа Амати, уже преподнес в дар почитаемому автору «Орфея», «Ариадны» и «Улисса» три из прекраснейших своих творений, которые хранятся свято, как дароносицы.
Подобно тому как Монтеверди и два его предшественника, Пери и Каччини, высвободили человеческий, драматический голос, сольное пение из имитационного сплетения голосов старой музыки, так создатели современной скрипки, преодолевая грузные формы viola da gamba, viola da braccio,[63] очеловечили и освободили голос инструмента. Служа тому же назначению: творить мелодию, новая скрипка – виолина, – своей непостижимо прекрасной формой превосходящая все, что создано искусством, осуществляет самое светлое и славное дело Италии.
Монтеверди и его спутник дошли до обиталища подозрительной вдовы. Старик, чтоб ему не мешали, запер за собою дверь на засов. Как восточных красавиц, раскутывает Гаспаро скрипки, снимая нескончаемые покровы кисеи, шелков и парчи.
Дрожащими руками композитор берет одну, затем другую и снова кладет их, словно не в силах вынести сверхчеловеческое счастье их астральной тяжести. Не снизошли ли они как две девственные возлюбленные из звездного мира, как две просветленные Беатриче? Хочется прижать их к груди, чтобы сердце вобрало их в себя. Но в слепом объятии смертных рук они должны сломиться. Клаудио Монтеверди смотрит в трепете на милых сестер, у него замирает дыхание, и вдруг он бросается ниц перед скрипками и плачет навзрыд в невыносимом счастье, невыносимой муке.
Он плачет, потому что красота волнует его страшнее, чем образ распятого бога.
Гаспаро, чтоб успокоить старика, бойко болтает:
– Мы их сейчас испробуем, уважаемый сиор. Я разучил одну совсем новую вещь нарочно ради вас. Так пожелал мой мастер. Сонату с двойными нотами.
Монтеверди кивком головы велит кремонцу замолчать. Увлекаемый глубокими и сбивчивыми мыслями, он смотрит на скрипки Амати. Они не очень велики, изящно изогнуты, узки, покрыты одна светло-желтым, другая – красноватым лаком. Лак отражает на их поверхности дивные, эфирные, непостижимые для глаза дали: как будто в некое волшебное мгновение невидимые дали музыки, зачарованные колебанием скрипичных молекул, превращаются в картину. Он думает о загадке, скрытой в теле скрипки. Столь совершенным – или почти столь же совершенным – только бог создавал свое творение. Великие тайны должен был сперва постичь человек, овладеть мантийским и теургическим искусством, жить в полном воздержании, не зная женщины, чтобы выдумать образ скрипки.
Сколько элементов составляют человеческое существо? Никакая наука не дает на это непреложного ответа. Из восьмидесяти трех элементов состоит маленькое тело виолины, из коих каждый имеет свой смысл, как его имеет слово священного писания на том и на этом свете. Не Орфей ли, закланный в жертву и растерзанный на восьмидесят три куска, вновь возрождается здесь?
Почему так сверхчеловечески пленяют эти чары – и в то же время так человечески? Широкая грудь, узкие бедра, длинная шея. Восхитительная сладость отдушин, этих иероглифов высшей мудрости, изящество тонкого ободка, изгибы дна, изгибы деки и самые бесплотные, самые чистые недра – резонатор и поперечник!
Гаспаро берет одну из скрипок и дает полный аккорд – соль-ре-си-соль, сливая в нем нижнюю квинту с созвучием более высокого регистра. Все деревянное и металлическое в комнате завибрировало. Мельчайшие частицы материи (но каждая – бесконечный мир со звездами, межзвездным эфиром и живыми тварями) трепещут в ответ на священный призыв. Старику, однако, не под силу такое потрясение:
– Вечером, мой Гаспаро, ты принесешь эти возлюбленные души ко мне домой. Мы поужинаем вместе, и тогда ты сыграешь мне твою сонату с двойными нотами.
Он не может отвести глаз от прелестных творений:
– По праву старые мастера придумали для них сравнение с фиалкой. Виолина! Фиолетовой синевой, темной синевой фиалки звучат ее струны! До вечера! Я жду тебя, мой Гаспаро!
Злому случаю было угодно, чтобы Клаудио Монтеверди, выйдя на улицу, повстречал попа, совершающего с пономарем обход прихожан для сбора даяний. Он сразу же в этом усмотрел дурное знамение. Страх обдает его холодом. На лбу выступает пот. В суеверном трепете возникает предчувствие, что ему суждено умереть до окончания года. Он колеблется, как использовать остающийся до репетиции час – пойти ли на исповедь или к врачу? После грозной чумы 1630 года он в глубокой подавленности принял духовный сан. Все же он остался, как был, вольнодумцем. Свое решение он принимает в пользу науки.
Его врач и друг, небезызвестный медик Джанбаттиста Карваньо, живет и практикует в лекарском квартале, за мостом Риальто. Ровесник композитора, он в свое время удостоился высшего посвящения в «тайные науки» при дворе Рудольфа Второго в Праге. Однако позднее он в негодовании от них отвернулся и теперь высмеивал их с безмерным рвением истого ренегата. От времени своего увлечения алхимией он сохранил только белую клиновидную бороду звездочета. В остальном же из адепта «тайных искусств» вышел ярый рационалист, ученик греческих врачей.
Монтеверди застал друга склоненным над старинным фолиантом. Джанбаттиста Карваньо любит поражать людей открытиями, опровергающими общепринятые представления. Он сразу начинает поучать:
– Так повелось! Ничтожества пожинают лавры, а истинно великие мыслители остаются в тени. Этот Павел Никейский как врач и исследователь в десять раз превосходит Гиппократа. Он учит, что изо всех влияний главным, что возбуждает болезни, является движение воздуха – ветер…
Музыкант, не склонный выслушивать медицинский доклад, перебивает ученого:
– Я чувствую, что болен, очень болен. Ты должен сказать мне чистую правду, друг! Протяну ли я еще хоть несколько месяцев?
– О мой Орфей, я в жизни не встречал столь ярко выраженного ипохондрика, как ты. Но чтобы честно, без предубеждения, ответить на твой строгий экзаменаторский вопрос, давай применим превосходные принципы аускультации, предложенные этой умнейшей бестией – нашим никейским коллегой!
Старому музыканту приходится скинуть верхнее платье. Врач выстукал его, выслушал, расспросил. После осмотра Джанбаттиста помогает другу одеться.
– Милый Монтеверди, – говорит он, – я не вижу оснований, почему бы тебе не дожить до ста лет!
– Но я страдаю, страдаю. Сердце больше не хочет служить, да и дыхание отказывает.
– Никакой болезни у тебя нет. Все внутренние расстройства происходят от желчи, как, например: лихорадка, язва, ревматизм, подагра. С желчью у тебя в порядке.
– Так в чем же дело?
– Ты страдаешь по природе.
– Что это значит?
– Мы все, по прекрасному выражению одного авторитетного ученого, мы все со временем минерализируемся. Жизненная сила добровольно поддается этому процессу окаменения. Он и причиняет недомогание.
Едва закрылась за композитором дверь, врач достает фолиант, в котором у него ведется запись о пациентах, и делает заметку под литерой «М». Затем, помедлив минуту, он в рубрике «Предсказание летального исхода» крупными буквами начертал латинское слово: «Autumno».[64]
На свежем воздухе Монтеверди охватывает странная и светлая тоска. В его душе проснулось вдруг столько юности, столько любви, что он даже не помнит своего мучительного застарелого уныния. Вид ли скрипок, таинственных ангелоподобных созданий, так его развеселил? Или же отчетливое впечатление, что врач считает его обреченным?
Замыслы, теперь уже – он твердо знает – неосуществимые, проносятся в сознании. Ему грезится поющий, витающий в высях хор из сотни этих просветленных скрипок. Человеческий голос на сцене, голос растерзанного и воскресшего Орфея, и фиолетовый, темный, как фиалка, голос скрипок сливаются в одно.
В блаженном волнении старик прислонился к каменной балюстраде моста. Он слышит внизу неистовый шум жизни, подгоняемой кнутом карнавала. Но затуманенный слезами взор ничего не видит. Откуда оно пришло после утреннего старческого недовольства, это прекрасное потрясение? Кто склонился над ним, кто проник в его существо? Светлые мысли, едва уловимые, которым он на мгновение дает приют, – в его ли сердце они родились?
«Во всем – всепобеждающий синергизм. Миры и боги играют на руку друг другу. Одиночества нет. Дело не в отдельном человеке. Индивидуум – ошибка. Но высший промысел посредством этой ошибки являет угодную ему истину. Ничто не исходит от нас. И в этом смысл речения: „Господь! Да свершится воля твоя“. Но мы в ответе за то, чтоб она свершилась, господня воля! Всякое искусство – лишь нашептывание, которое мы передаем дальше. Чье ухо слышит чище, у того чище запоют и уста! О, стать бы скрипкой…»
Клаудио Монтеверди широко раскидывает руки. В этот миг внизу, на воде большого канала, гомон голосов перерастает в трубный гул, в шум морского сражения с громом картаун. И старик видит: вереница золоченых, багряных, розовых, белых, серебряных, серебристо-серых, темно-желтых, шафранно-желтых, васильковых, травянисто-зеленых, пурпуровых кораблей республики сотнями весел тех же цветов рассекают воду след за большим, крутобоким, пенно-грудым «бученторо», который везет в своей роскошной каюте с витыми колоннами его сиятельство, главу города. Длинные бархатные и парчовые шлейфы волочатся за яркими, многоцветными кораблями по зеленоватой взбаламученной воде. Быстро, как молнии, корабли проносятся мимо. Опьяненная ликующим темпом их движения, взревела на обоих берегах толпа.
И вот, веселые продолжатели первого героического натиска, проносятся по расколотому зеркалу воды сотни других гондол, ботиков, барок, разукрашенных гирляндами, вымпелами, флажками. На всех этих кораблях сидят ряженые, которые сегодня с утра, и вчера, и позавчера, много недель денно и нощно кружились в маскараде. Тысячи теорб, гитар, мандор, лютен и простых трещоток, тысячи голосов – хриплых, надорванных криком, и других – звонких и красивых – с адским воем стучатся в резонирующие стены дворцов. Но вдруг дикая разноголосица превращается в нечто единое, сливается в бурную великую народную песнь. Вскипевшая музыка захлестнула старика:
«Там, внизу! Там, внизу! Ах, мы были учеными, и мы заблуждались. Сама жизнь вносит поправки. Прав не я, правы те внизу – эти массы, народ. Синергизм! Так идет развитие. Шесть десятилетий я думал, что в искусстве важно одобрение избранных, умнейших из умных. Но то была жестокая ошибка! Сегодня, на семьдесят седьмом году жизни, я познал, что в народе, в общности – благо! Он являет более глубокое, магическое величие, нежели индивидуум, который всегда полон пустого тщеславия; нежели избранное меньшинство, которое превращается в прибежище для индивидуального тщеславия. Они желают иметь свой театр и лирическую оперу. Возвышенный recitativo им скучен. Разве не шли мы на уступки с самого начала и не давали нашим вещам иную развязку, чем греки своим трагедиям? Венецианцы – не греки, какими мы их себе воображаем! Их никаким любомудрием не совращенное сердце жаждет канцонетт и легких арий, арий da capo. Пиши духовную музыку или же пиши для народа! Но уж если ты пишешь для народа, то не лги! Развитие вещей и есть их истина. Наша критика – только крик, исторгаемый болью, которую причиняет нам, медлительным и отстающим индивидуумам, это развитие».
Маэстро ударяет ладонью по камню, подбадривая своих гонителей:
– Вперед, мой Франческо Кавалли!
«Из этого нового знания я уже не извлеку никакой пользы. Но чтобы надменные первосвященники музыки не почитали меня отступником и еретиком, я буду о нем молчать. В этом народе – здесь, внизу – больше божьей воли, чем во всех отдельных личностях, умирающему подобает сказать: „Господь! Да свершится воля твоя!..“ А крепко тянут они за канат, куда как крепко!..»
Многоцветный, многозвучный мир закачался перед глазами. Старик смежает веки, чтобы не закружилась голова.
Получасом позже Клаудио Монтеверди стоял на узких, уходящих далеко вглубь подмостках театра Сан Джованни э Сан Паоло, где рабочие уже несколько дней трудились над необычайно сложными и пластическими декорациями для его «Поппеи». Хлыщеватый господин на высоченных красных каблуках, певец Тибурцио Калифано, с изысканным поклоном подошел к старику. Концы жирно напомаженных усов торчат штопором до самых глаз, рот открылся аккуратным кружком:
– Достопочтеннейший! Не разрешите ли мне обратиться к вам с просьбой?
– К вашим услугам!
– Вы, при ваших возвышенных взглядах на искусство, конечно, не обидитесь на меня. Но если поразмыслить, роль Лукиана, намеченная вами для меня, немного скудновата, недостаточно выпукла.
– Ага! Вы так думаете?
– Поэтому, а также потому, что и мне (хоть я отнюдь не дерзаю равняться с лучезарнейшей славой Италии)… и мне слегка улыбнулись музы… Я, видите ли, делал некоторые, не совсем безнадежные, опыты в композиции. Всемирно знаменитый Франческо Кавалли выразил мне свое безоговорочное признание. Сегодня я случайно имею при себе его письмо. Совершенно случайно, как я уже сказал. Не потрудитесь ли вы просмотреть письмо почитаемого маэстро?
– Нет уж, увольте! Поверю вам на слово. Чего же вы хотите?
– Я присочинил к партии Лукиана маленькую арию – приятную, оживляющую вещицу, знаете – pezzo staccato,[65] как это принято сейчас называть. Уверяю вас, досточтимый сиор, она послужит только к украшению всей вещи в целом – как средство против монотонности, которая иначе легко могла бы возникнуть. Прошу вашего милостивого соизволения. Мои коллеги согласны, и музыканты уже разучили аккомпанемент. Вы можете не беспокоиться!
Старик натянуто улыбнулся, словно не совсем уяснив себе смысл сказанного. Затем он отвесил Тибурцио Калифано, тенору труппы, самый учтивый поклон:
– Извольте! Если вам это доставит удовольствие!.. Охотно разрешаю! Может быть, получится неплохо! Делайте что вам угодно. Но послушайте, молодой человек, дело не в отдельной личности, не в отдельной личности дело! Надо только исполнять свой мнимый долг! Каждому! Неукоснительно! Баста!
Выслушав эти слова, Тибурцио Калифано со всем рвением театрального сплетника поспешил к остальным певцам и разгласил среди них, что vecchio[66] окончательно выдохся, ибо у него от старческой слабости совсем помутились мозги. В десятый раз передавая слова Монтеверди, певец нарочно так комически их перевернул, что они не могли не показаться лепетом полоумного.
Другие, завидуя, что не сами принесли новость, приняли ее с презрительным равнодушием. Джироламо Скварчабеве, первый бас, жирно сплюнул на сцену:
– Значит, и мы и почтенная аудитория избавимся наконец от нудного старикана.
Но час спустя тот же Скварчабеве вместе с прочими певцами немало удивились, к общей их досаде, когда Клаудио Монтеверди, сохраняя самый ясный рассудок и самый придирчивый слух, руководил из оркестра, где сидел возле чембало,[67] генеральной репетицией своей оперы «Коронация Поппеи».
II
Оперный текст тогда хорош, когда нет в немпрямого смысла.
Слова Винченцо Беллини, приведенные у КоломбаниВ тот час откровения, когда глядел он с моста Риальто вниз, на шумливую жизнь, Монтеверди провидел истину: речитативная драма, флорентийская камерата была ошибкой, путаным измышлением тонких умов. И когда назрело время, это ошибка олитературивания музыки стала явной. Жизнь – в данном случае Венеция – урвала от ошибки что было в ней годного и с беспечной небрежностью самонадеянной красавицы отбросила непригодное: высокопарность общего замысла, надуманный стиль – все далекое от народа. Музыкальная драма флорентийских эстетов была сдана в архив, родилась опера.
Шаг за шагом отдалялась опера от поэтической драмы, отягченной оковами психологизма, с которыми никогда не мирится музыка. Опера становилась все более оперой и, как ни одна другая форма искусства до нее, покоряла города, страны и народы.
Правда только в силе действия, а не в ламентациях философов, умников, педантов, чьи нервы, слишком натянутые, болезненно переносят властное вторжение жизни, отметающей их проблематику. Всем им, и едва ли не повсюду, ненавистно владычество оперы. Но во все времена песенная мелодия торжествовала, посмеиваясь над моралистами.
Мертвое море чернил исписали они, доказывая ходячую истину, что опера как форма есть нелепость. Из этих людей ни один не относится с достаточным уважением к жизни и потому не признает, что все существующее и действующее имеет более высокое обоснование, чем это может присниться нашей логике, нашим теориям о красоте, нашим попыткам развенчать культуру.
Кто видел смысл? Очень немногие! Может быть, Анри Бейль, ежедневно посещавший Ла Скала.
Венецианская опера XVII века, над которой после Монтеверди работали (если называть только всемирно прославленные имена) Кавалли, Кариссими, Чести, была перенесена в Неаполь великим Алессандро Скарлатти. Здесь она вплоть до XIX века переживала, по оценке одних, свой великий расцвет, по мнению других – глубокий упадок. Тем не менее немецкий романтик Э. Т. А. Гофман восторгался арией «Ombra adorata»[68] неаполитанца Цингарелли как высшим воплощением чистой мелодии.
Сегодня, шестого февраля, в карнавальный вторник 1883 года, ровно через двести сорок лет после того высокого часа, когда Клаудио Монтеверди рыдая упал на колени перед скрипками Николо Амати, Рихард Вагнер обсуждал со своими друзьями, посетить ли им ночное празднество на Пьяцце. В комнату вошел еще один гость и разрешил вопрос, сообщив, что он за несколько дней вперед снял номер в «Cappello Nero»,[69] откуда можно будет наблюдать шествие масок.
Через двести сорок лет после того, как погребла она тело Монтеверди, притихшая столица оперы, Венеция, дала приют Рихарду Вагнеру. Мститель за Монтеверди, он неожиданно выдвинул вновь против оперы принцип речитативной музыкальной драмы и привел его к победе. И вот упоенный победитель, звонко излучая жизнь, бродил по суматошным переулкам, скользил по сонным, то красочным, то черно-молчаливым каналам города, убаюканного прибоем и музыкой. Тихо посмеивалась враждебная стихия под мягкими ударами весел его любимого гребца Ганазетто.
И еще один человек из окна своей комнаты в гостинице на Рива дельи Скьявони слушал шумливое карнавальное веселье венецианского народа. Опять, как уже не раз, сидел он в растерянности, без надежды над своей работой, несчастнее тех обоих.
Странное явление в истории! Опера – творение искусства, дарящее сладчайшие восторги, – как часто она ввергает в горе своих сильных творцов.
Моцарт зарыт в общей могиле. Спонтини умер, одержимый манией преследования, Доницетти – скованный параличом, Беллини едва дотянул до тридцати лет. Россини последние сорок лет своей жизни прожил в тяжелой неврастении, одетой в мантию гениальности, – состояние духа, не позволявшее ему написать ни единой ноты. Блистательный собеседник, повар-художник в белом колпаке, отпустив свору парижских льстецов, карьеристов и сикофантов, иссера-бледный, он падал в изнеможении на кровать или дрался со своей Олимпией в дикой жадности, в болезненном страхе за каждое су.
Глюк, как рассказывает легенда, умер от белой горячки, Бизе безвременно погиб, не увидев успеха «Кармен».
Опера разбивает оковы, она – опьяненное бегство от самого себя. Ее грозный бог нередко поражает своих жрецов смертоносным тирсом.
Маэстро Джузеппе Верди приехал в Венецию на очную ставку с самим собой.
III
Около пяти часов пополудни сенатор увел маэстро из его гостиницы. Сегодня в Венеции все от мала до велика были на ногах. Старый друг надеялся, что праздничные развлечения хоть на несколько часов отвлекут маэстро от гнетущих мыслей.
Фанатик одиночества, Верди с детства любил сумятицу, взрывчатую музыку толпы. Он привык часами слоняться в Париже по местам, где толчется народ, по самым людным бульварам, перед театрами, залами, торговыми рядами, – без мыслей, куда увлекал его людской поток, и это успокаивало в нем какое-то тайное беспокойство. Стать почти безличным голосом в хоре было счастьем. Он с готовностью отдался на попечение сенатора.
Если последние дни января были туманны и унылы, то прощальные дни карнавала являли теперь опасное лицо слишком ранней весны. За широкой, затопленной народом набережной, за пестрым нарядом Венеции низко склоненное солнце в полной и румяной наготе стояло над terra ferma,[70] над ледниками Альп. Лагуна в пляске пурпуровых пятен блаженно раскинулась своей синевой, как для нее обычно лишь в апреле. Четко, театрально, будто в свете рампы, вырисовывался, купаясь в золоте, фасад Сан Джорджо. Шеренги домов на Джудекке по ту сторону канала и лагуны Сан Марко вступили в бой и тысячью окон дружно отражали солнечный залп.
Перед гостиницей, откуда вышли два друга, была отгорожена барьером довольно большая площадка. Посреди площадки стояла теплая будка, в которой обосновался карнавальный комитет. Граф Бальби, взволнованный и глубоко убежденный в величии своей сегодняшней задачи, был уже на посту, хотя шествие должно было сформироваться не раньше чем к десяти часам вечера. Хлопотливо и самодовольно сновали вокруг импровизированного штаба молодые люди с белыми опознавательными повязками – записные распорядители на маскарадах и больших балах. Сенатор скривил рот:
– Дурачье! Ничего себе шуточка – вздумали инсценировать «народ»!
И так как маэстро никак не отозвался, он пробурчал в добавление:
– Мой сын Итало, конечно, туда же!
Во всю ширину Ривы водоворотами встречных течений, стремнинами, порогами, как настоящий поток, шумела толпа. На обоих мостах – через канал тюрьмы и канал дворца – давка принимала настолько угрожающий характер, что, если смотреть снизу, представлялось непонятным, каким образом каждый раз распутывается затор. В эти дни Венеция не была городом иностранцев. Путешествующие англичане и немцы почти совсем отсутствовали. Зато в гавани залегло несколько пароходов, в том числе один из Константинополя, один из Пирея, а два так даже из Восточной Азии. Поэтому в толпе мелькало множество матросов и немало цветнокожих. Но так как уже с раннего утра иные ревнители карнавала бегали по городу в масках и костюмах, то зачастую трудно было отличить настоящего малайца от ряженого китайца. Точно так же неискушенный глаз нередко ошибался относительно настоящих и ненастоящих монахов, потому что и духовенство сегодня, не соблюдая положенной дистанции, толкалось и топталось среди толпы. И было удивительно, что в этой бешеной сутолоке и давке никто не обронит ни ругательства, ни грубого окрика, ни злобного слова.
Вы, архисоциальные народы Средиземноморья! Как преданны вы гармонии! Вам для доброго здоровья не требуется поминутно взбадривать себя ощеренным диссонансом!
Оба почтенных итальянца приветливо улыбались приветливой толпе, которая, по верному чутью к рангу и достоинству, в меру возможности расступалась, давая им место. На Пьяцетте поток поредел. Друзьям удалось выбраться из него. Величаво, как победный гимн, три тяжелых стяга города и государства реяли перед собором в кровавых лучах.
Несколько классических широкополых шляп заколыхалось в воздухе, приветствуя сенатора. Тот, опасаясь, как бы кто не узнал маэстро, подтолкнул его и тихонько попросил идти вперед.
– Встретимся на музыке, старина!
Долго оставаться с кем-либо вдвоем, хотя бы с лучшим другом, было для Верди утомительно, и он был рад побыть немного один.
Не побежденная толпой, перед ним лежала огромная площадь. Здесь движение разбивалось на множество оживленных групп, никому не затруднявших дорогу. Еще захлестывало площадь последней красной волной звонкое зарево дня, а газовые фонари праздничной ночи уже зажгли свои триста пятьдесят рожков, создавая вокруг странно волнующий полусвет, который все увеличивал и делал явственней, чем оно было. Посреди площади, этого гигантского зала, высилась полукругом специально построенная двухъярусная трибуна для музыкантов. Большой духовой оркестр Сан Марко, banda municipale,[71] уже открыл концерт.
Маэстро внизу у собора, не различая пока ничего – только лишь отрывочные аккорды, тотчас поглощаемые гулом людских голосов, или же резкие вздохи одинокого корнет-а-пистона, – видел уже, как над толпою качались в самоупоении, радостно светясь в вечернем свете, медные инструменты – смугло-золотые, глянцевитые, точно счастливые тела купальщиков. Подойдя ближе, он узнал заключительную стрекотню увертюры к россиниевской «Cazza labra».[72] Маэстро не принадлежал к тем надменным, вечно недовольным музыкантам, которые затыкают уши, когда слышат рядовой оркестр, а не какой-нибудь чудесный ансамбль под управлением кудесника-капельмейстера. Он сам начал карьеру с участия в деревенском оркестре. Когда он бывал откровенен с самим собою, примитивная музыка его не оскорбляла. Он инстинктивно тянулся ко всякому свету, тянулся ко всякой музыке.
Понятно, он бывал чувствительней, если исполнялись его собственные вещи. Распространенный анекдот рассказывает, что однажды на водах в Монтекатини он у тридцати шарманщиков откупил их шарманки. Но это вызвано было тем, что Верди некоторое время не выносил мелодий из «Риголетто», «Трубадура» и «Травиаты», – его злил их успех! Кто знает, может быть, он не чинил бы шарманщикам помехи, когда б они играли что-нибудь из «Битвы при Леньяно», «Макбета» или из «Симона Бокканегры» – опер, которые он сам считал хорошими, хотя их мало кто знал.
У большой полукруглой вышки для оркестра, отрезанной, как сцена, тетивою красного каната, в несколько тесных рядов стояли слушатели. Номер был закончен. Капельмейстер, маленький седой старичок в морской форме, прислонился к перилам своего капитанского мостика и разговаривал с широкоплечим усачом-литавристом, хлопотавшим, точно старший канонир, вокруг своих двух инструментов. Тромбоны, басовые трубы, кларнеты, бомбардоны и контрафаготы покоились на железных подставках. Сами же музыканты скучно переговаривались, как простые люди, смущенные глазеющей на них толпой, и бросали на публику притворно равнодушные, а то и насмешливые взгляды.
Публику составляли главным образом женщины с детьми на руках, матросы и солдаты, жадные до музыки лодыри и голодранцы, подростки да несколько дряхлых, чуть живых стариков, еще устремлявших свои застылые глаза к прекрасному и чуждому видению. Надо всей толпой, не трогавшейся с места, чем-то явственно ощутимым нависло колдовство мелодии, звуковое марево, заволакивающая сознание дымка. Маэстро превосходно знал это тупо-блаженное выражение лиц: венецианская завороженность музыкой!
По всем другим странам в основе музыки первоначально лежала внемузыкальная цель. Северный хорал возник из священного писания, французская chanson – из шаловливой любовной поэзии, немецкая сюита ведет начало от танца. Только ариозо, итальянская мелодичность, красивое пение возникло не из религиозного экстаза, не из галантной любовной игры, не из плясового ритма, а из чистого, неодолимого влечения к звуковой стихии. Об этом явственно говорили лица слушателей.
Едва мелькнуло в памяти маэстро имя, как в тот же миг он увидел его носителя: Марио. Калека с серьезным видом сидел в оркестре на высоком стуле рядом с музыкантом, обслуживавшим какой-то второстепенный ударный инструмент. Среди множества медных труб его убогое тело, казалось, томно нежилось в электрической ванне звуковых колебаний. Вскинув голову, импровизатор сосредоточенно смотрел в пространство. Участие в концерте, возможно, было первой ступенью музыкального образования, к которому он начал приобщаться благодаря поддержке Верди.
Заметив в толпе также и отставного капельдинера – как он бахвалится в группе слушателей, – маэстро поспешил удалиться от оркестра и сделал несколько шагов в направлении к Прокурациям. Здесь, прямо на улице, стояли вынесенные из кофеен столики (хозяева не преминули воспользоваться теплым днем, когда можно есть и под открытым небом), и вокруг каждого тесно сидел народ.
И вот от одного из этих столов, за которым пристроилась большая компания, отошло несколько человек: трое взрослых и трое детей. Дети – мальчик и две девочки – побежали вперед.
Между двух мужчин – один великан, другой смиренный карлик – двигалась тонкая и вместе с тем внушительная фигура Рихарда Вагнера. Как всегда, он горячо дискутировал. Как всегда, трепетало, вибрируя, слабое тело, которое должно было ежедневно, ежечасно рассылать напряженный ток идей. Следом за детьми трое взрослых направились к оркестру.
Маэстро окаменел. Нервная оторопь проняла его с головы до ног: Вагнер!
Вторично он шел ему навстречу, громко проповедуя что-то своим спутникам. Вторично, вросший в землю, как медная статуя, ждал Джузеппе Верди страшного противника, который так угнетал его гордость, что он должен был все – даже самого себя – мерить по нему. Неужели вечно будет так превозноситься этот человек? Неужели он, Верди, должен терпеть, чтобы жил и властвовал некто, кто выше его? Это было непереносимо для его королевского достоинства. Для того он и прибыл в Венецию, чтоб выйти навстречу противнику, явиться к нему, говорить с ним, услышать, узнать, убедить! Но мужественная, благородная встреча до сих пор не состоялась. Слишком было упорно его собственное высокомерие, слишком силен его стыд. И вот в последнее, решающее мгновение судьба еще раз предлагала случай.
Вагнер отослал к своей жене обоих спутников – художника Жуковского и капельмейстера Леви – и теперь шел вперед один, прямо на маэстро.
Верди слышал внутренним слухом громкий, повелительный голос: «Нужно подойти к нему, назвать свое имя! Вот она, встреча! Теперь – или никогда!»
Все резче, все реальней надвигалось лицо; определились крепко сжатые губы, нос завоевателя, светлые глаза. Сейчас, сейчас… Но маэстро не был еще свободен. Темная, холодная волна подкатила к сердцу, к глазам. И вторично, как тогда, в фойе театре Ла Фениче, свершилась быстрая скрытая драма скрестившихся взглядов, говоривших и знавших больше, чем они говорили и знали. Удивленный и усталый – как будто человек старался вспомнить что-то очень давнее – взгляд Вагнера остановился на гордо-неистовом лице итальянца. Где-то он, кажется, видел это лицо, эту замкнутую, вдаль направленную силу… на портрете, может быть? На фотографии?…
И снова скрещение взглядов кончилось тем, что в глазах Вагнера заиграла женственность: «Почему ты не любишь меня, почему не склонишься предо мной – пред единственной правдой? Почему не вплетешь свой голос в хвалебный хор, как все другие?»
Маэстро – это становилось просто неестественным – все еще не трогался с места. Поэтому случилось так, что Вагнер, шедший, как в гипнозе, на выросшую перед ним широкую фигуру, уклонился слишком поздно и чуть задел незнакомца. Однако он очень учтиво обернулся, снял шляпу и сказал по-итальянски:
– Извините!
Тут и маэстро с легким поклоном снял шляпу и ответил еле слышным голосом потревоженного мечтателя:
– Пожалуйста, пожалуйста!
В тот же миг (точно адские силы подготовили в издевку этот номер) оркестр грянул «Королевский марш» из «Аиды». Сперва маэстро едва не утратил самообладание, так больно, так страшно стало ему, что его музыку передают на суд такому судье. Но потом, точно тугоухий, когда вдруг у него прояснится слух, он с первых же тактов узнал всю прелесть этих звуков.
Он смотрел на Вагнера, видел, как опять к тому подошли два почитателя. Даже враг сквозь медное гудение, сквозь опошляющую аранжировку духового оркестра должен был признать мелодию, властную мелодию. Он, изо всех людей он один! Маэстро не сводил глаз с маленькой группы, стоявшей совсем неподалеку от него.
Но Рихард Вагнер, казалось, не слышал музыки. Широко размахивая руками, он развивал перед своими почтительными поклонниками некое философское построение. При этом голос его звучал так громко, что не тонул в громе литавр и труб.
Отзвучала молитва Аиды, дуэт с Амнерис, большой финал возвращения на родину, а немец так и не прислушался, не прервал свою речь.
Все сокровища маэстро отвергнуты у него на глазах. Гордец, чья слава водворилась по всем уголкам земли, с угасающей надеждой смотрел на человека, не желающего слушать эту музыку.
Начиналась сцена на Ниле. Вагнер говорит. Песня тоскующей по родине Аиды, ее дуэт с Амонасро. Вагнер говорит. Аида и Радамес! Вагнер говорит и говорит!..
Никогда с таким разочарованием, с такою болью не следил маэстро за безуспешным исполнением своих даже самых несчастливых вещей, как здесь, на площади Сан Марко, в карнавальный вторник, когда ревущая медь оркестра предавала его «Аиду» недоступным ушам.
В музыке настал самый сильный момент душевной трагедии: несчастная в своей любви Амнерис подвергает героя испытанию. Он не отрекся, он идет на смерть. Но она еще раз кидается к нему, и вот самая одухотворенная мелодия, превозмогая смертную муку, взмыла ввысь:
Ты? Умереть? О нет! Ты должен жить! Жить! Со мной неразлучно!Неужели и это – только кабалетта? Только жиденькая кантилена? Только опера? Только условность? Неужели он все еще не слышит?
Рихард Вагнер явно обрывает разговор на полуслове и медленно обращает глаза к трибуне, где капельмейстер в неистовстве исторгает мелодию:
Родину и честь, Все, все я отдал за тебя!Вагнер, кажется, кивком останавливает своих спутников, когда они снова пробуют втянуть его в разговор. Он откинул голову, точно наслаждаясь музыкой. Конечно, конечно! Он слушает. Он понимает:
А я? Я тоже все, все отдал за нее.Счастье жаром обдало маэстро. Судорожно сжимаются кулаки в карманах пальто. Теперь он может… может заговорить. Он делает несколько шагов. Все равно – если и станут какие-то низшие создания свидетелями встречи, пусть!
Мелодия Амнерис свергается вниз по уступам своей каденции.
Вагнер, – от маэстро теперь ничто не ускользает, – обращается с вопросом к Леви. Верди явственно слышит слово «Аида». Он непроизвольно поднимает руки. Но Вагнер – так почудилось взволнованному наблюдателю – скривил в досаде рот и с пренебрежением отмахнулся…
Музыка играет обрядовый марш: шествие жрецов на суд.
Маэстро точно хватили палкой по голове. Невыносимый, удушливый стыд, серое чувство поражения леденит смертельным холодом тело. Он больше не слышит своей песни, не слышит нежного прощания любящих, ни вынесенного жрецами смертного приговора, ни плача Амнерис, призывающей к миру над замурованной могилой любви. Он только видит, что немец опять говорит и, вдруг забеспокоившись, ищет глазами сына, который убежал куда-то и потерялся в толпе.
«У него есть дети!»
Так невольно думает маэстро, пока у него перед глазами Вагнер, а за ним и его провожатые, с преувеличенной озабоченностью царедворцев неустанно призывающие: «Зигфрид! Зигфрид!», один за другим исчезают в людской толчее.
Сенатор прибегает запыхавшись.
– Наконец-то я нашел тебя, Верди! Я три раза обежал вокруг оркестра, пока тебя увидел. Я уж думал, что ты пошел домой.
Маэстро, успокаивая сенатора и себя самого, улыбается другу:
– Я присутствовал при отменном исполнении «Аиды». Что у тебя дальше в программе, дорогой?
– Я заказал для нас с тобою комнатку в одной таверне. Посидим немного и вернемся смотреть ряженых.
– Отлично! Я и впрямь устал. Пошли!
IV
Вплоть до вторника Бьянка пролежала в полной апатии. Пищу – лишь самое необходимое – она принимала машинально. Единственно, на что у нее хватало силы, – это притворяться спящей, когда к ней подходил Карваньо. Она не думала, не чувствовала, не страдала. Хотя она не спала и могла бы вести разговор о чем угодно, все ее существо, ее память и самосознание, казалось, отсутствовали, были отстранены. В каких далях блуждали они, чего искали?
Во вторник, около полудня, ее душа как бы возвратилась к телу. Бьянка проснулась. Кто-то держал ее за руку: Карваньо.
Вместе с первым сознательным движением явилась и женская готовность ко лжи: Бьянка тотчас же стала настойчиво просить мужа, чтоб он шел к своим больным, так как она чувствует себя прекрасно, она совсем здорова, а недавняя слабость – так в ее положении это же естественно!
Карваньо послушался. Нельзя было иначе. Он не мог запускать работу в больнице, где без него все, наверно, шло уже вкривь и вкось.
Побежденный припадок отдавался в теле Бьянки освежающей усталостью. Взбаламученный обмороком бешеный круговорот неосознанных мыслей понемногу затихал, всплывали твердые представления, получили образ и лицо: Итало!
Она опять все знала.
Но вдруг явилось утешительное сознание, что ничто не доказано. Итало в Риме, близорукий Карваньо обознался… А она-то со злости на Итало вздумала заболеть!
Ей приходилось нести слишком тяжелое бремя, и потому первый же толчок ее сломил. Мучительный внутренний сумрак, прокрадывавшийся в каждый обыденный помысел, навалился на нее обмороком и все в ней угасил.
Ничто не доказано. Итало любит ее. Она из-за него не пережила ничего такого, что могло бы пошатнуть эту веру.
Бьянка открыла глаза, все еще не привыкшие к зрению. На обтрепавшихся чуть-чуть обоях против ее кровати лежал солнечный квадрат. Яркий свет обострил ее зрение. Точно впервые за десять лет, она увидела гравюру в раме на светлой стене. Привычное казалось незнакомым. Старая гравюра с картины Пьетро Лонги изображала одетую пастушкой – с перевитым цветами посошком и шляпой в лентах – певицу Гассе в кругу галантных поклонников.
Бьянка пристально разглядывала, толком не различая, изображенных на картине людей.
Когда же солнечный квадрат соскользнул с гравюры и лег рядом на обои, она в тот же миг – сразу, как по внушению, – узнала правду. Ее оцепенелость, помраченность ее сознания были только последней попыткой самозащиты против растущего подозрения, которое теперь сразу, неудержимо, как бьют часы, перешло в уверенность.
Бьянка увидела Итало с певицей. Она увидела Итало с Децорци, – не зная этой девушки, увидела их вдвоем. То было глубокое видение – не глазами, а более отчетливое видение безошибочного чувства. Она не сомневалась больше. Между нею и любимым имя Маргериты Децорци упоминалось только два-три раза, да и то в самом равнодушном тоне. И все-таки она не сомневалась. Ясное внутреннее зрение разглядело правду, которая сейчас нисколько не удивила ее, – как будто эта правда была уже тысячу раз продумана, уяснена, установлена и испокон веков предопределена.
Теперь, когда все перед Бьянкой возникло в ярком свете, обморочное изнеможение совсем прошло, и ее охватил глубокий покой.
Она оделась. Еще не знала, что нужно сделать, что должно случиться, но не смела противиться внутреннему велению, которое ее направляло. Не думать! Идти, как идут лунатики! Она отдалась во власть более зоркого человека, пробудившегося в ней.
С обычной тщательностью она совершала свой туалет, но почти не глядела при этом в зеркало. С наступлением сумерек она вышла из дому. Она подчинилась своим ногам – они знали лучше, куда идти, и привели ее прежде всего в ее излюбленную церковку. Там она стояла в углу, в густой темноте. Она не молилась – только предоставила какой-то независимой части своего существа сосредоточиться и здесь, в священном месте, уяснить себе верный путь.
Через пять минут после того как Бьянка ушла, вернулся домой Карваньо. Совесть, укоряя за жену, так мучила его на работе, что сегодня он был плохим врачом.
Увидев, что жены нет, он очень испугался и выбежал на улицу, расспросил соседей. Никто ничего не знал.
Он чувствовал характерное жжение под ложечкой, отвратительную сладострастную щекотку, которая сопровождает наши самые жуткие страхи.
Уже настала ночь. Карваньо поднял воротник пальто.
V
Маэстро и сенатор поужинали в отдельном кабинете «Старой таверны». Теперь они медленно шли по вымершим переулкам к Пьяцце. Сенатор, слегка опьяненный крепким кьянти и тропическим ароматом гаваны, перевел разговор на свою излюбленную тему – разочарование в жизни. Несмотря на сходность их жизненного опыта, сетования всегда вызывали Верди на спор. Маэстро досадливо покачал головой.
– Не понимаю, чего ты хочешь? По-моему, многое улучшилось. Взять хоть ту же Венецию! В пятидесятые, даже в шестидесятые годы трудно было найти другую такую промозглую дыру, как этот город нищеты. Я припоминаю отчет мэра Венеции, графа Луиджи, помещенный в свое время в газетах: треть населения – целая треть! – была занесена в список неимущих, и не предположительно, а фактически. То есть тридцать тысяч нищих, состоявших на пособии, слонялись по городу и пожирали две трети налогов, ради уплаты которых разорялось остальное население. Вспомни далее проклятые городские таможни, установленные повсюду, вспомни ужасные санитарные условия, ежегодные эпидемии.
Во времена «Риголетто» Винья показал мне как-то здешний сумасшедший дом, Сан Клементе. Он был так безобразно переполнен, как ни одна средневековая «башня бесноватых». От недоедания, от болезней на почве голода, от ломбардской проказы[73] люди сотнями сходили с ума. Все было так беспросветно! А теперь – прошло немного лет, и мне кажется, точно на этой больной почве выросло новое, здоровое и бодрое человечество. Это ли не успех?
– Да, материальный успех!
И не только в Венеции – по всей стране, даже в Риме, в оскопленном Риме, где пятнадцать веков все придавлено властью церкви.
– Верно! Но самобытная сила провинций угасла, и выдвигается в первые ряды благонадежный средний человек, деловитый и трезвый. Мы разделяем судьбу централизованной Германии. Как там – прусский, так у нас господствует пьемонто-ломбардский дух, – человека подчинили схеме. Вот как осуществляются все мечты!
– Требовать от жизни большего, чем она может дать, – это разврат.
– Да, ты силен, последователь Кавура! Ты требуешь только возможного! Ты не слишком привержен вчерашнему. Это в тебе самое удивительное. Так-то, мой Верди! Теперь мне понятна и музыка твоего «Лира». Каждый час находит тебя новорожденным.
Друзья вышли из темноты на площадь, в резко очерченный круг света, причинявшего боль глазам. В честь праздника горело не только в двадцать раз больше, чем всегда, газовых рожков на увитых гирляндами канделябрах, – как в старину, повсюду были установлены между колонн смоляные факелы на высоких треножниках, от которых оранжевыми языками, в густых клубах дыма, вздымалось пламя, дававшее нездоровый, мерцающий свет. К тому же в тысяче окон Библиотеки и дворца Прокураций горели тысячи свечей, озаряя золотое шитье на свисавших с подоконников праздничных коврах. В каждой ячейке огромных каменных сотов билось таинственное ядро жизни.
Взволнованный отсвет пожара или огней какого-то азиатски причудливого религиозного празднества лег на толпу, искажая дикими светотенями лица – и не только лица. Люди, как одержимые, скакали в чехарде, кружились, толкались. Многие как будто были во власти сновидений: экзальтированно смеялись, пошатывались и ощущали в теле способность к полету, парению, сверхъестественному преодолению пространства.
Толпа под действием колеблющегося чадного света, превратившего Пьяццу в святилище, где вершится обряд, или в площадку сцены, слилась в единое, новое существо. Кто хоть раз стоял на сцене статистом при исполнении сложной оперы, тому хорошо знакомо это волшебное ощущение утраты своего «я».
Венеция, могущественная, властвовала и заключала свой народ в оковы своего особенного хмеля. В безумно расширенных глазах людей жила какая-то готовность, которой не осознавал их мозг, – готовность отдаться похоти, страсти к поджогу, начать молиться или петь. Всеобщее возбуждение, предвкушение того, что сейчас произойдет, было почти нестерпимо.
Люди еще свободно расхаживали кто и как хотел, без какого-либо предписанного порядка, хотя рабочие уже разбирали трибуну оркестра, чтобы расчистить место для шествия, и жандармы в украшенных перьями треуголках молча переглядывались, как будто спрашивая друг друга: не пора ли?
Прибой голосов, требующих небывалого зрелища, с минуты на минуту нарастал.
Холодный и мудрый знаток, подлинный властитель дум и вдохновитель массовых экстазов, маэстро шел вперед бок о бок с другом. Чувство собственной силы – силы победителя – играло в его мускулах. Он больше не думал о Рихарде Вагнере, который в этот час сидел со своею свитой у окон снятого ими номера в «Cappello Nero» и с тем же ощущением собственной силы смотрел вниз, на волнение податливых масс.
Так, причастный на свой лад общему подъему, Верди пробирался сквозь залитую заревом толпу, в удивлении расступавшуюся перед ним.
Он узнал Матиаса Фишбека, когда тот, растерянный и одинокий, проталкивался в чуждой для него толпе. Дисгармоничные, старообразные черты двадцатишестилетнего человека выражали напряжение борьбы. Он казался измотанным, злобно оглядывался, лицо его бросало вызов этому упоению, захватившему всех вокруг. Как обессиленный пловец, он боролся с величественной стихией народа, являвшего здесь единое целое.
Маэстро снова с удивлением почувствовал в себе прилив теплой нежности, которую питал он к человеку столь чуждого склада. Была минута, когда в нежданной заботливости он хотел подойти к Фишбеку и предостеречь больного лихорадкой против коварства февральской ночи, потому что на светлых его волосах не было шляпы.
Но он передумал. Не так-то просто было бы объяснить ревнивому сенатору эту новую дружбу. Он обошел Фишбека далеко стороной.
Теперь друзья стояли перед Базиликой. С плоской крыши над сводами портала открывался широкий вид на Пьяццу с Пьяцеттой и дальше, вплоть до лагуны. Во время большого праздничного шествия двадцать первого января, когда на площади скопилась двадцатитысячная толпа и сюда, наверх, забралось около трехсот человек зрителей, старинная балюстрада площадки сильно пострадала. Поэтому городские власти решили на карнавальный вторник если не совсем запретить вход на галерею, то, во всяком случае, очень ограничить. У соответственных дверей караулили церковные служки, пропуская лишь немногих – главным образом представителей знати, запасшихся входными билетами.
Когда подошли маэстро и сенатор, караульные расступились с почтительными поклонами и беспрекословно пропустили также даму, которая шла вплотную за двумя друзьями. Оба старика легко взошли по темной лестнице, ведущей на хоры. Женщина с трудом за ними поспевала. В то время как мужские штиблеты скрипели и шаркали, тяжелый шаг женщины будил в круглой башне гулкий отзвук. Проплутав недолгое время в сети узких каменных мостиков под куполом собора, друзья выбрались на вольный мглистый воздух, а за ними шла послушной тенью дама.
Здесь, на изрядной высоте над площадью, пьяной от света, простирался странный мрак – как будто у праздничных огней не хватило силы закинуть лучи немного выше.
Лишь несколько человек смотрели через перила галереи на бурливый мир, который двигался внизу, преувеличенно ясный и четкий, как на сцене.
Оба друга склонились из темноты к свету. Служка принес им два стула. Сенатор, увидев, что для дамы нет стула, уступил ей свой и кивнул служке, чтобы тот принес ему другой. Дама даже не подумала поблагодарить, отодвинула стул в сторону и села, точно деревянная.
Между тем арена внизу начала преображаться. Жандармы оттеснили часть народа к колоннаде, расчищая место для шествия. Из единого тела толпы вдруг получились две вытянутые извивающиеся половины. От давки движение толпы стало менее красивым. Обе половины испытывали телесную и нравственную боль. Только в пустом пространстве между ними по-прежнему царил нерушимый в потоках струистого света дух страстного ожидания.
Маэстро окинул взором безлюдный, залитый полыхающим огнем правый угол этого пространства от колонн Пьяцетты до Верхнего Дворца.
Он видел непрерывную пляску человеческих голов, тысячи флажков, газовых фонарей, видел пляску свечей в окошках – точечки огоньков, и дальше за ними – пляску гондол у Пьяцетты, пляску зыби, которая их качала и на протяжении нескольких метров играла отсветами праздничных огней, вырванная из небытия остальной лагуны. Между двух сторожевых колонн, щитоносцев Венеции, как раз посредине, был сложен высокий костер, на который скоро должен был взойти упоенный однодневный самодержец. Ибо народ восстал и хочет видеть казнь короля. Праздник и мятеж сродни друг другу, и в буйном символе костра они сегодня обнимутся.
На помосте вертятся подручные палача. Толпа над ними подтрунивает. Но, гордые величием своей миссии, они не обращают на это внимания и с полной серьезностью зажигают одну за другой бенгальские серные спички, все время освещая себя их вонючим багрецом в надменном самолюбовании исполнителей приговора.
Маэстро вздрогнул. Прямо за его спиной грянули трубы и горны. С галереи Базилики подали сигнал к началу.
Шалый шум внизу понемногу улегся. Только кое-где разматывались клубки голосов и криков.
Колонна ряженых давно собралась на Риве и изнывала от нетерпения. Теперь она тронулась в боевом порядке, следуя плану, разработанному председателем комитета. Сам Бальби, исполнив задачу полководца и переложив хлопоты по проведению шествия на полсотни генералов и распорядителей – юных честолюбцев, мог свободно посвятить себя роли Клаудио Монтеверди.
Впереди шествовал оркестр в костюмах далматинских моряков шестнадцатого века и, гремя литаврами и бубнами, занял место на середине Пьяццы. За ним через некоторые промежутки следовали второстепенные группы: когорта римских легионеров, отряд молодых атлетов, которые по старинной традиции на ходу проделывали гимнастические упражнения, изображая разные аллегорические фигуры: пирамиду, «игру сил» и тому подобное. Писатели семнадцатого века, как, например, президент де Бросс или Сен-Дидье, описывая венецианский карнавал, рассказывают об этих аллегорических гимнастах. Дожил ли давний обычай до нового времени или же был оживлен по идее графа Бальби? Так или иначе, но аллегория была уже почти непонятна. Зато явственно ощущалось, что английское увлечение спортом понемногу докатилось и до молодой Италии.
За гимнастами шли ватаги масок, значения коих никто не мог бы разгадать, – но они тем усердней кривлялись, срывая, как и все другие, дружные аплодисменты. Музыка глухими ударами отбивала такт. Желтый и красный свет колыхался на зачарованных лицах десятков тысяч зрителей, которые теперь притихли, жадно впивая пеструю смену картин. Только мерный шум аплодисментов не смолкал ни на минуту, то усиливаясь, то спадая, как шум дождя.
Между отдельными отрядами праздничной армии сновали ряженые шутники, вздумавшие играть ту или другую роль на собственный страх и риск; тут были клоуны, оборванцы-лоботрясы, карикатуры на видных горожан и на знаменитых политиков. Эти солисты заговаривали со зрителями, держали речи, пародировали, отпускали непристойные остроты, пели песенки и пожинали в награду хохот толпы.
Мимо проходили все новые группы, в том числе придуманные самим Бальби исторические живые картины – кавалеры и дамы восемнадцатого столетия в характерных венецианских масках. Вдоль Дворца Дожей, мимо собора, к Прокурациям и назад к Библиотеке, колыхаясь, растекались пестрые краски и вновь стекались к костру.
Для большего эффекта граф Бальби выждал некоторое время, прежде чем примкнуть со своей собственной группой к общему шествию. Действительно, в инсценировке «Орфея», обыкновенной живой картине, он сумел дать шедевр изящного вкуса! Впрочем, толпа не отметила ее среди других, хотя в передних рядах многие были поражены красотою женщины и юноши.
Особенно удачна была идея запрячь в высокую античную колесницу звериные маски и окружить ее хором эринний и менад, несущих факелы, благодаря чему ярче вырисовывались главные фигуры, а золотая парча на костюме Маргериты, усеянном драгоценными камнями, великолепно играла в мерцающем свете.
Маэстро склонился над перилами. Сенатор одобрительно воскликнул: «Ого!»
Эриннии и менады размахивали факелами или держали их перед собой, освещая золоченые маски; другие пронзительно дудели в дудки или же звякали кастаньетами и бубенцами.
Большая широкая колесница на золотых колесах, запряженная звериными масками, проходила теперь прямо перед главным фасадом собора. (Группа, должно быть, поднялась сюда с противоположной стороны – по мосту Дворца Дожей.) Должна ли была эта колесница представлять собою нечто вроде повозки Феспия? Для этого свисавший по ее бокам старинный темный бархат был слишком роскошен. В пляшущем свете факелов фигуры на ней казались сверхъестественно высокими. Клаудио Монтеверди с седой головой, остриженной под скобку, и в камзоле ученого прислонился к выгнутой задней стенке колесницы. Орфей в стилизованном костюме римлянина семнадцатого столетия стоял впереди и, не глядя по сторонам, придерживал поставленную на перила лиру, в то время как правая его рука сжимала руку отвернувшейся Эвридики. Лицо Итало – он был даже без парика – нисколько не изменилось. Он не играл. Он только весь отдался счастью, что может так долго держать в руке руку возлюбленной. Маргерита Децорци, напротив, все время играла роль, была на сцене, вся ушла в свою художественную задачу. Своим телом, которое больше, выпуклей заполняло картину, чем обе мужские фигуры, всем обликом своим она переживала смертную муку героини. Под действием подлинного страдания, самогипноза и тщеславного волнения (как неизменно это сочетание отмечает одаренного актера!) она напряженным внутренним чутьем находила трогательную и горестную линию, которая гармонично связывала в одно целое ее склоненную голову и каждую складку парчи. Стоя так (и как долго!) – в этой томительной дреме, между настороженным сном и полупробудившейся любовью, – она создавала сценический шедевр, который здесь, на огромной площади, где картина слишком терялась, лишь очень немногие могли понять.
Маэстро понял. Как всегда (и часто против своей воли), он был глубоко потрясен изобразительным талантом женщины.
– Это та Децорци, что должна, как ты мне говорил, петь Леонору в «Форца дель дестино»?
– Она самая.
– Ты посмотри на нее! Насколько же она превосходит всех других! Ведь на таком большом расстоянии – а как будто видишь каждую черту ее лица! Даже по ее сегодняшней роли можно заключить, что эта женщина – большая актриса.
Друзья услышали очень странный и тихий женский смех. Они оглянулись. Стул, на котором сидела дама, был пуст.
Колесница Монтеверди свернула направо, за угол. Сенатор больше не мог сдержаться и дал волю своему сарказму:
– Видал моего юнца? Актера из него не выйдет. Зато – природный тенор!
Верди молчал.
– Он похож на обольстителей, на этих милых юношей, по существу убийц, которых ты изображаешь во многих своих операх. На герцога Мантуанского, к примеру; не знаю почему, но с некоторых пор Итало напоминает мне эту фигуру. Я не вмешиваюсь в личные дела моих детей. Но что-то в последние недели вид у Итало самый нелепый, а занят он выше головы. Он каждый день жужжит мне в уши, что я должен… что мне следовало бы…
К счастью, сенатор вовремя прикусил язык. Еще немного, и он прямо в лоб высказал бы другу просьбу Итало – Маргериты и тем самым сознался бы, что нарушил клятву и проговорился о приезде Верди в Венецию. Но маэстро ничего не заметил. Он все еще был под впечатлением прелестного образа, созданного певицей.
Все еще отдавался в ушах ритм духовой музыки. И вот от лагуны покатился, нарастая, прибой народного ликования. Все прежнее было только пестрым, невнятным прологом. Теперь же диким темпом приближалось самое существенное, главная приманка празднества – то, что составляло его исконный смысл. На телеге осужденных восседал король. Тряпичная грубая кукла в сусальной короне и горностаевой мантии тряслась и шаталась на своем высоком троне. Король так устал и обмяк, что, казалось, жизнь и смерть стали ему безразличны. Сотня молодцов плясала вокруг телеги – сбиры, полишинели, палачи и законники. Бурные раскаты смеха потрясали воздух. Обе половины рассеченной надвое толпы судорожно извивались, как два замученных зверя. Как пыль, оседал на всех предметах неумолчный крик.
Несчастный король пронесся в рьяной бешеной гонке мимо своего народа. В семь минут повозка очертила весь большой прямоугольник Пьяццы. Захваченный общим ликованием, смеялся с другими и сенатор, борец сорок восьмого года, видя, как быстро настигает судьба ненавистное пугало.
Бег короля окончен. Ряженые стеной обступили костер. Куклу сволокли с телеги и привязали к столбу. Тотчас же курносая голова, в подражание предсмертной позе распятого, свесилась на пеструю грудь. Зашипела солома.
Крик толпы перешел в неистовый рев. Сенатор хохотал. Маэстро в ужасе смотрел вниз, на площадь. Вспомнился ему давний провал в театре, пережитый им самим. Он думал о своей злополучной комической опере, – он не мог не думать о ней всякий раз, когда слышал голос возмущенной улицы.
Грохот музыки давно затих. Естественная ненависть народа к полиции вылилась в десятки мелких стычек. С протяжным воплем толпа наконец прорвала цепь жандармов, и двадцать тысяч человек смертоносным натиском устремились к лобному месту. Ничто не указывало на то, что это был только праздник, только игра, что казнь свершилась над королем карнавала, а не над каким-нибудь другим властителем. За несколько дней до того в Австрии был повешен патриот и террорист Оберданк, герой Ирреденты.[74] Жажда «мести за Оберданка» кипела в крови каждого итальянца. Мириады диких образов, искаженных лиц мельтешили в толпе, точно дело шло о том, чтобы прикончить тирана, взять штурмом Бастилию, а не о проводах греховной поры мясоеда.
Высоко над людскими головами взвилось пламя костра. С неподражаемым хладнокровием пресыщенного сластолюбца король отдался огню. Только трепыхалось еще у столба несколько тлеющих тряпок.
Казнь в последнее мгновение вызвала новое дикое зрелище. Все голуби на Пьяцце в этот грозный багровый день, оглушенные страхом, попрятались по своим углам. Но тут они взметнулись ошалелой стаей. Раскормленные птицы с площади святого Марка, сытые обыватели, обернулись воронами, стервятниками, пернатыми мародерами. Они кружили над местом аутодафе и реяли, как черные траурные знамена. Огонь взвился все выше, перерос обе колонны. Крокодил[75] и святой Георгий картинно замерли в зареве светопреставления. Смоляные факелы догорали, и теперь надо всем владычествовал только отсвет костра.
Толпа-победительница притихла. Жертву заклали, жажда крови утолена, – росла потребность в обряде, в чем-либо, что даст разрешение страстям. И вот сегодня, как ежегодно в этот час после сожжения короля, венценосного козла отпущения, который принял на себя вину за все излишества, – из уст исполинского хора полилась древняя песнь угасающего карнавала. Никто из многотысячной толпы в другое время не пел эту песнь. Никто, казалось, в отдельности ее не знал, и только высший индивидуум, великое единство – народ с его обширной памятью, охватывающей сотню людских поколений, вспоминал ее в должный час. Это было не бодрое и не печальное, но какое-то бесконечно чуждое пение, хоралообразная мелодия в стиле давних времен, оплакивающая окончание праздничных дней. Звуком, сплетением двадцати тысяч голосов, непроизвольно каноническим, поднималась она в высоту – туда, куда не мог проникнуть и более быстрый свет костра, смоляных факелов и газовых фонарей.
Потрясенный величием этого пения, маэстро встал. В нем все дрожало. Если из пения калеки он узнал, что ария зародилась в душе итальянского народа, то теперь мощное пение необозримой толпы дало ему почувствовать, что и финал оперы с непременным участием хора и всего оркестра возник из того же источника, что он не ложный, искусственный эффект, а глубокое выражение итальянского народного духа. Но маэстро не думал. Он только слушал, слушал не рассуждая.
Рихард Вагнер, сидевший у открытого окна в «Cappello Nero», тоже встал, подхваченный могучим натиском карнавального хора. Судорожные звуки вырывались из его груди. Он слушал, закрыв глаза. Его неугомонное властное «я» угасло в величии мгновения.
Самый добросовестный биограф Вагнера сообщает о гнетущем впечатлении, произведенном этой песней на немецкого композитора. Пока она звучала, он будто бы не мог отогнать от себя мрачное беспокойство.
Но Вагнер был совсем иной натурой, чем маэстро. Упоенный своими достижениями и благодарный за них, он легко справлялся с любым сомнением.
Пушечный залп разорвал песнь и завершил ее. Еще дотлевало пламя костра. Но на лагуне перед Сан Джорджо, около Доганы, с пронзительным шипением, с бесчисленными ударами, взрывами, обрушивающимися каскадами всех цветов, загорелся фейерверк. Вода разливалась огнем, бушевали в воздухе ураганы. Итальянский обычай поджигать сразу все ракеты и пиротехнические снаряды одним ударом всколыхнул небо и землю.
Маэстро, оглушенный, повернулся спиной к этой картине Страшного суда. И тут он увидел причудливую фигуру, вышедшую из глубины собора на крышу Базилики. То был богатырь-причетник в грязно-лиловой сутане. Лицо комика, меченное оспой, – и в то же время лицо фанатика. Этому человеку можно было приписать все людские пороки. В сознании своей высокой миссии он презрительно оскалил зубы, усердно прокашливаясь глухим органным басом. Богатырь остановился, оперся на огромный рупор, который принес с собою, и, прищелкивая языком, равнодушно задрал голову к небу, как скверный певец, ожидающий знака к вступлению.
Канонада рассыпалась последним перекатным залпом. Люди, вплотную обступившие костер, вытаскивали головни из догорающего огня. Кругом стало тихо до жути.
Тогда из хриплой груди колокольни вырвался ржавый вздох, двенадцать вестников полуночи, сорвавшись с высоты, понеслись над городом. Газовый завод в положенный срок прекратил подачу света. Триста пятьдесят рожков погасли; только кое-какие огарки свечей, разбросанные угли костра да редкие сигнальные огни мигали в темноте.
Грязный, порочный человек, лиловый причетник, подошел к балюстраде и проревел в свой рупор:
– Il carnevale éandato.[76]
Этот страшный финал, который даже самый пресыщенный зритель не назвал бы театральным, это унылое возвещение «пепельной среды» всех сковало. В наступившем внезапно мраке стояла такая тишина, что можно было расслышать, как здесь и там начинают всхлипывать женщины.
Когда снова зажглось обычное ночное освещение, тысячи людей потянулись к городским церквам, где с двенадцатым ударом начались долгие литании великого поста.
Маэстро взял друга под руку. Молча сошли они вдвоем по винтовой лестнице галереи.
VI
Когда Карваньо после долгих поисков нашел наконец свою жену перед собором св. Марка, у него не достало мужества ее окликнуть.
Таким чужим он стал за последние годы Бьянке, что теперь, при виде ее, когда она шагом лунатика и под вуалью взошла на ступени у главного входа, непонятная робость охватила его.
Он видел, как Бьянка проследовала за двумя стариками, которые только что скрылись в подъезде галереи. Так как билета у него не было и так как в своем пальто с поднятым воротником он не производил внушительного впечатления, караульные преградили ему вход. От дальнейших попыток добиться пропуска он отказался и решил подождать жену внизу.
Кругом все шумнее бушевал карнавал. Врач этого совсем не чувствовал. Какая-то дверь в его жизни, давно забытая, вдруг распахнулась. Он содрогался под натиском мыслей, которых сам еще не понимал.
Десять лет назад он нашел и взял в жены сильную и красивую девушку из Джемоны. Бурная, очень эгоистическая влюбленность вскоре утихла в обладании. В приобщении к телу женщины он черпал новые силы. В нем все созрело для деятельности.
Он предпринял переустройство городской больницы, и эта задача всецело его поглотила. Помощи ниоткуда. Он надрывался. Работал не покладая рук. На женщин его не хватало.
Живет на свете Бьянка, он владеет ею – и этого ему довольно. Но она не стала для него частью его существа (для этого у него недоставало времени), а лишь едва касалась какой-то своею стороной его собственной торопливой жизни. Правда, иногда он чувствовал нечто вроде вины, но круговорот работы быстро прогонял такие мысли.
Тем не менее в иные часы ему бывало не по себе, когда эта крупная женщина в сзоем красивом одиночестве сидела рядом с ним и он должен был чувствовать, что, замкнутый в себе самом, он уже не может до нее дотянуться. И тогда ласки превращались во что-то неожиданное и мучительное, и после них его охватывал стыд.
На раздумья, однако, не было времени. Все, что мешает работе, следует вычеркивать из жизни. Бьянке часто доводилось слышать от мужа это правило. И она, точно ей обидны были постоянные оправдания с его стороны, предпочла разделить с ним убеждение, что врач на таком посту и с такою практикой должен отказаться от личной жизни.
Но логика судьбы не терпит прикрас. Карваньо чувствовал, что рядом с ним живет существо с сильным характером, который он не может подавить и подчинить своей потребности в работе. Все тягостней становилась ему женщина. И он из малодушия, из страха перед этим бременем стал ее избегать.
Его страстность в деле врачевания, ярая борьба с негативным устремлением в каждом больном, перегруженность административной работой – все это не оставляло ему сил для личной жизни. За последние два года он стал прятаться от взглядов Бьянки, в которых было так много недосказанного между ними. Он не находил в себе мужества разбудить дремлющий конфликт и тем самым все обновить.
Свет, который исходил от Бьянки в первые годы их брака, перестал на него излучаться, она стояла перед ним непроницаемая, чужая, независимая. Он больше ничего о ней не знал. Он боялся узнать о ней что-нибудь.
В первые месяцы ее беременности он, правда, не раз делал попытки подойти к ней ближе, но как раз теперь она стала вдвойне замкнутой, загадочной, опасной.
Он не доискивался причин. Ревности он не знал, потому что ревность возможна только там, где еще сохранилась какая-то связь. Эта женщина с римским печальным лицом, ростом выше, чем он сам, угнетала его. Почему, он и сам не понимал. Он разучился понимать ее побуждения, мысли, желания.
О ребенке она никогда не заговаривала.
Карваньо не мог придумать, чем бы ему порадовать ее. А между тем она была единственным существом на земле, которое имело над ним большую власть, хоть она, по-видимому, этого не сознавала. Она представлялась ему мрачной жрицей, весталкой, хранящей тайну, которую она не выдаст даже под угрозой смерти. Но на то, чтоб в этом разобраться, у него, как сказано, не хватало ни мужества, ни досуга.
Он был рад, что у Бьянки завелись молодые друзья. Может быть, это обстоятельство радовало его тем, что оно как бы ставило жену в положение виновной.
Сам же он отстранился от всего и устроил себе комнату при больнице, где проводил теперь и ночи.
Обморок произвел перелом. Когда Карваньо увидел Бьянку на кровати, бледную, со свесившейся головой, в нем проснулся похороненный образ возлюбленной.
Истинное сближение мужчины и женщины, хоты бы имело оно место лишь в далеком прошлом, сохраняет над ними крепкую власть. Не только видимые их тела – невидимые тоже остаются взаимно связаны. Если два человека однажды насладились друг другом до дна, пусть судьба разведет их потом, сделает злейшими врагами, – довольно знакомого слова, и они опять принадлежат друг другу. Бывают минуты очень полные, которые выпадают из общего течения нашей жизни и почти независимо от нас начинают создавать свою собственную историю.
В минуту ее обморока Карваньо вновь узнал в ней возлюбленную, узнал забытую девушку. Образ ее обрел прежнее значение, – точно все эти годы ее не было здесь и только в эту минуту она возвратилась.
Когда он, неловкий и пристыженный, вышел из ее комнаты, его терзало сострадание и возродившееся чувство былого, такого короткого любовного единения. С этого часа он лишился сна.
Толпа, теснимая жандармами, захлестнула ступени перед Базиликой. Только портал с его мерцающими в неестественном свете мозаичными сводами оставался пуст. По этому свободному пространству врач метался взад и вперед. Впервые в жизни его застигла буря того страшного душевного и физического состояния, которое мы называем раскаянием. Раскаяние? В чем? Совесть еще говорила глухо. Но пот выступил у него на лбу, поры онемелой кожи широко раскрылись, он ощущал каждый волосок на теле.
Тогда-то и случилось, что телега с королем карнавала, промчавшись вокруг площади, подкатила к костру, и народ, прорвав слабую цепь полиции, ринулся с ревом на свободное пространство Пьяццы. В это мгновение Бьянка вышла из ворот. И опять неожиданная робость сдавила горло врачу. Он не посмел окликнуть жену. Она шла тяжелым, мерным, деревянным шагом. В первый раз Карваньо увидел, что беременность сказалась на ее походке. Бьянка шла сквозь поредевшую толпу, как будто никакой толпы не было и не надо было одолевать никакого сопротивления. Карваньо, напротив, следовал за ней с большим трудом, прилагая все усилия, чтобы не упустить ее из виду. Оставив площадь позади, она пошла по темным переулкам. Муж не понимал, куда она хочет выбраться. Она, как видно, не чувствовала преследования, не замедляла и не ускоряла шага, но ровным, неизменным темпом шла вперед и вперед; и эта равномерность глубоко беспокоила врача. Все больше путь ее в ночи становился похож на плутание по лабиринту. Карваньо ничего не видел, кроме силуэта мерно шагавшей женщины, но несколько раз у него создавалось впечатление, что она возвращается на прежнее место.
Так они шли по площадям и мостам, в невообразимом безлюдном просторе, где совсем не чувствовалось отголосков того, что творилось в этот час на Пьяцце. Прошли те века, когда карнавал разливался по всем улочкам и переулкам и нельзя было найти двора, где в воротах не стояла, не сидела бы или не лежала томная, забывшая обо всем пара; или такого освещенного дворцового окна, за которым, звеня по столу золотыми цехинами, не шла бы игра в «фараон».
В тот поздний год, когда все шло так тяжело, тяжелые и безнадежно спутанные чувства несли скитальцев сквозь мертвую ночь. Открылся широкий проход к Большому каналу. Бьянка подошла к самой воде и остановилась на плавучей пристани для пароходиков. Ночной прилив на море поднялся высоко и колыхал понтон в извечном стихийном ритме Венеции.
Женщина откинула за спину вуаль и дышала глубоко и спокойно, как спящая. Недвижно застыло ее тело на качающемся помосте. Казалось, она наслаждается баюкающей, материнской лаской воды. Она стояла и не вздрогнула, когда вдруг невидимый фейерверк – там, в стороне, – взорвался над пеплом короля. Яростная орудийная пальба далекой битвы, зарницы надвигавшейся грозы не трогали ее. У нее было лишь одно намерение – ждать здесь в оцепенении, проверить, встретит ли эта ночь свое утро.
Женщина качалась вверх и вниз вместе с качающимся помостом. И столько скорби было в этой картине – больше, чем во всем остальном, – что неистовая жалость охватила Карваньо.
Скупой на жесты человек, тяжелый, не знавший самого себя, подошел и низко склонился к рукам Бьянки, словно стыдясь показать свое лицо. Он говорил слова, которых не взвешивал, которые шли как будто из чужого сознания, говорил, маскируя рыдания горячностью тона. Обманутый муж сам винился.
– Моя Бьянка!.. Жизнь так жестока! Я не знаю, что произошло, но я один виноват! Я был холодный, трусливый беглец! Я тебя недостаточно любил! Я во всем виноват, что бы ни произошло… Только ты не молчи, не молчи так ужасно, Бьянка, как ты молчишь с воскресенья. Говори со мной, потому что я виноват! Говори со мной, потому что я тебя люблю!.. Я тебя понимаю.
Ни испуга, ни удивления не выразило лицо Бьянки, в нем ничто не шевельнулось. Звучным, равнодушным голосом она сказала только:
– Идем!
Гондола понесла супругов домой.
VII
В этот же день карнавала, через несколько минут после полуночи, произошло несчастье, обратившее в пепел часть коллекции Гритти. Столетний вернулся с Франсуа из оперы домой. Как еженощно, так и в эту карнавальную ночь он совершал обход своей сокровищницы. Мальчик-слуга – тот самый, что делил с маркизом спальню, – пошел вперед, зажечь в указанных ему залах свечи. В зале театральных программ он так неловко засуетился вокруг канделябров, что одна из зажженных свечей упала на раму. Мальчик хотел скинуть ее вниз своим шестом. Но при этой его попытке старое тонкое дерево рамы загорелось и пламя охватило висевшую ниже афишу.
Неловкий мальчик стал с таким остервенением срывать пылающую бумагу, что горящие обрывки полетели во все стороны и подожгли два других незастекленных плаката. Несколько секунд – и видение, прогнавшее маэстро в сочельник из этого зала, обратилось в действительность.
Зал был охвачен огнем, поднялся клубами черный, зловонный дым, от адского жара в окнах лопались стекла. Призрачно и с молниеносной быстротой, как жаждущий смерти Агасфер, весь этот хлам, наскучив жизнью, ринулся навстречу гибели.
Потерянный, окаменевший, как будто престарелое тело не чуяло опасности, ни страшного жара, ни удушливого дыма, маркиз стоял среди разбушевавшегося пламени. Слуги оттащили его прочь. Из соседней комнаты он тупо смотрел на зрелище уничтожения.
С показным усердием и шумом домочадцы и соседи, сбежавшиеся на пожар, бросились тушить огонь. Ведра грязной воды – холодный душ насмешливой реальности, – шипя, глушили шелест отживших вдохновений. В клекоте, хрусте, треске, пении и вздохах пожара послышался слабый отголосок рукоплесканий.
Старания залить огонь были, собственно, излишни. Горели только бумага да фанера, спасать уже было нечего, дому же опасность не угрожала, так как занавеси в зале отсутствовали, своды были каменные, а пол изразцовый. В четверть часа тысяча памятников тысячи ослепительных оперных вечеров была уничтожена. Домочадцы растерянно толпились в безобразно почернелом зале, полном копоти, вони и грязных потоков воды.
Прямой и совершенно спокойный, будто не постигая смысла этого зрелища, столетний смотрел на огненную казнь своих сокровищ.
Только его обычно бегающий птичий глаз и приплясывающий кадык в эти минуты не двигались. Но когда погасло последнее пламя и серый дым заклубился под потолком, маркиза охватил – чего с ним не случалось ряд десятилетий – небывалый приступ ярости.
От сознания утраты превосходно налаженный механизм превратился в человека. Маркиз отвратительно тявкал своим монотонным голосом, выкрикивал ругательства на всех языках Европы и, подскочив к злополучному виновнику пожара, стал колотить его своей эбеновой тростью.
Чемпион старости выказал неожиданную силу. Он разогнал всю челядь по углам – и нисколько притом не запыхался, и мускулы ему не отказали.
Ничего не оставалось у него на свете, кроме мании. И по ней, по его мании, судьба нацелила свой удар. Тут было от чего сойти с ума. В окостенелом теле вдруг обнаружились страдание и страсть, когда оно, казалось, только благодаря тому и жило, что эти признаки жизни давно его оставили. Но едва только жизнь коварно пробудилась в полной своей силе, она захотела воспользоваться случаем, чтобы улизнуть из чудесно придуманной машины, которая, наперекор всем правилам, держала ее в своем плену.
Припадок буйства у маркиза Андреа Гритти не стихал. Столетний расколол свою трость о стену, принялся душить мальчика иссохшими, но цепкими пальцами, пока тот не упал в обмороке на пол. Потом, точно уже позабыв причину, он начал бесноваться, крича в пустоту:
– Голытьба! Канальи! Якобинцы! Банда изменников! Картечью в бунтарей!
Он топал по полу, а рот его выталкивал одно за другим бранные слова давно отшумевших времен. Но два слова из уст Франсуа сразу укротили маркиза. Старый, дряхлый слуга подошел к нему, смертельно бледный, посмотрел ему в глаза и сказал только:
– Ваше сиятельство?!
Старец тотчас преобразился, схватился за пульс, сосчитал – и опустился в кресло.
Ага! Подлая смерть в этой вспышке поставила ему западню. Невозместимая жизненная сила растрачена зря. Израсходован трехлетний запас энергии, необходимой для дыхания, для биения сердца. Тошнота, холод, смертельная слабость поползли по телу столетнего.
Он закрыл глаза и силился вызвать в себе мощный волевой ток, который пронес бы его через смертельную опасность этой минуты.
Четверть часа спустя он знал, что тяжба выиграна. Правда, его организму нанесен большой вред и ущерб; потребуется много дней, чтобы мудро восстановить нерушимое равновесие. Но об утрате не следует больше думать. Надо во что бы то ни стало выиграть грандиозное пари, какого испокон веков ни один человек не держал против жизни, бога и черта. Рядом с этим страсть коллекционера не может не поблекнуть. Каждый человек обречен умереть. А он еще не умер!
Маркиз Гритти своим звонким нечеловеческим голосом приказал запереть выгоревший зал, ничего там не трогая, и ключ передать ему. Через час Гритти почувствовал, что теперь из последнего закоулка изгнана последняя тень жадной страсти.
Так и столетний уплатил свою дань таинствам карнавала.
VIII
Но горе мне! Родившись бедняком в беднейшей деревушке, я не имел возможности подобрать хотя бы крохи образования. Мне сунули в руки жалкий спинет,[77] и вскоре после этого я засел писать. Ноты и ноты – ничего, кроме нот. Вот и все. Но грустно, что теперь, на старости лет, я должен жестоко сомневаться в ценности всех этих нот. Сколько сожалений1 Какое отчаяние! Счастье еще, что в мои годы мне недолго осталось отчаиваться.
Из письма Верди к своей приятельнице, цитируемое К. БраганьолоМедленно пробивались друзья по Риве, где все еще теснился народ. В толпе сновало много масок, но они, казалось, мерзли, досадовали и чувствовали, что роль их сыграна – по крайней мере здесь, на людной набережной, – как будто вместе с фейерверком выгорел последний порох острословия. Каждый спешил поскорей уйти с протрезвевших улиц.
Вниз по каналу еще шел дополнительный пароход от Сан Заккарии. Маэстро проводил сенатора, пожелавшего сесть на этот пароход, к переполненным сходням. С криком, с давкой поток пассажиров хлынул на борт. Сенатор исчез среди других. Колесо запенилось, пароход отвалил от пристани, труба, порывисто дыша, извергала искры. Из густой и бесцветной толпы отсвет пестрых фонарей выдергивал маски – замученные анахронизмы на этом невеселом, дымящем и свистящем полуночном судне.
Беппо, поджидая своего хозяина, как всегда по вечерам, поддерживал огонь в камине. Маэстро отослал его спать.
Оставшись один, Верди вздохнул в изнеможении, как вздыхает человек, которому долго, часами, пришлось притворяться. Мучительно всплыл эпизод с Вагнером во время попурри из «Аиды». Маэстро передернулся. Ему казалось, что он никогда так жестоко не унижал свою гордость, как в ту минуту, когда его душа так горячо домогалась признания со стороны чужеземца. Вагнер, не задумываясь, одним взмахом руки отверг прекраснейшую вещь маэстро. Но он теперь не чувствовал никакой боли за свою вещь, никакого возмущения против врага. Его собственный внутренний суд решил неумолимо, непреклонно: «Приговор был суров. Но немец прав: время миновало. Довольно!»
Погруженный в себя, Верди стоял посреди комнаты. Никто не знал о нем правды. Сорок лет он с богатырским напряжением боролся за погибшее дело. Потому что опера, которую он унаследовал в ее расцвете, была погибшим делом. Никто не подозревал, до чего измотаны его нервы в этой безнадежной борьбе, до чего устал он от изнурительной службы! Как ни часто одерживал он победы, ими он только выигрывал время, чтобы прикрыть отступление. Он переходил под натиском врага от позиции к позиции. «Набукко» и «Ломбардцы».[78] Едва прозвучали они в своей новизне, в своей небывалой силе, как нетерпеливое время износило их.
Он изобрел новый стиль: «Эрнани». Эта опера прочно воцарилась на сцене, но, когда она еще царила, ее высмеивали, морщась, знатоки.
Он работал как зверь. Писал по две оперы в год, нащупывая правильный путь. «Макбет». Итальянская публика отвергла оперу как революционную и непонятную, а через несколько лет парижские критики отвергли ее как устарелый хлам.
Собравшись с силами, он дал «Битву при Леньяно». Она должна была явить нечто неслыханное. Стремительным ритмом бился в ней пульс освободительной войны. Она зачахла в триумфе премьеры. Ее противоположность – интимные, сладостно-печальные мелодии: «Луиза Миллер». Теперь она доживает свой век в провинции, где ее изредка дают в каком-нибудь захудалом театре.
Дальше, дальше, без передышки! Следовать бешеным законам переменной истины! За два-три года написаны «Риголетто», «Трубадур», «Травиата»! Улыбается надежда, что наконец достигнуто нечто устойчивое. Сейчас они полуживой пережиток того, чего больше нет.
Пришлось взять новый разбег: «Сицилийская вечерня», «Бокканегра», «Бал-маскарад». Они стоят одиноко на поле сражения, усеянном обломками отживших стилей.
Новый рывок: «Дон-Карлос»! Тысячи звуковых идей с болью подчинились неумолимой новой воле. Гигантская партитура, в которой не найти ни одного пустого такта, ни одной вялой фразы. Она стоила сотни бессонных ночей – между закатом солнца и тусклым проблеском парижского утра.
А что в итоге? В первый раз из газет и театральных фойе поднялось шипение, травля: вагнеровский эпигон! Всякая техническая тонкость, всякое усовершенствование гармонии связывали в то время с именем Вагнера, – а он, Верди, тогда еще не знал ни единой ноты немца!
И наконец, «Аида»! Последняя отчаянная вылазка из осажденной крепости. Вагнер ее осмеял. Ему-то легко. Не связанный никакими узами, он служит своему времени. Рожденный в стране, которая не знает никаких карнавалов, никаких народных празднеств, как не знает и подлинной души оперной формы, он может с легкостью презирать и рушить то, что ему не принадлежит. Не сказал ли он в одном своем трактате, как Верди слышал от Бойто, что немецкой музыке свойственно анданте, то есть темп спокойного движения? А ведь анданте – это как раз тот темп, который, по существу, противоречит опере: она живет тревогой, ускорением.
Все же анданте утвердилось. Так захотела итальянская молодежь. Из лона лицеев и консерваторий выходят сотни композиторов, пишущих не оперы, а германскую камерную музыку для рояля. Многие, сохраняя остатки былого почтения, посылают ему свои опусы. Попадаются среди них даровитые люди – некто Сгамбати, Босси. Но зачем они докучают ему своими вычурными изделиями с побрякушками из диссонансов? К чему? Они понятия не имеют, кто он есть. А он – последний итальянец. Он начинает понимать пессимизм сенатора. Их поколение сражалось при Фермопилах. Ныне век-людоед хочет сожрать и его, Верди.
Маэстро бросил взгляд на свои оперы, доставленные в его комнату, как полагал он, недогадливой любовью друга. Тетради разных форматов плотными рядами отвратительно теснились на этажерке. Ему вспомнилось, что, по подсчету одного досужего статистика, за первые тридцать лет его карьеры всего в Италии было поставлено пятьсот тридцать четыре новых оперы, из коих выжило только двадцать. По тому же подсчету, из этих двадцати двенадцать принадлежит Верди – чуть не две трети! Но так ли это? Разве «Набукко» еще живет? Нет, нет! Маэстро и вправду сражался за погибшее дело.
Кто видел, кто понимал, что он зачастую должен был мужеством, горением, хитростью спасать в тяжелом бою самобытные формы итальянского искусства? Спасать их наперекор смертельно враждебному времени, когда люди, разъедаемые внутренней гнилью, уже не верят собственной радости и берут под сомнение свой восторг. Десять раз ему удалось. На одиннадцатый – нет. Старый солдат стал инвалидом. Гибель его предрешена.
Сам толком не зная зачем, маэстро подходит к ящику, где спрятан вагнеровский клавираусцуг. Он достает ключ и отпирает дверцу, как бы говоря: «Вот – я даю тебе свободу». Но он не берет «Тристана», а возвращается к столу, к большой папке с нотами «Лира». Он думает: «Я пришел в неприютную Венецию, как в пустыню, чтобы здесь, в отшельничестве, выдержать последнее испытание».
Непроизвольным движением перебирает он кипу нот. И тут подвернулся под руку один из тех листков, на которых он время от времени записывал свои мысли. Он читает:
«Если у меня загорится дом и я, окаменев от ужаса, вспомню, что в одной из комнат мечется в смертельной опасности самый дорогой для меня человек, разве я стану давать спешащим на помощь пожарным длинные разъяснения, как им найти эту комнату? Нет, я попробую возможно ясней и короче крикнуть им лишь необходимое, чтобы они меня поняли, недвусмысленно поняли!! Так же должно поступать и искусство. Оно тоже – рвущийся из сердца крик о помощи. А какой же это крик о помощи, если он сам себя путает и, по сути, не желает, чтоб его поняли? Нет, нет! Такой призыв не порождается действительной нуждой!»
И ниже:
«Все они путают – все, все, все! Для них это не всерьез».
И со строгостью судьи маэстро добавляет:
«Я тоже путаю! Эта моя заметка тоже порождена не истинной потребностью, а неуверенностью и боязнью. Я тоже путаю».
Он еще раз обнимает взглядом плод тридцатилетнего замысла, десятилетней исполинской работы. Еще раз проносятся перед ним все эти такты, темы, пассажи, оркестровые интермеццо, бурные хоры, ариозо, речитативы, выкрики, цепи аккордов, похоронные и боевые марши, дуэты, терцеты, квартеты, такты a-cappella, финальные ансамбли, плачи. Яркой молнией встает уверенность: «Не удалось. Мешанина! Неудовлетворительно».
Маэстро смотрит на открытый шкаф. Делает в сторону «Тристана» молчаливый иронический полупоклон:
– Рихард Вагнер! Я не поступлюсь своею честью. Я умру старым оперным композитором!
Из потока болезненных, путаных образов подымается лиловый великан-причетник и трубит над площадью: «Карнавал кончился». Вой сирены. Это ночной пароход из Джудекской гавани пересекает лагуну…
И вдруг Верди подхватывает обеими руками кипу нот и кидает «Лира» в камин.
Некая дьявольская сила, все готовая принизить, не хочет, чтобы страстный подвиг полностью удался. Часть листков рассыпалась вокруг. Просто нестерпимо! Полузакрыв глаза, маэстро сгребает строптивые листы и швыряет их вслед за всеми в огонь.
Но и огонь – протрезвевший огонь наступающей «пепельной среды» – тоже бастует. Как в римском Колизее хищные звери пятились сперва от казнимых преступников, рабов и христиан, так и это пламя долго упирается и лишь вяло пощипывает толстую нотную бумагу.
С ужасом в сердце и со стыдом маэстро должен еще вдобавок взяться за кочергу.
Проворными пальцами пламя перелистывает страницы, пробегает по ним и освещает строчки, перед тем как скрутить листок. Несчастный должен опять и опять подталкивать в огонь то одного беглеца, то другого. Бесконечно долго занимается он этим дерзким убийством, покуда сладил наконец.
Он падает в кресло, он сам не понимает своего поступка. Изо всех дел, какие когда-либо он совершал против воли, это – самое страшное, самое безрассудное. Жатва целого десятилетия, в остальном бесплодного, тяжкий труд стольких ночей, неимоверное прилежание, отступившееся от радостей жизни, невообразимая смена отваги и уныния – его самая доподлинная жизнь – и всего как не было! Огонь медлил. Было еще время спасти. Он им не воспользовался.
Долгие часы маэстро не может прийти в себя. Его бережливой, любящей порядок природе непонятно безумие этого порыва. Он, который никогда не поступится даром ни единой крошкой своего обыденного имущества, который не терпит, чтоб его обманывал издатель или приказчик, он сам сейчас уничтожил свое самое ценное, единственно ценное достояние.
Только под утро он освободился от невыносимого оцепенения. На него нашло спокойствие. Это спокойствие достигнутого самоотречения. Спокойствие сменилось затем усталым и непривычным весельем. Это веселье после свершившейся жертвы.
Когда в комнату рано утром вошел слуга, маэстро хотел поручить ему упаковать чемодан, но передумал и решил повременить.
IX
Все, что теперь создается, есть продуктстраха.
Из письма Верди к Кларине МаффеиНа этом кончается история оперы «Il re Lear», которая при жизни и после смерти Джузеппе Верди так часто привлекала внимание европейских газет. Хотя, согласно завещанию маэстро, наследники должны были уничтожить все его музыкальное наследство – то есть все, что он сам не сжег, – легенда никак не хотела отступиться от неопубликованных произведений. Вновь и вновь поднимались голоса, утверждавшие, что ни один человек не посмел бы из уважения к воле покойного поднять руку на сокровища, принадлежащие всему человечеству.
Когда же несколько лет назад было обнаружено написанное рукою Верди либретто к «Лиру», газеты стали наперебой печатать всевозможные россказни и предположения: например, что в этом случае маэстро будто бы сам являлся автором текста, – что, впрочем, в значительной доле соответствовало истине.
Никто, конечно, не знал, что эта тетрадь, исписанная бурным почерком Верди, была той самой, что по счастливой случайности избежала огненной смерти, постигшей в Венеции, в ночь с шестого на седьмое февраля, шестьсот страниц партитуры незаконченной оперы.
Перед исследователем, желающим изучить историю этого произведения, открывается тридцатилетняя переписка, в которой снова и снова возникает разговор о «Лире». Письмо из Буссето, датированное первым февраля 1850 года, дает Каммарано-младшему (автору либретто к «Трубадуру») законченный и очень удачный в своей сжатости сценарий. Как всегда, маэстро вполне самостоятельно нашел тему и составил план, оставив на долю поэта только версификаторскую работу.
Три года спустя эта задача была снята с Сальвадоре Каммарано и поручена литератору более одаренному – Антонио Сомме. О совместной работе Верди с Соммой мы узнаем из обширной переписки, ярко свидетельствующей о неподатливости маэстро в вопросах творчества. Тридцать лет спустя он в письме к своему другу, художнику Доменико Морелли, в последний раз упоминает имя «Лир»!
О своих неопубликованных работах Верди если и говорил когда, то лишь очень скупо. Так и о «Лире» сохранилось только одно высказывание, которое маэстро позволил себе в первый год работы над ним, в час творческого упоения.
«В этой опере есть великолепные номера. Особенно хорош дуэт Лира с Корделией в сцене, когда они вновь обретают друг друга».
Как, однако, примечательно, что маэстро вышел из себя от гнева, когда этот дуэт так захватил сенатора!
Все указывает на то, что «Лир» был в целом закончен – в некоторых партиях вплоть до инструментовки и сценической отделки, – а многие номера и куски существовали даже в нескольких вариантах. Так как после «Аиды» маэстро не работал больше ни над какой другой оперой, кроме «Лира», он чуть не каждую сцену сочинял наново по два и по три раза.
Некоторые писатели и биографы уверяют, будто многие фразы, многие детали «Лира» воскрешены в «Отелло» и «Фальстафе». Зарвавшиеся психологи идут еще дальше и говорят, что Верди только для того и завещал уничтожить свое наследство, чтоб не могли обнаружиться эти заимствования. Мелкие души! Вместе с «Лиром» маэстро отринул от себя нечто большее, чем незаконченную оперу.
Пусть его изобретательная сила, его запас мелодий не были неисчерпаемы, пусть были скованы известными законами формы, отражавшими его душу, – все же, приступив к новым работам, он нарочито, с осознанной строгостью избегал того, чтобы в новые его произведения вкладывались цельные куски или хотя бы реминисценции из уничтоженной оперы.
Без малого семидесяти лет он в ночь венецианского карнавала совершил акт суровейшего самоотречения, творческое самоубийство, как думалось ему. Это означало (мог ли человек его возраста, совершив подобное, чувствовать иначе?) неумолимый конец его поприща. И тем горше было такое сознание былому баловню победы, что его противник, Рихард Вагнер, чужеземец, обесценивший все его творчество, еще жил, еще творил, шел вперед, всех непостижимо обгоняя и преображая мир, все безнадежней низводил своего ровесника Верди до уровня «легковесных» музыкантов, стремящихся к дешевому успеху.
Это была самая тяжелая резиньяция, какая побеждала когда-либо сердце человека.
Но тот эвдемонический принцип, который владеет людьми высокой творческой силы, направляя их на осуществление исторически необходимого, решил по-другому.
Глава девятая Власть судьбы
I
Как будто все еще под действием лунатического томления, которое она сама себе внушила, создавая образ Эвридики, Маргерита Децорци в ту же ночь стала любовницей Итало. Вернее, Итало стал ее любовником. Ей понравилось продолжать игру с красивым Орфеем. Она оставила его своим партнером до той поры, когда ей вдруг захочется оборвать игру.
Мужчина, любовь, приключение не могли глубоко задеть Децорци. Ее природа слагалась из двух элементов: из высокоорганизованного рассудка редкой остроты и из ненасытного стремления постоянно – и в жизни, как на сцене, – представлять нечто такое, чем она не была. Подобно лемуру,[79] который без заимствованного внешнего образа распыляется в ничто, она всегда спешила надеть на себя тот или иной облик, роль, костюм, лишь через них ощущая жизнь.
Однако эта игра была не только тягой к искусству – она составляла для Децорци необходимое условие существования. Зато и была дарована актрисе сила выразительности, умение слиться воедино с принятым на себя образом, которое уже в молодые годы создало ей большую славу.
Чем была она сама, Маргерита не знала. Уже несколько лет она хранила постыдную тайну, открытую ей врачом, к которому она однажды обратилась: органы материнства оказались у нее недоразвитыми. Редкое, в данном случае прирожденное, уродство. Маргерита смутно чувствовала, что в этом недостатке брал свои истоки ее талант, ее душевный склад.
Но она стыдилась своей тайны так глубоко, что не посвятила в нее даже мать.
Снедаемая беспокойством, она была обречена ежедневно на ста дорогах искать свое счастье. Не обладая полом во всей его реальности, она находила счастье лишь в коротком утолении неутолимого тщеславия. С нею было, как со всеми другими из той опасной породы людей, которые скитаются, как тени, меж двух полов, лишенные подлинной способности к чувству.
Она была красива, хотя, если вглядеться острей, ее лицо теряло. Но стан ее, как это почувствовал потрясенный Итало на том вечере у Бальби, обладал почти сверхъестественной грацией.
Единственным счастьем этого обездоленного существа было непрерывно, как в зеркале, отражаться в действии, производимом ею на других. И удивительно: чем больше она находила таких душ-зеркал, тем реальнее становилась сама, становилась образом, который представляла.
Поскольку она не была в полной мере женщиной, постольку не была она и распутницей. Ее стремление к славе и высокому воздействию, ее мужской научного склада ум не позволяли ей разбрасываться и способствовали развитию ее дарования. Благодаря тому что она никогда ни перед кем и ни перед чем не терялась, что все западни, поставленные женщине, не были опасны для нее, она сумела вскоре, к тридцати годам, получить всемерное признание и стать властительницей нью-йоркской Метрополитен-опера. Влюбленность Итало была для нее тоже только зеркалом – с отличным стеклом и в красивой оправе. Сперва ее нисколько не тянуло заглянуть в это зеркало, так как молодой человек показался ей совсем незначительным. Но потом ей стала приятна власть над ним. Когда Итало однажды в минуту страсти и терзаний рассказал ей о Бьянке, в ней проснулся интерес к нему и ненависть к его любовнице. Потому что она ненавидела всякую женщину, не носившую в себе проклятия природы.
Роль Эвридики решила все. Умная актриса сразу поняла, что реставрационные идеи графа были скучны и нелепы, что его живая картина, его ученый и недоходчивый замысел только и мог зародиться в мозгу дилетанта и не будет понят ни единым зрителем на огромной Пьяцце. И все же она согласилась: как истинный театральный талант, она не хотела отказываться ни от одной роли, хотя бы и самой неблагодарной.
Она играла Эвридику, она была Эвридикой. В эту ночь она не думала о далекой, разнузданной публике. Она для нее не существовала. Здесь ее публикой был Орфей, чья рука дрожала, чьи губы, скованные любовью и преклонением, не произносили ни слова. Этот театральный вечер был для Маргериты полон возбуждающей новизны. Ее партнером оказался не равнодушный, поглядывающий в партер коллега, о котором она знает, что за кулисами он будет неэстетичен, а беззащитный зритель, увлеченный сам. Взвинченная этим, она искренне была для него Эвридикой.
Когда вскоре после пьянящей полуночи они пришли вдвоем на квартиру к Децорци, актриса тотчас отправила спать свою мамашу, стеснительную дуэнью, которая, очевидно, так боялась дочери, что никогда не раскрывала рта в ее присутствии.
В небрежно убранной комнате, где стены сплошь увешаны фотографиями с дарственными надписями, Эвридика, закрыв глаза, тихо бредет впереди своего Орфея. Затканная звездами парча соскользнула с ее плеч. Вот она стоит перед ним – высокая, в одежде наподобие пеплума, в золоченых сандалиях-котурнах. Низко лежит на затылке перевитый серебряной лентой узел волос. Итало затаил дыхание. Эвридика, опьяненная тем, что может не быть Маргеритой, блаженно противится пробуждению в наземном мире. С тусклой улыбкой, как слепая, она подается вперед и медленно, неверными руками притягивает к себе задыхающегося юношу, обдает его запахом старательно подобранных духов. Она легко коснулась его губ.
– А теперь, мой друг, уходи!
– Уйти?! – простонал Итало.
Она все еще не открывает глаз:
– Да, иди туда, наверх, на землю!
– Маргерита, я… я не могу сейчас уйти.
Как мел по грифельной доске, заскрипели зубы мужчины. Эвридика испугалась.
– Ты должен уйти! Ведь ты рассказал мне о той женщине, которую ты любишь, которая любит тебя… там, на земле. Как ее зовут? Мы здесь быстро забываем.
– Бьянки нет.
– Ты думаешь, Бьянка не разгадала давно твой обман? Она была очень груба, очень неловка, эта ложь.
– Знаю! И я налгал бы еще в тысячу раз грубее и глупее, чтобы только быть мне с тобою рядом, с тобою…
– Она, конечно, была сегодня на Пьяцце, в первом ряду, эта женщина…
– Зачем ты мучаешь меня?
– Чтобы дать тебе свободу отступления, мой друг! Еще ничего не случилось. Ты ей солгал, но ты еще не изменил ей по-настоящему. Ложь она простит. Будь мужчиной, одолей свою трусость, сознайся во всем, спеши к ней! Иди!
– Я ее давно забыл. Я все забыл. Я дышу тобою!
– Ты любишь меня? Меня? Она женщина, она человек, она может чувствовать и страдать, у нее от тебя ребенок. Меня любить нельзя. Потому что я не такая, как эта женщина. Меня любить нельзя.
– Я умру, если ты будешь так говорить!
– Я тень, мой Орфео!
– Ты все еще играешь! Не играй!
– Я играю меньше, чем ты думаешь. Я в самом деле Эвридика, и среди мертвых я дома. Все проходит сквозь меня. Сегодня не завтра, завтра не сегодня. Тени не имеют памяти. Знай и это, мой друг.
– Завтра? Когда это – завтра?
Итало изведал нежданные объятия, фантастические ласки гениального существа, которое могло быть чем угодно, только не самим собою. Сам юношески скованный, он не понимал игры, ее холодной прелести. В наивной простоте он все отнес на свой счет: и дрожь нежданной встречи, пробегавшую по телу Эвридики, и ее трудное, захлебывающееся дыхание, и рывок, которым она прижимала его к себе или с болью от себя отстраняла, и жадный поцелуй, который она пила с его губ, и целомудренный испуг, когда его язык коснулся ее языка.
Бессонный внутренний глаз Маргериты наблюдал и холодно наслаждался этой великолепной властью, подчинившей себе каждое движение юноши, наслаждался совершенством игры, в которой актриса с изобретательностью настоящего поэта выявляла душу Эвридики. После бесконечных удерживаний, когда щеки орошались подлинными и наигранными слезами, лицедейка довела сцену до полного завершения.
Итало чувствовал, что он еще никогда не любил, что никогда еще не был любим. Что перед этими потрясениями прямолинейная страсть крестьянки, всегда, казалось, домогавшейся только зачатья!
Новое счастье открыло ему тайну его родного города, любовную тайну Венеции. Этот дом, эти все дома разве не были кораблями, которые молча качает нескончаемый ночной прибой, чтобы в мерном этом ритме любовь с ее последними восторгами, дозрев, обратилась в сон? И этот сон был не смертью, а растворением сознания в медленном и монотонном ритме: долгая мера, короткая! Долгая, короткая! Скольжение, истома!
Дома теснились, возносясь на сотне тысяч столбов и свай. И были эти укачиваемые прибоем, вросшие в непостижимые земные недра стволы исстари испытанными струнами исполинской, вечно вибрирующей арфы.
Нередко моряки проводили в драках удалые дни. Но снова и снова ночь кидала их на постель, и заклятие музыки, блаженное колебание под водою бесчисленных струн-стволов усыпляло усталые тела любящих. Итало заснул.
Бросив отчужденный взгляд на спящего в розовой дреме, певица оставила его одного.
II
Мне хочется здесь привести еще одно замечательное высказывание Вагнера – против проявлявшегося в ту пору легкомысленного пренебрежения к итальянской музыке: «Протяжная мелодия итальянской оперы не могла бы родиться из немецкой песенной игры, – она должна была возникнуть в Италии…
Так что Обер, Буальдье, да и сам я многому научились у итальянцев. Мой заключительный хор в первом акте «Лоэнгрина» ведет свой род скорее от Спонтини, чем от Вебера. И у Беллини тоже можно поучиться тому, что такое мелодия».
Г. фон Вольцоген, «Воспоминания о Рихарде Вагнере»До этого часа Итало в глубине души полагал, что возвращение к Бьянке ему еще не отрезано. Теперь же все решилось. Для Бьянки он должен исчезнуть из мира.
Теперь надо было только ни секунды не оставаться одному, выжать из настоящего последнюю каплю счастья, слепо ждать, что наступит дальше.
С тех пор как Эвридика скинула с себя звездную парчу, Итало почти не видел Маргериту. Она держалась с ним так официально, как будто ничего не произошло, равнодушно сторонилась его, желая, как думал Итало, быть завоеванной снова. Он точно потерял рассудок: не спал, не бодрствовал – ждал.
С утра до полудня он просиживал в театре Россини, где шли последние репетиции «Власти судьбы». Децорци не замечала его присутствия. Она репетировала. Театр был единственной подлинной действительностью, а прочее все – только сном, которому предаешься по прихоти или со скуки.
Но Децорци была не только дивой, не только талантливой дебютанткой, она была spiritus rector[80] труппы, она подсказывала капельмейстеру и режиссеру все новые идеи и даже изобретала разные тонкости для осветителя. Она нарочно выбрала именно эту очень популярную в Италии оперу, честолюбиво желая сделать из привычного необычайное, хотя ей самой при этом доставалась довольно скромная и, в сущности, неблагодарная партия.
Ей было лет двадцать пять, не больше, а между тем она пользовалась полным авторитетом. Перед ним склонялись даже старые, закоснелые певцы с установившимися навыками. Здесь, на репетиции, все лицедейское спадало с нее. Она была здесь творчески одаренным человеком, почти свободным от тщеславия. Придавая большое значение не только музыкальной и актерской стороне спектакля, но и мизансцене, она умела отступить сама на задний план, если общее впечатление от этого выигрывало.
Итало не везло с женщинами. Он всегда нарывался на таких, которые были выше его, превосходили его талантом или душевной силой. Подавленный величием Маргериты Децорци, он, не попрощавшись, потихоньку вышел из театра.
Миновав магазин «Сан Сальвадор», он остановился как вкопанный. Бог, которого он забыл в своем сердце среди горьких и сладостных волнений последних недель, шел один по дороге.
Как всегда, Вагнер вел монолог. Здесь, в Венеции, он стал как будто полнее станом. Короткое пальто, шляпа в руке, размашистая походка – ни дать ни взять старый моряк или судовладелец. Поступь его была тверда. По его упругим движениям чувствовалось, что он рад шаг за шагом брать во владение пространство, – избранник, которому ничто не может противостоять!
На глубокий поклон Итало немец пригласительно ответил взволнованным кивком. Он все утро провел в одиночестве, размышлял, писал философские заметки, и теперь в нем скопился избыток света. Он обрадовался, что встретил на дороге человека, чье имя он, правда, запамятовал, но которого знал в лицо. Кто бы он ни был, можно излить на него этот свет. Немой и угасший, совсем растаяв в чужих лучах, без собственной судьбы, Итало шел, сгорбившись, рядом с великим человеком.
Вагнер распростился с благополучно завершившейся цепью мыслей и, звонко рассмеявшись, перешел к новому предмету:
– Вот вы – итальянец! Вчера у меня вышел с друзьями очень занятный спор. Было при этом и несколько ваших соотечественников.
Итало в знак учтивого вопроса слегка повернул голову, избегая, однако, заглядывать в лицо своему кумиру. Вагнер разгорелся:
– Я защищал такое мнение, какого от меня никто не ждал. Но почему же? Ах, в этой жизни все – взаимное непонимание. Я очень часто в этом убеждался. И хуже всех понимают другого догматики.
Итало наклонил голову. Вагнер остановился, как бы готовясь взять разбег для речи.
– Мои друзья, по обыкновению, усердствовали над низложением итальянской оперы. При этом друзья-итальянцы не отставали от прочих. А я рассердился, меня оскорбило такое поношение. Да, я не могу выразиться иначе, – именно оскорбило.
Сделали еще несколько шагов.
Перед театром Гольдони композитор опять остановился:
– Бесспорно, в тридцатых годах, когда Россини решил замолчать, с концертно-образной мелодрамой было покончено. Ей на смену должно было прийти что-то новое – новая истина, и она пришла. Но что знает нынешняя молодежь о сокровищах, подлинных музыкальных сокровищах старой оперы? Легкомысленный Россини достоин всяческого уважения. Я никогда не упускал случая воздать ему должное. И я никогда против него не воевал. Его характерное знаменитое крешендо – великое достижение истинной драматической музыки. Бетховен очень хорошо сказал, что Фортуна подарила Россини самые влюбленные мелодии в мире. Сегодня я знаю, что для создания «Севильского цирюльника» нужны были сила и гений.
Итало поднял голову и очень удивленно поглядел на композитора, а тот ласково улыбнулся в ответ:
– Да, саго amico, и все вы, господа! Вам без труда даются композиции, всякие новые приемы искусства: увеличенные трезвучия, альтерированные аккорды и тому подобное. Оркестр «Гибели богов» – вот вы с чего начинаете!
Сердце Итало вскипело тщеславной радостью: Вагнер принимает его за композитора! На узком Калле дель Фабри немец опять остановился.
– Вам слишком импонируют эти второстепенные вещи. Я же, заметьте, когда начинал, я был во власти итальянской мелодии. Она была первым музыкальным восторгом моей молодости. У меня есть одна совсем забытая, вернее, затертая опера, в которой я прямо-таки с упоением отдал дань беллинианству. Еще бы – в двадцать-то лет! Но сегодня, через несколько десятилетий, я опять понимаю то, с чего я начинал. Это весьма примечательно! Но ведь эволюция человека есть всегда эволюция от новатора к реакционеру.
Если я напишу еще одну оперу, ее партитура будет еще прозрачнее, чем партитура «Парсифаля»! Да, скажу открыто: Беллини, как ни поверхностна у него фактура, был отцом широкой оперной мелодии с ее размахом и взлетом, которая определила всю последующую драматическую музыку. Я сам многим обязан ему и Спонтини. Еще в «Лоэнгрине», в хоре ликования, явственно напоминает о себе этот бесподобный воинствующий дуралей Спонтини.
Несколько прохожих шумной и дружной гурьбой оттеснили Итало от Вагнера. Когда юноша в смущении снова протолкался к композитору, тот как ни в чем не бывало, даже не заметив отсутствия своего юного слушателя, продолжал говорить. Итало услышал заключительную часть рассуждения:
– Правда, новые маэстро опошлили и выхолостили исконную форму. Они неубедительно и безвкусно напускают много ложного, дутого пафоса. И все-таки: надо улучшать, улучшать, мои почтенные синьоры! Я так и сказал им вчера. На днях, во время карнавала, я слышал, как духовой оркестр на Пьяцце исполнял фантазию из какой-то сравнительно новой оперы. Я этой вещи не знаю. Но это была настоящая музыка…
Рихард Вагнер запнулся и побледнел. В десяти шагах перед собой он увидел мясной ларек. Плотно нанизанные на железную жердь, свисали выпотрошенные и рассеченные надвое туши животных. Лицо композитора исказилось. Он быстрым кивком отпустил своего спутника и торопливо повернул назад. Итало испуганно смотрел вслед боготворимому композитору, но тот сразу исчез.
III
Кажется, газеты поднимают разговор о юбилее. О, пощадите! Изо всех бессмыслиц в мире эта самая наибессмысленная…
Если непременно нужно идти на уступку, предложите людям, чтоб они устроили юбилей через пятьдесят дней после моей смерти!
Из письма Верди к Джулио РикордиСенатор не отличался гибкостью ума, что довольно странно для филолога, поскольку он должен не только изобретать гипотезы, но подчас и отбрасывать их. Богатый на выдумку, он был, однако, в той же мере беден способностью к отбору и критике. Когда у него возникала какая-либо идея, он слепо следовал ей и уже не прислушивался к голосу, настаивавшему на проверке. Изо всех качеств, вредивших ему, это более других повинно было в том, что он, при всей своей порывистой силе, так рано застрял на мели.
За стаканом вина ему пришла в голову одна довольно простая идея. Недооценивая причины, вызвавшие у маэстро депрессию, он вдруг решил, что публичное чествование, народное признание должны ее разогнать. Сперва он сомневался в правильности этой мысли, но, по своему обыкновению, принялся сам себя убеждать, спутав свою собственную жажду видеть чествование друга с приятностью такого торжества для самого маэстро, который настрого запретил ему сообщать кому бы то ни было о его приезде в Венецию. Сомнения только утвердили сенатора в его упрямстве. Нечто должно произойти, – а что именно, этого он и сам еще ясно не представлял. Сенатор, правда, побаивался, как бы маэстро не уехал вот так сразу – надумал и снялся; и прахом пойдет тогда весь его замысел, которому он с каждым днем придавал все больше значения!
Но тут случилось нечто, что его крайне удивило.
Уступив настояниям сына, он однажды утром явился к маэстро с просьбой – такою, что он и сам мало надеялся на ее исполнение. А именно: он предложил другу двенадцатого февраля из глубины ложи посмотреть в новой постановке «Власть судьбы». Маэстро нисколько не рассердился. Он только спросил немного недоверчиво:
– Почему тебе так хочется, чтобы я пошел в оперу? Ты же знаешь, я теперь хожу только в театр марионеток.
– Мой Итало ежедневно бывает там на репетициях и рассказывает мне чудеса про эту Децорци. Я думаю, тебе следует ее послушать. Может быть, стоит пригласить ее петь Корделию на премьере «Лира». Не упускай ее из виду, Верди!
– Да, Децорци я охотно послушал бы. Если бы только она пела какую-нибудь другую музыку, а не мою! И потом – меня могут увидеть и узнать.
– В этом положись на меня! Ты будешь сидеть совсем один в большой ложе у просцениума. Даже и я не зайду к тебе туда.
Сенатор долго убеждал друга, что он не подвергнется ни малейшей опасности. Итало пожелал чего-то, что связано было с маэстро, и сенатору очень хотелось склонить друга к исполнению этого желания: он истинно страдал оттого, что его сыновья не считают маэстро величайшим человеком на земле. Верди не отклонил предложения и не принял, однако на всякий случай распорядился взять для него билет в ложу авансцены.
Засим сенатор отправился в муниципалитет Венеции и попросил у мэра аудиенции, каковая немедленно была ему предоставлена.
IV
Какой-то теплый внутренний голос побудил маэстро еще раз навестить семейство Фишбеков. Он чувствовал себя чуть ли не обязанным заботиться о судьбе молодого человека, чья музыка показалась ему абсурдной, но к которому он все-таки питал глубокое, ему самому едва понятное уважение.
Итак, он купил в детском магазине на Кампо Сан Лука игрушку Для мальчика и, смущенно взяв под мышку большой неудобный пакет, пошел пешком до Фондаменто деи Тедески, где нанял гондолу, которая отвезла его в более будничную и бедную часть города – Санта Катарина.
Маэстро застал красивого, слишком тихого ребенка одного в комнате. Дверь в квартиру была открыта, так как Агата, хлопоча по хозяйству, сошла на минутку вниз.
Все еще не совладав со своим смущением, Верди распаковал игрушку (это была тележка с возчиком и лошадью) и поставил ее на пол перед Гансом. Большая, дорогая вещь испугала ребенка. Он робко смотрел на нее и не решался приступить к игре. Неодолимая грусть была в его движениях, – более сильная, чем та естественная грусть, что присуща единственным детям, вынужденным жить всегда среди взрослых. Маэстро так хотелось показать свою любовь, привлечь мальчика к себе. Всегда, когда он видел Ганса, его охватывала страстная растроганность, тоска по утраченному, которая за последние годы, наперекор рассудку, все сильнее возрастала в нем.
Но шестидесятидевятилетний старик робел, казалось, не меньше, чем пятилетний мальчик. Они вели между собой односложный разговор:
– Ты доволен, Джованни?
– Да!
– Вот этим ключиком ты можешь завести тележку. Тогда она побежит.
– Да!
– Хочешь ты увидеть очень большой сад? Там есть пруд и лодка.
– Это твой сад?
– Да, мой. Ты должен приехать ко мне.
– Но только чтоб мама тоже поехала.
Горячее, до сих пор таившееся в тени желание усыновить мальчика, всегда иметь его подле себя вдруг всплыло и стало отчетливым. Дом оживет, потому что этот голос будет делаться все веселей – непременно! Этот голос не должен встречать никаких запретов. Ребенку даже дозволено будет врываться из сада в кабинет через высокую стеклянную дверь. Вот за ним вбегают три большие собаки… Но Пеппина? Не стара ли она, да и сам он не слишком ли стар? Будет ли ребенок счастлив с ними? Можно ли будет оторвать его от родителей-чужестранцев? Они никогда не согласятся. Никогда! Мимолетная страстная мечта похоронена.
Маэстро посмотрел вокруг. Комната производила совсем иное – более бедное, голое впечатление, чем несколько дней назад, когда его здесь ожидал накрытый стол. И даже тот провинциальный мещанский порядок – с цветами на подоконниках – сегодня не ощущался.
Пришла Агата, схватила гостя за руки, и снова в пожатии женской, загрубелой в работе руки он угадал молчаливый призыв. Он смотрел на девичье лицо с гладко зачесанными волосами, с высоким изящным лбом, со стертыми чертами, смотрел в эти ясные глаза – и видел, как хотят они выдать тайну, но робость все подавляет.
Женщина села против него. Ей стоило большого труда сохранять молчание, заговорить же она и вовсе не могла.
Маэстро спросил о Матиасе. Агата переплела теснее пальцы, потупила взгляд и с северным акцентом, округляя и проглатывая гласные, сообщила:
– Мужу нехорошо. Но он сам не знает этого, не хочет знать. В этом весь ужас! Он был на карнавале. С тех пор его сильно лихорадит, очень сильно. Он все время так возбужден, что просто непереносимо! Он не может и часу высидеть дома, не желает лежать. Ах, прямо приходишь в отчаяние. Вы его сейчас увидите. И потом… он пережил за эти дни большие разочарования.
– Что говорит ваш врач?
– Мы уже довольно давно не видели доктора Карваньо. Но я чувствую, что он всегда только утешал меня!
Агата сказала это, и вдруг у нее вырвался жалобный стон, короткий и тихий. Потом, не переводя дыхания, она прошептала:
– Я, право, уже не знаю, как мне ему помочь!
Нужно было немедленно что-то сделать. Но очень деликатно, с большою чуткостью. Невозможно было бы – безобразно, невообразимо! – предложить этим гордым людям деньги. Маэстро напряженно думал, выискивал способ.
Тут в комнату вошел и сам Фишбек. За несколько дней он разительно изменился. Коварная болезнь, долгие месяцы так хорошо скрывавшая свою сущность, теперь как будто прорвалась, раскрылась и горела в сухих расширенных зрачках, горела в лиловых пятнах, выступивших по всему лицу. Даже лоб отмечен был разрушением, как у слепого, а волосы, раньше такие мягкие, теперь стояли торчком, точно с перепугу, или же падали слипшимися путаными прядями. Лицо резко распалось на две половины. Верхняя выражала мечтательность, нижняя – упорство и ожесточение. Фишбек радостно рванулся навстречу маэстро.
– Чудесно, чудесно, господин Каррара, что вы пришли! Поверьте, я страшно хотел вас видеть. Я уж думал, что оттолкнул вас от себя. Это моя вечная судьба. Какой я, должно быть, противный человек! Но вы пришли!
Немец крепко держал руку мнимого Каррары.
– В эти дни на меня так и валились несчастья. Все пошло вкривь и вкось. Не спрашивайте меня, господин Каррара, не спрашивайте! Так и должно быть! Это дань, которую я плачу за то, что я так убежденно иду своим путем. Бедняга Агата, товарищ мой! Крепись – теперь уже недолго!
В охватившем его возбуждении он вспомнил о ней! Агата, не привыкшая, чтобы муж замечал ее существование, остановила на нем пристальным взгляд. Но он не стал задерживаться на чувстве благодарности.
– Нет мне счастья в игре, ни крошки счастья! Все ожидания провалились. Но боже! Ведь быть удачником – это не что иное, как родиться на свет с внутренней склонностью к компромиссу. Видно, не таков мой удел!
Маэстро внимательно смотрел на молодого человека, до того Уверенного в своем избранничестве, что он без стеснения произносил самые высокие и нескромные слова на свете, хотя ничего не создал, кроме лишь невразумительной фортепианной музыки с заголовками под старину, – музыки, которая сегодняшнему миру должна была казаться шарлатанством или бредом. И все же трезвый старый скептик, который обречен был, не успокаиваясь, идти от вещи к вещи, от этапа к этапу, который три ночи назад сжег исполинскую партитуру «Лира», верил сейчас этому молодому композитору. Эйфорическое возбуждение Фишбека все возрастало:
– Я знаю, господин Каррара, что вы пока еще не можете воспринять мою музыку. Но терпение! Терпение! Верьте мне! У вас есть – я могу поклясться – у вас есть чутье на истинную музыку. Пока еще подлинную мелодию услышать нельзя. Но по мере того как чувственное, жадное, суетное современное «я» отпадает от меня, я слышу ее все явственней, чую, как она течет во мне чистым током. Нет, нет! Не эти танцевальные мотивчики, веселенькие или ходульно-торжественные, которые теперь называют мелодией, – слышу чистый, безличный мелос, заповедь…
Фишбек должен был сесть. Его колени так сильно дрожали, что все тело в этом приступе закачалось. Он устремил глаза в пустоту.
– Какая мука ходить по улицам! Все, что видишь, оскорбляет тебя. О, эта невыносимая, скотская грязь современной жизни: солдаты, истязатели животных, погибающие без помощи люди, дети в лохмотьях, грубая похоть; у мужчин лица барышников, у женщин – проституток. Ужас! Мне часто чудится, что мой жребий – броситься под этот бешеный курьерский поезд. Знаете, господин Каррара, много десятилетий тому назад у нас в Германии был один великий поэт, который сорок лет прожил в безумии. Но это было не безумие, а лишь особая форма выявления собственной чистоты среди окружающего содома. – Фишбек, сидя на стуле, потянулся, выставил ноги вперед, откинул голову. – Но можно и умереть!
На одно мгновение заносчивость немца опять покоробила маэстро, хоть он и знал, что с ним говорит больной. Короткий взгляд попробовал проверить, не кроется ли в словах Фишбека доля хвастовства и рисовки. Но одновременно возник и незаконченный план помощи. Влажно-синие дальнозоркие глаза опять улыбнулись из сети морщинок:
– Вы правы, милый Фишбек! Я не могу вникнуть в вашу музыку. Мне, к сожалению, не дано ее понять. Но, как я ни отстал от века, все же одно для меня несомненно: не один лишь консонанс – диссонанс тоже вполне закономерное средство музыкального выражения. Мы, вероятно, только из косности считаем благозвучным лишь определенное число гармонических сочетаний. Музыка должна лежать по ту сторону всех школ. Теоретически я с этим вполне согласен, но я человек и не свободен от этих жалких, конечно, привычек, прихотей, ограничений.
Но ведь есть на свете люди более передовые, чем я. Найдутся такие и среди моих знакомых, даже друзей… И что меня в данном случае особенно радует: они играют видную роль в нашем музыкальном мире. Словом, милый Фишбек, я срочно послал ваши ноты кое-кому из моих друзей с просьбой высказаться о вашей музыке, так как сам я не могу о ней судить. Может быть, эти высокие умы поймут то, чего я не в силах понять. И тогда, несомненно, будет сделано все, чтоб ваши произведения увидели свет.
Маэстро сказал эту ложь, сам еще в данную минуту не зная, осуществится ли она и как. Но он был доволен ею, чувствуя, что она открывает благородную возможность неоскорбительной помощи. То, что Верди так часто наблюдал у презирающих славу и признание неудачников в минуты, когда перед ними забрезжит заря успеха, то случилось и здесь. Тихим и жадным голосом Фишбек спросил:
– И есть надежда, что мои вещи будут напечатаны?
Маэстро быстро решил, что сможет, если не представится другой возможности, издать ноты на собственный счет. Он ответил деловито:
– Если я не ошибаюсь в своих друзьях, среди которых есть один издатель, то такая надежда, милый Фишбек, не исключена.
Матиас Фишбек молчал. Потом, вдруг остыв, он перевел разговор на другое, попробовал высказать полное равнодушие, вследствие чего заговорил с маэстро не так сердечно, как раньше.
Но и это было знакомо Верди по старому опыту: благодеяние, поддержка, помощь встречают плохой прием, – как будто, делая добро другому, человек утверждает этим свое превосходство.
Матиас становился все более неприятен. Он судорожно стиснул зубы. Злое желание оскорбить сдавило ему горло. Правда, добряк Каррара очень умный и порядочный человек. Не нужно бы его обижать. Но беспричинная злоба не желала угомониться. И он процедил сквозь зубы несколько дерзостей о жалкой мрази, об истасканной фразеологии и об импотентных стариках, преграждающих дорогу всему новому.
На одно мгновение между бровей маэстро показалась жесткая складка, та, что сразу поставила на место Сассароли. Но он тотчас же понял правду. Вот оно – оскорбленное, неутолимое честолюбие молодости, которое испокон веков вызывало революции, иконоборство, патетическую мировую скорбь и новое пророческое кликушество! Так повелось у людей.
И тут Верди рассмеялся. Рассмеялся так же беспричинно, как беспричинно обозлился Фишбек. Поначалу иронический, смех его становился все более добродушным, теплым и стал наконец совсем сердечным. Он произвел волшебное действие. Смеялась Агата, смеялся Фишбек – с удивлением и облегчением, потому что ему до боли стыдно было своих безобразных слов. Непривычным взрывом веселья вторил смеху взрослых ребенок.
Маэстро посадил Ганса к себе на колени.
Но перед уходом он вдруг сделался очень строг:
– Ложитесь в постель, Фишбек. Вы больны. Вид у вас прескверный. С вашей стороны преступление выходить на улицу. Завтра или послезавтра я загляну к вам опять. Обещайте мне, что вы образумитесь и не будете выходить из дому.
Очень неохотно и смущенно Матиас дал обещание.
Когда маэстро спускался по лестнице, где пахло свежей штукатуркой, он услышал за собой шаги. В дверях подъезда он обернулся и увидел госпожу Фишбек, неподвижно стоявшую на предпоследней площадке. Он ждал, не скажет ли она что-нибудь. Но она, не поклонившись даже, поспешно убежала наверх.
В тот же день маэстро послал слугу в венецианское отделение своего банка и затребовал крупную сумму, которую, однако, могли ему выдать только на другой день.
V
Спокойствие, которое почувствовал маэстро после уничтожения «Короля Лира», вскоре исчезло. Оно сменилось страшной, неотступной тоской. Однажды в прошлом он вот так же сдался. Но тогда он сумел натянуть на голову тяжелый покров глухоты и забыться. Теперь это не удавалось. Впервые в жизни он не мог стряхнуть с себя постоянную вялость, в теле его жило ощущение тяжелой потери крови, в душе – непонятное томление по дому, бессмысленное, как думалось ему. Неужели он окончательно стал добычей старости?
Одиночество, раньше освежавшее, дававшее ему счастливое единение с самим собою, теперь пугало. Но он не меньше боялся возвращения в Геную, встречи с Пеппиной, с друзьями. Никому он не сможет довериться. То, что он узнал и прочувствовал за последние дни, было слишком тонко, слишком сокровенно, чтобы можно было предать это бесстыдной грубости слова. Он сохранит в тайне судьбу сожженной оперы.
Десятилетняя смертельная болезнь кончилась, теперь нечему больше прийти, кроме агонии, ожидания смерти. А так как тело его крепко, все органы способны к сопротивлению, то, значит, агония может тянуться долго, долго!
Каждый творческий момент у человека – это намагничивание своих духовных и чувственных элементов, неожиданное переустройство этих элементов в сверхчувственный инстинкт. В действительности человеку не дано творить, ему дано только находить. Ошибочно думать, будто музыку сочиняют. Мелодии существуют. Их нельзя произвести на свет, их можно только открыть. Они в своем мире то же, что в нашем мире – скрытые под землей родники. Гениальность – это способность человеческого существа в известные мгновения превращаться в волшебный жезл. Не более того.
Несравненно и безмерно счастье таких мгновений. Но есть ли горшая мука для человека, чем утрата возможности находить изначальные, независимые родники, которые он в течение полувека мог открывать, обернувшись волшебным жезлом?
Маэстро оказался в положении человека, который вследствие увечья утратил чувство пространства и не знает, что далеко, что близко, что внизу, что наверху. Орган, позволявший ему ходить в лунатическом неведении, был тяжко поврежден натиском насмешки, ненавистничества, развенчивания, высокомерным выступлением на сцену того, что угодливый Филиппо Филиппи назвал «большим искусством». Документ, свидетельствующий о болезненном возбуждении, о том, что все мерила спутаны, именовался «Король Лир».
Как и другие композиторы того времени, Джузеппе Верди в годы работы над «Лиром» не избежал типической отравы олитературивания и усложнения музыки. На этом отрезке его жизни помрачилось и его ясное, в основе своей безошибочное, художественное чутье. Теперь он считался не только с чисто звуковыми представлениями, но и с графическим образом партитуры. В пору ослабления своих жизненных сил он временно подпал под власть тщеславного лозунга эпохи: «L'art pour l'artiste».[81]
Он перестал понимать свои старые, сердцем найденные мелодии, он их теперь ненавидел так же люто, как его враги. Совращенный, он старался не только чувствовать их, но и видеть. А видел он четырехтактные, строго симметричные периоды с марширующими под команду мотивами.
Но роковая работа уничтожена. И вот случилось нечто неожиданное. Старые мелодии, старые арии – как будто нотная пустыня «Лира» глушила и давила их своими зыбучими песками – стали теперь подниматься, оживать. Маэстро приписывал это нервному переутомлению. Но в эти дни не проходило и четверти часа, чтоб ему не вспомнился тот или другой напев из «Травиаты», «Макбета», «Бокканегры». И они ему вспоминались не зрительными образами, не цепочкой нот, а тем, чем были в действительности эти мелодии – существами иной природы, избравшими его лишь как передаточную среду. Он вовсе и не думал о том, что когда-то сам написал их. Они его приветствовали как совершенно чужие творения. Как перелетные ласточки проносились они в его мозгу. Они в нем больше не нуждались. Он их едва узнавал.
Для него были новы эти испетые мотивы. Вся грязь и весь пот театра, вся слюна человечьих глоток отпала от них, и они встречали его в своем чистом невыхолощенном значении.
Как всегда, он совершал длинные прогулки по венецианским улочкам. Как-то на одном повороте вдруг запела в нем широкая, неисчерпаемая любовная мелодия «Травиаты». Запела так властно, что он остановился и зарыдал. И сразу смолк, очень удивленный: что же это значит? Однако эти вспышки только усиливали его страшное томление, тоску по дому. Они напоминали об его утрате.
Но, может быть, и они способствовали тому, что после долгих колебаний он решил послушать два-три номера из своей «Forza del destino».
Вечером двенадцатого февраля, в начале десятого, он отправился в театр Россини. По дороге маэстро раздумывал о том, как еще во времена «Аиды» он не допустил бы, чтобы какой-нибудь театр поставил его вещь, не предъявив ему наперед списка исполнителей и не сообразовавшись со всеми его пожеланиями. Ему вспомнилось, как он жестоко ссорился с фирмой Рикорди, когда из-за какой-нибудь режиссерской затеи нельзя было исполнить его требование. Он нес ответственность за каждую ноту – даже когда вопрос стоял о внешней ее передаче. Всюду подвохи, того и гляди что-нибудь вырежут! Приходилось вести нескончаемую войну с гнилостью театральной рутины, с тупостью певцов, с наглостью дирижеров, с жадностью антрепренеров, – войну, которая каждый год, когда надо было заключать контракты, выматывала нервы и разъедала мозг. Но он не желал сдаваться. Он должен был начиная с первой оперы бороться за свое творчество, защищать его от врагов – на родине и за рубежом. На склоне лет его юношеские партитуры причиняли ему непрестанные мучения, из-за них он зачастую среди ночи вскакивал с постели в отвращении, в ненависти к самому себе. У него не было почти ни одной оперы, которую он не пробовал бы обновить. Память его не прощала ни одной погрешности. До последних лет при каждой новой постановке он по собственному почину неустанно перерабатывал свои произведения.
Это кончилось. Как тираничный воспитатель, он долго следил за нравом своих уже поседевших воспитанников и направлял их пути. Но теперь у него не осталось к тому ни силы, ни охоты. Они должны доживать без него и без него умереть.
Маэстро не чувствовал и тени прежнего жгучего волнения, бывало владевшего им, когда он отправлялся слушать свою музыку. Он шел сейчас в этот театр Бенедетто, или Россини, чтобы не быть ни в одиночестве, ни на людях, чтобы как-нибудь облегчить себе последние вечерние часы в Венеции. Он решил завтра в ночь уехать. Пребывание в Венеции открыло ему глаза. Не зря он сюда приехал. То, что в Генуе, подле жены, в успокоительном уюте второго этажа Палаццо Дориа было невозможно, то, что он там всегда отгонял от себя, – сознание конца, здесь, в чужом городе, было достигнуто. Убийство «Лира» свершилось. Здесь больше нечего делать.
Завтрашний день он решил посвятить тому, чтобы в меру возможности обеспечить Фишбека и его семью. Если он не придумает ничего другого, он просто пришлет им анонимно крупную сумму. Маэстро досадовал, что в этом случае помощь сведется к деньгам – холодное и безличное средство. Но попытка поддержать музыканта на его творческом пути, помочь ему выдвинуться не обещала успеха. Впрочем, он еще не уяснил себе, что он сделает завтра.
Когда Верди вступил в правую ложу авансцены красивого театра, уже подходила к концу вторая картина оперы. Он опустился на мягкую скамеечку, прикрепленную к левой, идущей наискось стенке ложи. Здесь даже при полном освещении никто не увидел бы его; и все-таки он не мог преодолеть беспокойного чувства, какого-то стыда – точно он голый на людях. С одного взгляда он дал оценку капельмейстеру и оркестру. Капельмейстер, молодой человек, оказался пыжащимся ничтожеством. Оркестр был мал, чуть не жалок: три контрабаса, столько же виолончелей и альтов, несколько скрипок да самое необходимое из духовых инструментов – деревянных и медных. При других гастролях те же музыканты играли по вечерам в расширенном оркестре Ла Фениче.
Все то же неизбывное итальянское убожество. Государство отказывает в субсидиях, театр и оркестр обречены на гибель. То, что сенатор постоянно с глубокой горечью ощущал в политической и общественной жизни, то же и с тою же горечью наблюдал маэстро в жизни театра: мертвый, безрадостный исход национальной революции! Дар негодования, того «грандиозо» и «фуриозо»,[82] который свойствен итальянцам больше, чем всякому другому народу, казалось, исключал последовательность и постоянство. За эти совсем не итальянские качества – постоянно и последовательность – Верди любил невидного, скупого на жесты Кавура и даже предпочитал его Гарибальди – обаятельному герою, чудесному цветению италийской земли.
Гарибальди, единственный гомеровского склада человек XIX века, витязь младенческих дней истории: юнга на корабле, американский генерал, победитель французов под Римом, спаситель Сицилии и Неаполя. Ребячливый диктатор, преисполненный воли установить тысячелетнюю державу, тяжело раненный солдатами того короля, для которого он, республиканец, сам таскал каштаны из огня. Отшельник на своем острове Капрера, шут, потешающий детей, и писатель, богочеловек и добыча снобствующих англичанок! Он совершает неслыханные похождения и легендарные подвиги, чтобы в конце концов, обманутый во всем, кончить блистательный жизненный путь мужем своей экономки и автором посредственных романов. Если кто-либо из людей нашего времени соответствует античному понятию «герой», то один лишь Гарибальди; и тем не менее он любил щеголять в театральном костюме, в иной обстановке просто немыслимом: красная рубаха, белый плащ и фантастический головной убор! Чистейшее сердце, чуть тронутое наивнейшим тщеславием, нуждается в таком картинном жесте.
И Кавур, другой полюс романской души: страстно-холодный, хитрейший из всех патриотов, дальновидный в своих замыслах. Сам черт не отвратит его от цели. Монархист до мозга костей (может быть, только потому, что ему ненавистен утопический образ мыслей, бледное высокое чело республиканца Мадзини), он однажды в припадке гнева нанес, говорят, крепкую пощечину своему королю, Виктору-Эммануилу. Он чурается героизма как быстро выдыхающейся лжи, с виду похож на омещанившегося профессора и трезв, как англичанин.
Верди видел в графе Камилло Кавуре благо Италии и любил его, как никого другого. Почему? Потому что трагическая борьба, отметившая возвышение Италии, борьба между Гарибальди и Кавуром, есть в то же время борьба в душе самого Верди, чей гений повторяет в малом великий конфликт, потрясший его народ и эпоху.
Гарибальди – это сердце Верди, его кабалетты, его неистовые гимны, захватывающий энтузиазм его хоров и финальных ансамблей, слезы, которые он проливает над горбатыми шутами, над гонимыми цыганами, парижскими проститутками и темнокожими рабынями.
Кавур – это неизбывное стремление Верди к развитию и цели, его суровость к самому себе, его неудовлетворенность и неустанное самоистязание.
Гарибальди – красота, героизм, опера – его исконное достояние. Кавур – его нравственная устремленность к цели, вечно меняющейся в неудержимом беге времени. Как убежденный моралист, он должен был любить не то, чем обладал, а только то, чего хотел достичь: не Гарибальди, а Кавура.
Верди смотрел вниз, на жалкий оркестр, и не мог подавить вскипевшего гнева. Не ложь ли этот вечный разговор об итальянской нищете? С тех пор как премьером стал Мингетти, застарелый дефицит в государственном бюджете сменился значительным избытком доходов. Так разве же необходимо, чтобы государство, швыряя деньги на тысячи модных показных затей, предоставляло театру попросту погибать? Маэстро не раз стучался в двери различных ведомств, хлопоча о поддержке хотя бы для Ла Скала. Тщетно! Ему так и не удалось добиться субсидии даже на самую неотложную переделку зрительного зала и сцены. Оркестр знаменитого национального театра помещался слишком высоко, оборудование сцены не отвечало требованиям и до смешного устарело, система освещения пришла в упадок.
Маэстро с горечью вспоминал виденные им немецкие оперные театры. Правда, спектакли проходили там вяло, без крови и нервов, зато во всем царили серьезность, порядок, достоинство. Зрительные залы полны, оркестры большие и звучные, сцена оборудована по последнему слову парижской техники. А ведь в Германии свыше сотни городов, и все они прекрасно содержат свои театры. Маэстро подозревал, что этот безучастный эгоизм, равнодушие, рутина были отчасти повинны и в его закате.
Он недовольно перевел взгляд на сцену, где с грехом пополам из нелепо размалеванных кулис и допотопного реквизита была сооружена деревенская харчевня. Но досада сразу прошла, потому что в картине было много жизни. Не мог он отступиться от старого своего обычая всегда принимать сторону высмеиваемого и презираемого. Увидав перед собой живую сцену с подвыпившими солдатами и пляшущими девками, с развеселившимися студентами, маркитантками, коробейниками и погонщиками мулов, он вспомнил своего злополучного либреттиста, давно уже сошедшего в могилу. – Сколько бы ни вышучивали твои стихи, мой добрый Франческо Пьяве, по части сценической фантазии ты не уступал никакому Скрибу!
Начался номер, который маэстро, когда бывал настроен снисходительно, всегда особенно любил, потому что голоса в этом номере, хотя велись свободно и независимо друг от друга, все же создавали сладкозвучную гармонию.
Под окном харчевни, являя резкий контраст разнузданному веселью солдат и девок, проходит шествие паломников. Доносятся звуки «Ave Maria». Хор паломников дает несколько разрозненных тактов. Прециозилла, гадалка-плясунья из солдатского лагеря, падает на колени и поет «Preghiamo»,[83] отсюда развивается так называемая прегьера, то есть молитвенная песнь или хор, – форма, утвердившаяся в итальянской опере с неаполитанского периода.
Незадолго перед тем на арену грубого веселья вышла переодетая в мужское платье несчастная любовница, героиня оперы. Робко И смущенно Леонора стоит в стороне, у дверей, и раздумывает – бежать ей или остаться? Хор богомольцев за окном и хор мирян бросают перекрестные возгласы. Но мужские голоса снаружи берут верх: «Santo spirito, Signor pietа».[84] И вот оба хора встречаются в едином мощном призыве: «Дух святой, избави нас от мучений ада!» При словах «от мучений ада», покрывая гармонию хора, независимо от других голосов, запевает Леонора: «Спаси меня, избавь меня!»
Она поет только один мелизм, спадающий вниз от верхнего «си», но эта короткая музыкальная фраза трогает до слез. Возглас Леоноры оживил другие сольные голоса. Прециозилла в порыве сестринского сострадания находит несвойственную ей нежную мелодию. Леонора снова и снова повторяет свое «Спаси меня, избавь меня», каждый раз на новый мотив, исходящий, однако, из первоначального, – пока фраза не развертывается наконец в широкую мелодию, которая, пересилив все другие голоса, возносит ввысь раскованное сердце.
Номер вызвал бурные аплодисменты, говорившие опытному театралу, что публика заранее склонна воздать Децорци и ее труппе дань восхищения.
Сам маэстро был несколько разочарован. Он с некоторых пор слышал о Маргерите Децорци как о восходящей звезде. Правда, ему понравилось, что певица, далекая от обычной заносчивости примадонн, отступила в этой сцене на задний план и тихо, не утрируя игры, стояла в тени. Но голос, лишенный, казалось, блеска и сочности, не выполнял основной задачи, какую Верди ставил перед сопрано: развиваясь из тихого зарева в мощный свет, перерастать гармонический сумрак всех остальных голосов.
Как ни был он в эти дни захвачен обаянием старых мелодий, то, что он услышал пока из этой оперы, оставляло его холодным, было забытой старой музыкой, и в нем не раз пробуждался критик, точно создал ее кто-то посторонний, безразличный для него.
Но уже со следующей сценой безразличие исчезло. Декорация в Удивительно удачном освещении изображала рассвет в горах: слева – часовенка богоматери, справа – мрачная громада монастыря. Оркестр выводил лейтмотив судьбы: быструю четырехнотную фигуру, которая упрямо повторялась, отстукивая свое предостережение, как бьющееся сердце беглеца.
Бесподобен был выход Децорци! В изнеможении, словно всю ночь, подгоняемая темнотой, бежала она вверх по каменистой лощине, Леонора вдруг появилась у рампы в сером свете зари и стояла без дыхания, закрыв глаза. Потом сделала из последних сил несколько шагов, прислонилась в полуобмороке к стене часовни: большая шляпа и плащ соскользнули к ногам, открывая фигуру девушки в темном дорожном кафтане дворянина восемнадцатого века, в высоких ботфортах. Застыв в этой позе, она выговорила слова короткого речитатива:
«Я здесь. Благодарю, о боже! Здесь мой последний приют».
В это короткое явление было вложено так много жизни, такое необычное толкование ситуации, что маэстро был поражен. Даже его лучшие исполнительницы, как Терезина Штольц, не решались в этой сцене подойти к рампе и в немой игре отчаяния ждать своего номера.
Но тоньше всего чувство стиля и художественное понимание Маргериты Децорци сказались в том, как она дала переход речитатива в романс. Воодушевленная присутствием Верди (скажем к слову, она честно сохранила тайну), в этот вечер она достигла того, что не удавалось ни одной певице ни до, ни после нее: быть реалистичной, не нарушая ирреальность оперы, служить опере, не оскорбляя правду.
Ее «Оставь меня, беги!» было еще необузданным выкриком, брошенным в лицо судьбе, но заключительное morendo[85] в нескольких отрывистых нотах создает стон с чуть заметным призвуком рыдания, и этот стон предваряет упрямую сопроводительную фигуру начинающегося здесь прелестного пассажа. Фигура состоит из трех коротеньких нот – «фа-диез», «соль», «фа-диез», на вторую из которых падает сильное ударение. Выводимый валторной, маленький этот мотив, не считаясь ни с широкой мелодией пения, ни с гармонией всего оркестра, пробегает примерно через двадцать тактов партитуры.
Леонора в отчаянии смотрит вокруг, не забрезжит ли ей надежда. В окне часовни мерцает слабый свет. Рядовая певица опустилась бы здесь на колени, изображая мольбу к мадонне. Но Маргерита Децорци почувствовала, что теперь она должна освободиться от рамок драмы, чтобы вступить в бестелесный, чуждый конфликтам мир мелодии.
Она сделала два маленьких шажка, остановилась, как лунатик, и, неподвижная на протяжении всего романса, пела, блаженно закрыв глаза. И теперь она действительно пела! Ее голос стряхнул с себя все, что делало его тугим, но при этом остался свободен от знойно-чувственного тембра зрелых сопрано; напротив, во всей красоте своего расцвета он сохранял какую-то детскую, даже призрачную чистоту. Голос, так и не вырвавшись из глубокого, погруженного в музыку сна, нашел широкую мелодию мольбы о милости. За дверьми угрюмого монастыря уже шагали чуждые всему человеческому аккорды монашеского хора. Когда ария в третий раз повторила мольбу о милосердии и ближе придвинулся ропот хора, богиня смягчилась. Певица вновь обрела надежду, закончила радостной каденцией, стряхнула сон и снова вступила в мир драмы.
Маэстро все смелее выдвигался из глубины ложи и наконец перегнулся через барьер. Взгляд его зачарованно следовал за горестным образом певицы. Разум его забыл о происхождении этой музыки, забыл, как возникла она на нотной бумаге под его же пером. Сам того не сознавая, Верди слушал самого себя.
Горячее, восторженное чувство к чудесной посреднице наполняло его.
С ранней юности он был подвержен обаянию поющей женщины. Для него, целомудренного, никогда не соблазнявшегося на легкие похождения, певица не была театральной дивой, изолгавшейся и продажной, – она для него была сосудом музыки, чудесным товарищем, соучастницей заговора. Мальчиком еще любовался он на жеманившихся в свете рампы примадонн и, подавленный, поклонялся им с робкой влюбленностью. Позднее, став мужчиной, он находил в подлинной художнице, в женщине, полной музыки, единственное в мире существо, с которым он чувствовал себя не совсем одиноким. Джузеппину Стреппони, его истинную жену, спутницу жизни, Терезину Штольц, страсть его зрелых лет, – обеих ему подарило опьянение мелодией, отраженное в их глазах, их проникновение в музыку.
Но насколько же эта юная девушка, там у рампы, превосходила дарованием всех других певиц, которые были только послушным или страстным инструментом!
Децорци казалась совсем новым явлением на сцене – человеческим существом, непостижимо благородным, непостижимо одухотворенным, ангельски чутким и чистым. Она увлекала за собой состарившуюся музыку в новый мир, не меняя ни единой ноты, ни единого авторского указания, как это повсеместно делают сейчас другие в погоне за «утонченностью». Маэстро все смелей перегибался через барьер, он не думал об опасности быть узнанным, он тянулся к небывалому этому явлению. Несколько раз ему почудилось, что взгляд певицы направлен на его ложу.
Начался дуэт Леоноры с монахом-привратником. И опять Маргерита уверенно устанавливала, где различаются и где сливаются сцена и кантабиле, драматическая игра и пение.
Маэстро с некоторым опасением ждал стретто – образного più mosso,[86] которым заканчивается дуэт. Но Децорци доказала ему внутреннюю оправданность этого рискованного места. «О, qaudio insolito!»[87].Стретта звучала здесь взрывом радости: привратник дает Леоноре приют и убежище.
Сцена грандиозно наполнилась. Из ворот выходят монахи. Каждый несет свечу навстречу восходящему солнцу. Молодая женщина в мужской одежде преклонила колени. Настоятель набрасывает на нее рясу. Когда она встает, у нее запавшие щеки и глаза аскета. Большой мистический хор пострижения крепнет и затем спадает в еле слышное пианиссимо – на четыре piano – «l'immonda cenere ne sperda il vento» – «да развеется по ветру нечистый пепел».
Но ужас разрешается радостным гимном «La vergine degli angeli»,[88] дающим светлое завершение обряду, а с ним и второму акту. Обливаясь слезами, едва не срывающимся от блаженства голосом пела этот гимн Децорци.
Когда дали занавес и разразилась буря аплодисментов, маэстро, взволнованный, упал на сиденье в глубине ложи. Неужели это была его музыка? Благородный образ Маргериты оживил своим дыханием весь акт. И как юна, непостижимо юна была женщина, сумевшая разбудить такие глубины чувства в музыке, которую сам он считал поблекшей и отжившей.
В смутной дали колыхался освещенный зрительный зал. В ложе напротив маэстро узнал маркиза Гритти, чей череп отражал все огни. Столетний недвижимо сидел у барьера, затянутый в недвижимый фрак. Навязчивая идея заставляла его каждый вечер отправляться в оперу. Но, сидя в ложе, он наслаждался только золотым жужжанием театра, приятным вихрем красочных пятен, круживших перед ним, как вешний осыпающийся цвет.
Музыка лишь смутно достигала его слуха – как перемешанный с гудением органа гомон толпы или как грохот множества телег, на которых сидят люди и дудят в волынку. Только время от времени наторелый знаток различал среди монотонного шума голос того или другого певца 1883 года, конечно не могущий удовлетворить завсегдатая оперы, еще о Тамбурини говорившего, что это – «упадок в искусстве пения». За самой вещью Гритти вообще уже не мог следить. Он не охватывал ни отдельных коллизий, ни движения в целом. Все оперы, из коих большинство он слышал от пятисот до тысячи раз, были бесследно забыты. Дипломат, по сей день обладавший хорошей памятью на лица, так и не развил в себе особенной остроты в понимании драматического действия.
Маркиз ушел с головой в разрешение важного вопроса. А именно: он соображал, каким номером надо означить в реестре сегодняшнее посещение оперы: 29437 или же 29438. Он мог бы, конечно, постучать об пол своею эбеновой тростью, и старый Франсуа, ежевечерне спавший на стуле у дверей его ложи, вскочил бы, вошел с глубоким поклоном и разрешил бы его сомнения. Но появление ливрейного лакея у барьера ложи было не в обычае и допускалось только по окончании спектакля, когда требовалось забрать бинокль, бонбоньерку или забытую перчатку господина. Таково было несокрушимое убеждение маркиза Андреа Джеминиано Гритти, стопятилетнего старца.
У двери из зала в буфет стояла группа куда более современных критиков. Подчеркнуто равнодушные, они производили впечатление скучающих людей, которые не знают, о чем говорить: потому что слушание оперы входило, правда, в их профессиональные обязанности, но не могло составить достойный предмет разговора. Один из них, отличавшийся очень пухлыми губами, провожал усталым взглядом хорошенькую ножку дамы. Но сейчас он так преисполнен был сознанием собственного превосходства, что даже и похоти почувствовать не мог; он снова повернулся к другим, чьи гримасы как будто бросали профанам: «Мы не допускаем, чтобы нам что-нибудь импонировало. Нам голову не вскружишь. Мы уже давно вышли из возраста, когда поддаются впечатлениям. Мы только обсуждаем и оцениваем впечатление, производимое на публику». Один молодой критик, втайне глубоко захваченный, поглядев на своих коллег, тотчас устыдился и дал разряд своим напряженным чувствам в злой остроте.
Когда начался третий акт, маэстро, все еще взволнованный, сидел, подперев голову рукой, на своей скамье. Дирижер размахивал палочкой без тени animo.[89] Децорци в этом акте не участвовала, и опера утратила очарование. В прелюдии к арии тенора имелась красивая мелодия, однако слишком ударявшая в виртуозность, и Верди это коробило. Неспокойная совесть подняла свой голос. Маэстро встал, собираясь оставить театр.
Дверь отворилась. Тонкая фигура проскользнула в ложу. Перед маэстро стояла Маргерита Децорци. Она накинула на черный мужской костюм светлое вечернее манто, опушенное мехом. На ее лице незаметно было и следа грима, даже губы и брови не были тронуты карандашом. Глаза горели возбуждением и явным страхом. Она не знала, как будет принята ее смелая выходка, – маэстро слыл неприступным. Актриса тихо закрыла за собою дверь и склонилась в глубоком мужском поклоне.
– Маэстро Джузеппе Верди! Простите эту дерзость той, которая любит вас с глубоким преклонением. Я узнала ваше отмеченное славой лицо. У меня едва не сорвался голос. Я понимаю, как мне подобает держаться, и никому ничего не скажу.
Маэстро застыл на месте и не находил слов. Полумгла сняла все грубое и слишком энергичное в чертах Децорци. Перед ним стояла эфирная девушка, затворница из его оперы. Певица тотчас уловила обволакивающую ее мягкость взгляда. Это придало ей смелости. Она схватила руку Верди и порывисто прижала ее к своей груди. Сразу смутившись, маэстро промолвил: «О синьорина Децорци!» – и его крепкие рабочие пальцы ответили на пожатие ее холеной руки. Талант певицы сразу оценил красивую необычайность сцены, которую можно было здесь изобразить. Удивительную девушку захватила, как всегда, прежде всего игра. К этому присоединилось подлинное преклонение перед Верди, вдохнувшее искренность в ее слова:
– Наконец-то я могу сделать то, о чем мечтала еще девочкой, – вдосталь наглядеться на ваше доброе, красивое лицо. О, чем только, маэстро Верди, чем только не обязана вам бедная певица! Вам больше, чем всем композиторам прошлого и будущего. Ах, настала минута, когда исполняется мечта моей жизни, а я, глупая, слов не нахожу…
Маргерита густо покраснела. Она туже запахнула на себе манто, которое совсем было свесилось с плеч, позволяя видеть весь ее стан. Было ли тому причиной имя Маргериты, впрямь ли сходство или просто молодость ее, но только маэстро вдруг открыл в неясных женских чертах другой, давно забытый облик. Один лишь миг стояло перед ним воспоминание, но оно всполошило его и растрогало. Тихим голосом, все еще смущенно и чуть не через силу, как всегда, когда приходилось обнажать свои чувства, он сказал:
– Не вы мне, синьорина Децорци, скорее сам я сегодня вам обязан. Я даже не считал возможным такое исполнение, как ваше. Перед вами открывается большая, большая дорога.
Маргерита гордо и уверенно глядела на маэстро:
– Я знаю, что Джузеппе Верди никогда не говорит условных любезностей и не станет расточать невзвешенных похвал.
Под взглядом маэстро, прорезавшим мрак и обдавшим ее теплотой, Децорци похорошела.
Она нашла великолепное зеркало и любовалась собою. Сердце ее стучало. Благозвучный голос ласкал ее жадное ухо:
– Прослушав этот акт, я могу сказать, что не знаю ни одной артистки, равной вам. Голос у вас от природы совсем не большой. Но каждое его колебание подчинено вашей воле, и это – непостижимое искусство, каким не владеет никто из наших современных знаменитостей.
– У меня, маэстро, лишь одно желание – петь музыку Верди, которая всюду преподносится не в вердиевском духе, и доказать… Но это очень дерзко с мрей стороны.
Чувство такта не позволило маэстро сейчас же предложить певице поддержку. Маргерита, практичная в своем честолюбии, была разочарована этим умолчанием. Все же она решилась затронуть щекотливую тему:
– Говорят, что скоро мир потрясет новая опера. «Король Лир» или даже «Отец Горио». Как она обогатила бы нас, изголодавшихся певцов!
Децорци шла напрямик к своей цели. Но маэстро поспешил оборвать этот разговор:
– Нет, нет! Я стар. Я больше ничего не напишу! Это все вздорные слухи!
Лицо певицы осветилось воодушевлением:
– Джузеппе Верди не стар, он бессмертен. Я не знаю его лет. Но он как отец во цвете сил стоит предо мною.
Слово ей понравилось. Она повторила:
– Отец во цвете сил!
Музыка теперь хором голосов и громом труб изображала сражение. Черные глаза Децорци лучились все светлей, по мере того как шум нарастал, поглощая каждое слово. Маэстро не мог совладать с замешательством. «Но я же стар, я стар», – гудело в его висках под ритм далекой битвы. Маргерита подошла ближе.
– Я пришла сюда не из тщеславия или честолюбия. Маэстро, я ни о чем не стану вас просить. Не давайте мне ни письма, ни рекомендации! Забудьте меня! Мне нужно другое.
Музыка затихла. Маргерита Децорци придвинула свой мерцающий лоб к лицу маэстро. Просто и почти смиренно она прошептала:
– Джузеппе Верди, отец! Поцелуйте меня!
Волна окружавшего девушку аромата захлестнула маэстро. То, чего домогалась Маргерита, – поцелуй посвящения, – было в театральном быту довольно распространенным обычаем.
Но и этот жест по воле Децорци утратил всю свою пошлость, театральность и приобрел более тонкий смысл.
Маэстро легко приложился губами ко лбу девушки. Но Маргерита подняла голову, придвигая рот к губам мужчины, и он, охваченный быстрым хмелем, прижал к себе певицу и принял ее неистовый поцелуй.
У железной двери, что вела на сцену, бледный от волнения и злости, ждал Итало. За четыре дня равнодушия, не находя вновь Маргериту карнавальной ночи, он сам истерзался той ревностью, которая так его страшила в Бьянке.
«Сегодня не завтра. Завтра не сегодня. Тени не имеют памяти».
Все чаще приходило ему на ум это дельфийское речение певицы. Эвридика, не Маргерита принадлежала ему в ту ночь.
Молодой человек напрасно ждал от нее объяснений. Он свою задачу выполнил. Она говорила с маэстро Джузеппе Верди. Сентиментальность была у нее не в чести. Она предпочитала нежданный, резкий, оскорбительный разрыв.
Итало заступил ей дорогу у входа. Она туже запахнула манто и сказала невозмутимо:
– Разрешите пройти. Вы видите, я в костюме. Не пытайтесь снова мне надоедать!
Когда она ушла, Итало долго еще стоял неподвижно на том же месте. Велеречиво гремела музыка из-за толстых стен и дверей.
Ледяной холод кружил в его крови, лоб покрылся испариной, каждый волос колол, как игла.
Игра сыграна. Он слишком много поставил на карту. Мысль металась впустую. Обманутые чувства ныли и томились.
Ни надежда, ни забвение, ни пьяный угар не смоют правду.
Как тяжелое мертвое тело, свалился на него с потолка коридора этот груз, грозя сломить позвоночник: ложь, предательство, измена Бьянке.
Четверть часа спустя прохожие видели опрометью мчавшегося по улицам стройного франта и качали головой.
Ошеломленный поцелуем Маргериты Децорци, маэстро стоял в ложе, в то время как музыка его безудержно рвалась вперед. Кровь, еще не отгоревшая, пробудилась от долгого сна и не хотела угомониться. В ней бурлило влечение к чудесной девушке, которое он еле укрощал. Но с непреклонной суровостью, раз, и другой, и третий обругав себя старым болваном, он наложил на влечение запрет. И хотя трепещущие нервы молили, чтоб им дали пережить последний акт – акт, посвященный Леоноре, он строго отказал себе в этой подачке.
Еще не кончился третий акт, когда Верди вышел из театра. Следствием этого отказа явилось чувство крайней досады.
В тот вечерний час маэстро – впервые в свои без малого семьдесят лет – подпал под гнет унизительной мысли, которая для каждого стареющего фата, раба суеты, уже к его сороковому году делает жизнь бессмысленной и пресной: мысли, что для мира любви он погиб.
VI
Наша жизнь, я сказал бы, нелепая и, что уже совсем обидно, бесцельная шутка. Что может еще произойти? Что мы будем делать? Когда честно подводишь итог, получаешь лишь один унизительный, печальнейший ответ: ровным счетом ничего!
Из письма Верди к Кларине МаффеиКогда маэстро вернулся к себе в гостиницу, хлынул сильный ночной дождь и мерно застучал в окна. Ни один из голосов природы не звучит так безучастно, так нечеловечно и бездушно, как голос дождя. Он усилил тоску одинокого.
Верди думал о том, что упустил сладкий восторг, неизведанное счастье. Он все еще ощущал на шее упругие, гибкие руки, на губах – поцелуй прекрасной девушки. Но хмель этих секунд, их гложущая тоска – просто дурь! Это не для него.
Приключение, шалый случай, роковое будущее, вырастающее из зерна нечаянного поцелуя, – для него это уже не существует; верней, никогда не существовало. Жизнь его была жизнью угольщика, рудокопа. В ней не было места для жизни. Не глядя по сторонам, не домогаясь ничего, кроме права на работу и удобств для работы, он никогда не позволял себе отдаваться прихотям дня. Ни на миг его не могла убаюкать легкая волна.
Из-за стола, из веселого круга друзей, от игры, от спора, от чтения его всегда отзывал суровый, злой, неугомонный окрик: за работу!
И эта работа пяти десятилетий – семнадцати тысяч восьмисот дней или ночей, как он подсчитал, – только в редкие минуты бывала радостью и удовлетворением, а большей частью – мукой, терзанием, перенапряжением воли до седьмого пота, до обморока.
Почему же именно его, так слабо вооруженного знанием, выбрал жертвой этот сатана, этот Асмодей стремления к совершенству? За полвека знал ли он хоть час покоя, хоть час глядел ли мирно на небо? А когда он откладывал в сторону музыку, не тот же ли дьявол принуждал его заниматься другими трудными вещами: улучшением дорог, развитием земледелия, закладкой сыроварен и конных заводов – всех этих показательных предприятий, доставлявших вместо прибыли только хлопоты, тяжелый труд и недовольство. А нынче – дослужился до пенсии и хочешь не хочешь получай расчет!
Маэстро пришло на память описание жизни корабельных кочегаров, когда-то где-то читанное: по вечерам, изнуренные жаром, просмоленные потом и сажей, они выползают на палубу и падают замертво где-нибудь в углу.
Сможет ли сам он выдержать пустоту и холод своего вечернего часа?
И к чему эта пожизненная каторга? Впрямь ли надобно людям искусство? Без колебания он дает ответ: народы нынешнего дня ни в малой мере не нуждаются в высоком искусстве. Поскольку таковое еще существует, оно дает лишь праздную утеху нежизнеспособным отпрыскам некоторых сытых слоев общества. Искусство ныне, как и многое другое, есть все та же вскормленная из рожка ханжеская ложь. Музыка Фишбека полностью подтверждает этот печальный парадокс.
Маэстро спрашивает дальше: «А изменилось бы хоть что-нибудь в машине времени, если бы не существовало ни одного моего произведения? – Ничего не изменилось бы!»
Значит, страшное напряжение, весь труд его жизни были пустою мечтой. Он работал, – следуют новые выводы, – только ради славы, ради нее одной неуклонно развивал и углублял он свой талант, страдал и боролся, только из гибельного высокомерия, чтобы превзойти всех людей и сделаться богом! Да, чтобы сделаться богом, величайшим из богов, он навсегда отказался от всех человеческих интересов и желаний, поступился последним остатком стремления бороться за свои права и потребностью преуспевания. Чтоб его любили, чтоб ему поклонялись, не признавая с ним наряду другого бога! Чтобы стать бессмертным!
Теперь маэстро принялся со злобным сладострастием доказывать суетность человеческой мечты о бессмертии.
Сам он родился в начале текущего столетия, его отец – в конце прошлого, его дед – в середине прошлого. Три поколения, непосредственно соприкасавшихся. А много ли произведений, созданных около 1750 года, живы и поныне? Их можно перечесть по пальцам одной руки! Даже он, профессионал, в мавзолее Гритти изо всех бюстов великих музыкантов начала и середины восемнадцатого века знал кроме Перголези и Пиччинни еще одного только Йомелли[90] – да и то лишь по имени. А вечные гиганты?
К Шекспиру, который, если говорить совсем, совсем откровенно, уже наполовину непонятен или трудно выносим, ведет до смешного маленький мостик из каких-нибудь восьми поколений. А мифический исток всего искусства, Гомер? Если он когда-либо жил на земле, нас от него отделяют всего лишь девяносто поколений – отрезок времени, какой требуется каждой приличной звезде, чтобы домчать свой свет до земли.
Впрочем, можно и не брать в расчет остальную вселенную. Маэстро недавно прочел в журнале статью одного геолога, где утверждалось, что Земля стоит на пороге нового ледникового, или дилювиального периода. Стало быть, в следующую минуту космического времени вся эта беспокойная культура с ее печатными станками, лабораториями, приводными ремнями, электрическим светом, симфоническими оркестрами, нонаккордами[91] (какой прогресс!) будет погребена под враждебным льдом, чтобы в ближайшую минуту вечности какая-нибудь уцелевшая протоплазма с неимоверным трудом совершила гениальную эволюцию от клетки до хвоща. О, слово древнего поэта: «Ничто не верно, кроме смерти!» Смертной тоской должны мы платить за излишнее самомнение нашего «я», доходящее до мании величия.
Не так, как для северного человека, с легкостью витающего в неприютном пространстве между идеалистическим и патологическим, – для маэстро философия никогда не была умозрением и диалектикой; нет, он всегда судорожно искал в ней ответа на вопросы, настоятельно выдвинутые жизнью.
Собственная жизнь казалась ему даром прожитою, потому что он принес ее в жертву честолюбивой и пустой мечте: достичь вершин совершенства, не терпеть рядом с собой никого.
Это стремление не привело к победе. Со всех сторон ему кричат с насмешкой: «Ты только эпигон устарелых форм. Истинно самобытен и велик не ты, а другой!»
Теперь, когда рассеялась его последняя честолюбивая надежда, теперь он должен, разочарованный, разбитый, опаленный, как те кочегары, в свой праздный вечер завалиться на покой. С утонченным издевательством жизнь подарила ему сегодня на прощание жгучий поцелуй Маргериты Децорци. Теперь доделает дело смерть.
Со злорадством осужденного, который отмечает, что его ведут на казнь не одного, а с большой компанией других преступников, маэстро увидел умственным взором шествие людей, знакомых ему и вместе с тем чужих. Все они казались молодыми, гордо высились гипертрофированные лбы мыслителей над молочно-бледными страдальческими лицами. Не они ли, не эти ли юноши, одержимые равным идиотским честолюбием и снедаемые завистью друг к другу, измышляют все новые виды аккордов, все более чудовищные модуляции, все более тонкие приемы, как будто только то и важно, чтобы как-нибудь перещеголять друг друга!
Маэстро невольно покосился на папку «Лира». Это было чисто рефлекторное движение. Память сейчас же подсказала: ты решил смириться и освятил свое решение жертвой, скрепил обетом.
Он с юности имел обыкновение, меняя место, откуда-нибудь уезжая, обмываться с головы до ног. Этой привычке последовал он и сейчас, тем более что кожа у него странно горела и он, несмотря на зимнюю пору, ощутил потребность в холодной воде.
Омовение пробудило в теле бодрую, щекочущую свежесть. Запахнувшись в широкий халат, он начал, как всегда, кружить по комнате. Вдруг его привлекло большое трюмо, наличие которого до сих пор не доходило как-то до его сознания. Он внимательно смотрел на себя. Странно! Неужели этот седой бородач и есть тот человек, которого зовут Джузеппе Верди?
Ему казалось, будто его образ заключал в себе два существа. Одно родила и любила его мать. С двухмесячным Беппо на руках она, когда был уже сделан донос, укрылась в Ле Ронколе на колокольне и тем спасла свое дитя при вифлеемском избиении младенцев, учиненном в 1813 году наполеоновской солдатней в окрестностях Буссето.
То был печальный мальчик, который плакал по всякому поводу, который крался за Багассетом, слушал его охрипшую скрипку и не понимал, почему другие дети глумятся: «Багассет! Багассет!»
То был неуклюжий подросток, упрямый и робкий, суровый и мягкий; причетник, который из-за оплеухи, полученной во время мессы от скотины попа, заболел со стыда и три недели пролежал в лихорадке. А только и было за ним вины, что, заслушавшись органа, он не заметил, как его преподобие поднял руку для благословения.
То был молодой органист, ученик доброго Провези, протеже провинциального купца-самодура Барецци, страстного любителя музыки. Да, все они его любили, и он их всех любил: Барецци, Лавинья, учивший его писать оперы и каждый вечер разбиравший с ним «Дон-Жуана», Маргерита, мать маленького Ичилио, – тысяча теней минувших лет.
И он же был седым человеком, который, сам не зная как, приобрел вот такое изборожденное морщинами лицо.
Пеппина любила его, и он ее любил, и был другом своим друзьям – Кларине Маффеи, Арривабене, Луккарди, и сенатору, и доброму Муцио, который ради него разъезжал по стране, дирижировал, воевал. И нация любила его, как это при разных торжественных случаях значилось в газетах. И он любил ее тоже…
Но маэстро не был весь целиком этим увенчанным победой человеком, как не был он целиком тем вторым существом, никого не любившим, никем не любимым, которое равнодушно пряталось от мира за непроницаемый щит; ангелом, злобным или добрым, чьи дальнозоркие глаза глядят не на людей, а мимо них. Маэстро узнал в своем отражении этого безучастного ангела, существо, которое и вправду отчуждало его от мира.
В замке ящика, где хранился клавираусцуг «Тристана», торчал ключ. С незнакомым ощущением в пальцах Верди извлек красную тетрадь. Теперь ему нечего было бояться, что он попадет под власть того колдовства, в сетях которого, по мнению света, он бился с давних пор. Он перешагнул намеченную цель. Опасность потерять себя не грозила ему больше: перо навсегда отброшено. Все же маэстро должен был преодолеть глубокое внутреннее сопротивление, перед тем как раскрыть тетрадь.
Какое чудище держат в плену эти страницы, какой в них сокрыт Гераклов подвиг, могущий разрушить крохотный остаток сознания своего достоинства, еще сохранившийся у маэстро?
До этого дня Верди в самом деле знал из вагнеровских произведений только ранние оперы, включая «Лоэнгрина», несколько мест из «Валькирий» да музыку торжественного шествия рыцарей Грааля,[92] которую Бойто сыграл ему однажды на память. Вопреки всем нападкам критики, твердившей о его зависимости от Вагнера, он чувствовал, что чист, и ради этого чувства избегал знакомиться с вагнеровскими клавираусцугами, уж не говоря о партитурах. Только на последнем подъеме своего жизненного пути, когда он, осилив мрак сомнений, убедился в собственной стойкости, он выписал полное собрание произведений Вагнера, включая и его трактаты.
Но сейчас его руки медлили, и все тяжелее делалась колдовская тетрадь, на которую он сам для себя наложил запрет. Даже в Италии, даже среди друзей, чей приговор он высоко ценил, «Тристан» прослыл чем-то неслыханным, небывалым. Бойто (Верди знал это в точности) из почтения и сострадания к нему, маэстро, избегал в его присутствии говорить о «Тристане». Верди ожидал увидеть здесь не обычные ноты на пяти линейках, а некие священные иероглифы, какие одни только и подобают доныне неведомому.
Поэтому его первым впечатлением было разочарование. Он перелистал дуэт второго акта и нашел музыку, отнюдь не ослепившую его глаза новизной. Формы, какие и он – насколько видно было в передаче нотными символами – вполне самостоятельно развивал в своих вещах после «Бала-маскарада».
Не было только нигде замкнутых номеров. Но это не могло его запутать, потому что он и сам сохранял их не из рабского служения условности, а из сознательного упорства, из горячего патриотизма, желания остаться итальянцем и еще в «Аиде» возводил замкнутый номер в драматический принцип. Однако и сам мятежник Вагнер в глубине своего сердца, как видно, оставался верноподданным слугою великой владычицы Оперы. Ибо сотни раз, если не в вокале, то в оркестре, здесь всплывала самая правоверная ария; но, познав себя, она, застыдившись, уклонялась от закономерного финала и, как человек, который в последний миг, чтоб не выдать себя, проглатывает чуть не сорвавшееся с языка слово правды, испуганно меняла тональность и бросалась искать спасения в новой ситуации.
Да и гармоний покоилась большей частью на применении уменьшенной септимы – эффект, к которому маэстро прибегал еще много, много лет тому назад! Вот как писал он о ней в своем знаменитом письме к Флорино: «Она для нас для всех – клад и прибежище, мы не можем написать ни единого такта, не напихав в него с полдюжины этих самых септим».
Дальше острый глаз маэстро увидел, что одно запомнившееся ему высказывание Матиаса Фишбека было не так уж необоснованно: да, вместо истинной полифонии здесь сплошь и рядом проступало необычно богатое скопление средних голосов, и они не имели тематического значения, а состояли из мелодических пассажей и разложенных аккордов. Маэстро признал в этой технике некую, может быть, весьма утонченную нервозность, но вместе с тем и расхлябанную сбивчивость ритма, настолько противную его собственной природе, собранной и ясной, что для него непостижимо было, как могли его объявить эпигоном этой манеры.
А в общем, преобладали, хоть и всегда видоизмененные, но все-таки старые формы аккомпанемента: арпеджии, аккорды для речитатива, повторяющиеся ноты. Мелодика также не давала незнакомой для маэстро картины. Встречались даже две приплясывающие триоли, пристегнутые к более длинной ноте, – фигура, часто применяемая со времен Беллини. Правда, периоды строились очень свободно. Но зато развитие мотива шло по большей части прямолинейно – секвенциями и последовательностями, какими Верди, если ему не изменяет память, пользовался искони.
Нет, ему как композитору не приходится краснеть перед Вагнером! На свой лад, независимо от немца, он нашел язык, который так же опережал свой век. Но как хороша, как насыщена музыкой эта плотная, полновесная ткань бюловского переложения! Маэстро должен был довольствоваться ремесленной работой верного Муцио, который перелагал его партитуры для деревянных пальцев поющего и барабанящего по клавишам плебса и боязливо старался об одном: как бы изобилие нот в аккомпанементе не заслонило голос певца. Эти клавираусцуги были сухим скелетом его опер, тогда как бюлов-ский «Тристан» казался мощной фортепианной музыкой.
Маэстро ждал, что в этой красной тетради он прочтет свой смертный приговор. Но насколько глаз передавал ему, плохому чтецу, представление о звуке, эта музыка – пусть она прекрасна, наркотична, томительна, как мечта, но и за нею стоит ее время и живой человек, и не может она обесценить произведения Верди, стереть, точно их никогда и не было.
Вагнер насмеялся над «Аидой». (Впрочем, точно ли тот жест немца там, на Пьяцце, означал насмешку?)
Все равно! Маэстро справедливым ясным глазом проверил эти страницы. Он отчетливо знает, что беглое чтение глазами не могло раскрыть ему вполне эту музыку. Но так же твердо знает он теперь и то, что не вагнеровская музыка уничтожила Верди.
Он отложил ноты в сторону. В сердце его не осталось и следа мстительной ненависти к имени Рихарда Вагнера. Эта музыка ясно показала ему то, что он давно подозревал: несмотря на всю их противоположность, если кто из композиторов был ему братом, то именно Вагнер! Правда, немец, верно, сидел сейчас в своем палаццо за пышным ужином, окруженный друзьями, или, почтительно провожаемый, отправлялся на покой. Ни одного героя не почитали так его приверженцы, – тогда как маэстро, певец Рисорджименто, в этом итальянском городе, в гостинице, одиноко и, пусть он сам так захотел, но все-таки безвестно прощался навеки вскорбные вечерние часы со своими творениями. И прощался – наперекор всем доводам рассудка, не мог он чувствовать иначе! – на половине пути.
И было так, что Джузеппе Верди не мог преодолеть в тот час теплого, хоть и беспричинного сочувствия, даже какой-то смутной жалости к Рихарду Вагнеру.
VII
По дороге мною овладела несказанная немочь, беспросветная, глубокая печаль, подлинный страх перед смертью, который давил мне грудь.[93]
Из автобиографического рассказа Верди, где он изображает историю возникновения своего «Набукко». (Цитируется по Артуру Пужену).Проснувшись под утро, маэстро долго не мог прийти в себя. Он помнил, что прошел сквозь тяжелое чувство угнетенности, но не знал, во сне это было или нет; только он догадывался, что Маргерита Децорци представилась его воображению и причинила ему боль. Еще не совсем пробудившись, он почувствовал в теле странную тяжесть, чувствовал все яснее, по мере того как приходил в себя, что ноги у него застыли и онемели, что им овладело оцепенение, что он не может шевельнуться, все члены скованы, и от ног к плечам с волною крови подымается властный леденящий холод. С бесконечными паузами, иссякающий и неравномерный, просачивался пульс. Что-то страшное медленно подбиралось к сердцу. Тяжелая, привинченная к постели голова, казалось, росла, мозг беспомощно пытался приободриться, но у него достало силы осознать только одно: «Сейчас наступит смерть!»
В четком свете этой молнии пронесся рой мыслей.
Первое:
«Обидно умирать тут, в гостинице, на чужой кровати!.. Прямо скандал! Меня найдут! Будут чествовать труп!.. Противно!»
Затем: «Пеппина!.. Она приедет сюда!.. Ах, конечно, это смерть! Паралич сердца! Я не думал, что это случится так скоро! Я же был здоров!.. Зачем я приехал сюда?»
Все вернее приближалась к сердцу ледяная волна. Взбаламученная кровь кружила в мозгу: «Хорошо! Я не против!.. Мне очень плохо! Но это продлится одно мгновение! Сердце больше не бьется!.. Господи, помоги!.. Ото хорошо! Мне нечего терять!.. Может быть, меня могли бы спасти!.. Карваньо! Нет, нет!.. Столетний переживет меня! Будет исправно сидеть сегодня в театре!.. Вагнер переживет меня!.. Смерть – это шорох!»
Ощущение собственного тела утрачено. Судорожно, с длинными паузами, сердце сжимается, как кулак. Смерть уже завладела грудобрюшной преградой: «Не так это страшно. Почему люди боятся?! Ага, вот оно!.. Боже извечный!.. Это страшно, страшно!.. Я не хочу!.. А должен хотеть, тогда это не будет так ужасно!.. Годы позора!.. Почему не хотеть? Но еще бы немножко… Не успел!.. Не навестил!»
Порывы ветра треплют сознание:
«Я умираю!.. Я не навестил его!.. Венеция – напрасно!.. Поздно!..»
Онемение коснулось сердца. Последним помыслом маэстро перед тем, как сковал его обморок, было сожаление о том, что он так и не собрался к Вагнеру.
Обморок в февральскую ночь был первым предостережением смерти этому стальному телу – первым предостережением с той поры, как на обратном пути от Мерелли с Верди случился нервный припадок, который он назвал «мгновением». На этот раз обморок был вызван внезапным ослаблением сердечной мышцы и продлился несколько минут. Приписать его какой-либо определенной болезни было бы трудно. В ближайшие двенадцать лет такие припадки как будто не повторялись.
Верди, никогда серьезно не болевший, не мог сомневаться, что это – смерть. Шорох этой смерти надвигался, рос и увлекал его за собой. Его гнала по подземным призрачным полянам, яростно защищаясь, замученная жизнь. Ум его ничего не мог понять. Шорох не умолкал. Но он менялся и постепенно вырос в мощный хор – в «Те Deum laudamus»17. На плечах этого «Те Deum»[94] (пение было чем-то зримым, было облаком) катилось чудовищно красное полярное солнце. Зной разлился по застывшим членам. Маэстро очнулся. Его крепкая природа в три минуты справилась с обмороком, Он узнал своего лакея Беппо, стоявшего со свечой в руках у кровати. Время текло. Сердце билось уже спокойно и правильно. Только пальцы еще оставались холодными и слабость в теле все не проходила. Он тихо спросил:
– Беппо! Что случилось?
– Ох, синьор маэстро, извините меня! На меня вдруг нашел такой страх за вас! А потом мне послышалось, точно вы зовете.
Свет прогнал последнюю тень надвигающейся Смерти. Верди приказал Беппо подать ему рюмку коньяку. Сила огнем разлилась в крови. Он засмеялся.
– Налей и себе стаканчик, Беппо, и выпей, согрейся. Вон ты как дрожишь! Послушай: если на тебя опять когда-нибудь нападет такой страх, ты непременно зайди ко мне!
Слуга хотел уйти. Но маэстро задержал его:/
– Завтра вечером уезжаем! Уложи чемодан! И заблаговременно снеси его на вокзал. Да выспись хорошенько!
Беппо, очень довольный, ушел со стаканчиком. Маэстро привстал в постели. Он велел засветить два газовых рожка. Радость победы над припадком, какое-то чудесное воодушевление озаряли его. Он дышал сильно и глубоко.
Охваченный благодарностью, что не умер, что жив, он едва сдерживал слезы. Чего только не привелось ему победить в этом плавучем темном городе! Свою музыку! Свое честолюбие! Свое прошлое! Последнее опьянение женщиной! А под конец и смерть!
Но вместе со смертью он одолел и Вагнера. Без горечи думал он о немце, который сейчас, наверно, спал. Прилив дружеского чувства смешался с восторгом обновленной жизни, которая разлилась по испуганным жилам юным хмелем, бодростью, счастьем победы. Пусть мир ставит его неизмеримо ниже немца, но разум его, который теперь знал и чувствовал более высокую истину, чем все писатели на свете, разум его не поддастся обману: Рихард Вагнер – его товарищ на земле!
Сложилось твердое решение: «Завтра пойду».
Чувство счастья длилось. Маэстро не гасил света. Он соображал, в котором часу пойти во дворец Вендрамин. Потом вспомнил о Фишбеке. К нему он тоже зайдет; не робея, переговорит обо всем, отдаст деньги ему или его жене. А затем – домой!
Блаженная усталость, какая обычно следует за такими припадками, погрузила маэстро в сон.
Он проспал, чего с ним никогда не случалось, до полудня. Его разбудил сенатор. Старый друг был сам не свой. Он взволнованно бегал по комнате. Он проявлял радостную, но в то же время тревожную нервозность, с видимым трудом скрывая какую-то тайну, и спрашивал опять и опять у маэстро, как он думает провести вечер.
Верди, решив про себя уехать тайком, чтоб избежать прощальных подарков и грустного расставания, небрежно ответил, что будет вечерам дома.
– Отлично! – восклицал сенатор. – Превосходно! Браво! Значит, все прекрасно устраивается!
Но с этими уверениями не совсем согласовался беспокойный жест, которым он поглаживал свою белую гриву борца за свободу.
Маэстро в недоумении смотрел на друга. Но тот распрощался, вдруг заторопившись, и с лукавой улыбкой ушел от своего кумира.
Глава десятая Мелодия прорвалась
I
После ночного дождя, после утреннего тумана солнце осилило мглу над морем и белесую тусклость города. Оно вдруг неистово загремело по площадям, переулкам, каналам, застрекотало из окон с другого берега. Ничей глаз не мог хотя бы ненадолго задержаться на лагуне, которая несла, приплясывая, раздробленное отражение света.
Сегодня утром приехал в Венецию Ренцо, младший сын сенатора, – безвинный предлог вероломной лжи Итало. Юноша сопровождал своего учителя Лабриолу в Падую, где тот хотел поработать несколько дней в университетской библиотеке для завершения какого-то исследования. В свой первый свободный день Ренцо решил навестить родной город, отца и брата.
Отца, однако, он не застал дома. Сенатор, как уверял слуга, ушел с восьми часов. Итало, вернувшись только к девяти утра, крепко спал. Студенту ничего не оставалось, как уйти из дому и, пользуясь ясным днем, побродить по залитому светом городу.
Он вышел на Пьяццу.
Здесь его соблазнило то, что в последний раз он испытал десятилетним мальчиком: ему захотелось подняться на Кампанилу.
Когда он очутился наконец совсем один на вышке колокольни, он был пленен неописуемой картиной восхитительных окрестностей, чьим-то колдовством превращенных из действительности в чуть колеблемую пелену фата-морганы. Только город ясно рисовался твердым телом, туловищем полузверя-полурыбы в красно-буром чешуйчатом панцире крыш, а промеж чешуек торчали тут и там, отливая металлом, бугры и щетина. Допотопное это животное, свернувшись в клубок, нежилось под солнцем, на усталой, лоснящейся зеркальной глади, которая, покоряясь насилию божества, отвечала на него миллионом похотливых взглядов. Даль была женщиной, все более холодной и девственной по мере отступления к горизонту. Море же было похоже на призрачное марево, на дыхание, уже сбегающее с оконного стекла! Колышась и плещась, играла цепь островов: Лидо, Маламокко, Пеллестрина. Неподалеку спали их братья и дети: Мурано, Бурано, Маццорбо, Торчелло. Дымилась изъеденная болотами terra ferma. Кипели брожением поля равнины. Лучи сосали влагу из холмов, с которых в эту раннюю пору уже стаял снег. Тело матери тихо дышало запахом утренней хлебной опары, кукурузы, вина, дыма от людских жилищ. Здесь, наверху, был слышен только он, а не тот тропический пронзительный запах грузного зверя, возбуждающий запах, составленный из запахов оливкового масла, мокрого белья, нашатыря, грязи и тухлой рыбы. И она сверкала, эта равнина, в тысячу щелей. У границы того света, на рубеже невидимого, в рое ангелоподобных облаков, Альпы друзой кристаллов преграждали дорогу наступающей весне.
Ренцо низко перегнулся через перила. Вытянутый вкось прямоугольник Пьяццы, нахохлившийся купол пестрой Базилики, взволнованная сутолока домов, острова, лагуна, море – все было таким маленьким и близким! Огромный диаметр горизонта легко уложился бы в один человеческий шаг.
От дурманящего чувства высоты, от распада земных масштабов у юноши закружилась голова. Он закрыл глаза за своими очками с облезлой никелировкой. Его поташнивало; и было досадно, что даже вышколенный политической экономией мозг все-таки подвержен таким влияниям. Но, видно, стихии имели зуб на рационалиста.
Скрипнул канат. Закряхтел где-то рядом шпиль, плоско и негулко сорвался медный звон. И вот разразились громом колокола, распространяя безумие. Разбитый, растерзанный воздух взвыл от боли. Вихрь, воздушный воронковидный Мальстрем, закружил в водовороте танца.
Ренцо в ужасе нахлобучил шляпу и, подгоняемый фуриями звона, исчез сквозь люк в недрах колокольни.
Ночное недомогание не оставило в теле маэстро никаких следов. Им овладела тихая торжественность – с детства знакомое ощущение, когда за утренним окном спокойно синело летнее воскресенье.
Он сменил свой будничный, почти крестьянского покроя костюм на безукоризненный черный сюртук, придавший его статной фигуре, худощавой, но плечистой, настоящую элегантность. Затем он пригласил парикмахера, который немного подрезал на затылке его мягкие густые кудри и подровнял ему бороду.
Таким преображениям всегда сопутствует эстетическое удовольствие, но радость сейчас коренилась глубже. Судорога последних недель, борьба за будущее, в которой он был побежден, неуверенность, страх, ложное ощущение своей неполноценности, смирение перед тем, другим, – все это отошло вместе с ночным припадком. Здесь, в Венеции, он в строгой очной ставке свел счеты с самим собой.
В основе праздничного подъема сейчас лежало вновь обретенное чувство собственного достоинства, какое маэстро испытывал, бывало, в свои лучшие часы. С новой, удивительной объективностью познал он самого себя. Он больше не мерил себя по кому-то другому, – потому что лишь больное, увечное существо жадно смотрит вокруг и завидует. По-настоящему сильный не станет подкапываться под иерархию. Пусть будут и высшие и низшие существа; если сам он в своем роде совершенен, он участвует в демократии совершенств и никогда не может быть уничтожен. Только тех, кто нигде не чувствует себя на месте, вечно тянет расшатывать лестницу иерархии. (Но и это – высокая и очень важная задача.)
В рождественскую ночь, когда гондола Верди скользила некоторое время по каналу рядом с гондолой Рихарда Вагнера, маэстро сказал в успокоение самому себе:
«Я – Верди, ты – Вагнер».
Но только теперь, только сегодня эти слова стали правдой. Только сегодня ощущал он себя тем, кем был, и никакое сравнение, никакой приговор не мог его задеть, ущемить.
С теплотою думал он сейчас об этом несоразмерно крупном лице, в котором как будто читалось страдание от ограниченности выразительных средств человеческого тела, от невозможности дать той жизни, что билась в нем, постоянно меняющийся образ. Как бушприт корабля, символ пустившейся в плавание воли, выступал вперед, в подъяремный мир, его могучий подбородок. Пусть Вагнер взмахом руки отверг «Аиду» (а может быть, он, Верди, ложно истолковал его жест?) – все же внешний облик немца был ему мил. Когда маэстро представлял себе светлое германское лицо, он уже не видел в его чертах и тени настороженного высокомерия фанатика. Да и голос был красив и почти по-детски чист – открытый, искренний.
Симпатия выросла в дружеское чувство, в своеобразную нежность, к которой примешивалось почти отеческое стремление защитить этого человека, безудержно себя расточающего.
Уже без всякого стеснения маэстро радовался, что через час будет стоять перед этим исключительным человеком. Он не фантазировал, он твердо знал: Вагнер поспешит ему навстречу по широкой лестнице дворца, схватит его за руки и, радуясь почетному гостю, поведет в зал. Мешая французский язык с итальянским, он станет приветствовать его, подыскивать слова для своего восторга, что вот он принимает у себя боготворимого художника латинских народов. Возникает чудесно глубокий разговор. Он, Верди, признается сам: «Я не могу недооценивать того, что сделал. Но на моей „Аиде“, которая вам, Рихард Вагнер, незнакома, развитие итальянской оперы, я вижу, завершилось. Наша молодежь отворачивается от отечественной традиции и переходит в ваш лагерь, к вашей музыкальной драме. В настоящее время лирическая мелодрама презирается и высмеивается на основе ваших теорий. Вы сами понимаете, что в моей жизни был период, когда я не мог равнодушно терпеть это презрение, вся тяжесть которого падала в первую голову на меня, наследника нашей национальной музыки. Но теперь я достаточно состарился и научился трезво судить об абсолютной ценности искусства, о славе и посмертном признании и так называемом бессмертии, – как, наверно, и вы, маэстро Рихард Вагнер! Человек долго не понимает ни своего тела, ни своей души. Но в конце концов мы научаемся понимать, какие кушанья вредны для нас, каких иллюзий мы не перевариваем. Я, например, после ряда музыкальных попыток расстался с иллюзией, будто я могу еще раз начать сначала и создать новую, независимую, достойную моего прошлого форму. Мне осталась лишь последняя капля жизни… Я, правда, незнаком с вашим творчеством. Но голос света, голос лучших моих друзей утверждает, что оно не имеет равного в истории искусства. Вот вы сидите против меня, румяный, с молодыми глазами. Вас еще ждет немало побед. Поверьте моему искреннему слову! Нет на земле человека, который более чистосердечно желал бы вам счастья. Мне самому представляется чудом, что вот я могу теперь жить без всяких притязаний. И я благодарно, как юноша, наслаждаюсь этим часом свидания с вами…»
Медленно произнося в мыслях эту речь, маэстро сидит в кресле, лицом к дверям. Он счастлив радостным предвкушением встречи. Глубокая сосредоточенность заставила его закрыть глаза.
Вдруг ему привиделась большая зала с высокими стрельчатыми окнами. Это не может быть Вендрамин. И все же у одного из тех высоких окон стоит Вагнер и смотрит вдаль – на небо или на море. Маэстро договорил. Вагнер это чувствует. Он медленно всем телом оборачивается к нему. Тоже начнет сейчас говорить? Но нет, он молча строгой рукой проводит по сомкнутым губам. Потом своеобразной покачивающейся походкой делает несколько шагов навстречу маэстро. Два синих огня любовно приближаются. Глаза Верди окунулись в эти огни. Взгляды слились.
Но это слияние – невыносимое чудо, яркий луч, который испепеляет породившие его зрачки.
Маэстро в смятении поднимается с кресла. Солнце, небывалое солнце захлестнуло комнату. Стены зашатались в буре света. Широко бьет в окно неукротимый луч, который там, за стеклами, подпалил баржи и сжигает лагуну.
Звонили колокола, когда Верди садился в гондолу, чтобы ехать к Палаццо Вендрамин. Пробужденное солнечным часом, по городу шло легкомысленное веселье. На улицах было людно, всюду напевали и насвистывали. Маэстро нередко улавливал мотивы из «Власти судьбы». Вот гондола свернула в Каналь дель Палаццо, проскользнула под Мост Вздохов, проплыла мимо слепых дворцов, полуприкрывших свои разрушенные глаза, мимо садов, чью наготу немного скрашивает лишь темная зелень лавров и хвои, вошла в Каналь Фава, где набережную гулко оглашает многоголосый говор прохожих. За Риальто гондолу принял Каналь Гранде, где сегодня очень шумно: вспененный множеством барж и пыхтящими пароходиками, он плещет маленькими резвыми волнами. Маэстро всюду чудятся взвившиеся к безоблачному небу флаги. Разве в городе опять сегодня празднество – в самый обыкновенный вторник на первой неделе после карнавала?
Праздничное чувство растет. Так он, бывало, встречал великие часы своей жизни: первый концерт в Буссетском филармоническом обществе, которым он дирижировал, премьеру своей самой первой оперы «Граф Оберто ди Сан Бонифаччо», свой дебют в Opéra: «Иерусалим». Только теперь его порыв куда красивей, чище, бесстрашней. Он несет ему – врагу, надменному сопернику, чьим именем мирская злоба двадцать лет пыталась его уничтожить, – он несет навстречу Вагнеру переполненное дружбой сердце…
Выплыл Вендрамин. Пять двойных окон в каждом этаже играют золотом в этот час. Две мощных дымовых трубы поднимаются башенками в зябком воздухе. Обвитые водорослями и морской травой, гнилые и все-таки созданные для вечности, большие покосившиеся сваи стоят на страже перед королевским домом. Расплачиваясь с гребцом и выходя из гондолы, маэстро на залитой водою ступеньке ясно видел маленьких крабов, которые упрямо старались всползти на край, срывались и опять всползали. Портал стоит открытый настежь. В широких воротах, как и во дворе, не видно ни души. Маэстро огляделся, потом подошел к большой стеклянной двери и дернул звонок. Никто, казалось, не услышал. Рука, схватившись снова за кольцо звонка, еще медлит.
Вниз по лестнице с грузным шумом сбежал человек, рванул двери и уже хотел, не поклонившись, даже не взглянув, пронестись как сумасшедший мимо. Но Верди крепко схватил человека за плечо. Рот у того так и остался открытым, как бы для крика. Гость узнал швейцара, который много дней тому назад выпустил из ворот в Калле Ларга Вендрамип господина, размахивавшего цилиндром, а затем дерзким взглядом смерил его, Верди. Маэстро протянул визитную карточку:
– Господин Вагнер дома? Попрошу вас, передайте ему эту карточку.
Швейцар долго и недоуменно смотрит в лицо посетителю, потом им вновь завладевает то ужасное, свидетелем чего он был только что. Из горла вырвался заторможенный крик:
– Господин Вагнер?! Ах! Ах! Нет больше господина! Господин умер четверть часа тому назад. Ах! Добрый, добрый, добрый господин! Какое несчастье!
Лицо вестника передернулось. Он заплакал. Но слезы смыли ужас, и сознание собственной важности в сочетании с болтливостью челядинца одержало верх.
– Нет его больше, нашего доброго господина! А еще два часа тому назад он позвал меня, шутил, смеялся, добрый наш господин! Подумать только! Несколько дней тому назад, после карнавала, он пришел с другими господами домой: я открываю дверь, отвешиваю поклон, а добрый господин смотрит на меня… так печально смотрит на меня своими милыми глазами, бедный светлый ангел… кладет мне руку вот сюда, на плечо – ах, ах! – и говорит: «Саго mio amico, il carnevale и andanto».[95] Да, так он мне и сказал, бедный господин! Меня, меня одного он отличил! Ах!..
Загребая руками, человек бежит дальше – через двор, через вторые ворота – в город, разглашать страшную весть и собственную славу.
Ворота во двор остаются открыты. Маэстро спокойно покидает дом через эти ворота. Он не глядит по сторонам. Он уже здесь проходил однажды. Перед собой он видит церковь.
II
Голый и бурый открывается мрак этой церкви. Маэстро не в ладу с попами. Ненависть к Риму вошла в его плоть и кровь. Он считает духовенство несчастьем Италии. Когда Пеппина с домочадцами уходит по воскресеньям к мессе, он остается дома один и сердито хозяйничает в опустевших комнатах.
Но теперь, в дурмане, без мыслей, как беглец, вступает он в мрачную церковь. Он был когда-то причетником и органистом. Это тоже вошло в его плоть и кровь. Как тени, скользят и приседают юные служители вокруг алтаря, на котором горит лишь несколько свечей. Идет пора долгих молитв и литаний, на которых год доплетется до страстной недели. Призываются поименно пачками все десять тысяч святых. Хор разражается литургической мелодией:
«Ora pro nobis, orate pro nobis!»[96]Голоса юных клирошан поют с тем заученным беззвучным подвыванием, которым испокон веков отмечалось пение священников. Маэстро не видит набожных прихожан. Только снуют взад и вперед тени попов. Шаги неестественно шаркают, волочат за собою эхо, как лязг, цепей. Когда кто-нибудь кашлянет, стены гулко отражают звук.
Верди сидит на церковной скамье. Он все еще не думает. Бурая пустота бушует, кажется ему, с каждой секундой шумнее. Медленно ширится вокруг: «Вагнер умер!»
Сперва он чувствует смущение, как если бы он, незваный-непрошеный, сделался свидетелем чего-то страшного, священного, очень интимного. Потом он думает о том, как плыл сейчас в гондоле, думает о своем радостном ожидании, о праздничном чувстве, которое все время нес. Он обманут в ожидании светлой встречи! Вагнера нет! Вагнер умер в тот час, когда он, Верди, был на пути к нему! Как же это так? Наверное, кроется за этим некая тайна? Он видел его дважды. Третьей встрече не суждено было осуществиться. Почему? В эту ночь он сам едва не умер. А сегодня умирает Вагнер. Или смерть колебалась между ними, нерешительно тронула сперва одного, но затем остановила выбор на другом? Вагнер умер, всеми чтимый, всех изумлявший… умер! И миру – там, за стенами церкви, и священникам, здесь у алтаря, – никому до этого нет дела. Точно смерть его – самый безразличный факт!
А ведь случилось ужасное. С ним самим случилось ужасное!
Маэстро ждет боли, которая должна сейчас прийти. Двадцать лет его помыслы изо дня в день живут неразлучно с Рихардом Вагнером. Значит, умер очень близкий ему человек. Никогда не питал он к нему ненависти. А с той первой встречи в Ла Фениче желание поговорить наконец с врагом превратилось чуть ли не в страсть. «Вагнер умер». Теперь должна прийти боль. Но боль не приходит. Уныло, равнодушно бряцают голоса цепями имен святых и затем в плясовом монотонном ритме соединяются в хор:
«Ora pro nobis, orate pro nobis!»Маэстро хочет подавить то, что мрачно, твердо, ощутимо нарастает в нем. Ему стыдно. Он удивляется этому неудержимо нарастающему холодному чувству. Не боль, как он думал, как желал, как надеялся, не обильные слезы – нет: мутная, щекочущая радость, которая армией каких-то бесконечно малых тварей завоевывает и захватывает каждый мускул его лица. Совесть защищается. Как мерзка, как постыдна эта радость! Но она сильнее всех рассуждений!
«Вагнер умер. Я жив! Я сломлен в борьбе. Но и он пал. Он безнадежней побежден, чем я: я ведь жив, а он умер!»
Маэстро кажется, точно между ними десятилетиями велась дуэль, ежедневный и еженощный поединок, – и вот, уже сдавшись, он все-таки вышел победителем. Легкие его наполняются черно-бурым воздухом победной радости. Снова приходит на ум сравнение с источниками: «Если бьет один, должен другой иссякнуть. Вагнер умер!»
Вагнер больше не может творить. Завершенное, обозримое, неспособное к дальнейшему росту, его творчество лежит у всех перед глазами.
А маэстро жив еще. Кто знает? Он еще жив, и, следовательно, нет такой возможности, которая была бы для него закрыта! Он чувствует пьяный взгляд, который эта злая радость из темноты кишок, мимо сердца, нагнетает в его глаза.
Равнодушно и гнусаво звучит автоматическая и заклинательная формула молебствия.
Куда исчезли все страдания и внутренняя борьба этих дней? Неужели и смирение было тоже ложью? Подъема нет. Человек – зигзагообразная кривая. В нем все уживается одновременно. Злое побуждение нельзя умертвить. В свой час змея опять поднимает, насмехаясь, голову из бездны. Насквозь злое, скотски пошлое – радость по поводу смерти другого, – вот что после всех переживаний минувшей ночи явилось первым душевным порывом, каким маэстро приветствует освобожденную душу Вагнера!
Но тотчас же встает и отвращение. Маэстро яростно стучит кулаком по пульту.
Литанию нимало не заботит глухое эхо стука. Мгновение этой злой радости кажется теперь маэстро самым отвратительным мгновением в его жизни. Лучше умереть самому, чем оказаться способным на такие подлые чувства. Так вот каков человек! Сперва спешит с раскрытыми объятиями навстречу брату, а потом ликует, что тот погиб?
Рука в кровь избита о пульт.
Неужели правда, что на дне души – тина, чума, нечистоты, безнадежность, злоба? А сверху – жалкий пестренький карточный домик добродетелей, благотворительности, учения, преодолений? И только то, что на дне, настоящее?! Ну а здание, обман – неужели оно так быстро рушится?
«Вагнер умер».
Начинается служба в одном из отдаленных алтарей. Вступают новые голоса. Маэстро сообразил, где он. Мозг его высвободился из-под влияний, посылаемых снизу нервами туловища. Теперь у него такое ощущение, точно живет только голова, все же остальное онемело и застыло. А в голове бродит мучительный смех: «Таков человек! Нет правды ни в едином чувстве, ни в единой мысли. Мы не движемся вперед. Мы не развиваемся. Вчера я чуть не умер. Полчаса назад умер Вагнер. Он и я! Нужно ли принимать себя так всерьез?»
Фуга мучительных взрывов смеха бушует без плана в мозгу: «Нет правды ни в чем! Как это выдержать? Все на земле – страшная, печальная шутка…»
Литания, заглушенная было всем другим, что происходило в буром сумраке церкви, снова набрала силу:
«Ora pro nobis, orate pro nobis!»И вот хриплый смех переходит в страдание, которое сперва не желало явиться:
«Вагнер умер. Встреча умерла».
Люди теснятся на скамьях. Гулкое эхо церкви мучительно усиливается.
Маэстро вздрогнул. Он явственно услышал за спиной имя Фишбека. Он обернулся и увидел двух перешептывающихся крестьянок. В каждом слове их лопотанья как будто слышится: «Фишбек, Фишбек». Верди поспешно встает и выходит из церкви. Свой невыплаченный долг Вагнеру он отдаст молодому немцу.
III
Ночью Итало снова сделал попытку объясниться с Маргеритой Децорци.
Он ждал ее у подъезда к тому часу, когда она должна была вернуться домой из театра после «Власти судьбы». Он был уверен, что она придет не одна. Как могло быть иначе?!
Несколько дней назад она подарила ему сладкую любовь, которая свела его с ума, – так неожиданно явилось счастье этих объятий. Одна лишь ночь! Неужели у женщины бывают такие чувства? (В Бьянке каждое самое мелкое ощущение жило целыми днями.) Он неотступно думал о загадочных словах Эвридики. Она отсылала его обратно к Бьянке Карваньо: «Будь мужчиной, сознайся во всем!»
Ах, это была тонкая уловка, чтоб он тем полнее покорился ей, Маргерите. И затем: «Я – Эвридика, и среди смертных я дома. Все проходит сквозь меня».
И это правда! Она его предупредила. А теперь она презирает его. Почему? Почему? Итало находил лишь один ответ: через несколько минут они придут вдвоем – Маргерита с мужчиной. Итало отчетливо рисовал себе образ этого более счастливого рыцаря – карикатуру, не вызывавшую у него ни тени сомнения: крупный широкоплечий человек с густою черной гривой и с закрученными, торчащими вверх усами, какие придает ваятель памятникам полководцев. Итало глубоко ненавидел этот образ, созданный его фантазией. Его пальцы крепко сжали кастет. Он хотел преградить дорогу наглой паре, обругать соперника, наброситься на него, ударить, убить, умереть самому, положить конец.
Он жаждал скандальной драки, будто только ею можно было разрешить все путы.
Маргерита показалась на дороге вдвоем со своею матерью. Певица шла мужским широким шагом. Она смотрела в землю, словно обдумывая что-то. Ее лицо, очень серьезное, было почти некрасиво. Все, что было вульгарного в ее чертах, резко проступило в свете газового фонаря. Энергичная крупная фигура в белом широком манто не таила в себе ничего от Эвридики. Эта Маргерита жила не в мире мертвых. Мать едва поспевала за ней. К тому же старая дама несла чемодан с костюмом и театральными принадлежностями. Дочь временами бросала через плечо слова, короткие и точные. Они звучали непреложно, как десять заповедей.
Но где же мужчина? Глубоко разочарованный, что соперника нет, Итало стоял в темноте. Нервное напряжение ослабело. Он не посмел приблизиться к женщинам.
Несколько позже он все-таки добился приема. Мать, угрюмо усмехаясь, сохраняла вежливость. Пухлая маска матроны, ничуть не растерявшейся при бурном вторжении юноши, отняла у него всю храбрость и безжалостно вернула в рамки условностей.
– Значит, мне нельзя поговорить с Маргеритой?
– Ах, бедная девочка больна. Мы должны ее поберечь. Такое напряжение – и ведь каждый вечер! По настоянию врача я теперь и днем никого не буду к ней пускать, никого!
– Значит, я ее так и не увижу больше?
– О, почему же, почему же? Стаджоне продлится еще две недели. Мы будем рады, мы обе очень будем рады знать, что синьор вечерами в театре. Маргерита будет безутешна, если синьор перестанет ходить на спектакли. Мы останемся добрыми друзьями!
Итало ушел.
Час за часом он мерил быстрым шагом пустынные улицы ночного съежившегося города, и его осаждала мысль, что теперь он должен покончить с собой. Однако эти порывы порождались не безысходным отчаянием, а каким-то жалким чувством приличия. Они не могли бы заставить юношу причинить хоть малейший ущерб своему телу, которое цвело наперекор всем бурным переживаниям.
Последнее спасение: идти к Бьянке, признаться во лжи и в измене! Но разве она сама не догадалась давно обо всем?! А все-таки!.. Может быть, ее любовь одержит верх над его пошлостью? Нет, слишком многое встало между ними. Окончательно перетрусив, он боялся взглянуть ей в лицо.
Итало пускался бегом, останавливался, рвал на себе платье, выкрикивал глупые слова. Отвращение к самому себе свинцовой тошнотой сдавило ему горло, гнало, как кошмар.
Единственное чувство, какое он находил в своей опустошенной и парализованной душе, была жалобная тоска по Бьянке, похожая на тоску по родине. Его тянуло к ее дому, хотелось провести ночь под ее окном.
Но страх очертил заколдованным кругом ту часть города, где жила она. Проплутав полночи вокруг, Итало очутился в Калле Ларга Вендрамин. Он прислонился к ограде перед дворцом Рихарда Вагнера и тупо ждал февральского позднего утра.
В половине девятого он пошел домой, потому что ничего другого не оставалось. Отца он уже не застал. Брат Ренцо приехал позднее. Итало проспал несколько часов. В полдень его разбудило письмо. Он так устал и развинтился, что долго с бессмысленной улыбкой, ничего не соображая, вертел в руках конверт. Наконец мысли его прояснились.
Всю жизнь он не мог забыть того мгновения, того удара по нервам, когда он прочел подпись: «Карваньо».
Письмо состояло из двух слов: «Немедленно сюда!»
Под именем был указан подъезд и отделение больницы, куда приглашал его врач.
IV
Судьба Бьянки свершилась.
Два дня после сцены на пристани она молчала, на третий призналась мужу во всем. Свое признание он излагала с глубоким спокойствием, точно не в грехе исповедовалась, а рассказывала о случае из жизни, за который она ни перед кем не в ответе.
После недавнего тяжелого обморока окончательно завершилась та перемена, что в течение долгих недель происходила в Бьянке.
В ее чертах не отражалось и следа былого возбуждения, боли, отчаяния, ожесточения, гнева, тоски. Страстная, мстительная женщина, римлянка, неистовая любовница, казалось, окаменела. Или это было крайним проявлением той сдержанности, к которой она принуждала себя?
Древний миф говорит, что матерь неба и богов покрывает беременных женщин своим таинственным плащом, когда им грозит опасность. Этот плащ златотканой тенью окутал и Бьянку. Она, казалось, не страдала и не выдумывала, что страдает. Она вся была темное, покорное ожидание. Тяжелое, тихое равнодушие – равнодушие богини – делало ее неприступной.
С тех пор как врач вдруг осознал свою вину, он чувствовал, что не может предъявить никаких притязаний, никакого права на эту женщину, так непостижимо изменившуюся. Сообщение о ее неверности не только не дало ему новой власти над нею, а, напротив, усилило его раскаяние.
Он один во всем виноват, он жил только собою, своими целями; связанный узами с благородным существом, он покидал его подлее (ежедневно, ежечасно!), чем глупенький Итало.
То, что она бросилась в объятия пустому красивому фату, ложилось единственной тенью на образ жены.
Карваньо еще никогда не испытывал такого напряжения всех душевных сил. Как боролся он с глухою страстью за жизнь своих больных, так теперь он хотел сокрушить непроницаемую стену, вставшую между ним и Бьянкой.
Он знал, что для жены мучительно его присутствие. Поэтому он сидел в других комнатах или даже выходил на крыльцо, чтобы, не терзая ее, оставаться все-таки вблизи. Он сгибался под тяжестью беспросветных дум. Нередко подавлял он бурные рыдания – так искал он ее, так любил, так жаждал вновь ее завоевать.
Он вспомнил теперь тот разговор, что возник недавно между ним и Джузеппе Верди, когда ему выпала честь совместной прогулки с маэстро. Как просто и прекрасно Верди говорил о женщине, вознося ее и любя в жестоком чуде материнства.
Сострадание к женщине!..
Но эта женщина, которая сама провинилась перед ним, которая носила в себе чужого, быть может, ребенка, – эта женщина, непонятно почему, была настолько выше его, что внушала ему не сострадание, а благоговейный страх.
Ему выпало на долю одно из редких мгновений глубочайшего познания, какие дано пережить лишь очень немногим мужчинам. Большинство уныло, вслепую идут рядом с женщиной и, чтоб легче было пронестись над самой страшной в мире пропастью, создают из спутницы куклу по своему мужскому образцу, наделяя ее своими собственными мужскими интересами, честолюбием, даже извращениями. Женщина принимает эти дары и отражает на лице мужскую гримасу, потому что так легче жить.
Карваньо с горькой растерянностью открывал теперь в Бьянке подлинную сущность женщины, недосягаемо высокую. Как ни напрягал он мозг, он не мог понять ее, не мог вызвать в себе ощущений, которые помогли бы ее постичь. Женщина была чуждое начало.
Оглядываясь на прошлое, он вспоминал свою мать, и ему казалось, что и она была ему не ближе, что и о ней, о своей матери, он ничего не знал, кроме одного: что она заботится о нем.
Притаившись за дверью, он прислушивался к шагам и дыханию Бьянки. В такие секунды робость перед чуждым, непонятным существом отступала, и тоска вырастала в невыносимую жажду слиться с женой воедино, как в дни их первых восторгов. Совсем отдалившись от мужа, Бьянка, сама того не зная, не желая, распалила его. Потому что смысл противоположности двух начал – искра, и ради мгновения любви женщина должна оставаться для нас неизвестной целую вечность.
Карваньо, зачерствелый, всегда занятой, всецело преданный своему искусству врач, был захвачен круговоротом своей новой любви и старой вины. Он и секунды не думал о том, что, по современным буржуазным понятиям, должен был сам простить или же отвергнуть жену. Это все было для него безразлично, несущественно.
Его бессонная мысль билась только над одним: вновь найти подступ к Бьянке, начать с ней новую, более мудрую жизнь, после того как первая оказалась так постыдно исковеркана.
Он держал связь с двумя университетскими городами. Нужно будет непременно уехать с женой из Венеции.
Как ни сильно страдал этот горячий человек, он все-таки понимал, что придется переждать, пока не разрешится сплетение тяжелых, неясных событий. Впервые в жизни он совсем забросил свою работу.
В ночь с двенадцатого на тринадцатое февраля произошла катастрофа, обусловившая необходимость вызвать у Бьянки преждевременные роды. Утром Карваньо на маленьком баркасе скорой помощи повез жену в больницу. Врач, который, как утверждали его коллеги, обладал невозмутимостью полководца, производил сейчас жалкое впечатление. Измученный бессонной ночью, небритый, с синими кругами под глазами, промерзший, он как будто постарел на двадцать лет. Он непрестанно молился про себя развенчанным святым своего детства. Рыдая, обнял он старшего хирурга, взявшего на себя операцию. Он умолял его спасти несчастную, спасти его самого, потому что он не переживет жену ни на час. Все вокруг дивились такому немужественному поведению этого сильного и стойкого человека, никто не думал, что он способен так пылко любить, да и мало кто знал вообще, что он женат.
Но в то же утро, немного позднее, Карваньо сумел после этого срыва взять себя в руки.
Гинекология того времени боялась прибегать к хлороформу или другим наркозам, в особенности же при искусственных родах. Таким образом, Бьянка с самого начала была обречена переносить нечеловеческие муки. Беременность достигла седьмого месяца. Положение ребенка было крайне неблагоприятно, потеря крови очень велика. Все обстоятельства складывались так, что не оставляли никакой надежды.
Врачи благоговейно склонялись перед этой женщиной, которая так благородно несла свое страдание. Даже в самые страшные минуты она не кричала, а лишь молилась тихими, порывистыми словами. Когда боли становились нестерпимы, она находила прибежище в обмороке.
Обливаясь потом, уничтоженный, Карваньо стоял в дверях залитой солнцем палаты. Страшно раскрытые глаза жены стали совсем светлыми и отливали перламутром, как у мертвых животных. В этих глазах Карваньо уловил слабую тень какого-то желания, которое разгадал по-своему.
Потому-то он и написал Итало. Но когда ему доложили, что сын сенатора ждет внизу, его точно полоснуло по сердцу. Он собрал все самообладание, схватил молодого человека за руку и, не выпуская, повел в палату, где разыгрывалось то явление жизни, которое страшнее, чем смерть. Царила тишина. Спокойные, вполголоса приказания. Металл инструментов лязгал в стекло. Страдалица лежала в обмороке, сменившем последний приступ. Пульс, казалось, совсем пропал. Врачи еще надеялись, что удастся провести роды, не прибегая к последнему, отчаянному средству – кесареву сечению.
Итало увидел сперва залитый кровью каменный пол палаты, потом увидел распиленное тело женщины, мощные бедра, белые, как снег, и окровавленные, увидел повернутую голову, свисавшие волосы, мертвенное лицо, увидел Бьянку…
В это мгновение роженица испустила первый страшный крик. Почувствовала она близость Итало? Началась новая мука, страшнее всех прежних.
За длинным нескончаемым вдохом следовал крик. Крик за криком. И не жалоба, даже не боль наполняла эти крики – нет: в них звучали властный призыв к борьбе, боевой клич женщины, сама жизнь и требовали к ответу злого бога, измыслившего такую чертовщину.
Пальцы Итало впились в руку человека, чья жена была его любовницей. Дикий стон вырвался из его гортани. Хирург строго посмотрел на обоих мужчин, против правил стоявших в палате.
Карваньо уволок Итало за дверь.
Ритмично и неослабно почти нечеловеческие, звонкие и гулкие стоны женщины раздирали воздух.
Большие руки Карваньо легли на плечи тщедушного человека. Эти руки страшной тяжестью придавили Итало к земле. Тот не противился. Беспомощно стоял на коленях, он видел над собою неузнаваемо искаженное монгольское лицо врача, опухшие, плачущие глаза, дрожащие во всех морщинках и складочках слезы, искривленный в безумии рот. Он слышал, как взревел голос этого человека. Он разобрал слова:
– Теперь ты видишь, какие мы, мужчины, скоты! Да, скоты, скоты! Теперь ты видишь!
V
По дороге в Санта Катарину сотни мыслей осаждали маэстро. Медленно в противящееся сознание проникало невероятное: Вагнер умер в тот самый час, когда он, Верди, сбросил с себя бремя, тяготившее его десятки лет, и, как на праздник, шел искать встречи.
Властное слово недобрых сил лежало за этой судьбой. Смысл его скрыт.
Все, что Верди знал о жизни Рихарда Вагнера, фантастическими смутными картинами проносилось в его голове. Если до сих пор он избегал знакомиться с творчеством умершего, то все же неуклонная тяга много лет побуждала его жадно схватывать каждый анекдот о немце, каждую биографическую подробность, каждое слово Вагнера.
Голодовка в Париже, феерическое плавание по Северному океану, борьба на баррикадах в Дрездене, годы изгнания, дружба с юным королем-мечтателем, второй брак, сумасбродная затея современного композитора создать театр только для собственных произведений, его успех в Байрейте – вот из чего, из подвигов и страды, слагалась история жизни, напряжение и дерзновенность которой казались непомерными маэстро, до робости сдержанному.
Сегодня он нашел в себе спокойную силу склониться перед этой жизнью. И все-таки он не смог подавить радость – черную, низменную радость, радость освобождения от тягчайшего гнета. Какая глупая реакция лежала в основе этой радости! Если физически он и пережил Вагнера, его собственное творчество кончено, тогда как творчество немца продолжает жить и оказывать влияние. Бич по-прежнему занесен над ним – не стало только человека, того человека, навстречу которому час тому назад он шел с открытой душой.
Но, вопреки всем этим рассуждениям, маэстро все же чувствовал, что в мире – в его мире – что-то в корне изменилось.
Мысли устремились в другом направлении. Бурно всплывали старые, еще не осуществленные замыслы. Больница в Вилланове! И потом очаг для престарелых музыкантов – огромное учреждение, на которое он думал завещать все свое состояние и тантьему со своих опер.
Замыслы эти настойчиво требовали внимания и воплощались в образы.
Почему перед воротами кладбища толпятся нищие? Каждый смертный жребий, выпавший одному, есть пощада другому. И у этого другого возникает потребность откупиться, добровольным даянием оправдать милость к нему судьбы. Так что в основе людской благотворительности, самой тонкой и самой грубой, лежит метафизическая взятка.
В эту минуту маэстро, движимый такими очень человеческими мотивами, принял ряд прекрасных решений. Впоследствии они все были выполнены до последней мелочи, потому что Верди был честен и не мог нарушить слово, даже если дал его самому себе.
Дверь в квартиру Фишбеков оказалась запертой. Маэстро сразу заподозрил, что случилось что-то необычное. Может быть, молодые люди переменили квартиру? Или вдруг непредвиденно уехали?
Явственное чувство страха указывало на более печальные возможности.
Он постучался к соседям. Дверь отворила худая женщина средних лет, в мещанском неприглядном неглиже. Маэстро увидел перед собою большую комнату, где сцепились в драке чуть ли не двадцать ребятишек. Пыль и шум извивались смерчем. Болтались портьеры и шторы, косо висели на стенах образа святых с разверстыми мясистыми сердцами препротивной окраски.
В этой беспризорной своре маэстро разглядел совсем затерявшегося в ней маленького Фишбека. Мальчик глядел широко раскрытыми глазами и, видимо, не понимал, что с ним случилось. Он стоял в стороне, оглушенный галдежом дикарей.
Детский взгляд, доблестно пытавшийся сквозь удручение выразить улыбку, глубоко тронул бездетного. Однако Ганс не двинулся с места, не подбежал к маэстро, не проронил ни звука, как будто новая обстановка была тюрьмой и ему ни под каким видом нельзя было из нее уходить.
С громкими причитаниями, фальшиво и многослойно женщина разъяснила: несчастье стряслось вчера, рано поутру. Синьор, молодой немец, собрался выйти из дому и попросту упал на пороге. Его никак не могли привести в чувство. Ужасное горе! Она всегда предупреждала по-соседски этих неразумных poveretti. Дурное питание! Неправильный образ жизни! Она скоро год как знакома с этими милыми людьми. За этот год синьор Фишбек страшно изменился прямо у нее на глазах, – ведь он сюда приехал такой полный, краснощекий! Врачи – глупый и самонадеянный народ, ничего-то они не знают. Вот ей известны превосходные старинные средства, действуют безотказно, она их присоветовала им. Но разве станет молодежь лечиться! Агата такая беспомощная, нет у нее никакой власти над молодым мужем, а тот все время нарочно губил себя: гулял дни и ночи в любую погоду, не одевался как надо, не берегся. Подумать только: когда в комнате натоплено, расхаживал, чудак, в зимней куртке, когда же у них стояла ледяная стужа, раздевался чуть не догола. Ну, да они ведь немцы, богоотступники, протестанты!! Теперь лежит, бедняга в больнице! Спрашиваете, вернется ли? Она твердо уповает на мадонну, потому что она не принадлежит к богохульному сброду, навлекающему на всех нас кару небесную. Синьор, верно, их родственник, да? Знатный родственник Фишбеков?! Он может на нее положиться. Она делает добро не только на словах. Маленький Джованни («Поди сюда, мой ангелочек!») стал ей дороже собственных («Тише вы, черти!») шестерых сорванцов, вместе взятых. Ей это ох как не легко. Но она его содержит как принца, хоть и сама живет с семьею впроголодь. Мать каждый день благодарит ее на коленях.
Маэстро отозвал болтунью за дверь и сказал тем непреклонным тоном, который в разговоре с людьми делал его королем:
– Вы должны ходить за ребенком и хорошо его кормить. За все будет уплачено.
Потом, не оглядываясь, он сошел по лестнице вниз. Ему казалось, что он не вынесет дольше детского терпеливо-страдальческого взгляда.
В канцелярии Ospedale civile он прежде всего спросил, как ему повидать доктора Карваньо. Почтенному незнакомцу назвали отделение и послали санитара проводить до лестницы.
Одолев несколько ступенек, маэстро должен был остановиться, так как у него вдруг закружилась голова. Он понял, что смерть великого противника сильно его потрясла. Жизненные силы сдали и в нем самом.
На верхней площадке сидел молодой человек, который, ничего не видя, глядел в пространство угасшим взглядом загнанного зверя. Обычно тщательно причесанные, волосы Итало слипшимися прядями свисали на лоб. Когда в полумраке лестницы показалась мужская фигура, он отвернул лицо, чтоб его не узнали.
Маэстро вступил в равнодушно гулкий коридор. Острые, приторно гнилостные запахи больницы усиливали впечатление печали. Он находился, должно быть, в женском отделении. Женщины, вялые и неопрятные, в серых халатах, шаркали по каменным плитам разношенными комнатными туфлями. Большая белая эмалированная дверь, ведшая, по-видимому, в операционную, была приоткрыта. Приглушенно доносились из глубины этой горестной палаты протяжно, почти мелодически завывающие крики. Маэстро невольно остановился и прижал руку к сердцу. Он сразу узнал тот особенный мощный клич страдания, каким роженица приветствует боль.
О, боевая песнь! Вскипая в крови и грязи, она возвещает появление чумазого, не дышащего новобранца.
Старик, побледнев, увидел перед собой знахаря Беттелони, как он моет руки, приговаривая: «Трудненько было, парень! Вот видишь, так появляются на свет дети!» Маэстро вспомнил Маргериту Барецци, нарядную хорошенькую синьорину, которая с ним, несчастным неудачником, играла Гайдна в четыре руки, а потом две ночи лежала перед ним в бесстыдной муке, голая и грязная, – она, стыдливейшая любовница, всегда гасившая свет, перед тем как раздеться.
Она кричала вот так же, как и эта несчастная женщина, там, за безжалостными стенами. Какой закон установил на пороге жизни эту пытку?
И опять, как всегда, его мужская душа склонилась перед жестокостью этого закона. В это горькое мгновение (непонятно почему) ему невольно вспомнился поцелуй Маргериты Децорци, запах ее духов, легкое касание тела. Но привкус, оставшийся от минутного сладостного переживания, был теперь странно и отчетливо противен.
Крики вдруг оборвались. Значит, страдания женщины пришли к концу? Врач в белом халате вышел из двери. Маэстро спросил доктора Карваньо. Коллега сделал чрезвычайно серьезное лицо. С Карваньо сейчас нельзя говорить. Однако имя Матиаса Фишбека было ему знакомо. Он подвел посетителя к молодому ассистенту из терапевтического отделения.
Молодой врач очень почтительно дал все справки. Лицо посетителя (он упорно старался установить, кого он ему напоминает) внушало уважение;
– Фишбек? Знаю, конечно! Очень печальная история! Он лежит пока в общей палате. Но мы надеемся, что еще до вечера у нас освободится отдельная комната. Старший по отделению, доктор Карваньо, принимает в нем большое участие. Этот Фишбек, видите ли, музыкант.
– В каком он состоянии? Есть ли надежда?
– Нет! К сожалению, никакой! Он протянет от силы неделю!
– Но как же это возможно? Два дня назад молодой человек, хоть его и лихорадило, был еще на ногах!
– Наш диагноз установил у него редкую открытую форму чахотки, так называемый милиарный туберкулез, который иногда месяцами нельзя определить, пока вдруг он не прорвется, и тогда возбудитель болезни, распространившись по кровеносной системе, в несколько дней приводит к смертельному исходу. Нервный образ жизни больного, к сожалению, ускорил вспышку.
Вот мы и пришли. Но я должен вас просить, синьор, чтобы вы посчитались с тяжелым лихорадочным состоянием больного и не засиделись у него.
В белую палату уже заползли зимние сумерки. В воздухе чувствовался накал. Все эти разгоряченные тела, казалось, больше нагревали воздух, чем железная печь в углу. Под сводом стояло мутное облако скверных запахов.
В палате, вдоль стен, выстроились двадцать – двадцать пять кроватей с черными дощечками в головах.
У каждой из кроватей, молча или перешептываясь, топтались небольшой темной группой посетители и робко поглядывали на своего больного. Приемный час был на исходе. Угнетающую картину представляли эти кучки уныло шушукающихся родственников. Каждая группа, не заботясь о соседней и все-таки стесняясь, склонялась с видом заговорщиков над своим равнодушным больным, с минуты на минуту все более отчуждавшимся.
Телесный недуг представлялся единственной истиной! Как можно было посвящать свою жизнь тревогам театрального зала, оперы!
Только две кровати не были окружены родными. На одной из них можно было видеть голову погруженного в одинокую задумчивость больного, обрамленный густыми кудрями лоб. У соседней кровати, осунувшаяся и немолодая, сидела Агата. Подле этой кровати врач покинул маэстро.
Вид больного нас глубоко смущает. Не то чтоб он будил в нас – как можно бы подумать – страх перед страданием и смертью. Человек – извечный кочевник многих гостеприимных миров, и, зажив оседло на правах временного гражданства, он всегда, как истинный скиталец, испытывает стыд, если видит, что другой собирается в странствие. Это глубоко заложено в нашу природу. Мы с благоговением смотрим на тех, кто отбывает из жизни.
Так и маэстро должен был преодолеть смущение, перед тем как подойти к больному.
Много видел смертей Джузеппе Верди с тех пор, как маленький Ичилио умер на его руках. Ход агонии, обрывающееся последнее дыхание, которое исчезает, снова появляется после страшной паузы и наконец не возвращается больше, превращение живого изможденного лица в окаменелый канонизированный лик – все смертные часы вошли в него и жили в нем недвижимо. Они чаще, чем мгновения любви и восторга, облекались в его мелодии. В его «Miserere».[97] И придавали им могущество.
Теперь они все пробудились, эти смертные часы. Он чувствовал светлый восторг, и тихая, утешающая ясность духа передавалась от него, когда он положил свою сильную руку на руку больного.
Истончившиеся монашеские черты Фишбека выступали теперь еще резче, чем всегда, потому что губы его и щеки покрыла землистая, желто-бурая бледность, и лоб не устремлялся уже вперед. Сейчас он выглядел человеком лет сорока, если не старше; точно это был не он, а его отец, органист и чудак из Биттерфельда. Руки, неестественно тонкие в суставах, лежали покорно и инертно, так же как и тело, скрытое под неподвижным одеялом. Только дыхание вырывалось короткими и быстрыми толчками и бешено бился пульс в шейной артерии. В глазах томилась невысказанная мысль.
Маэстро наклонился к больному, улыбнулся:
– Ну, милый Фишбек, надо бросить эти злые шутки!
Глаза больного смотрели уже успокоено:
– Вот и вы, господин Каррара! Я давно вас жду.
Маэстро пожал Агате руку, тут же опять безжизненно повисшую. Но потом, узнав, что добрый друг видел маленького Ганса, молодая женщина собралась с духом и сказала несколько слов благодарности.
Сила утешения крепла.
– Молодой врач, который проводил меня к вам (он, кстати скажу, прекрасный человек) обещает, что вечером вы получите отдельную палату. Тут как в казарме… Ну, друг мой, как вы себя чувствуете?
– Отлично! Мне давно не было так хорошо.
– У нас нет ни малейшей причины для опасений. Само собой понятно, такая тяжелая лихорадка изнурит даже самый крепкий организм. Но врач, когда я настоятельно просил сказать мне неприкрашенную правду, уверил меня, что у вас уже начался процесс выздоровления. Вы переходите в разряд поправляющихся. Потерпите немного. Через несколько недель вы будете наслаждаться жизнью полнее, чем когда-либо.
– Да, синьор Каррара! Я нисколько не боюсь за себя. Мне хорошо. Только кровь все кипит, не унимается. И пусть! Она сожжет, она уничтожит все мерзкое, пошлое, нечистое, скотское – уничтожит ритм… И тогда я стану свободен.
Агата взглядом попросила маэстро перебить больного.
– Я пришел попрощаться с вами, мой милый Фишбек, меня отзывают по делам.
Фишбек лежал с закрытыми глазами. У Агаты вырвалась жалоба – первое непосредственное слово, с каким робкая женщина обратилась к маэстро:
– Мы теперь останемся совсем одни!
– Ну нет! Я принес вам добрую весть, друзья!
Больной на соседней койке повернул к ним свою седую голову.
– Тот видный издатель, которому я послал ваши ноты, оказался не таким старым простофилей, как я. Ваши идеи его увлекли. Он хочет издать все ваши вещи и даже сразу прислал мне вексель для вас. Это задаток под будущий договор на полное собрание ваших сочинений. Я вам оплачиваю вексель наличными. Это составляет десять тысяч франков!
Маэстро, не глядя на обреченного, очень деловито вынул из бумажника пачку крупных ассигнаций, внимательно их пересчитал и протянул Агате. Мысль сделать свой дар под таким предлогом пришла внезапно. С довольным видом человека, исполнившего приятное поручение, он сунул бумажник обратно в карман.
– Поздравляю вас с успехом, милый Фишбек. Для меня, собственно, он явился полной неожиданностью. Но теперь я посрамлен. Это мне урок на будущее. Когда вашу музыку начнут печатать, а потом исполнять, весь мир несомненно будет ею поражен. Если издатель ухватился за вещь, значит есть в ней толк. Вся моя критика опровергнута. Но только по просьбе предпринимателя я должен попросить вас потерпеть еще немного. Он скоро приедет сюда, лично с вами переговорит и заключит договор. Ваш адрес ему известен. Итак – терпение!
Матиас медленно приподнялся с постели. Лицо его – оно, когда оторвалось от подушки, стало совсем маленьким – не выдавало и тени сомнения или недоверия. Вся сила больного сосредоточилась в торжествующем взгляде, брошенном на жену.
– Вот видишь, Агата!
Голова его опять упала на подушку.
Человек на соседней койке тоже приподнялся. В сгустившихся сумерках маэстро разглядел бледное, помятое лицо актера. Эта безличная маска, какую носят в быту все посредственные мимы, певцы, люди эстрады, давно притягивала его глаза. Он, не глядя, ощущал на себе взгляд этого больного. Агата все еще держала ассигнации в руке, которая как будто боялась этой жестокой спасительной бумаги.
А Матиас, видимо, вовсе не думал сейчас о том, что эти деньги спасают его семью. Его тихий и ровный, сожженный лихорадкой голос спросил:
– И он приедет, издатель?
– Будьте уверены! Не станет же он зря терять аванс.
– А когда он приедет?
– Как только закончит свои дела в Милане. Через три-четыре недели. Ведь не к спеху. Адрес ваш он знает.
Фишбек усмехнулся почти злорадно:
– Ты видишь, Агата? Я вовсе не безумец. Я прав. Люди сами приходят ко мне. Они чувствуют истину. И не так уж чрезмерно долго пришлось мне ждать, чтоб люди пришли. Вы кое-что смыслите в музыке, господин Каррара, вы поймете меня. Что такое все прославленные произведения наших так называемых мастеров и наших новаторов?… Не что иное, как арпеджированные трезвучия и простые аккорды. Нудное благозвучие! Оперная мишура, проклятая оперная мишура! Дурной пафос, дурная сентиментальность, экспансивность, ни одного настоящего тона. Опера! Неужели ею исчерпывается вся музыка, беспредельная, как мир? Но вы все – вы не хотите жить, вы хотите только наслаждаться. Терпение! Через три недели я поправлюсь. Вы сделали хорошее дело, мой дорогой господин Каррара.
– Вы правы, друг! Мы видим лишь крошечный, жалкий клочок от ночного неба музыки. Трезвучия – и баста! Я должен довольствоваться ими. Вы знаете и новые созвездия. Но вам нельзя так много разговаривать. Вот вы опять закашлялись.
– И он возьмет у меня все в печать, все, что я написал?
– Все!
– И меня будут исполнять?
– Конечно! Вас будут исполнять!
– Мой друг Каррара! Я напишу хор в вашу честь, мотетту! Для исполнения! Вы увидите, как все это просто… как ясно… как понятно…
Больной говорил с трудом. Маэстро встал:
– Теперь вам лучше всего дать покой голове и радоваться в тишине своему большому успеху.
Лицо актера в темноте поднялось высоко над краем кровати. В палату вошел молодой врач. Родственники давно оставили своих больных. Верди обнимает взором образ умирающего, которого он больше никогда не увидит. Лицо готического изваяния приняло сумеречные полутона. Снова появляется мысль: «Вот погибает значительный человек. И никто ничего не узнает о нем».
Маэстро на прощание проводит рукой по горячему лбу, по светлым, болезненно сухим волосам. Потом говорит Агате:
– Я обо всем напишу вам из Генуи. Обо всем!
Врач подает молчаливый знак. Сторож зажигает несколько газовых рожков. Голоса больных тянутся навстречу свету, который медленно заползает во все углы.
– Мужайтесь, друг!
Маэстро произносит эти слова и больше не смотрит на немца. Образ угаснет, должен угаснуть! Его собственное лицо, лицо старого умного рабочего, тоже вдруг осунулось. Медлительным и неверным шагом он идет к дверям, не попрощавшись с женщиной. Когда он удаляется, больной актер, прямой и высокий, садится в своей постели и тихо, восторженно шепчет:
– Верди!
Никто этого слова не услышал.
VI
Коридор лежит в еще не темных сумерках. Людей не видно, но гулко отдаются их тяжелые шаги. Санитары, обходя одиночные палаты, небрежно хлопают дверьми (здесь не дают на чай). Маэстро медленно идет по коридору. Не дойдя до лестницы, он чувствует прикосновение тихой руки. Он оборачивается не сразу. Кто-то, благородный и застенчивый, стоит позади него. Но вот он оглянулся и увидел Агату Фишбек. Некрасивое, белесое, почти безбровое лицо неузнаваемо. Глубокое волнение придало ему строгость.
– Я знаю, кто вы!
Маэстро не находит слов. Он видит, что женщина держит в руке его фотографию, одну из тех, что наперекор его воле поступают в продажу. Женщина говорит торопливо и резко – спешит, пока не иссякла храбрость:
– Мой муж умрет. Очень скоро, я знаю! Вы с нами едва знакомы. Вы сделали для нас… для него больше, чем могли бы сделать отец и мать! История с издателем – неправда. Он умрет, но умрет счастливым. Благодарить он не умеет. Вы это, конечно, знаете сами! Вы – Джузеппе Верди!
Через силу, с жесткими паузами она выталкивает из гортани эти фразы. Маэстро не знает, куда спрятаться. Он тоже шепчет резко и отрывисто:
– Я хочу, чтоб вашему ребенку было всегда хорошо!.. Пишите мне! И приезжайте! Непременно приезжайте в Геную, в Сант Агату. Я возвращаюсь туда! Я позабочусь о ребенке!
Женщина едва слышит эти слова. Она борется с наплывом какого-то чувства. Это не благодарность. Это что-то более высокое. Луч, величие, человек! Зубы ее отбивают дробь. И вдруг, бурно зарыдав, она падает к ногам маэстро. Слова ускользают. Она прижимает его руку к своей щеке:
– И у нас тоже – Джузеппе Верди!.. Я вас знаю… Знала всегда!.. Как хорошо…
Она целует руку, которая яростно вырывается. Он убегает.
Маэстро попадает из темноты в какое-то подобие ворот. Далеко в проеме он видит лагуну у Новых Кварталов, еще одетую серым сиянием. Но пока он стоит здесь, на рубеже мрака и полусвета водной шири, что-то новое и удивительное происходит в его сознании.
С реальной определенностью он чувствует, что вовсе не стоит в воротах больницы, а сидит, как каждый вечер, у себя в Палаццо Дориа перед своим эраровским роялем[98] и импровизирует.
Но мгновение этого обманчивого чувства быстро проносится мимо.
Освободившись от больничного запаха карболки и экскрементов, он радостно набирает в легкие свежий воздух.
VII
Он питал нас, как сила природы,
Как свободная сфера всевластная
Воздуха
Всех нас питает.
Жизни его красота и сила,
Искони одинокая,
Стояла над нами, как песнями полные
Неба ночные моря.
В хоралах своих
Сливал он дыханье томящихся толп,
Чтобы голос нашли и печаль и надежда!
Он любил и плакал за всех!
(По Габриэлю д'Аннунцио)Так называемые Новые Кварталы в Венеции не имеют ничего общего с представлением о новой части города, о широкой перспективе нарядных набережных. Лицо Венеции отжившей и пленительной позолотой улыбается югу, свету Средиземного моря. Но эти кварталы, обращенные к хмурому северу, являют собой унылую изнанку жизни. О правда старой блистательной дивы! В полночь, когда некому любоваться ее дряблыми, подрумяненными, подбитыми и приодетыми прелестями, серо-бурая, ненавистная себе самой, отдается она увяданию!
Печальное застроенное взморье тянется на много километров от Арсенала до Сакка делла Мизерикордия,[99] пустынного и вонючего квартала при гавани. Большая казарма Сан Франческо делла Винья, исполинский цилиндр газового завода, стены городской больницы с их решетчатыми окнами недвижно глядят на воду. Но и вода здесь не похожа на упоенную красками и счастьем лагуну Сан Марко. Принимая в себя переливчатые стоки, она брезгливо сплевывает где попало. Сотни отмелей поднимают из зеркальной глади свои изъеденные проказой спины. Это поистине лагуна тленья, стигийские воды, которые в свинцовом прибое катят страшную тень телесного мира, любящего и смеющегося: болезнь, испражнения, запекшуюся кровь! Даже прочая природа, помимо человека, избрала это место под свою убогую свалку: здесь проносятся не только гнилые бревна, загадочные лохмотья, грязный хлам, но нередко, медленно вращаясь, всплывают распухшие трупы животных.
Самая большая из отмелей, искусственно поднятая, расширенная и обнесенная стеной, – кипарисовый остров Сан Микеле, пронзает своей колокольней вечно брюзжащее небо. Неудивительно, что такое побережье выдвинуло в северную лагуну своим форпостом остров городского кладбища.
Ощутимо гнет больницы спадает с плеч маэстро. Кажется, будто он оставляет ее, как только что выписавшийся больной, будто он пролежал на больничной койке несколько недель: при каждом шаге он чувствует тяжесть, чувствует слабость в коленях, усталость во всех суставах. Проходят мимо люди. Марширующие отряды солдат. Рабочие. Беднота. Людей все больше и больше. Венецианцы этого побережья не похожи на венецианцев с лагуны Сан Марко. Даже у влюбленных горит в глазах злая обида на жизнь.
В сгустившейся вечерней мгле величаво и многозначительно встают две картины. По ту сторону Канала Нищих, от берега к кладбищенскому острову, воздвигнут высокий временный мост – деревянный, шаткий настил, который в этом году после праздника всех святых почему-то не разобрали. Остров почти потонул в тумане, и кажется, что длинный узкий мост протянулся в бесконечность, в потусторонний мир. Возвращаясь домой, люди – многие с фонарем или со свечой в руках, – как тени, бредут по мосту высоко над лагуной. Точно где-то идет большое погребение или служат мессу. Колокольный звон все еще борется с туманом.
Несколько дальше к востоку, в стоячей воде, залегла на якоре большая землечерпалка. На кране уже замерцал фонарь. Но работа еще на полном ходу. Маэстро слышит скрип канатов и вытяжных цепей, слышит страдальческий хрип машины. Ритмические возгласы рабочих звучат как призывы раненого, повторяющиеся опять и опять. На судне царит, по-видимому, яростные упоение работой.
Словно качаются на мосту фигуры со свечами. Удивительно бесшумно люди идут сквозь тяжелые сумерки, и в их глазах отражена обида.
Из черных ворот – одних из тех ворот, что ведут из подполья больницы прямо в воду канала, показалась простая барка и взяла курс на Сан Микеле. Маэстро различает на борту несколько некрашеных гробов, беспорядочно сваленных друг подле друга, как бочки или ящики, без покровов, без венков. В этот час угрюмый дом выбрасывает свой балласт, который тут же сплавляют на гостеприимный остров.
Маэстро силится что-то вспомнить. Одно только имя: быть может, «Вагнер»… быть может, «Фишбек». Но имена не даются.
Какая-то сила, давно забытая, нарастает в нем. Он испуган: вспоминается ночной припадок. Но эта сила – не злая. Обороняться не надо, хотя она взбаламутила все внутри, судорожно стянула диафрагму, сдавила горло.
Если это смерть, ей имя – вдохновение.
Старик в коричневом пальто потрясает кулаками в непонятной угрозе, раскрывает объятия, шляпа сползает на затылок, он прислоняется к стене, упирает бороду в грудь, как в одышке, издает еле слышный порывистый стон. Незрячие глаза смежаются, роняют слезы. Руки все еще раскинуты, дрожат от внутреннего рыданья, и вдруг вырывается изо рта коротким, хриплым, безрассудным напевом возглас:
– Vendetta.[100]
Маэстро ничего не знает об этом слове, вырвавшемся у него. Оно ничего не значит. Это не крик о расплате за все закланные сегодня жизни, не простая реакция на тягостные переживания дня, не отклик на страшную тоску этого часа, и взморья, и моста, и людей.
Бедные люди вечернего этого мрака, обнявшего теперь все вокруг, молча уступают дорогу человеку, который бредет, как слепой, запрокинув голову, и бросает в небо судорожные слова. Никто не обзывает его дураком, никто не смеется.
Чем дальше углубляется в город человек, тем плотней, стремительней становится живой поток. Но он прорезает поток, не чувствуя его засасывающих водоворотов, не слыша его шума. Вот он сшибся с каким-то коренастым парнем. Тот хотел уже бросить грубое словцо, но смолчал и поклонился.
В арках ворот стоят женщины с детьми на руках. Один младенец протягивает ручонки. Старый священник в сутане с бессмысленной улыбкой смотрит вслед чудаку.
Маэстро стоит в своей комнате. Беппо ждет. Он исполнил все поручения, достал билеты. Он хочет отчитаться, приступить к повседневному обряду. На третьем слове он замолкает. Это лицо ему незнакомо. Разве это глаза его господина, всегда повелительные и ясные? Он ничего не понимает, но ему хочется подойти к своему господину, погладить старые руки.
Молодой слуга выходит на цыпочках.
Маэстро опускается в кресло. Он даже не снял пальто.
Вендетта! Вендетта – это значит месть?
Как от света свечи среди ночного простора плотнее становится мрак вокруг, так твердый смысл слова только затемняет то безмерное, что таится в людях.
Вендетта – не слово. Вендетта – утраченная сила. И даже больше: вендетта – волшебное мгновение той любви, которую только одно мгновение и можно вынести, да и то лишь не часто в жизни.
Верди все еще сидит неподвижно в темной комнате. Он не улыбается, не грустит, не мечтает. Он устал, как природа после дождя.
VIII
Я верю во вдохновение. Вы же верите только в поделку. Я хочу пробудить энтузиазм, которого вам не хватает, чтобы чувствовать по-настоящему. Я хочу искусства, в какой бы форме оно ни проявлялось, а не развлечения, заносчивой артистичности или теоретического умствования, коим у вас все и начинается и кончается.
Из письма Верди, которым он порывает с Парижем и парижской OperaЧествование, которым сенатор за бутылкой вина надумал доказать другу, что, невзирая на Вагнера и на изменившиеся времена, он все еще – Верди, все еще – любовь Италии, должно было состояться в восемь часов вечера все того же тринадцатого февраля. Собственно, чествование – слишком громкое слово. По уговору с соответствующими властями было просто решено, что в указанный час синдако, трое «отцов города» и граф Бонн вкупе с директором лицея Марчелло и наиболее видными профессорами этой консерватории явятся к маэстро в гостиницу и почтительно сложат к ногам высокого гостя привет и благодарствие от города Венеции за его многотрудную жизнь. После короткой дискуссии предложение сенатора дать великому маэстро почетное гражданство было отклонено, ибо соответственное постановление мог утвердить только пленум городского сената, а на это уже не оставалось времени.
Однако чем ближе подходила минута чествования, тем сильнее становилось беспокойство и глубже разлад в душе сенатора. Он начал понимать, что в любовном порыве затеял нечто такое, за что его друг по всему своему складу должен был сильно на него рассердиться.
Верди, всегда пугливо и яростно уклонявшийся от всяких оваций, в слезных письмах молившей всех пропустить его юбилей, возражавший против установки его бюста в фойе Ла Скала, называя это грубой безвкусицей, – Верди вновь и вновь заклинал сенатора не проговориться никому о его приезде в Венецию.
Старого борца за свободу бросало то в жар, то в холод. Девять раз бесцельно уходил он из дому и так же бесцельно возвращался. Даже с Ренцо, нежданно свалившимся ему на голову, он не потолковал и получаса. Сердце его боязливо сжималось. Будь это возможно, он отменил бы всю затею – так терзался он страхом перед строгим и непреклонным судом Джузеппе Верди. С каким лицом встретит маэстро этот парад синьоров во фраках? Со злобно-насмешливой миной молодых своих лет или с добродушно-иронической улыбкой старости? Будет он потом бесноваться или ласково пожурит друга?
То, что слегка охмелевшей фантазии сенатора в преувеличенных красках рисовалось как символическое приветствие от лица всей нации, теперь оборачивалось весьма опасной шуткой.
Добряк был в сильном смущении.
Но в семь часов вечера Беппо, лакей Верди, принес нацарапанное карандашом неразборчивое письмо, в корне изменившее ситуацию. В очень теплых, необыкновенно взволнованных словах маэстро сообщал другу, что не успеет с ним еще раз повидаться, что он, не пожав ему руку, первым же миланским поездом уезжает в Геную, домой. Старые друзья, полагает он, на склоне лет должны избегать прощания – ведь оно так легко может стать последним! За эти дни в Венеции он сделал попытку в совершенно чуждой обстановке, в честном одиночестве довести до конца известную работу. Если попытка и не удалась, он все же не может сказать, что даром потратил время:
«Болит сердце. Здесь я был свободней, чем где бы то ни было, и потому я многое увидел и узнал… Но, может быть, сомнение и печаль – естественные спутники старости».
Письмо заканчивалось очень ласковыми словами, какие маэстро лишь редко позволял себе заносить на бумагу. К разочарованию сенатора примешивалось чувство радости: он был счастлив этим письмом и доволен, что свалилось бремя с совести.
Без пяти минут восемь «заместитель Джузеппе Верди на земле» (так прозвали сенатора) вошел в вестибюль гостиницы. Как революционер, он не признавал фрака и надел наглухо застегнутый сюртук, высоко поднимавший его могучую фигуру надо всем обыденным. Этот костюм был тщательно обдуман. Суетность и верность убеждениям отнюдь не исключают друг друга.
Синьоры во фраках уже ожидали. Исполненные любопытства, респектабельно выстроились в шеренгу хозяин и служебный персонал гостиницы. Хозяин, многозначительно помаргивая, отважился заметить, что «неизвестный господин из второго номера» час тому назад расплатился по счету и отбыл.
В общении с людьми сенатору свойственна была резкая и вместе с тем небрежная, деспотическая и вместе с тем неловкая манера. Он бы нажил немало врагов, если б его чистое и доблестное имя не располагало людей прощать ему некоторые чудачества. Так и сегодня: с опасно побагровевшим лицом, кряхтя и отдуваясь, – как всегда в такие минуты, – он влетел в вестибюль и с видом вдохновенного мятежника замахал широкополой шляпой. Цилиндры нового времени, давно победившие бурную стретту всех неделовитых идеалов, трезво и корректно ответили на приветствие.
Сенатор пожал руку мэру города, кивнул немного снисходительно представителю музыкального мира графу Бони, сердечно раскланялся с незнакомыми ему членами депутации и пригласил синьоров в комнату маэстро. Хозяин, сознавая, как должен этот час возвысить его заведение, бросился вперед и собственноручно зажег все канделябры в «княжеских апартаментах № 2». И только когда в комнату вошел последний из представителей, он, пятясь, удалился за дверь.
Сенатор все еще жадно глотал воздух. Пока он молчал, в нем пробуждался старый политик и оратор, который, прежде чем заговорить, наслаждается своею властью над толпой, готовой покориться его зычному голосу. Человек сорок восьмого года, друг Мадзини, бесконечно превосходил всех этих узкогрудых синьоров.
– Государи мои, – начал он, – вы, отцы города, покровители искусств, вы собрались здесь, чтобы почтить и приветствовать величайшего из величайших в итальянском народе. Но – увы! – я должен вам сообщить, что Джузеппе Верди уже покинул наш город или в данную минуту покидает его.
Посыпавшиеся возгласы и вопросы сенатор тотчас пресек:
– Как ни печально мне, что мы не сможем оказать должную честь великому человеку, – признаюсь, у меня свалился с сердца тяжелый камень. Ибо, друзья мои, с нашим маэстро шутки плохи. Он больше всего на свете ненавидит официальные торжества и речи. Бог знает, как бы еще он принял нас.
Синдако с оскорбленным видом смотрел на сенатора, который, видно, совсем позабыл, что сам же был зачинщиком неудавшегося чествования. Чтобы соблюсти подобающее его рангу достоинство, он указал, что ни один итальянец, как бы ни был он знаменит, не может отнестись пренебрежительно к приветствию со стороны верховного главы города Венеции.
Но в глубине души худосочный бюрократ обрадовался, что так легко отделался от торжественного выступления, связанного с чуждой ему областью. Синьоры между тем были в некотором замешательстве. Они явились сюда в парадном одеянии, в орденах. Кучка зевак перед гостиницей выросла в благоприличную, готовую к овациям толпу. Нужно было найти какую-то форму, какой-то заключительный аккорд, чтобы достойным образом разойтись.
Меньше всех, казалось, понимал неловкость положения сам ее виновник. Сенатор расхаживал по комнате, любовно всматривался в каждый предмет. Наконец он встал перед десятью фраками, смерил их взглядом, выпрямился во весь свой внушительный рост и принял позу человека, собирающегося поучать других. И эти другие обрадовались. Речь – вот что могло наилучшим образом разрешить проблему, заполнить пробел.
– Час тому назад, – тихо начал сенатор, – Джузеппе Верди оставил эту комнату. Здесь с тех пор, конечно, еще не прибрали. Но посмотрите вокруг, государи мои, разве вы найдете хоть малейший беспорядок, который указывал бы на то, что здесь неделями работал, ел и спал человек великой творческой энергии? Поведаю вам, что этот самый пламенный и страстный человек, какого только встречал я в жизни, никогда не мял во сне свою постель. Огонь и самообладание! Кто поймет все величие этой победы? Таков Джузеппе Верди!
Романтическое заблуждение создало карикатурный идеал художника: цыган, неряха, оплевывающий стены Бетховен; слабонервный рассеянный безответственный человек, презирающий логику, живущий только чувством, дурак дураком! Какое искусство могло бы родиться от подобной души? Коротко сказать – преклонение перед злом! Возвеличение всякой мерзости! Какую книгу, например, называют сегодня хорошей и правдивой? Такую, где персонажи превосходят низостью низость действительной жизни. Вот тогда читатель в восторге. А когда музыка считается прекрасной, не банальной, глубокой, «большим искусством»? Тогда, когда она отмечена фанатическим уродством! В наше время людей обуяла дьявольская воля причинять друг другу боль. Какая же сила живет в нашем маэстро, если он способен противостоять всем соблазнам распада! Хозяин гостиницы не может пожаловаться, что его комнате или мебели нанесен какой-то ущерб. И все же по каждому предмету в комнате я чувствую, что здесь жил этот дорогой для нас человек. Смейтесь надо мной, если угодно, почтенные господа! От правды не уйдешь – я старый мечтатель. Но с тех пор как мы, твари земные, не верим больше в богов, мы должны создавать себе богов из людей. Кто же есть бог? Тот, в ком мы не разочаровались ни разу. Этот великий человек ни разу нас не разочаровал.
Я имел счастье быть другом многих героев. Вам это известно! Могу сказать, никто не знал Мадзини ближе, чем я. Я солдат и сражался бок о бок с Гарибальди, Розалино, Биксио, Хегедюшем. Но как ни храбры, как ни доблестны были они все, в их огне немало горело и соломы. Даже мой чистый и высокий учитель Мадзини не был вполне свободен от тщеславия. И теперь я скажу вам, почему Верди – бог. При своем великом даре он самый нетщеславный человек на свете. И я не знаю человека, который так неумолимо вершил бы суд над самим собою. Он всегда видит себя острым глазом художника. Потому-то он в то же время и самый справедливый человек на свете. Разве иначе он мог бы, выйдя из темных слоев, из неграмотных пролетариев двадцатых годов, совершить свой путь? Какая нещадная война с самим собою! Из года в год! От творения к творению! Джузеппе Верди – это божественное восхождение человечества на вершину. И оба они – человечество и Верди – победят одолевший их временно мрак.
Сенатор воспламенился. Флегматические синьоры во фраках напрягли мускулы. Приподнятый тон речи позволял ожидать желанной заключительной фразы. Но оратор все больше увлекался:
– Если бы Верди не написал ни единой ноты, он все-таки был бы большим человеком. Но так как он большой человек, его мелодии мощно текут по жилам человечества. Какой композитор мог бы похвалиться, что его напевы потрясают русских и немцев, индейцев и кабилов? А его хоры? Они самое высокое в его творчестве!! Хоры его первых опер – истинное чудо.
Как никто из его современников, умел он чувствовать массу, и потому он создал свои грандиозные хоры! Ибо он не единица, он – все! Это ключ к искусству!
О эти хоры! Я знаю, что они действуют вовсе не легкостью, не площадной банальщиной, – как вам угодно думать, господин вагнерианец, граф Бови, – нет, в них звучит чистота и доблесть человека, открывающая шлюзы всех добрых стремлений. Принципы современного искусства стараются усложнить банальное, чтоб его не сразу разглядели. А наш маэстро приводит к простоте мощное и сложное. Он – последний народный и всечеловеческий художник, великолепный анахронизм в нашем столетии.
В мыслях сенатора всплыла греческая фраза. Он хотел было ее проглотить. Но филолог одержал верх.
– «Прекрасно и доблестно жить учит искусство», – говорит этот стих неизвестного греческого трагика. А современное искусство разве учит прекрасной жизни? Скоро оно превратится только лишь в тщеславную игру на терпение между двадцатью группировками, пыжащимися друг перед другом. «Оригинальность» – вот их магическое слово, и они трепещут перед ним, не зная, что их оригинальность по большей части есть не что иное, как принудительный отказ от своего «я». О, как трудно приходится сегодня автору «Набукко» и «Аиды»!
Один из наших молодых ученых, безапелляционно заявив, что гений и безумие – одно и то же, отказал нашему Джузеппе Верди в гениальности, потому что он слишком здоров. Этакий сукин сын!
Здесь перед вами вся подлость эпохи, берущей под сомнение всякую силу и прямоту. Калека, психопат и преступник – вот кто для них истинный художник! Вот кто призван окрылять народ! Но где он, народ? Разве кучка министров, генералов, депутатов, бандитов пера, пустых бабенок, кретинов и одураченных простаков – народ? Нет, нет, благодарю покорно! Ты последний, мой Верди!
Резко оборвав, сенатор нахлобучил шляпу. С него довольно. Фраки прямо-таки вскипели при высоком финальном аккорде этого невразумительного суррогата торжественной речи. Граф Бони с обиженным лицом подошел к сенатору:
– Вы, почтенный, саркастически изволили назвать меня вагнерианцем. Не отрицаю, я поклонник Вагнера, что не мешает мне, однако, высоко ценить нашего великого Верди. Но ваш сарказм явился довольно несвоевременным, ибо несколько часов тому назад в нашем городе скончался Рихард Вагнер. Придется нашему градоправителю срочным порядком в согласии с семьей покойного разработать порядок торжественного погребения.
Худосочный синдако полуполыценно, полутревожно склонил голову. Право, слишком тяжело ложилось на его плечи представительство по делам искусства.
А сенатор что-то промычал и ушел. Он с грустью думал о друге, которого он долго, быть может больше никогда, не увидит; который, как всякий идеал, вновь от него отдалился на такую дистанцию, что остается только тосковать о нем.
Толпа перед гостиницей твердо решила зря не расходиться. Она должна была хоть кому-нибудь прокричать свое «эввива!». Имена всевозможных знаменитостей передавались из уст в уста. Имя Верди не было названо.
Вдруг какая-то всезнающая личность сообщила, что в гостинице остановился прибывший вчера в Венецию онореволе коммендаторе и кавальере[101] С, известный и элегантный депутат парламента, издатель газеты и владелец скаковых лошадей. Ропот удовлетворения пробежал в толпе. Когда почтенная депутация выходила из ворот, чтобы сесть в гондолы, люди, полагая, что он-то и удостоился официального чествования, самозабвенно выкрикивали приветствия герою дня и эпохи.
XI
Пока на Рива дельи Скьявони разыгрывалась эта сцена, маэстро сидел в укромном уголке третьеразрядной траттории и закусывал. Он завернул сюда бессознательно, ел, не замечая, что ему подают. Беппо он давно отправил вперед на вокзал. Нововведенный вечерний поезд на Милан отходил через час. Маэстро сидел полузакрыв глаза, отодвинув тарелку. Он не видел пьяной и прокуренной харчевни, не замечал соседних четырех столов со щербатой посудой и грязными скатертями, ни шумных и грубых гостей, ни черноволосой матроны, которая грохотала мужским смехом из-за прилавка в масляных и винных пятнах.
Все дальше отступали дни и люди Венеции.
Он видел перед собою все одно и то же: деревянный мост к Сан Микеле и на мосту похоронную процессию, людей со свечами в руках. И маячило в памяти то большое мгновение, когда судорога всего пережитого разрешилась в коротком варварском напеве слова «вендетта».
С бесконечно давнего времени суровый этот голос не откликался на призывы жизни.
Маэстро ненавидел громкие слова. Но ведь так и приходит оно – вдохновение: где ни попало, на улице, в комнате, даже на людях, вдруг мертвой хваткой сдавит тебе горло, замрет дыхание, и слезы хлынут из глаз. Не так же ли после того страшного кризиса его юности родились в бессмысленном гортанном хрипе первые такты «Набукко»? Но тогда в первый раз заговорил в нем голос, над которым не имел власти дух разрушения. В первый раз – и, конечно, в последний. И все же в глубокой душевной усталости что-то тихонько шевелилось: покой, счастье!
Ни краешком мысли не думал маэстро о том, что в нем когда-нибудь может вновь проснуться музыка. Но теперь резиньяция утратила наконец свое жало.
Верди вошел, заплутав, в узкий переулок. Столетиями бок о бок стоят надменные дома и смотрят друг другу в глаза, ничего друг о друге не зная, – совсем как люди. Брюзгливо горит единственный газовый фонарь. Маэстро поднял голову и увидел защемленное между крыш ночное небо, далекое и пустое. Он не верил в духов, но что-то побудило его оправдаться перед тем, другим, освободившимся:
«Ты мне испортил много лет. Может быть, вовсе не ты был помехой, а время, я сам, мои сомнения, которые я называл твоим именем, потому что мне его кричали со всех сторон. Как бы то ни было, я вел себя как средненький человек. Я не отважился на открытую встречу. Я приехал, чтобы видеть тебя, – и бежал от тебя. Не удалось мне тебя навестить.
Сегодня срок истек. И вот я поддался подлому чувству, гаденько позлорадствовал, что я живу, а ты нет.
Никогда, никогда я не прощу себе этой подлой радости. Но ты прости мне ее! Ведь ты покойник, а я не более как старый человек среди сотни тысяч других стариков. Мир нам обоим!»
Маэстро направился к выходу из переулка.
Но тут на него надвинулись, нечеловечески ровным шагом отбивая такт по тротуару, две тени. Впереди шла большая фигура в огромном цилиндре, почти по-военному маршируя вслед за высокой тростью. Позади поспешала вторая, более дряхлая, и несла, высоко подняв, ручной фонарь.
«Что за нелепый пережиток старины: в наш век газового освещения слуга следует с фонарем в руках за господином», – подумал маэстро и не посторонился.
Но вдруг он узнал маркиза Гритти, который не привык уступать дорогу и остановился, прямой и высокий. Гордый вид столетнего, как всегда, произвел впечатление. Верди с поклоном снял шляпу. Птичьи глаза маркиза, вернувшись из того полусна, что составлял тайну его жизни, закружили в орбитах, исследуя лицо смертного. Они не обознались. Теперь и престарелый Гритти чрезвычайно учтиво снял цилиндр. Потом поцеловал свои большие пальцы – галантная манера Венского конгресса, которую он усвоил в бытность свою секретарем моденского посольства.
– Узнаю! Высокоименитый маэстро! Далекое мне близко. Все еще в Венеции?
Маэстро, смущенный встречей, пробормотал несколько слов. Звонкий, чуждый вибрации голос отжившей условности сказал:
– Почитаю за счастье для себя!
Верди выразил соболезнование по поводу несчастья, коварно ограбившего единственную в своем роде коллекцию маркиза.
Андреа Джеминиано Гритти не стал задерживаться на этом предмете:
– Она будет восполнена!
Он не сомневался, что перед ним еще годы и годы для осуществления немыслимого замысла – восполнить свою коллекцию. Скептик Верди подивился несокрушимой вере столетнего.
– А сейчас, господин маркиз, вы, конечно, по вашему неизменному обычаю, направляетесь в театр? Где сегодня дают оперу – в Ла Фениче или у Россини?
Гритти повернулся к Франсуа:
– Где опера?
– У Россини, ваше сиятельство!
– А что дают?
– «Тайный брак», ваше сиятельство!
Маркиз остался чрезвычайно доволен справкой:
– Маэстро, несомненно, припомнит, что Доменико Чимароза был моим другом. Он умер восемьдесят лет тому назад.
К вящему триумфу, он добавил:
– Никто уже не понимает его шедевра. Извлекают его из мрака забвения, но не умеют его играть. Такова цена всему этому бессмертию!
И затем, помолчав в немом раздумье, он произнес лишь одно слово:
– Осуществить!
Недвижное без волос и без ресниц лицо придвинулось ближе:
– А знаете ли, многочтимый маэстро, отчего плохи все позднейшие оперы?
– Я очень хотел бы узнать?
– Стали писать слишком медленные мелодии. Тяжелое чувство – это безвкусица. Мелодия должна быть быстрой.
На этом изречении аудиенция была закончена. Шаги автомата удалялись. В дряхлых, но человеческих руках покачивался фонарь.
Маэстро все еще стоял не двигаясь. Он думал: «Как же так? Великий музыкант, устремленный в будущее, отошел в прошлое. Полуребенок, двадцатилетний юноша, убежден, что сам давно превзошел эту ставшую прошлым вагнеровскую „устремленность в будущее“, – и вот он при смерти. А личный друг Чимарозы пережил их всех и требует галопирующих мелодий минувшего века. И все это скрестилось на одном часе нашей жизни! Какая бессмыслица!»
У ближайшей пристани Верди сел на пароходик, который шел к вокзалу. Это был последний рейс в тот день. Тесно жались друг к другу люди с узлами и корзинами.
Маэстро стоял на самом краю, подставив ветру усталое лицо. Он искал глазами Палаццо Вендрамин. Грузно выплыл дворец, уродливый и пустынный. В окнах, во всех, кроме двух, было темно. Из них одно было очень ярко освещено, за другим же мерцал, казалось, только слабый отсвет. Здание уныло и обиженно смотрело в ночь, как будто смерть означала не только несчастье, но и неудачу.
Маэстро следил за ярким и за еле уловимым светом, покуда можно было различить их.
Потом отошел от барьера к толпе пассажиров, к изнуренным работой, болтливым, пропахшим острыми запахами труженикам, которые возвращались домой из города-острова в пригороды на terra ferma. Он закрыл глаза, и он усталости ему почудилось, точно он потерял сознание и великая освободительная стихия, похожая на воду, смыкается над его головой.
В это мгновение Джузеппе Верди отринул от себя Венецию и все, что к ней относилось.
Эпилог
I
…Что вы мне оставляете на долгие дни мои в Сант Агате? Жить наедине с плодом своего труда было моим великим счастьем; но теперь оно уже больше не мое, это творение…
Верди – либреттисту Бойто в день после премьеры «Отелло»
Поездка маэстро Джузеппе Верди в Венецию осталась тайной. Те немногие лица, с кем он там встречался, хранили молчание, так что ни в одной сколько-нибудь обстоятельной биографии маэстро об этом эпизоде не упоминается – ни у Мональди, Перинелло, Кекки, ни у Пицци, Резаско или Браганьоло.
Сам Верди никогда о нем не говорил и даже старался скрыть свою странную вылазку, так как стыдился всего непривычного и экстравагантного. Винья через месяц умер. С сенатором маэстро два года спустя встретился в Милане. На этот раз добрый друг из ревности вел себя очень сдержанно, почти что вызывающе. Окружавшая Верди толпа приверженцев злила его до бешенства.
Как ни сомневался скептик в новом откровении, то, чего он больше не ждал, на что не надеялся больше, свершилось. Десятилетнее бессилие, кризис, затмение творческой силы миновали, как рассеянная светом тень. В ту секунду, когда из груди человека, подавленного ужасом жизни пред лицом стигийской лагуны, суровый голос вырвал песню: «Вендетта!» – в ту секунду с него точно спало заклятие. Конечно, возрождение к жизни наступило не так резко, не так драматически. Но уже в ближайшие недели во время частых прогулок на Аквасолу все повелительней вставали музыкальные образы. Звуковые образы, а не нотные знаки, как в период бесплодной работы над «Лиром». И странно это складывалось теперь: Верди упирался.
Однако настал день, когда сопротивление оказалось тщетным. Музыкальный отрывок возник на бумаге. Неуклюжий, строптивый, трепещущий! Настоящая мощная кабалетта, как в бурные времена «Аттилы» или «Битвы при Леньяно».
Глубоко удивленный, маэстро улыбался, когда попробовал сыграть на рояле эту дикую песню, для которой он сам сложил короткие, отрывистые слова. Музыка эта возникла из того нечленораздельного возгласа «вендетта». Впоследствии она превратилась в величественное прощание Отелло:
Уйди же, уйди навсегда, о память святая! И во вторичном превращении сложилась в знаменитую клятву:
Под мраморным сводом небес. Так наконец пробил час и для бойтовского либретто.
После долгих колебаний, промедлений, сомнений Верди решил написать партитуру к этому тексту. Его глубоко волновала самоотверженность младшего товарища – тот ведь мог бы и сам положить на музыку свой шедевр.
И даже год спустя, когда уже было написано немало сцен, маэстро настойчиво предлагал Бойто-музыканту взять у него назад либретто поэта Бойто!
Непомрачимо прекрасным переживанием прошли для Верди три года работы над «Отелло». Страстное стремление скорей прийти к концу не имело больше власти над маэстро, как в первые годы его творчества, и не испытывал он терзаний совести над каждой вновь написанной страницей – как в период «Лира». Впервые он свободно, без щемящего сомнения, наслаждался полной радостью мастерства.
Его нигде не караулили ловушки – он слишком вырос, чтобы в них попасть, и не приходилось судорожным усилием брать с разбега препятствия. Он парил!
Генуэзцы-современники рассказывают, что им в эти годы вечерами нередко случалось видеть старого маэстро остановившимся под газовым фонарем с тетрадкой в руках. С блаженно-рассеянным видом, никого не узнавая, он вносил в нее свои заметки.
Верди так полюбил партитуру «Отелло», что долго отодвигал ее завершение, страшась того часа, когда с ним не будет больше этой его милой спутницы, с которой он сросся душой. «Мой бедный Отелло», – говорил он в письмах, отослав переписчику последний акт.
В вечер разлуки он был угрюм и несносен.
Он метался по высоким комнатам своей квартиры. Брюзжал, что мебель, как расставили ее двадцать лет тому назад, так и стоит несуразно до сих пор. Завтра непременно надо будет все передвинуть.
Искал какую-то книгу. Ее, конечно, украли – как гаванские сигары на прошлой неделе.
Обед доставил желанный повод для колких нападок. Макароны просто несъедобны. Надо призвать к ответу кухарку. Лились слезы. Назревала семейная драма. Джузеппина не сдавалась. В споре перебирались старые проступки, давно покрытые пылью времен.
Собрав последние остатки умиротворяющей покорности, супруга вздохнула:
– Никто не знает, что ты за человек! Дай нам бог, чтоб ты не написал больше ни одной оперы.
Маэстро съязвил:
– Ищи утешения в религии!
Насмешка переполнила чашу. Набожная Пеппина вышла из комнаты.
Из-за этой перепалки ежевечерняя одинокая партия в вист между супругами Верди запоздала на полчаса. Так долго не могли они помириться!
II
Слава ему, бессмертному, бодрому, победоносному!
Джосуэ КардуччиМиновала бурная зима первой постановки «Отелло». Великолепная весна Предлагала награду за неприятности и огорчения, которые неизбежно приносит театр.
В Сант Агате были гости. Только самые близкие друзья: Бойто и Джулио Рикорди. Пообедали на террасе, пили черный кофе. В седьмом часу оба гостя всполошились. Чтобы захватить миланский поезд, им надо было через два часа быть на железнодорожной станции Фьоренцуола Арда. Кончился их отдых.
Маэстро втихомолку давно распорядился заложить лошадей. Он решил проехать часть пути вместе с друзьями – нужно было дать распоряжения управляющему.
Пеппина, проводив гостей до плакучих ив у въезда в парк, распрощалась.
Верди устроился в коляске на переднем сиденье – друзья возражали, но он взмахом руки отвел их протесты. Вопрос был исчерпан. С аллеей тополей кончилось имение и открылся трезвый пейзаж Ломбардской равнины. На майских нивах хорошо и красиво всходили хлеба. Корячились обрубленные суковатые вязы. В сотне водостоков, изрезавших плодоносную землю, занимался закат. Маэстро то и дело молча указывал на какую-нибудь мызу, на трубу сыроварни, на канаву. Это все принадлежало к Сант Агате, было созданием ее владельца. Когда же коляска подкатила к конному заводу и к манежу, Верди совсем разволновался. Лошади были его страстью.
В ста метрах от усадьбы управляющего он приказал остановиться. Но не дал коляске стать, соскочил на ходу, кивнул на прощание друзьям и быстро зашагал к усадьбе. За ним поспешала длинная тень.
– Вот вам – дряхлый старик, – сказал Бойто.
Друзья улыбнулись вслед удалявшемуся маэстро. Они были ровесники – обоим за сорок – и были исполнены той особенной легкой растроганности, какая свойственна мужчинам в этом возрасте.
Надвигался вечер, своенравный и пленительно печальный. Джулио Рикорди откинул голову. Ничто в его лице не выдавало купца, это был скорее хрупкий сплав двух типов – аристократа и ученого. Джулио был наследником завоевателей. Помолчав, он обратился к Бойто:
– Был ты когда-нибудь совсем близок с ним?
Бойто, отвечая, не дал ни на полтона измениться своей строгой англизированной физиономии.
– Близок? Это не существенно! Он человек, которого я люблю больше всех на свете.
– Ты прав, Бойто. Но почему же мы так его любим? Он замкнут, суров, до грубости неприступен, не проявляет к другим сколь-нибудь глубокого интереса или же скрывает его… И все же его любят, как никого на свете.
– Может быть, это тайна чистоты.
– А что ты называешь чистотой?
– Невинность, прямоту, непорочное дитя в душе человека.
Рикорди, видимо, не был удовлетворен. Он уперся подбородком в набалдашник трости.
– В качестве издателя я приобрел нелепую профессию – общаться с великими людьми. Они большей частью очень вежливы, все эти господа знаменитости; соблюдая расстояние, рассыпаются в чопорных похвалах. Но, уверяю тебя, частенько я при этом чувствую себя приниженным и оскорбленным. А Верди, старый упрямец, меня возвышает. В его присутствии я знаю полную цену самому себе.
– Мне захотелось, – рассмеялся Бойто, – сымпровизировать классификацию великих людей. Итак, начинаю! Есть два типа гениев – пророческий и гомеровский. Берегись пророков! Они – людоеды, вербовщики прозелитов, рекламные герои и тираны…
– А разве маэстро не бывает тираном?
– Ради себя, ради своего интереса – никогда! Он помешан на справедливости.
– Значит, он принадлежит к гомеровскому типу?
– Тоже нет. На первом же примере моя классификация оказалась ни к черту не годна! Знаешь, почему Верди так застенчив? Он скрывает нечто на дне души. Нечто, чего никто не должен заподозрить. А что именно? Для этого нет слов. Назовем это высшим, трансцендентальным материнским чувством! Фу! Это звучит пресно, как немецкая диссертация. «Любовь» же звучит и вовсе неточно. Ну, ты, может быть, меня поймешь.
Они въехали в небольшой городок. По случаю воскресенья на площади играл городской оркестр (четырнадцать человек). Господская коляска из Сант Агаты не прошла незамеченной. Кто знает: может, в ней сидит сам маэстро! Музыка грянула хор из «Набукко»: «Va pensiero!»[102] Барабанщик неистовствовал. Крестьяне ревом голосов подхватили мелодию. Как суверен в своем экипаже прорезает бурю оваций и народного гимна, так промчалась легкая коляска сквозь музыку, площадь, городок.
Яркий полумесяц сжалился над сумерками.
Бойко тихо заговорил:
– Только слава бывает права!
Рикорди испугался:
– Неужели ты стал преклоняться перед успехом?
Бойто не расслышал вопроса. Он грустно развивал свою мысль:
– Что есть произведение искусства? Когда оно хорошо, когда плохо? В конце концов каждый из нас может предложить новую мелодию. Но все дело в том, будет ли она принята. Бывают мертвые, безвестные шедевры. Но раз они мертвы, я уже не считаю их шедеврами. Их, правда, ценит племя неудачников. Но только в отместку славе. Какая таинственная штука – слава! Люди подхватят мелодию, произведение, имя. Они наслаждаются им и наполняют его, как сосуд, своими собственными видениями и слезами. Возникает сокровенное единение в творчестве – обе стороны и дают и берут. Здесь не только гений и судьба; неизъяснимая сила играет там, где человек или его деяние превращаются в легенду.
Джулио стало не по себе от такой философии славы. Он знал, что его друг был исстари подвержен опасному соблазну мистицизма. Бойто добавил несколько слов о теологическом понимании благодати, которое будто бы стоит в некоей связи с этим вопросом. Затем перешли на обыденные предметы.
Однако маэстро по-прежнему занимал их мысли. Разговор незаметно опять вернулся к нему. Бойто признался:
– Мои отношения с Верди сложились очень странно. Я – его Павел. Было время, когда я его ненавидел и преследовал, считал его музыку скверной. Я был тогда совершенно ослеплен Вагнером…
Рикорди перебил:
– Вагнер! Сколько он, верно, выстрадал из-за Вагнера! Обмолвился он об этом хоть когда-нибудь?
– Никогда ни единым словом! Ты знаешь сам. Он, случалось, высказывался о Вагнере. Раньше редко, последнее время чаще. Но всегда по существу – дельно и трезво, как он говорит обо всем. Может быть, он вовсе и не страдал из-за него!
– Большое несчастье, что они никогда не виделись, никогда не говорили друг с другом. Какая была бы встреча! Я люблю представлять ее себе.
Бойто держался другого мнения:
– Несчастье, думаешь? Такие встречи чаще всего кончаются учтивым непониманием.
Зашла речь об «Отелло». Джулио Рикорди спросил:
– А ты находишь в партитуре хотя бы что-нибудь от Вагнера?
– Кто так говорит, у того нет ушей. «Отелло» – чистейшее вполне последовательное развитие «Риголетто».
– В этом характерная черта Верди и его величайшая заслуга! Он всегда защищал нашу музыку, и ты помог ему прийти к победе.
– Теперь последует комическая опера.
Бойто вдруг развеселился:
– Во всем свете не сыщешь еще одного такого хозяина и двух таких гостей: повернули друг к другу спины, а гадостей не говорят.
Друзья приехали в Арду как раз вовремя. Поезд должен был прийти через несколько минут. Они сели на скамейку на платформе. Бойто нервно шарил по карманам. Шла обычная охота за пропавшим билетом. Он вытащил вдруг неуклюжую перчатку – толстую шерстяную перчатку, какие применяются при садовых работах. От Рикорди это не ускользнуло.
– Что за чудище? Неужели твоя перчатка?
– Нет! Это перчатка Верди.
– Ты ее засунул нечаянно в карман?
– Я ее украл!
– Что?
– Украл! Да, я ее украл, как сувенир, как автограф, как бог знает что! Внезапное побуждение! Порыв страсти! Кроме шуток! Я не мог удержаться. Да! Смейся теперь сколько хочешь!
Джулио Рикорди и впрямь рассмеялся. Но в этом смехе не было ни капли сарказма.
– Смотрите: знаменитый композитор, автор «Мефистофеля», великий поэт! Ессо il leone![103]
Бойто поспешно сунул перчатку в карман.
– Считай меня чем угодно – школьником, кисейной барышней, американцем! Пошли!
Поезд подкатил.
III
И настанет день, когда не будут больше говорить о мелодии и о гармонии, об итальянской и немецкой школе, о будущем и прошлом и т. д. и т. д., – и тогда, быть может, наступит царствие музыки.
Верди к АрривабенеВ последние три года умирающего столетия овдовевший маэстро не мог выносить пустоту Сант Агаты.
Он жил в миланском Гранд-Отеле, где его опекал и холил, как ребенка, превосходный персонал коммендаторе Шпаца.
Как-то под вечер, в неурочный час, в рабочую комнату Верди зашел Арриго Бойто. Старик очень испугался и сидел с виноватым лицом.
Бойто увидел разложенную на столе нотную бумагу – множество исписанных страниц. Не постеснявшись смущения маэстро, – спасаться было поздно, он только судорожно смотрел в окно, – гость с жадным любопытством набросился на рукописи. Он давно угадал, что настойчивые уверения маэстро, будто он проводит дни свои в праздности, не совсем отвечали истине. Уединенные дневные часы отдыха, когда никто не смел его тревожить, наводили на подозрения, как и робкая, всегда отрывочная игра на рояле, которая слышалась порой в гостинице, в коридоре первого этажа. Все же верному Бойто, несмотря на все его хитрости, на уловки и подвохи, никак не удавалось проникнуть в тайну друга.
Но теперь неугомонный читал и вдруг разволновался:
– Но, маэстро, маэстро! Это же самое неслыханное, самое смелое из всего, что создано вами. Как можно прятать от людей такие сокровища?
– Бойто mio,[104] вы, видно, не смыслите по-настоящему в музыке! Все это безделки, шалости, лепет, эксперименты старческого бессилия. Баста!
Не обращая внимания на протесты Верди, Бойто читал дальше и дальше. Наконец он поднял голову:
– Я никогда не читал ничего более радикального…
– Господи! Пять-шесть выисканных необычных оборотов импонируют вам больше, чем самая прекрасная мелодия, самая заветная чистота стиля.
– Почему вы этого никому не показываете?
– Нынешние композиторы, когда издают свои вещи, думают только о том, как бы им поразить коллег. Я же всегда чувствую ответственность перед публикой.
– Если так, маэстро, зачем же вы это записываете?
– Не могу совсем отказаться от этой чепухи! Я слишком много бываю в одиночестве. Задачки, пустячки, мелкие поделки! Таково уж, видите, наше время! Искусство перестало быть само собой понятным. Теперь не говорят, а упражняются в грамматике. Я слыхал, будто парижские художники хотят теперь писать только живопись. «Писать живопись!» Эх, такие времена всегда бывали. Содержание отмирает. И тогда кидаются в растерянности обновлять материал, обновлять средства. Полосы затишья!
– А вы, маэстро? Вы тоже?
– Да, я знаю, это недопустимо с моей стороны, недопустимо! Но в конце концов это остается моим частным делом!
Старик попробовал подобраться к своим нотам, но пришлось отступить – предприятие оказалось безнадежным. Дальнозоркими глазами, всегда глядевшими немного выше предмета, он посмотрел на друга:
– Послушайте, Бойто, я теперь докопался до правды и открыл истинного демона, сокровенную тайну всякого искусства. – Маэстро состроил при этих словах самое невинное лицо.
Бойто вопросительно воззрился на него.
– Тайна искусства – скука.
– Скука?
– Да. Все приемы воздействия по прошествии нескольких лет естественным образом должны наскучить. Приходится измышлять новые. Вот вам и весь прогресс в эстетике.
– Браво, маэстро!
Старик все еще глядел на друга наивными глазами. Бойто расхохотался. Хитрый Верди воспользовался мгновением и сгреб свои рукописи. Бойто слишком поздно разгадал военную хитрость противника:
– Маэстро, дайте мне эти ноты.
– Нет, мой друг, нет, нет, нет!
– Я их только прочту на досуге.
– Знаю, но я не могу потерпеть, чтоб вы тратили впустую свое драгоценное время. «Нерон» не должен ждать. – Листы исчезли в ящике стола.
Маэстро стоял в полумраке. Бойто, крайне разочарованный, подошел к нему ближе. Но тут он прочитал на милом восьмидесятипятилетнем лице в тысяче морщинок и лучистых складочек такое чудесное выражение просветленного лукавства, что его благородное сердце не выдержало, в глазах проступили слезы.
Теперь он глядел в окно.
Верди шарил по всем карманам, ища спичек. Наконец он их нашел и, одолев ряд новых и новых помех, зажег на рояле лампу. Затем он придвинул к инструменту второй стул и поставил на пульт старинную нотную тетрадь:
– Так-то, милый Бойто! А теперь давайте-ка сыграем одну из этих успокоительных и мастерских сонат несравненного Корелли. Но только одну! Больше мои глаза не выдерживают.
Игорь Бэлза. Сказание о мастере и человеке
Летом 1945 года, чувствуя приближение смерти, Франц Верфель продиктовал жене текст эпитафии, который он просил начертать на его надгробии. Этот поэтический текст начинался словами: «Прага взрастила меня, Вена влекла и манила». Чешская столица действительно взрастила автора «Романа оперы». Там он родился 10 сентября 1890 года, там он учился в школе и в немецком университете, там, в «консерватории Европы», как с гордостью называли чехи свою «золотую Прагу», он с юных лет погружался в прекрасный и таинственный мир музыкальных образов. Он слушал произведения великих мастеров Запада, звучавшие в оперных театрах и на концертных эстрадах, знакомился с творческими завоеваниями Сметаны, Дворжака, Фибиха, Яначка и других чешских композиторов, в том числе и выдвигавшейся плеяды учеников Дворжака – Сука, Новака, Недбала, продолжавших утверждение и развитие традиций чешской музыкальной классики. В Праге исполнялись также произведения русских классиков от Глинки до Скрябина. Еще при жизни одним из любимцев пряжан стал Шопен. Университетская молодежь горячо обсуждала музыкальную жизнь города и увлекалась музицированием в студенческих кружках.
Деятельным участником этих кружков был Верфель. Интересы его отличались необычайной широтой и выходили далеко за пределы школьных и университетских программ. Наряду с литературой и музыкой его подлинной страстью рано стала история. Внимание его, по свидетельству современников, привлекали средневековье и Возрождение, гуситские войны и создававшиеся в те годы боевые песни и гимны, которые собирал и изучал, публикуя затем в объемистых томах (1904–1913), крупнейший чешский ученый Зденек Неедлы (1878–1962), завоевавший европейскую известность своей трилогией об истоках и развитии гуситского песнетворчества. Чешские друзья знакомили юного Франца с сокровищами, собранными в трудах неутомимого исследователя, который в 1901 году был удостоен ученой степени доктора древнего Карлова университета в Праге за свои труды об «эпохе чешского народного подъема», как назвал ее сам ученый.
Академик Зденек Неедлы, ставший корифеем отечественной, да, собственно говоря, и мировой исторической науки, во время одной из последних пражских встреч с автором этих строк сказал как-то, что в начале века пражская молодежь пела гуситские гимны. «Не только чехи, но и австрийцы», – заметил он, вспоминая Верфеля и его «гуситскую трагедию», о которой речь пойдет у нас дальше. В процессе формирования творческого облика Верфеля как писателя отчетливо проявилось его стремление к решению этических проблем, которым характеризуются уже его наиболее ранние произведения, создававшиеся еще в Праге. Глубокий психологизм, свойственный Верфелю, во многом был связан с широтой его «круга чтения» и высоким интеллектуализмом писателя, побудившим его обратиться к трудам Зигмунда Фрейда (1856–1939), основоположника того направления в психологии и психиатрии, что получило название фрейдизма, а затем вышло далеко за. ее пределы, охватив, в частности, историю культуры, а также личную жизнь и творчество ряда мастеров.
Еще будучи студентом, читал Верфель ранние работы Фрейда, серия которых была начата под руководством знаменитого французского невропатолога и психиатра Жана Мартена Шарко (1825–1893). Вспоминая годы 1885–1886, когда он стажировался в клинике Сальпетриер у Шарко, Фрейд как бы подводил итоги исследований своего учителя, а в его некрологе намечал уже пути дальнейшего развития науки о человеческой психике и болезненных явлениях в ее деятельности. Верфель читал и этот некролог, появившийся в 1893 году в «Венском медицинском еженедельнике», и другие публикации Фрейда, стремительно выдвигавшегося в качестве главы «венской психоаналитической школы» и привлекавшего к себе учеников и последователей.
Благодаря поддержке своих состоятельных родителей юный Верфель выписывал специальную литературу из Вены, приобретая, в частности, труды создателя «аналитической психологии» швейцарца Карла Густава Юнга (1875–1961), внимательно следил за публикациями Альфреда Адлера (1870–1937) и других учеников Фрейда. Изучение психоаналитических концепций было не просто фактом биографии Франца Верфеля, но и сыграло заметную роль в его творчестве, – в известной степени это относится и к публикуемому роману.
Представляется поэтому нелишним сказать несколько слов о психоанализе, тем более что эта область науки о человеческой психике и ее тайнах после публикации трудов Фрейда в русском переводе в течение долгого времени в нашей стране (впрочем, не только в нашей) подвергалась уничтожающей критике, характер которой большей частью объяснялся некомпетентностью судей. Нельзя отрицать, правда, что некоторые замечания, продолжающие к тому же оставаться в силе и поныне, следует признать вполне справедливыми. Таков, например, упрек в мистицизме, вызванный в свое время отдельными работами самого Фрейда, который, кстати сказать, принадлежал к венской масонской ложе Великого Востока. Трудно, разумеется, дать сколько-нибудь обобщающую характеристику венского масонства, некоторые черты которого позволяют найти основание для подобного упрека, ставшего известным и Верфелю еще в студенческие годы. А несколько позже он узнал о самоубийстве двух учеников Фрейда после появления его небольшой работы «По ту сторону принципа наслаждения».
Писатели изучали психоаналитическую литературу, помогавшую им, как они считали, глубже постичь духовный мир человека, образы мифов, литературных произведений. Пристальное внимание вызвала книга «Миф о рождении Героя» Отто Ранка, анализировавшего образы Эдипа, Париса, Персея, Гильгамеша, Тристана, Ромула, Геркулеса, Зигфрида, Лоэнгрина. Список этих персонажей продолжали и продолжают пополнять по сей день психоаналитики, причем здесь нужно прямо сказать о том, что в их трудах нередко допускаются и очевидные натяжки как естественное следствие подчинения схеме. И если заслуги Фрейда, его последователей и других авторов, занимавшихся выдвинутой им проблематикой, бесспорны в области терапии неврозов, то психоанализ художественного творчества не раз вызывал дискуссии.
Но именно основы терапии неврозов, разрабатывавшиеся еще в клинике Шарко, радикально изменившего, например, варварские приемы лечения истерии, послужили отправным пунктом для распространения психоанализа в других областях человеческой жизни и культуры. Фрейд создал концепцию «бессознательного» – той области человеческой психики, куда, по его терминологии, вытесняются из сознания аффекты, создающие группу неврозов страха, возникающих, по мнению ученого, как правило, в детстве, когда ребенок начинает бояться отца и испытывает чувство протеста против того, что отец как бы отнимает у него мать, которую дитя считает принадлежащей только ему. Это «вторжение отца» в жизнь и счастье ребенка создает невротическую травму, в сознание прямо не переходящую, но отражающуюся на психике и потенциально создающую творческие импульсы, рождающие образы отстраненияотца как помехи в отношениях с матерью.
Такое стремление, возникающее в бессознательной сфере ребенка, получило в психоанализе название эдиповского комплекса, теоретическую разработку которого Фрейд дал позже в своей знаменитое работе «Достоевский и отцеубийство». Воспользовавшись именем героя софокловской трагедии, которого Рок заставил убить своего отца и жениться на своей матери, венский психиатр указал и на модификации этого комплекса, анализируя «Братьев Карамазовых» (Грушенька не приходится матерью убийце!) и шекспировского «Гамлета» (принц ненавидит не отца, а отчима, правда, ставшего мужем матери Гамлета!).
Не будем останавливаться на методике и технике психотерапии, освобождающей человека от комплексов. Напомним лишь, что Юнг отстаивал точку зрения, в силу которой невротические комплексы возникают не только в детстве, а и в дальнейшем, сплетаясь в бессознательной сфере психики в некий итог, который швейцарский философ-психолог предложил назвать Тенью. Этот поэтический образ он противопоставил другому полюсу человеческой психики – тому, где накапливается все светлое, где происходит «выход из тени», преодолевается все препятствующее утверждению человеческого интеллекта, раскрытию его духовной мощи. Такой светлый итог, противостоящий Тени, Юнг назвал Anima – душа (как не вспомнить здесь булгаковскую фразу «Душу наработать нужно» или строку Гумилева – «Чтоб душа старела и росла»).
Поиски и открытия ученых, стремившихся проникнуть в потаенные глубины человеческой психики, Верфель своеобразно воспринял уже в студенческие годы, живя в великом городе, о котором он с чувством признательности вспоминал, завершая свой жизненный путь. И в историю австрийской литературы он по праву вошел как выдающийся представитель «пражской школы».
Имя поэта, прозаика и драматурга Франца Верфеля хорошо известно в нашей стране. Его юношеские стихи блистательно переводил в Киеве на русский язык Владимир Маккавейский еще до первой мировой войны. Мастерской законченностью отличается и русский перевод «магической трилогии» Верфеля «Человек в зеркале» (1920), выполненный Владимиром Зоргенфреем и опубликованный в Петрограде в 1922 году. Затем у нас были изданы прозаические произведения Верфеля: «Не убийца, а убитый виновен» (1924), «Смерть мещанина» (1927), «Однокашники, или История одного греха молодости» (1929). В тридцатые годы советские музыканты знакомились с оперой Дариуса Мийо «Максимилиан», написанной на сюжетной основе трагедии Верфеля «Хуарес и Максимилиан» (1924) и впервые поставленной в Парижской опере в январе 1932 года.
Принесший Верфелю мировую славу роман «Верди» вышел в русском переводе впервые в 1925 году. То был сокращенный перевод первой редакции романа, законченной писателем в 1923 году, причем в предисловии к книге Верфель писал, что замысел ее возник двенадцать лет тому назад. Но именно в 1911 году писатель опубликовал свою новеллу «Тамплиер», пронизанную музыкой Верди, с образом и творчеством которого Верфель уже не расставался до последних лет жизни своей. «Тамплиер» – первая из книг «вердиевского цикла» Верфеля, и нити от нее тянутся непосредственно к роману «Верди».
Новелла эта была напечатана писателем на свой счет очень небольшим, «библиофильским» тиражом. Видимо, это и было причиной того, что о ней, как правило, не упоминают даже историки литературы. Мне удалось прочитать ее лишь в польском переводе Виктора Кизеветтера – варшавского эссеиста и библиофила, с которым Верфель поддерживал переписку. Перевод этот, к сожалению, был издан также весьма ограниченным тиражом.
Герой новеллы Готфрид – потомок тамплиеров, которые от поколения к поколению передают заветы служения Храму, иными словами, внутреннему миру человека. Самым благостным из этих заветов Верфель считает стремление человека к моральному совершенствованию, к благородству помыслов и поступков. Верфелевский Готфрид живет двойной жизнью (мотив двойника не раз возникает у Верфеля и в других произведениях). Он – литератор XX века, остро чувствующий кризис Запада, и в то же время – «древних ратей воин отсталый» (так назвал себя Гумилев в стихотворении «Ольга»), погружающийся в далекое прошлое, становящееся для него вполне осязательным и реальным. И тогда Готфрид не только видит подвиги рыцарей, собрания капитула Ордена, но и слышит музыку Верди, торжественные сцены из его «Навуходоносора», «Ломбардцев», «Аиды» и других опер. Этический пафос музыкального искусства противостоит во всей новелле «Тамплиер» горькой действительности «страшного мира». Так возникает в новелле экспрессионистский мотив двойственности сознания, восходящий к его глубинам.
В последние годы своей жизни Готфрид встречается с Ренатой, которая становится его возлюбленной. И начало его смертельного заболевания совпадает с тем днем, когда какой-то человек с истасканным лицом пошляка показывает ему сделанный в Альпах снимок. На нем изображена смеющаяся Рената, ее обнимает этот человек. Здесь выступает один из важнейших мотивов романа «Верди» – сострадание к женщине. Кратко и с какой-то яростью описав состояние Готфрида, задыхающегося от невыносимых болей в сердце, Верфель обращается только к Ренате. Это ее судьбу он оплакивает, когда в эпилог новеллы вновь врывается музыка Верди, Рената слышит троекратные возгласы жрецов, готовящихся вынести смертельный приговор Радамесу, рыдания Амнерис, погребальную молитву, последний дуэт Радамеса и Аиды, особенно восхищавший Верфеля. И в новелле «Не убийца, а убитый виновен», где, кстати сказать, проявляется эди-повский комплекс, писатель возвращается к этой мелодии: «Божественный финальный дуэт из вердиевской „Аиды“! – восклицает он. – О, спокойная, непобедимая печаль сильных сердец перед неотвратимым!»
Но музыка «сильных сердец» звучит у Верди, а Верфель видит окружающую его героиню «трагическую повседневность» (недаром он взволнованно откликнулся на озаглавленную так книгу Джованни Папини). Маленькая комната Ренаты. Бедная девушка-гид, боящаяся потерять работу в туристском агентстве, оплакивает растраченные ею юные годы. Верфель вновь вводит здесь патетическую музыку Верди, завершая новеллу драматическим штрихом. Задремавшая Рената вздрагивает, услышав непонятное ей слово «Босеан» – боевой клич тамплиеров (и название их черно-белого флага), откуда-то ворвавшийся в музыку «Аиды» и в тишину ночи. На лице Ренаты отражается такой же ужас, как у Бьянки Карваньо в самые тяжелые минуты ее жизни.
Мы остановились на этой несправедливо забытой новелле потому, что она приближает нас к пониманию «романа оперы», как назвал Верфель своего «Верди». Но годы, отделяющие появление «Тамплиера» от романа, задуманного, по свидетельству самого писателя, тогда, когда он работал над новеллой, ознаменовались сложными, порой даже мучительными, творческими и философскими исканиями. Не забудем, что то были годы первой мировой войны, великих свершений Октября, революционных взрывов и идейного кризиса на Западе.
Имя Верфеля часто упоминалось в те годы в связи с именами Мейринка, Эдшмида, Перуца и других выдвинувшихся тогда австрийских и немецких писателей-экспрессионистов, хотя, собственно говоря, творческие облики их были далеко не схожими.
Александр Николаевич Веселовский указывал в свое время на отсутствие ответа на вопрос, что такое романтизм: «Термин случайный, как многие, которыми мы орудуем, как готовыми формулами, предполагающими известную определенность. Между тем относительно этой определенности до сих пор не согласились».[105] И, вспоминая эти слова великого русского ученого, мы должны признать, что, хотя с тех пор, как они были высказаны, была создана огромная литература и в нашей стране, и за рубежом, но «универсального» определения романтизма ни в одной из посвященных этому направлению работ нет и поныне.
Не располагаем мы и «универсальной» дефиницией понятия «экспрессионизм», хотя и об этом направлении в литературе, музыке и изобразительном искусстве существует немало исследований, причем во многих из них указывается, что некоторые черты экспрессионизма восходят к далекому прошлому. Их обнаруживают у Леонардо и Дюрера (в особенности в карикатурах), в последних (включая незаконченные) работах Микеланджело, в ужасающем величии Изенгеймского алтаря их современника Матиса Нитхардта (более известного под фамилией Грюневальд), в фантастических гротесках Иеронима Босха, в жанровых сценах Питера Брейгеля Старшего («мужицкого»), в величественных графических «Архитектурных фантазиях» Джованни Баттиста Пиранезе, в гравюрах и офортах Жака Калло и Франсиско Гойи, – этот перечень можно было бы без труда увеличить во много раз.
Но даже названных имен знаменитых мастеров, упоминаемых, кстати сказать, в книгах и статьях об истоках экспрессионизма, достаточно, чтобы задуматься над генезисом этого направления и попытаться охарактеризовать его. Обратим внимание прежде всего на его название, происходящее от французского слова «expression» – выражение, выразительность (по аналогии с происхождением названия импрессионизма от слова «impression» – впечатление). И первой, видимо, основной чертой экспрессионизма, восходящей к далекому прошлому, следует признать эмоциональную сгущенность, доходящую порою до исступления, примером чему могут служить хотя бы новеллы Казимира Эдшмида (псевдоним немецкого писателя Эдуарда Шмида), собранные в его сборниках «Шесть притоков» и «Тимур». Достаточно прочитать новеллу «Герцогиня», вошедшую во второй из них (1916), чтобы почувствовать буквально лихорадочную напряженность, с которой стремительно развивается повествование о жизни и творчестве гениально одаренного французского поэта XV века Франсуа Вийона. В текст новеллы вплетаются строки его стихов и поэм (включая «Большое завещание»), сцены из народной жизни, на фоне которых рисуется образ поэта, приобретающий психологическую достоверность. Новеллы Эдшмида захватывают и динамизмом развития образов, являющимся также одной из характерных черт экспрессионизма и доходящим иногда до болезненной взвинченности.
Психологическая сложность достигалась писателями-экспрессионистами путем углубленности переживаний, которая приобретала порой мистический характер, – например, в знаменитом романе Густава Мейринка «Голем», где разрабатывается старая еврейская легенда (в Праге до сих пор показывают даже улицу, на которой якобы появлялся загадочный Голем). Для экспрессионизма в высшей степени характерно также тяготение к Востоку, его культуре и религиям. Для Мейринка это была прежде всего Индия, по возвращении из которой он пережил несколько тяжелых психических кризисов, закончившихся обращением в буддизм. Для Эдшмида это было длительное служение Музе дальних странствий, принесшее вначале блестящую книгу «Баски, быки и арабы», а затем многочисленные путевые очерки, завоевавшие международное признание.
Для Верфеля Восток открылся во время предпринятого им в 1929 году путешествия, когда он побывал в Сирии, Палестине и Египте. По словам писателя, именно в 1929 году, во время пребывания в Дамаске у него зародился замысел нового большого романа. «Горестное зрелище, которое представляли собой работавшие на ковровой фабрике дети беженцев, изувеченные, изголодавшиеся, послужило окончательным толчком к решению вывести на свет из царства мертвых, где покоится все, что однажды свершилось, непостижимую судьбу армянского народа».[106]
Из того же «Послесловия автора», которое датировано весной 1933 года, мы узнаем, что задуманный роман «написан между июлем 1932 и мартом 1933».[107] Две причины вынудили Верфеля начать работу над новым романом не сразу после возвращения в Вену. Во-первых, он ни тогда, ни даже позже не переставал думать над личностью и музыкой Верди, которая навсегда вошла в духовную жизнь писателя, продолжавшего вынашивать роман о великом композиторе и завершившего его окончательную редакцию лишь в 1930 году. Во-вторых, Верфель понял, что замысел нового романа, порожденный эмоциональными откликами на все то, что он узнал во время путешествия на Восток, требует изучения исторической достоверности событий.
И закончив работу над последней редакцией романа о Верди, писатель приступил к тщательному изучению исторических материалов в библиотеке венской конгрегации мхитаристов,[108] где, по его собственному признанию, работал на протяжении восьми месяцев, создавая затем роман и трижды переписав его. Роман называется «Сорок дней Муса-дага». Это поистине потрясающее повествование об одном из героических эпизодов борьбы армянских патриотов с османскими палачами, с беспримерной жестокостью истреблявшими не «изменников», о которых говорит пастору Лепсиусу в пятой главе первой книги романа Энвер-паша, мечтающий воскресить империю Османа, Баязета и Сулеймана Великолепного, – недаром Верфель иронически назвал эту главу «Божественная интермедия»,[109] а народ. Но во второй «Божественной интермедии», которой открывается третья, последняя книга романа, пастор меньше чем через месяц после встречи с Энвером-пашой пытается попасть на прием к германскому канцлеру Бетман-Гольвегу в надежде на то, что тот вмешается в преступления, совершаемые в Оттоманской империи, в разгул ге но ци да.
Однако, попав на прием к доверенному лицу канцлера, тайному советнику, которому он говорит, что уничтожение армян, видимо, является целью оттоманского правительства, Иоганнес Лепсиус слышит невозмутимое поучение: «Гибель армян предопределена их местом на карте». И цитируя афоризм Ницше «падающего толкни», тайный советник задает пастору вопрос: «Не влечет ли за собой существование национальных меньшинств излишнее беспокойство, и не лучше было бы им исчезнуть?»[110]
По-разному ответили на этот вопрос писатель-гуманист Франц Верфель и фашистская клика, пришедшая к власти в Германии в том же 1933 году, который принес окончание романа «Сорок дней Муса-дага». Сорок дней ведут борьбу герои Сопротивления, и значительную часть их спасли французские моряку – ибо легендарную гору блокировали османские войска лишь с суши, оставив выход к морю свободным. Но тягчайшие испытания перенесли герои осады, и в эпилоге романа только один из них остался на склоне горы: «Кругом ни души, только двое: Бог и Габриэл Багратян».[111] Пять корабельных сирен воют с уходящих кораблей, продолжая призывать его. Но он не покидает холмика на могиле своего сына Стефана.
«Габриэлу Багратяну посчастливилось. Вторая турецкая пуля пробила ему висок. Падая, он ухватился за деревянный крест и увлек его за собой. И крест сына лег ему на грудь».[112] Как известно, «Жанна д'Арк» и другие французские корабли спасли свыше четырех тысяч, т. е. всех оставшихся в живых защитников лагеря на горе Муса. Но приведенная концовка романа, так же как сцена убийства раненых, понадобилась автору, чтобы подчеркнуть трагедийность событий и обличить ужасы геноцида. И в годы разгула фашизма в Германии и развития его человеконенавистнических идей, включая концепцию расовой неполноценности целых народов, обличения Верфеля прозвучали с особенной силой. И роман «Сорок дней Муса-дага» получил распространение во всем мире и был переведен более чем на 30 языков мира, как сообщает литературовед Меджи Пирумова в послесловии к русскому переводу романа, выполненному Н. Гнединой и Вс. Розановым (Ереван, 1988).
Но наряду с успехом этого романа-эпопеи триумфальный путь поныне продолжает самый знаменитый роман Верфеля, роман «Верди», уже свидетельствующий об отходе писателя от экспрессионизма и поисках реалистической правдивости, которые завершились таким блистательным успехом в окончательной редакции романа. Не подлежит сомнению, что личность Верди и его творчество сыграли в этом отношении решающую роль. Но окончанию романа о великом итальянском композиторе предшествовало создание «Человека из зеркала».
Герой этой «Магической трилогии» – Тамал, подобно принцу Тамино из моцартовской «Волшебной флейты» (совпадение первых букв этих имен вряд ли можно считать случайным), победоносно проходит все испытания, которые готовит ему двойник – «Spiegel-mensch», являющийся такой же темной изнанкой пытливого человеческого духа, как Мефистофель. Однако если Тамино, преодолев все искушения, попадает в светлое царство мудреца Зарастро, то Тамал уходит в монастырь, принимая посвящение, текст которого вызывает в памяти один из самых торжественных эпизодов «Тамплиера». «Трагическая повседневность» оказалась невыносимой и для Готфрида, устремлявшегося в глубь веков, и для Тамала.
В «Искушении», носящем подзаголовок «Беседа поэта с архангелом и Люцифером» и посвященном памяти Джузеппе Верди, Верфель называет человечество «ненавистным и любимым». Начинается «Искушение» прославлением музыки «Аиды» и ее «бессмертных мелодий». И нужно думать, что у Верди учился Верфель любить людей. Ненавидеть их заставила писателя действительность, в противоречиях которой он не смог разобраться. До конца жизни не постиг Верфель движущих сил прогресса, побеждающих, подобно моцартовскому Зарастро, силы «царства ночи», ту социальную несправедливость, с которой мужественно боролся автор «Волшебной флейты». Но, как бы уязвимы ни были социально-философские воззрения Верфеля, он всегда оставался пламенным гуманистом. И прежде всего этим объясняется его тяготение к Верди.
Не забудем, что годы юности Верфеля были апогеем творчества Малера, скончавшегося в 1911 году. Жуткий гротеск и чувство трагической обреченности переплетаются в последних симфониях Малера. Экспрессионистская сгущенность эмоций, характеризующая малеровскую музыку, казалось, должна была оказаться близкой Верфелю. Он много раз слушал и величайшее творение Брукнера – его Седьмую симфонию, патетический отклик на смерть Вагнера. Но творчество Верфеля оказалось связанным не с последними крупными мастерами венского симфонизма, а с «маэстро итальянской революции», как называли Верди уже в начале расцвета его творческой деятельности.
И так как Верфель в своем романе рисует образ композитора на склоне лет, то нужно сказать хоть несколько слов о герое этой книги – Джузеппе Фортунато Франческо Верди (1813–1901), уроженце часто упоминаемой Верфелем деревушки Ле Ронколе в герцогстве Пармском, расположенной неподалеку от небольшого города Буссето. В этом городе десятилетний Верди поступил в школу, затем начал работать в торговой конторе Антонио Барецци, возглавлявшего также местное музыкальное общество. Благодаря Барецци мальчик получил серьезное и разностороннее образование сперва в Буссето, затем в Милане и проникся патриотическими идеями, воплотившимися впоследствии в его операх.
Творчество Верди сыграло громадную роль в борьбе за объединение Италии в эпоху Рисорджименто – национально-освободительного движения, стремительно развивавшегося в Италии в середине XIX века. Но прежде чем Верди занял место в первых рядах этого движения, его постигли тягчайшие испытания. В 1838–1840 годах он похоронил обоих своих детей и ставшую его женой в 1836 году Маргериту, дочь Барецци. И если постановка первой оперы Верди – «Граф Оберто ди Сан Бонифаччо» – сопровождалась в 1839 году большим успехом, то вторая опера – «Мнимый Станислав» – в следующем, роковом для композитора, году провалилась на сцене того же миланского театра Ла Скала.
Через несколько лет эта комическая опера была поставлена и горячо принята в Венеции – городе, где происходит действие романа «Верди». К тому времени композитор был уже автором нескольких опер, завоевавших ему всенародную славу, началокоторой было положено в 1842 году миланской постановкой «Навуходоносора», фамильярно прозванного итальянцами «Набукко». В сценах «вавилонского плена» соотечественники композитора увидели картины угнетения родного народа, страдавшего тогда под иноземным владычеством. Следующий год принес оперу Верди «Ломбардцы в первом крестовом походе». И здесь итальянские патриоты поняли замысел композитора – показать величие и благородство подвигов в битвах за освобождение «святой земли» – так выражались крестоносцы, – или родной земли – так понимали содержание этой оперы участники борьбы за объединение Италии.
В «Аттиле» (1846), «Макбете» (1847), «Битве при Леньяно» (1849), в «Сицилийской вечерне» (1855), в «Бале-маскараде» (1859) и других операх Верди то с огромной обличительной силой раскрываются образы насилия и узурпации, то возникают тираноборческие сцены. Австрийскую полицию очень тревожили демонстрации, стихийно возникавшие в театрах во время представления опер Верди, где, как отмечает советская исследовательница Л. А. Соловцова, звучали маршевые ритмы и призывные мелодии, близкие к итальянским революционным песням. Постепенно возглас «Viva Verdi!» («Да здравствует Верди!») стал зашифрованным лозунгом национально-освободительной борьбы, и все буквы, составлявшие имя композитора, считались начальными буквами лозунга, провозглашавшего объединение Италии.
Верфель хорошо понимал значение данного периода творчества Верди, и поэтому наиболее героические сцены новеллы «Тамплиер» перекликаются с хорами из «Навуходоносора» и «Ломбардцев». И благодаря этому новелла Верфеля, образы которой противостояли безрадостной действительности, окружавшей писателя и его героев, стала такой же «tragйdie des allusions» (трагедией намеков), как и оперы «маэстро итальянской революции».
Но Верфель понимал, что гуманизм Верди не исчерпывается его патриотической деятельностью, а проявляется в общечеловеческих масштабах. По собственным словам Верди, на оперной сцене можно «одинаково показать королеву и крестьянку, женщину добродетельную и кокотку». Он блестяще доказал это. И вглядываясь в галерею женских образов, созданных композитором, Верфель почувствовал ту великую правду жизни, к которой он стремился и сам, повествуя о горестных судьбах Ренаты и Бьянки. Эту правду он ставил выше эпических и легендарных образов, воплотившихся в драмах Рихарда Вагнера, гениального реформатора оперного искусства, который оказал известное влияние и на позднего Верди. Проявилось это влияние, как свидетельствуют, например, оперы «Отелло» и «Фальстаф», в стремлении сочетать вокальное начало и сценическое действие с широким симфоническим развитием. Впрочем, стремление это до известной степени проявлялось у Верди и раньше, и Верфель прав, говоря, что музыка Вагнера была для итальянского мастера лишь стимулом, ни в какой мере не повлиявшим на самобытность его творчества.
Мы уже говорили, что роман «Верди» был закончен в 1923 году. В 1926 году появилась еще одна книга «вердиевского цикла» Верфеля – составленный им сборник писем Верди, переведенных для этого издания венским музыковедом и писателем Паулем Штефаном (1879–1943). И вчитываясь в письма композитора, Верфель почувствовал необходимость переработать свой роман. Новая редакция его была закончена в 1930 году. Уверенными штрихами писатель дополнил облик героя книги и пересмотрел ее композицию, отличавшуюся крайней сложностью, которая обусловлена замыслом романа, названного, как уже было сказано, «романом оперы».
Такой подзаголовок дает, казалось бы, право считать, что на первом плане стоит та борьба направлений в оперном искусстве второй половины XIX века, которая не прекращалась и позже – ни тогда, когда Верфель писал свой вердиевский цикл, ни в последующие годы. Анализ романа показывает, однако, что из трех планов, в которых развивается действие, ни один, собственно говоря, не может быть назван первым. Более того, все эти три плана настолько тесно переплетены между собою, что разграничение их делается порою весьма затруднительным и даже искусственным.
Ибо основной конфликт, создаваемый в результате предельно обостренного противопоставления творческих индивидуальностей двух величайших западноевропейских оперных композиторов XIX века – Верди и Вагнера, – неотделим от повествования о человеческой судьбе Верди и от «треугольника»: Бьянка Карваньо, ее муж и ее любовник. Чем более внимательно мы изучаем роман, тем более глубокий смысл приобретают не только этот треугольник, но и выбранное Верфелем место действия, которое может вначале показаться только эффектным фоном.
Каждый, кто бывал в Венеции, сразу же почувствует, что Верфель постиг очарование и неповторимый колорит этого сказочного города с такой же поэтической чуткостью, как Гофман, Врубель, Блок и Хемингуэй. Но не только романтическая живописность Венеции, не только великие творения ее зодчих, ваятелей и живописцев, не только «холодный ветер от лагуны» и «гиганты на башне» заставили Верфеля развернуть действие «романа оперы» в Венеции.
Не будет преувеличением сказать, что это действие охватывает не те немногие месяцы, которые понадобились для развития фабулы романа (не считая, разумеется, эпилога), а ровно 270 лет. Потому что в 1613 году поселился в Венеции один из величайших итальянских композиторов Клаудио Монтеверди (1567–1643), появляющийся в восьмой главе романа, а в 1883 году там, в Палаццо Вендрамин, скончался Рихард Вагнер. Верди был тоже связан с Венецией, где ставились многие его оперы. Но гораздо более прочными были связи композитора с Миланом. И если выбор Верфеля пал на Венецию, то, по всей вероятности, не последнюю роль сыграло здесь то обстоятельство, что выбор этот дал возможность построить кульминационную сцену венецианского карнавала, уже, по существу, предвещающую смерть Вагнера. И именно в уста величайшего музыканта Венеции Верфель вкладывает мудрые слова о правоте народа, у которого должен учиться каждый мастер.
Обычно историю возникновения оперного жанра связывают с флорентийской камератой – тем кружком мецената Джованни Барди, в который входили творец монодий Винченцо Галилеи (отец великого астронома), композиторы Якопо Пери и Джулио Каччини. Но Верфель безусловно прав, отводя в своей книге также почетное место Монтеверди – создателю «смятенного стиля» (stilo concitato), творцу первых опер, исполненных публично и содержащих драгоценные творческие находки вплоть до применения лейтмотивов. Отныне «ученому» многоголосию противостоит в итальянской музыке открытая эмоциональность, достигающая сильного напряжения уже у Монтеверди. И Верфель, говоря об истоках оперного творчества Верди, не раз подчеркивает народность истоков его музыки как ту прекраснейшую традицию итальянской музыки, которую писатель противопоставляет «вагнерианству».
В «Однокашниках» Верфеля следователь Эрнест Себастиан вспоминает, что его отец «в пору молодости выказал даже особые заслуги при основании общества Рихарда Вагнера», и выражает по этому поводу крайнее удивление: «Для меня навсегда останется загадкой, как такой человек, как он, высшим даром которого было прозрачно-ледяное чувство формы, был поклонником самой экстравагантной музыки».
Правда, такая характеристика дается не от имени автора. Но Верфель знал, что в последний день 1865 года Верди писал своему другу графу Оппрандино Арривабене из Парижа: «Слышал также увертюру к „Тангейзеру“ Вагнера. Он безумен!!!»
Мы не можем присоединиться ни к этому эпитету, который сопровождается таким количеством восклицательных знаков, ни к рассуждению верфелевского следователя, ни ко всему тому, что пишет о Вагнере сам Верфель в своем романе. Кстати сказать, в «Человеке из зеркала» подчеркивается чувственность музыки байрейтского мастера: женщина, обольщающая Тамала, говорит «широко, наподобие вагнеровской фразы…»
Для нас Вагнер вслед за Бахом и Бетховеном – один из величайших немецких композиторов, а увертюру к «Тангейзеру» мы по справедливости причисляем к высшим достижениям его гения. Но признавая громадную ценность наследия Вагнера и потрясающую мощь его симфонизма, мы не можем полностью принять принципы его музыкальной драмы, отрицающие многие оперные формы, в том числе арии, которые у Верди неизменно близки к национальной интонационной основе. Именно это хотел подчеркнуть Верфель в мастерски написанной сцене венецианского карнавала, в которой, как стремится показать писатель, могучая стихия народного пения поддерживает Верди и обрушивается на Вагнера.
Эта сцена выполняет еще одну чрезвычайно важную драматургическую функцию. Через весь роман проходит жуткая фигура «столетнего» Гритти. Это символ одряхлевшего венецианского патрициата, судорожно цепляющегося за жизнь и власть. И этому символу противостоит образ бессмертной юности народа, врывающегося на страницы романа в карнавальной сцене.
В предисловии к роману Верфель цитирует тезис Верди: «Отображать правду такой, как она есть, может быть, и хорошо, но лучше, гораздо лучше создавать правду». Писатель комментирует этот тезис: «Однако тончайший биографический материал, все факты и противоречия, толкования и анализы еще не составляют этой правды. Мы должны добыть ее из них, – да, создать ее сперва, более чистую, подлинную правду – правду мифа, сказание о человеке». По существу, эта мысль развивается и в «Искушении», где Поэт, создающий «правду мифа», провозглашает: «Мир нуждается во мне». И «сказанием о человеке», по замыслу автора, является роман «Верди».
Центральный образ этого романа-сказания психологически вполне достоверен. Врожденный демократизм Верди, его необычайная требовательность к себе, заставлявшая уничтожать уже созданное, скромность, отсутствие аффектации и какой-либо позы, безграничная доброта – все это правдиво воссоздает облик Верди. Вместо того чтобы рассказать о построенных им больнице и доме для престарелых артистов, Верфель описывает встречи с Матиасом Фишбеком и его женой, о которых заботится в романе композитор.
Но писатель не ограничивается введением вымышленных персонажей и фактов, каждый из которых значителен по-своему: ведь поцелуй Маргериты Децорци – «последний поцелуй Верди» – это символический рубеж, возвещающий наступление старости мастера. И для того, чтобы подчеркнуть драматичность того рубежа в истории музыкально-сценического искусства, каким была кончина Вагнера, Верфель не только создает сцену карнавала, нанесшую, как он дает понять, смертельный удар охваченному «мрачным беспокойством» автору «Парсифаля» (и это тоже – «правда мифа»), но и заставляет Верди появиться в эти месяцы в Венеции.
Роковой февраль 1883 года Верди провел, как было хорошо известно Верфелю, не в Венеции, а в Генуе. На следующий день после кончины Вагнера композитор писал своему издателю Джулио Рикорди:
«Печально. Печально. Печально.
Умер Вагнер!
Прочтя вчера эту депешу, я был, можно сказать, потрясен. Не будем спорить, – угасла великая личность! Имя, оставляющее могучий след в истории искусства».
Итак, уже не «безумцем», а «великой личностью» представлялся Вагнер итальянскому маэстро, который, размышляя о судьбах оперы, не мог пройти мимо творческих исканий Вагнера и воздал ему должное в приведенном письме. А в 1892 году Верди заметил в другом письме: «Все должны бы держаться характерных особенностей, присущих каждому народу, как это прекрасно сказал Вагнер». И Верфель показал, что и на склоне лет Верди был истинным итальянцем, хотя объединение его родины под королевской властью не принесло ожидаемой радости сыну пармского крестьянина.
В романе «Верш» большую роль играет еще одна сюжетная линия, еще один план драматургического развития. И с первого взгляда может показаться, что горестная судьба Бьянки Карваньо совсем не связана со «сказанием о Верди». А между тем вот что говорит муж рьянки, обращаясь к Верди: «Сострадание к женщине! Да, это слово дает ключ к вашей музыке, маэстро». Доктор Карваньо считает, что в операх Верди неизменно появляется «один и тот же женский тип. Этот тип – любящая женщина, которую мужчина приносит в жертву, или же она сама жертвует собой ради него». Можно было бы расширить, конечно, эту альтернативу. Но несомненно все же, что тема сострадания к женщине властно звучит едва ли не во всех операх Верди – ив ранних, уже называвшихся нами, и в «Риголетто», и в «Травиате», впервые поставленных в начале пятидесятых годов в театре Ла Фениче, искусно вписанном Верфелем в картину Венеции, и в «Аиде», которую так любил автор романа.
Становится совершенно ясным, что образы Ренаты и Бьянки, собственно, задуманы и созданы Верфелем как вердиевские женские типы, и именно к ним склоняется скорбный взор писателя. Но жанры новеллы и романа отличаются все же от оперного жанра. И Верфель вносит новые черты в характеристику своих героинь, не противопоставляя «правды жизни» «правде искусства».
Верфель сделал другое. Он показал, что страдания не унижают человека. Унижает грязь. Отпечатки липких рук видны на платье Ренаты в «Тамплиере», а в романе «Верди» мимолетное чувство отвращения к Бьянке возникает не тогда, когда она, окровавленная, бьется в муках, рожая дитя, а тогда, когда она вместе с Итало производит вычисления, чтобы определить, от кого это дитя. Да, так бывает в жизни… Верфель рассказывает об этом и учится У Верди состраданию к женщине. И нужно добавить, что писатель преодолевает здесь известную психоаналитическую схему, породившую термин «комплекс пострадавшего третьего». Таким «третьим пострадавшим» в романе является доктор Карваньо, в жизнь которого с Бьянкой вторгается Итало. Но конфликт, грозящий, как сказал бы Юнг, очередным нарастанием «Тени», разрешается именно благородным чувством сострадания, обогащающим «Аниму».
После Гофмана лишь у немногих писателей музыка приобретала такое громадное идейно-эмоциональное значение, как у Верфеля, который начал свой творческий путь, намечая контуры образа Верди, а незадолго до смерти работал над новым изданием писем композитора (1942). Вердиевский цикл Верфеля состоит из «Тамплиера», «Искушения», писем Верди и романа о нем. Но музыка «маэстро итальянской революции», как мы уже отмечали; не раз звучит и в других произведениях писателя.
Нужно сказать также, что Верфелю принадлежат немецкие тексты опер Верди «Власть судьбы» (1926, эскизы относятся к 1923–1924 гг.), «Симон Бокканегра» (1929), «Дон Карлос» (1932, совместно с Лотаром Валлерштейном). То были не просто переводы, а переработки итальянских либретто, отразившие до известной степени напряженные искания Верфеля в области музыкально-сценического искусства. Эти искания заставляли его то писать «Троянок» как «чудесную оперу» (так он выразился в одном из своих писем), то задумывать «Человека из зеркала» как балетное представление, то пронизывать трагедию «Царство божие в Чехии» (1926–1930) потрясающими звуками боевого гимна таборитов (действие трагедии происходит в эпоху гуситских войн XV века). Вновь вспоминается Верфелю Прага!
В музыке Верди писатель видел высшее воплощение своих гуманистических идеалов. И чем больше вслушивался он в произведения великого итальянского мастера, тем больше ощущал их связь с народными истоками. Эту «антеевскую» силу вердиевской музыки Верфель особенно ярко передал в великолепной сцене венецианского карнавала, бесспорно принадлежащей к числу лучших страниц его романа.
Однако, читая этот роман и восхищаясь психологической правдивостью человеческого и творческого облика Верди, мы иногда задумываемся над тем, насколько точен созданный Верфелем образ Вагнера. И здесь следует согласиться с тонким замечанием Т. Л. Мотылевой, высказавшей предположение, что, упорно подчеркивая аффектированность музыки и поведения Вагнера, писатель порой допускал преувеличения – с целью обличить болезненную взвинченность не вагнеровского творчества, а экспрессионизма. Ибо эта взвинченность хоть и не раз проявлялась в произведениях самого Верфеля, но мучила его, вызывала в нем чувство неудовлетворенности и протеста.
Письма и дневники Верфеля убеждают нас в том, что он, будучи подлинным знатоком музыки, понимал противоречивость облика Вагнера и разницу между мистикой «Парсифаля» и революционными порывами его более ранних произведений, воплотившимися в образе юного Зигфрида, в котором запечатлелся благородный освободительный идеал немецкого народа. Однако в романе «Верди» Верфель ничего не говорит о народно-национальных истоках творчества Вагнера, о его гениальном симфонизме, а стремится, выражаясь уже приведенными словами самого писателя, «создать правду мифа, сказание о человеке». Конечно, Верфель сознательно усиливал контраст между образами обоих композиторов, который казался ему необходимым для утверждения высоких гуманистических идей, рождающих подлинно великие произведения искусства. Но нет сомнения, что к их числу принадлежат и лучшие творения Вагнера.
В связи с этим нелишне заметить, что в известной книге «Брамс. Вагнер. Верди» венский музыковед Ганс Галь в остро дискуссионной форме отрицает универсальность вагнеровской концепции музыкальной драмы, также противопоставляя ей творчество и заветы Верди.
В «романе оперы» Верфеля, как уже было сказано, такое противопоставление было сделано достаточно убедительно, да и трудно было бы пройти мимо него в книге о Верди. Но автор книги, на протяжении многих лет победоносно выдерживающей испытание временем, далеко не ограничивается таким противостоянием двух великих мастеров, блистательно показанным в сцене венецианского карнавала.
Но есть в романе еще одна линия развития, быть может, не очень заметная, но заслуживающая, видимо, серьезного внимания. Начинается эта линия на страницах, посвященных Монтеверди, а завершается последней сценой романа, в которой Верди беседует со своим другом и либреттистом, композитором Арриго Бойто, приехавшим в миланский отель навестить его. В конце беседы Верди предлагает гостю сыграть вместе на фортепиано «одну из этих успокоительных мастерских сонат несравненного Корелли».
Арканджело Корелли (1653–1713) появился на свет ровно через десять лет после смерти Монтеверди и продолжал вслед за ним обогащать итальянскую музыку своими произведениями, работая однако в области не оперного, а камерно-инструментального жанра. Будучи выдающимся скрипачом, Корелли не создавал клавирных сочинений, а писал в основном трио-сонаты, сонаты для скрипки и баса или чембало, а также крупные камерно-оркестровые ансамбли. Но его сонаты (их у него несколько десятков) отличались такими достоинствами, что получили распространение и в различных переложениях, и в романе речь идет о четырехручном переложении для фортепиано одной из сонат несравненного Корелли, – таким эпитетом Верфель наградил своего любимца, одного из создателей национальных традиций итальянской инструментальной музыки, насытившего ее очарованием песенных интонаций, столь характерных и для самого Верди.
И еще одно замечание, – на этот раз не связанное с музыкальной спецификой романа. Если сопоставить его с более ранними произведениями писателя, то трудно поверить, что произведения «вердиевского цикла» и, скажем, «Человек из зеркала» написаны одним и тем же автором. Такой контраст, однако, объясняется прежде всего тем огромным влиянием, которое оказывала на творчеество Верфеля музыка. И, разумеется, именно музыка Верди имела решающее значение в процессе освобождения его от кризисных черт экспрессионизма, от его издерганности и мистических тенденций. Но преодолевая эти черты и по-своему используя опыт своего раннего творчества, Верфель, идя иным путем, достиг высокой эмоциональной напряженности, которая в его «романе оперы» порождена романтическими порывами и подлинно гуманистическими устремлениями, созвучными с музыкой великого итальянского композитора.
После разбойничьего захвата Австрии гитлеровцами Верфель эмигрировал во Францию, а затем, когда и над этой страной простерлась тень «сатанинского креста» фашистской свастики, перебрался в Испанию, оттуда в Португалию и, наконец, в Соединенные Штаты. Там он закончил свое последнее произведение – антифашистскую пьесу «Якубовский и полковник» (1942), пронизанную таким же пафосом обличения ужасов «коричневой чумы», как новелла-памфлет «Жестокая история об оборванной удавке». Но проклиная и обличая человеконенавистническую сущность фашизма, Верфель, судя по его философским трактатам, вряд ли понял до конца могучую силу социалистических идей, вдохновлявших победителей нацизма. Мировоззрение Верфеля оставалось запутанным, хотя идейные и творческие поиски продолжались до конца его жизни, оборвавшейся 26 августа 1945 года.
Не будет преувеличением сказать, что лучшие страницы верфелевского литературного наследия связаны с личностью и творчеством Верди. Новое русское издание романа Верфеля в переводе Н. Вольпин появилось в 1962 году, т. е. после того, как наша литература о Верди обогатилась уже многими книгами. Несколько работ о Верди, в том числе первую обширную монографию на русском языке, опубликовала Л. А. Соловцова. Ленинградская исследовательница Александра Бушен выпустила в 1958 году роман «Рождение оперы», героем которого является молодой Верди. Затем она перевела, снабдив вступительной статьей и комментариями, избранные письма Верди, из сборника которых взяты, в частности, приведенные цитаты.
И читая все эти книги, можно почувствовать, с какой любовью относятся в нашей стране к великому итальянскому композитору, образ которого сопутствовал Францу Верфелю на протяжении всей его жизни.
Игорь Бэлза
Примечания
1
Театральный сезон (итал.).
(обратно)2
Брошюры с текстом оперы, либретто (итал.).
(обратно)3
Вход (итал.).
(обратно)4
«Если б кастильский лев воспрянул…» (итал.).
(обратно)5
Здесь: чествование в узком кругу (итал.).
(обратно)6
Оперы Верди – «Навуходоносор» и «Битва при Леньяно».
(обратно)7
«Трубадур» (итал.).
(обратно)8
Гениальный финал Девятой симфонии, которому здесь дана такая несправедливая оценка, написан для хора, солистов и оркестра на текст «Оды к радости» Ф. Шиллера («Обнимитесь, миллионы…»).
(обратно)9
Музыкальные обозначения самых быстрых темпов.
(обратно)10
Небольшие арии (итал.).
(обратно)11
Стиль позднего итальянского Ренессанса («пятисотых годов», то есть XVI века).
(обратно)12
Тот, кто славит былое время (лат.).
(обратно)13
Площадь (итал.). (Здесь имеется в виду площадь перед собором св. Марка.)
(обратно)14
Посол (итал.).
(обратно)15
Фетис – бельгийский композитор и теоретик музыки; автор «Всеобщей истории музыки».
(обратно)16
Геварт – теоретик музыки и композиции; его труд «Nouveau traitй d'Instrumentation» переведен на русский язык П. И. Чайковским.
(обратно)17
Адриано Вильярте – итальянское произношение имени Адриана Виллаэрта, фламандского композитора XVI века; в 1527–1562 гг. он руководил капеллой венецианского собора св. Марка.
(обратно)18
Дорогой друг (итал.).
(обратно)19
Чимароза Доменико (1749–1801) – знаменитый итальянский оперный композитор.
(обратно)20
Композитор-философ (итал.).
(обратно)21
А вы, любезные и достославные зрители, подайте нам воистину приятный знак, и если вам понравилась эта наша повесть, пусть послышатся бурные аплодисменты и возгласы восхваления (итал.).
(обратно)22
Свободная (то есть импровизированная) каденция (лат.).
(обратно)23
Первое представление мелодрамы «Всемирный потоп» прославленного композитора Г. Доницетти (итал.).
(обратно)24
«Восстанет из наших костей некий мститель» (лат.; Вергилий, «Энеида», кн. IV).
(обратно)25
Городская больница (итал.).
(обратно)26
Корнелиус Петер (1824–1874) – немецкий поэт и композитор, автор ческой оперы «Багдадский цирюльник».
(обратно)27
Бедняки (итал.).
(обратно)28
«Король Лир», опера Дж. Верди (итал.).
(обратно)29
Авторы либретто вердиевских опер.
(обратно)30
То есть без инструментального сопровождения.
(обратно)31
Один из самых быстрых темпов (итал.).
(обратно)32
Сдержанный темп музыкального движения, выражающий религиозные чувства (итал.).
(обратно)33
Башня (дословно: часы), увенчанная колоколом, в который бьют бронзовые исполины.
(обратно)34
Метастазио Пьетро Антонио Доменико Бонавентура (1698–1782) – знаменитый итальянский поэт и драматург, автор многих оперных либретто.
(обратно)35
Девизом Эмиля Золя было латинское изречение: «Nulla dies sine Linea» (Ни одного дня без строчки).
(обратно)36
Итальянское кушанье из каштановой или кукурузной муки.
(обратно)37
Вполголоса (итал.).
(обратно)38
Белый (то есть бестембровый) голос (итал.).
(обратно)39
Это междометие итальянских песен трудно передать звуками другого языка. (Прим. автора.).
(обратно)40
То есть гармонией.
(обратно)41
«Когда мирный вечер», «Не ты ль надсмеялась» и «Возвратимся в наши горы» (итал.).
(обратно)42
«Аида» – опера Верди, написана в 1871 году по заказу египетского хедива в ознаменование открытия Суэцкого канала.
(обратно)43
«Времена меняются»… «меняемся с ними» (лат.).
(обратно)44
«Ричард, герцог Йоркский» (итал.).
(обратно)45
Блеск (итал.).
(обратно)46
Религиозное песнопение.
(обратно)47
Промежуточный жанр между opera seria (серьезной оперой) и opera buffа (итал.).
(обратно)48
«Власть судьбы» – опера Верди, написанная им в начале 60-х годов XIX в. по заказу для Петербурга.
(обратно)49
Теперь хорошо. Теперь хорошо! (нем.).
(обратно)50
Речь идет о романе Манцони «Обрученные».
(обратно)51
То есть проведение темы во всех голосах, обычно являющееся первой частью фуги.
(обратно)52
Набережная (итал.).
(обратно)53
Канал Нищих (итал.).
(обратно)54
Биттерфельд означает по-немецки: горькое поле; по-итальянски: Campo ataro.
(обратно)55
Конец (ит.).
(обратно)56
Произведение, сочинение (лат.). Обычно композиторы после этого слова (сокращенно «Op.») ставят число, являющееся порядковым номером данного сочинение.
(обратно)57
Радецкий – фельдмаршал австрийской монархической армии, подавлявший Революцию 1848 года.
(обратно)58
Габриели Джованни (1557–1612) – знаменитый венецианский композитор.
(обратно)59
«Коронация Поппеи», последняя опера Монтеверди.
(обратно)60
Форма многоголосия, при которой один голос повторяет мелодию другого.
(обратно)61
Трехчастная ария, в которой третья часть является повторением первой (итал.).
(обратно)62
О порочный город, идущий к безвременной гибели! (лат.).
(обратно)63
Виолы делились на две группы: da gamba («ножные», то есть стоявшие на полу у ног) и da braccio («ручные», державшиеся у плеча).
(обратно)64
Осенью (лат.).
(обратно)65
Pezzo – пьеса; staccato – короткий, отрывистый звук (итал.).
(обратно)66
Старик (итал.).
(обратно)67
Клавишный инструмент, предшественник фортепиано, стоявший возле дирижера, который аккомпанировал на нем речитативам.
(обратно)68
«Возлюбленная тень» (итал.).
(обратно)69
«Черный волос» (итал.).
(обратно)70
«Твердая земля»; то есть материк (итал.).
(обратно)71
Городской оркестр (итал.).
(обратно)72
«Сорока-болтунья» – опера Россини. Переводится обычно: «Сорока-воровка».
(обратно)73
Ломбардская проказа (или пеллагра) – тяжелое заболевание на почве авитаминоза.
(обратно)74
Ирредента (от «Italia irredenta» – «Неосвобожденная Италия») – итальянская политическая партия, добивавшаяся присоединения к Италии земель с итальянским населением, не вошедших в состав королевства, – в первую очередь Триеста и Триента.
(обратно)75
То есть дракон, которого поражает св. Георгий.
(обратно)76
Мясоед отошел (итал.).
(обратно)77
Старинный музыкальный инструмент с клавиатурой, предшественник современного рояля; обычно всего на три октавы.
(обратно)78
«Ломбардцы в первом крестовом походе» – опера Верди. Написана в 1843 году.
(обратно)79
Лемуры, по верованиям древних римлян, – души умерших.
(обратно)80
«Правящий дух» (лат.) – то есть вдохновитель и руководитель.
(обратно)81
«Искусство для художника» (франц.).
(обратно)82
Величественно… яростно (итал.).
(обратно)83
«Помолимся» (итал.).
(обратно)84
«Дух святой, милосердие господне» (итал.).
(обратно)85
«Замирая» (итальянское слово, ставшее музыкальным термином).
(обратно)86
Убыстрение (буквально: «более бегло») (итал.).
(обратно)87
«О, небывалая радость!» (итал.).
(обратно)88
«Дева ангелов» (итал.).
(обратно)89
Воодушевления (итал.).
(обратно)90
Перголези Джованни Баттиста (1710–1736) – знаменитый неаполитанский композитор, ученик Дуранте. Работал преимущественно в области комической оперы («Serva Pardona», «Il maestro di musica», «Lo frate innamorato»), a также духовной музыки. Своим «Stabat mater» он стяжал себе европейскую славу.
Пиччинни Николо (1728–1800) – знаменитый в свое время композитор, также ученик Дуранте, автор многих комических опер. Его «Чеккина» держалась на европейской сцене еще в первой четверти XIX века.
Йоммелли Николо (1714–1774) – весьма плодовитый неаполитанский композитор, ученик того же Дуранте, был придворным капельмейстером в Штутгарте, известен как автор многочисленных трафаретных опер, забытых еще при его жизни.
(обратно)91
Аккорд из пяти звуков, расположенных по терциям (например, соль-сире-фа-ля).
(обратно)92
Из музыкальной драмы Вагнера «Парсифаль», законченной в 1882 году.
(обратно)93
Пужен Артур (1854–1921) – известный французский дирижер и музыковед, автор ряда монографий о композиторах XVIII и XIX вв. и других работ; среди них исторический очерк о русской музыке. Писал также под псевдонимом «Поль Дакс».
(обратно)94
Тебе бога хвалим (лат.).
(обратно)95
Дорогой мой друг, карнавал кончился! (итал.).
(обратно)96
«Молись за нас! Молитесь за нас!» (лат.).
(обратно)97
«Господи помилуй» – католическое песнопение (лат.).
(обратно)98
Эрар – фирма, славившаяся роялями своей конструкции.
(обратно)99
Бухта Милосердия (примыкает к окраинам Венеции).
(обратно)100
Месть (итал.).
(обратно)101
Итальянский титул дворянина, награжденного орденом.
(обратно)102
«Лети, о мысль!» (итал.).
(обратно)103
Вот лев! (итал.).
(обратно)104
Мой (итал.).
(обратно)105
Веселовский А. Н. Избр. статьи. Л., 1939. С. 517.
(обратно)106
Верфель Ф. Сорок дней Муса-дага. Ереван, 1988. С. 686.
(обратно)107
Там же.
(обратно)108
Мхитаристы, армянские ученые-монахи, называются так по имени основателя их организации (1701) Мхитара Себастаци (1676–1749). Конгрегации мхитаристов существуют в Венеции (с 1717 г., когда Светлейшая республика предоставила Мхитару Себастаци и его ученикам остров св. Лазаря) и Вене (с 1811 г.), занимаясь плодотворной научной и просветительской, а также издательской деятельностью.
(обратно)109
В послесловии к роману Верфель указал, что в ноябре 1932 г. во время своих публичных выступлений в немецких городах он читал именно эту главу, основанную на традиционной исторической версии беседы Энвера-паши с пастором Иоганнесом Лепсиусом.
(обратно)110
Верфель Ф. Сорок дней Муса-дага. Ереван, 1988. С. 453.
(обратно)111
Верфель Ф. Сорок дней Муса-дага. Ереван, 1988. С. 682.
(обратно)112
Там же. С. 685.
(обратно)



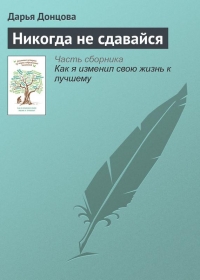
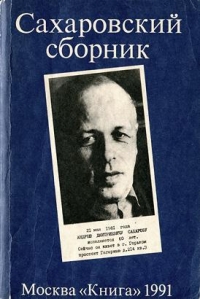
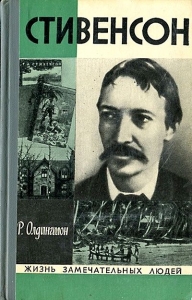
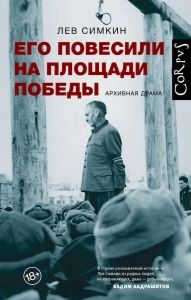
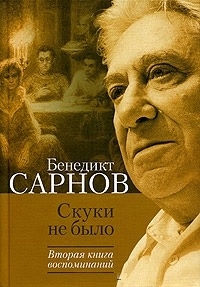


Комментарии к книге «Верди. Роман оперы», Франц Верфель
Всего 0 комментариев