Хемингуэй
Памяти Ивана Александровича Кашкина
ГЛАВА 1 ОУК-ПАРК И ЛЕСА СЕВЕРНОГО МИЧИГАНА
Если ты всю свою жизнь, с самого раннего детства, любил только три вещи: охоту, рыбную ловлю и чтение, и если потребность писать всю жизнь властвовала над тобой, то приучаешь себя вспоминать и, думая о прошлом, чаще вспоминаешь об охоте, рыбной ловле и книгах, чем обо всем остальном, и вспоминать о них радостно.
Э. Хемингуэй, Стрельба влетИстория его жизни начинается на знаменательном рубеже — кончался девятнадцатый век и подступал двадцатый. Никто тогда толком не мог представить себе, что же несет с собой этот новый век, и об этом много спорили. Спорили даже о том, когда следует встречать новый век — 31 декабря 1899 года или 31 декабря 1900 года. Но больше всего, конечно, гадали, каким же он окажется, двадцатый век. Ученые и хироманты, фантасты и фельетонисты, писатели и читатели — все наперебой старались предсказать, что же даст человечеству новая эпоха.
Пока что эпоху олицетворяла собой английская королева Виктория. Викторианский стиль господствовал во всем: в политике, в архитектуре, в мебели, в укладе жизни, в литературе.
Не случайно младший брат Хемингуэя Лестер писал в своих воспоминаниях: «Эрнест вышел непосредственно из викторианской эпохи 90-х годов на Среднем Западе».
Современники утверждали, что для тогдашней Америки Оук-Парк мог служить образчиком, эталоном маленького городка викторианской эпохи. Жители его с гордостью и без тени иронии утверждали, что Оук-Парк «является самой большой деревней в мире».
Тихие тенистые улицы, обсаженные великолепными вязами, уютные особняки, все в высшей степени добропорядочно и респектабельно, жители городка ходили неторопливо, с достоинством, все были друг с другом знакомы, хотя во взаимных приветствиях всегда можно было уловить строго соблюдаемую градацию общественного положения, в каждом доме на самом видном месте всегда лежала библия в могучем кожаном переплете, переходящая из поколения в поколение.
По воскресеньям все встречались в церкви, здесь был главный центр общественной жизни, дамы пели в церковном хоре, занимались благотворительностью. Другим таким центром был местный клуб. Здесь устраивались чаепития со светскими беседами.
Все знали все друг про друга. От бдительного ока «общественного мнения» не ускользало ничего — кто-то выпил лишнюю рюмку, кто-то стал нерегулярно посещать церковь, кто-то поссорился с женой, — все немедленно выносилось на суд соседей, серьезно обсуждалось, и приговоры обжалованию не подлежали.
Жители городка категорически отказывались признавать Оук-Парк пригородом Чикаго, хотя на самом деле это было так. Да, рядом был Чикаго, некоронованная столица Среднего Запада, город-спрут, уже тогда прославившийся на всю Америку откровенной коррупцией, засильем гангстерских шаек, своими публичными домами, игорными притонами и салунами.
Неважно, что респектабельность, которой так гордились семьи Оук-Парка, их благополучие в большинстве случаев зиждились на деньгах, добываемых отцами семейств в этом «развратном и продажном Чикаго». Об этом не принято было говорить. Остряки уверяли, что граница между Чикаго и Оук-Парком пролегала там, где кончались салуны и начинались церкви.
Одной из лучших улиц в городке считалась Норт-Оук-Парк-авеню, где стояли особняки людей зажиточных, уважаемых, столпов местного общества. Здесь в доме №439 обитала семья Холлов. Глава ее Эрнест Миллер Холл был добропорядочным джентльменом, совладельцем фирмы, торговавшей скобяными товарами, — «Рандолл, Холл и К0» на Вест-Лейк-стрит в Чикаго. Родился он в Англии, но еще в детстве попал в Америку, и эту страну считал своей второй родиной.
Супруги Холл были людьми состоятельными и в высшей степени религиозными. Их дочь Грейс еще в детстве обнаружила незаурядные музыкальные способности, она играла на пианино, пела в хоре собора святого Павла в Чикаго, у нее было неплохое контральто, и она мечтала стать певицей. Ее мать была твердо убеждена, что будущее Грейс должно быть исключительным, и постоянно внушала ей: «Не пачкай свои руки на кухне. У тебя есть способности. Женщина не должна отдавать себя кухне, если она может избежать этого». Грейс Холл усвоила эти уроки достаточно твердо. Она и сама была уверена, что ей суждено необыкновенное будущее.
На той же Норт-Оук-Парк-авеню напротив Холлов в доме №444 жил Ансон Тейлор Хемингуэй. Он был уроженцем Новой Англии, вел свою родословную от участника американской войны за независимость и чрезвычайно гордился этим обстоятельством. Его детство совпало с той порой, когда началось освоение Запада и переселенцы потянулись к новым землям, отнимая их у коренных жителей — индейцев. Десятилетним мальчишкой Ансона Хемингуэя привезли в крытом фургоне из Коннектикута в Чикаго. Когда началась война между Севером и Югом, он вступил добровольцем в 72-й Иллинойсский пехотный полк и в 19 лет за храбрость получил от президента Линкольна чин лейтенанта. После войны он окончил университет в Уитоне и поселился в Оук-Парке. Здесь он владел кое-каким недвижимым имуществом и пользовался немалым весом в обществе, о чем, в частности, свидетельствует некролог, напечатанный в местной газете после его смерти. Его жена Аделаида Эдмунд Хемингуэй была весьма энергичной женщиной, которая железной рукой управляла мужем и шестью детьми.
Их сын Кларенс Эдмунд Хемингуэй избрал себе профессию врача. Любовь к медицине сочеталась у него с любовью к природе, вольному воздуху, охоте и рыбной ловле. Будучи студентом медицинского колледжа, он одно лето провел с индейцами племени сиу в лесах Южной Дакоты, охотился вместе с ними, изучал их быт, особенно интересуясь индейской народной медициной. В другое лето он нанялся поваром в изыскательскую партию, работавшую в горах Северной Каролины.
Кларенс Хемингуэй не любил город и мечтал жить на природе. Был даже момент, когда он решил стать врачом-миссионером и вел переговоры о том, чтобы уехать на остров Гуам, потом хотел в том же качестве отправиться в Гренландию. Но человек он был нерешительный, боявшийся крутых поворотов в жизни, и все кончилось тем, что Кларенс Хемингуэй вернулся в Оук-Парк. Врачом он оказался хорошим и вскоре создал себе солидную репутацию.
Судьбе было угодно, чтобы эти дна столь непохожих друг на друга человека — Кларенс Хемингуэй и Грейс Холл — познакомились. Вскоре он сделал ей предложение. Она дала согласие, но мечта об артистической карьере не давала покоя честолюбивой Грейс Холл, и осенью 1895 года она уехала в Нью-Йорк учиться пению у знаменитой тогда преподавательницы мадам Каппиани. Через год она уже выступила с дебютом в крупнейшем концертном зале Нью-Йорка — Мэдисон-Сквер-Гарден. Музыкальная критика отозвалась о ней весьма положительно, и ей предложили контракт в Метрополитен-опера.
Мадам Каппиани уговаривала Грейс подписать контракт и остаться в Нью-Йорке, а молодой врач из Оук-Парка бомбардировал ее письмами, напоминая о данном ею обещании. В конце концов сила традиций оказалась сильнее артистического честолюбия. Грейс Холл вернулась в родной Оук-Парк и 1 октября 1896 года обвенчалась с доктором Хемингуэем.
Она считала, что принесла себя в жертву, и никогда не могла простить этого — не столько себе, сколько окружающим. Всю последующую жизнь она напоминала мужу, что ради него отказалась от столь блестящего будущего. Она была уверена, что певица из нее получилась бы не хуже, чем известная в те времена Шуман-Хейнк. Старшая из детей, Марселина, рассказывала в своей книге «В семье Хемингуэев», как мать говорила ей: «Имей в виду, дорогая, Шуман-Хейнк заняла в опере то место, которое должно было принадлежать мне».
Самопожертвование жены очень дорого обошлось доктору Хемингуэю. Человек добрый и слабохарактерный, он во всем подчинялся жене, старался освободить ее от всех жизненных тягот, памятуя, что ради него она отказалась от артистической карьеры. В результате Грейс Холл никогда не занималась кухней и весьма мало — детьми. Все эти хлопоты взял на себя доктор. По утрам он сам готовил завтрак, кормил детей, относил завтрак в постель жене.
Первые годы своей семейной жизни Кларенс и Грейс жили в доме Холлов. Здесь родилась Марселина, а через год, 21 июля 1899 года, родился сын, названный в честь дедушки Эрнестом.
Эрнест Хемингуэй много и довольно подробно писал о своем детстве и юности. Герой почти всех этих рассказов один и тот же — Ник Адамс. Именно его Хемингуэй сделал своим alter ego, ему передал свои воспоминания, раздумья и ощущения. Естественно, что нельзя полностью отождествлять литературного героя с автором, но прямые и бесспорные совпадения деталей биографии Ника Адамса с собственной биографией Хемингуэя дают право использовать их в тех случаях, когда документальные источники подтверждают эти совпадения.
В рассказе «На сон грядущий» Ник вспоминает все те места, где он удил форель, всех людей, которых когда-либо знал, все, начиная с самого первого воспоминания в жизни. Этим первым воспоминанием был «чердак дома, в котором я родился, и свадебный пирог моих родителей, подвешенный в жестянке к стропилам, и тут же на чердаке банки со змеями и другими гадами, которых мой отец еще в детстве собрал и заспиртовал, но спирт в банках частью улетучился, и у некоторых змей и гадов спинки обнажились и побелели».
Да, судя по воспоминаниям его детей, доктор Хемингуэй увлекался коллекционированием. Марселина писала об отце, что «он разыскивал наконечники стрел, глиняные чашки, наконечники копий и другие предметы индейского быта для своей коллекции предметов искусства и ремесла индейцев. Он нашел несколько каменных топоров, и у него была замечательная коллекция кремней, которую он показывал нам, когда мы были детьми».
Дом дедушки Холла был, по существу, в полном распоряжении молодой семьи. Бабушка, Каролина Холл, умерла, и старик обычно на всю зиму уезжал в Калифорнию, а летом семья Хемингуэев отправлялась в Северный Мичиган. Здесь, на берегу живописного озера Валлун, доктор Хемингуэй купил небольшой участок земли и выстроил из кедровых бревен коттедж, который они назвали «Уиндмир». Места здесь были дикие, в озере водилась отличная рыба, в лесах было раздолье для охотников.
Кларенс Хемингуэй был человеком довольно скромным и непритязательным, и его вполне устраивала жизнь в доме тестя. Но у его жены были иные планы.
Когда Эрни было пять лет, дедушка Холл умер и оставил в наследство дочери кое-какие деньги. Грейс Хемингуэй немедленно затеяла строительство нового дома, который соответствовал бы ее представлениям о светской жизни. Марселина вспоминала, что мать сама придумала устройство всех шестнадцати комнат нового дома. Главным предметом ее забот, сердцем нового дома был большой двухсветный музыкальный салон. Такой салон был ей необходим для музыкальных вечеров, на которые она могла бы собирать местное светское общество. Она была очень светской дамой, Грейс Хемингуэй, — пела в церковном хоре, деятельно участвовала в делах местной церковной общины и местного женского клуба, состояла обязательным членом всевозможных благотворительных обществ, в частности протестантского миссионерского общества, призванного распространять слово божие но всему миру.
Новый дом был построен на Норт-Кенильворт-авеню. В том же рассказе «На сон грядущий» Хемингуэй писал от имени своего героя Ника Адамса:
«Я вспоминал, как после смерти дедушки мы переезжали из старого дома в другой, выстроенный по указаниям моей матери. На заднем дворе жгли вещи, которые решили не перевозить, и я помню, как все банки с чердака побросали в огонь, и как они лопались от жары, и как ярко вспыхивал спирт. Я помню, как змеи горели на костре за домом. Но в этих воспоминаниях не было людей; были только вещи».
Но это еще не конец повествования о коллекциях отца, эту тему Хемингуэй развивает дальше, обнажая за мелкими и, казалось бы, незначительными деталями сложную, загнанную вглубь драму семейных отношений. Ник вспоминает, как его мать постоянно наводила в новом доме чистоту и порядок. Однажды, когда отец уехал на охоту, она устроила генеральную уборку в подвале и сожгла все, что там было лишнего. Когда отец вернулся, на дороге у дома горел костер.
«Я выбежал навстречу отцу. Он отдал мне ружье и оглянулся на огонь.
— Это что такое? — спросил он.
— Я убирала подвал, мой друг, — отозвалась мать. Она вышла встретить его и, улыбаясь, стояла на крыльце.
Отец всмотрелся в костер и ногой поддел в нем что-то. Потом он наклонился и вытащил что-то из золы.
— Дай-ка мне кочергу, Ник, — сказал он.
Я пошел в подвал и принес кочергу, и отец стал тщательно разгребать золу. Он выгреб каменные топоры, и каменные свежевальные ножи, и разную утварь, и точила, и много наконечников для стрел. Все это почернело и растрескалось от огня… Отец сложил все почерневшие и потрескавшиеся каменные орудия на газету и завернул их.
— Самые лучшие наконечники пропали, — сказал он. Взяв сверток, он ушел в дом, а я остался во дворе возле лежавших на траве охотничьих сумок. Немного погодя я понес их в комнаты».
Заканчивается этот отрывок следующей многозначительной фразой: «В этом воспоминании было двое людей, и я молился за обоих».
Каждый из родителей стремился подчинить Эрнеста своему влиянию, привить ему свои вкусы. Младший брат Эрнеста Лестер рассказывает в своих воспоминаниях, что начиная с трехлетнего возраста Эрнеста в любом случае можно было успокоить, читая ему вслух. Отец обычно читал ему книги по естественной истории, давал рассматривать цветные иллюстрации. Кстати сказать, читать Эрнест научился довольно поздно. Объяснялось это тем, что ему было куда интереснее самому придумывать всякие истории, разглядывая картинки в книжках.
Эрни было три года, когда отец подарил ему первую удочку и взял с собой на рыбную ловлю. Доктор Хемингуэй мечтал, что сын пойдет по его стопам и займется медициной, естествознанием. Однажды он застал девятилетнего Эрни читающим при свете свечи книгу Дарвина, хотя мальчику давно полагалось спать. Отец был в восторге, он счел это за доброе предзнаменование. Действительно, мальчик с раннего детства проявлял живой интерес к природе — к восьми годам он знал назубок наименования всех деревьев, цветов, всех птиц, рыб и зверей, встречающихся на Среднем Западе.
А миссис Хемингуэй мечтала о другом будущем для своего старшего сына. Она заставляла его петь в церковном хоре, потом решила почему-то, что он должен учиться играть на виолончели. Мать явственно представляла себе, как когда-нибудь приедет на концерт знаменитого виолончелиста Эрнеста Хемингуэя… Вероятно, ей казалось, что это будет справедливой компенсацией судьбы за ее несложившуюся артистическую карьеру. Даже пожилым человеком Хемингуэй не мог забыть этих мучений. В одном из своих интервью он рассказывал: «Моя мать целый год не пускала меня в школу, чтобы я учился музыке и контрапункту. Она думала, что у меня есть способности, а у меня не было никакого таланта. Мы исполняли камерную музыку — кто-нибудь приходил играть на скрипке, моя сестра играла на альте, а мать на пианино. Эта виолончель — я играл на ней хуже, чем кто бы то ни было на свете». Тем не менее сопротивление Эрни было подавлено железной рукой, и он должен был ежедневно по полчаса, а потом и по часу заниматься музыкой.
Когда Хемингуэй стал уже знаменитым писателем, ему часто задавали стандартный вопрос: «Как вы начали писать?» Его ответ обычно воспринимался как шутка, хотя в нем была доля правды. «Части своего успеха, — говорил писатель, — я обязан тем часам, когда я был один в музыкальной комнате и предполагалось, что я занимаюсь. А я в это время думал о чем-то своем, без конца играя «Вот идет ласка»1.
Но ведь, кроме зимнего дома в Оук-Парке, был еще коттедж на озере Валлун. Задолго до наступления лета Эрни уже начинал высчитывать дни, оставшиеся до отъезда. Лето означало освобождение от сковывающей атмосферы оук-паркского дома, от надоевшей виолончели, от светских гостей миссис Хемингуэй.
Наконец приходил этот долгожданный день — вся семья с огромным количеством чемоданов грузилась в Чикаго на пароходик, курсировавший по озеру Мичиган, и отплывала на север. Большие колеса деловито хлопали по прозрачной, необыкновенной голубизны воде, с правого борта можно было любоваться берегом, холмами, поросшими соснами, кленами и березами, то там, то здесь виднелись поселки лесорубов, проезжали тяжелые крытые фургоны, запряженные лошадьми. Навстречу тянулись грузовые шхуны.
В северо-западной оконечности озера пароходик входил в бухту Литл-Траверс-Бей и швартовался у причала городка Харбор-Спрингс. Здесь пересаживались на поезд ветки «Грэнд Рэпидс энд Индиан Рейлрод», соединявшей Харбор-Спрингс с городком Питоски, расположенным в 11 милях от гавани. В Питоски у них бывала еще одна пересадка в поезд, проходивший мимо озера Валлун.
Здесь в лесу, на самом берегу тихого озера, стоял коттедж «Уиндмир». В нем были одна общая комната с камином, выложенным из кирпича, столовая, кухня, две спальни и крытый балкон. Потом, когда детей стало больше, к дому пристроили еще кухню и три спальни. Снаружи коттедж был обшит белыми тесаными досками. Неподалеку от коттеджа «Уиндмир» была лесопилка, и около нее маленький поселок — несколько примитивных хижин, там жили индейцы, занимавшиеся обдиранием с деревьев коры, которая шла для дубильни в Бойн-Сити.
Здесь было царство свободы. Виолончель все лето пылилась в углу. Мальчик мог бегать босиком, часами молча сидеть на берегу с удочкой, бродить по лесу, впитывая его запахи, пристально разглядывая жизнь леса и его обитателей. Впоследствии Хемингуэй любил рассказывать, как впервые понял, что такое борьба за существование. Однажды в лесу он увидел, как змея толщиной с водопроводную трубу проглотила ящерицу в два раза толще ее. Пятнадцать минут Эрни со жгучим интересом наблюдал, как змея заглатывала ящерицу все дальше и дальше, а та отчаянно сопротивлялась, пытаясь вытащить задние лапки из пасти змеи каждый раз, когда та останавливалась передохнуть. Потом было видно, как долго еще ящерица билась в животе у змеи.
В индейском поселке жили друзья, с которыми было интересно играть, вместе охотиться. Постоянными его компаньонами были дети Дика Боултона — белого, женившегося на индианке, — сын Эдди и дочь Пруденс, которая была на два года моложе Эрнеста. Там же в поселке жил индеец Билли Тэйбшо, о пьяных похождениях которого всегда рассказывали всевозможные истории.
Впрочем, лето означало не только развлечения. В семье на этот счет был строгий порядок — как только ребенок подрастал настолько, что мог держать в руках метлу или грабли, он получал точное задание на день. По утрам нужно было подметать пляж, склон от коттеджа до берега. У Эрни тоже было свое задание — он должен был каждое утро приносить с фермы, находившейся в полумиле от их коттеджа, кувшины с молоком и потом относить пустые назад.
Во время одной из этих экскурсий он получил первое ранение в своей жизни. Между коттеджем и фермой был овраг, по дну которого протекал ручеек. Однажды утром Эрни бежал за молоком, в руке у него была палочка. Перепрыгивая через ручей, он споткнулся и, падая, вытянул руку вперед. В результате палочка вонзилась ему в горло. К счастью, отец был дома и остановил кровотечение.
Тогда-то Эрни и постиг искусство стоически переносить боль, что весьма и весьма пригодилось ему в жизни. Горло еще в течение долгого времени болело, и отец посоветовал Эрчи: «Когда тебе так больно, что ты не можешь удержаться от слез, — свисти». С тех пор, когда ему бывало очень больно, он всегда свистел.
Когда Эрни исполнилось двенадцать лет, дедушка Хемингуэй подарил ему в этот день первое в его жизни ружье — однозарядное, 20-го калибра. Этот подарок еще больше укрепил дружбу Эрни с дедом. Мальчик обожал слушать рассказы старика о том, как его привезли на Средний Запад в фургоне, бесчисленные истории о том, как дедушка воевал в 72-м Иллинойсском полку во время Гражданской войны между Севером и Югом.
Хемингуэй на всю жизнь сохранил добрые воспоминания о дедушке. Недаром в романе «По ком звонит колокол» его герой — молодой американец Роберт Джордан, сражающийся в республиканской армии за дело свободы, — уходя в тыл к фашистам на опаснейшее задание, с которого, он знает, он может и не вернуться, в тяжелую минуту вспоминает своего деда и говорит себе:
«Ты с детских лет сидел над книгами о войне и изучал военное искусство, дедушка натолкнул тебя на это своими рассказами о Гражданской войне в Америке… Твой дед четыре года был участником нашей Гражданской войны, а ты всего-навсего заканчиваешь свой первый год в этой войне… Интересно, что бы дедушка сказал про такую вот ситуацию, подумал он. Дедушка был отличный солдат, это все говорили».
Охота стала для Хемингуэя действительной и постоянной страстью. На всю жизнь полюбил он этот увлекательный спорт и был благодарен отцу, который помог ему ощутить еще в детстве всю прелесть охоты.
В 1933 году, уже зрелым человеком, Хемингуэй написал рассказ «Отцы и дети», в котором вспоминал отца и воздавал ему должное. В этом рассказе уже взрослый Ник Адамс со своим маленьким сыном едет по местам, которые напоминают ему его детство.
«Мысленно охотясь на перепелов именно так, как научил его отец, Ник Адамс начал думать о своем отце. Первое, что вспомнилось Нику, были его глаза. Ни крупная фигура, ни быстрые движения, ни широкие плечи, ни крючковатый ястребиный нос, ни борода, прикрывавшая безвольный подбородок, никогда не вспоминались ему, — всегда одни только глаза. Защищенные выпуклыми надбровными дугами, они сидели очень глубоко, словно ценный инструмент, нуждающийся в особой защите. Они видели гораздо зорче и гораздо дальше, чем видит нормальный человеческий глаз, и были единственным даром, которым обладал его отец. Зрение у него было такое же острое, как у муфлона или орла, нисколько не хуже.
…он был сентиментален и, как большинство сентиментальных людей, жесток и беззащитен в одно и то же время. Ему редко что-нибудь удавалось, и не всегда по его вине. Он умер, попавшись в ловушку, которую сам помогал расставить, и еще при жизни все обманули его, каждый по-своему. Сентиментальных людей так часто обманывают.
Пока еще Ник не мог писать об отце, но собирался когда-нибудь написать, а сейчас, думая о перепелиной охоте, вспомнил отца, каким тот был в детские годы Ника, до сих пор благодарного отцу за две вещи: охоту и рыбную ловлю. О том и о другом отец судил настолько же здраво, насколько не мог судить, например, о половой жизни, и Ник был рад, что вышло именно так, а не иначе: нужно, чтобы кто-нибудь подарил тебе или хоть дал на время первое ружье и научил с ним обращаться, нужно жить там, где водится рыба или дичь, чтоб узнать их повадки, и теперь, в тридцать восемь лет, Ник любил охоту и рыбную ловлю не меньше, чем в тот день, когда отец впервые взял его с собой. Эта страсть никогда не теряла силы, и Ник до сих пор был благодарен отцу за то, что он пробудил ее в нем».
К этим ранним детским воспоминаниям, где образ отца тесно связывался с первыми незабываемыми уроками охоты, Хемингуэй часто возвращался. В очерке «Стрельба влет», написанном для журнала «Эсквайр» в 1935 году, он рассказал о том, как отец взял его с собой на ферму своего родственника Фрэнка Хайнса в Южном Иллинойсе и учил там стрелять по голубям, летавшим около амбара. Когда Эрни израсходовал отпущенные ему на этот день патроны, он принялся целиться в голубей и щелкать курком впустую. В результате он сломал спусковую пружину.
А конец дня был совсем неудачным. Эрни послали домой отнести настрелянных голубей, по дороге он встретил мальчишек постарше его. Один из них выразил сомнение, что Эрни сам настрелял этих голубей. Эрни обозвал его вруном, и тогда младший из компании сильно отколотил его.
Следующий день охоты, вспоминал Хемингуэй, принес ему новые тягостью переживания. Они с отцом отправились охотиться на перепелов, а так как в ружье Эрни была сломана спусковая пружина, ему дали другое ружье, единственное, которое нашлось в доме у дяди, — старую большую двустволку, весившую не менее девяти фунтов. Он ничего не мог подстрелить из этой двустволки, а отдача у нее была такая, что у мальчика при каждом выстреле шла кровь носом. Хемингуэй вспоминал, что уже боялся стрелять и ужасно устал, таская на себе ружье. Тогда отец оставил его на опушке леса и пошел дальше, стреляя вспугнутых им перепелов. И вдруг Эрни увидел на земле только что подстреленного, еще теплого перепела. Видимо, тот был ранен зарядом дроби, когда отец бил по стае, отлетел сюда и упал. Эрни оглянулся, чтобы убедиться, что никого поблизости нет, зажмурил глаза и потянул за спусковой крючок своей двустволки. Выстрел отбросил его к дереву, и когда он открыл глаза, то обнаружил, что выстрелил сразу из обоих стволов. В ушах у него звенело, из носа шла кровь. Тем не менее он перезарядил ружье, поднял перепела и пошел навстречу отцу.
— Подстрелил что-нибудь, Эрни? — спросил отец.
Эрни молча показал ему птицу.
— Это самец, — сказал отец. — Видишь белую грудку? Что за прелесть!
А у Эрни, как он потом вспоминал, в животе стоял ком из-за того, что он солгал отцу. Ночью он плакал, спрятав голову под одеялом. Если бы отец проснулся, писал Хемингуэй, он бы признался отцу, что солгал. Но отец спал крепко. Эрнест так никогда и не рассказал ему об этом случае.
Воспоминания об охоте, о первом приобщении к этому удивительному, ни с чем не сравнимому занятию всегда были радостными и волнующими.
«Вспоминаешь первого бекаса, которого подстрелил в прерии, охотясь вместо с отцом. Как этот бекас взлетел и метнулся сначала влево, потом вправо, и тут ты подстрелил его, и как за ним пришлось лезть в болото, и как ты нес мокрого бекаса, держа его за клюв, гордый, как сеттер, вспоминаешь и всех остальных бекасов в других местах. Вспоминаешь, каким это казалось чудом, когда ты подстрелил первого фазана, как он с шумом выпорхнул прямо из-под ног на куст терновника и упал, трепыхая крыльями, и как пришлось дожидаться темноты, чтобы нести его в город, потому что охота на фазанов была запрещена, и, кажется, до сих пор еще чувствуешь его тяжесть за пазухой и длинный хвост, засунутый под мышку, и темной ночью входишь в город по немощеной дороге, там, где теперь Норт-авеню и где, бывало, стояли цыганские повозки, когда прерия доходила до реки Де-Плен и до птичьего питомника Уоллеса Эванса, а по берегам реки до индейских курганов тянулся дремучий лес».
И всегда в этих ранних воспоминаниях об охоте вставала фигура отца.
«Первый выводок куропаток я видел вместе с моим отцом и одним индейцем но имени Саймон Грин, — возле мельницы на Хортонс-Крик, в штате Мичиган, — это были тетерева, но в наших местах их зовут также куропатками, — они купались в пыли на солнечном пригреве и разыскивали корм. Мне они показались большими, как гуси, и от волнения я два раза промахнулся, а отец, стрелявший из старинного винчестера, убил пять штук из выводка, и я помню, как индеец подбирал их и смеялся. Это был толстый старик индеец, большой почитатель моего отца, и, вспоминая эту охоту, я и сам становился его почитателем».
Личность отца, его жизнь и трагический конец — он покончил самоубийством — всегда волновали Хемингуэя. Одному из своих друзей он говорил: «В течение многих лет я мучился вопросами, вызванными самоубийством моего отца, и гадал, как сложилась бы его жизнь, если бы он решился восстать против матери или женился бы на другой женщине. Сейчас это уже не имеет значения. Я знаю, что не должен судить, я должен принять и стараться понять. Понять — значит простить».
Как-то, уже будучи взрослым человеком, Хемингуэй сказал, что лучшим воспитанием для писателя является несчастливое детство. Вряд ли можно отнести эту формулу целиком к его собственному детству, скорее это соображение о литературе вообще. Однако трудно избавиться от ощущения, что сложная атмосфера в семье, непростые отношения между родителями оставили свой след в душе мальчика. Не случайно ведь он не раз возвращался к мыслям об отце. В том же рассказе «Отцы и дети» Хемингуэй писал об отце:
«…Ник любил его очень сильно и очень долго. Теперь, когда он знал обо всем, не радостно было вспоминать даже самое раннее детство, до того, как дела их семьи запутались. Если б можно было об этом написать, он бы освободился от этого. Он освободился от многих вещей тем, что написал о них. Но для этого не пришло еще время. Многие были еще живы».
Но о детстве своем, и именно о лесах Северного Мичигана, Хемингуэй писал много и подробно. Он описывал людей, которых знал, поселки, природу. А главное — в этих рассказах, где фоном были памятные ему места вокруг коттеджа «Уиндмир», он создал картину становления и мужания своего героя — Ника Адамса, картину во многом автобиографическую, навеянную личными воспоминаниями, наполненную собственными ощущениями.
В рассказе «Отцы и дети» он писал:
«Первоначальное воспитание Ника было закончено в лесах за индейским поселком. Из коттеджа в поселок вела дорога через лес до фермы и дальше по просеке до самого поселка. Он и теперь чувствовал всю эту дорогу под босыми ногами».
И когда маленький сын взрослого Ника Адамса попросит отца рассказать про то, как тот был маленьким и охотился с индейцами, Ник будет вспоминать:
«— Мы по целым дням охотились на черных белок, — сказал он. — Мой отец выдавал мне по три патрона в день и говорил, что это приучит меня целиться, а не палить весь день без толку. Я ходил с мальчиком-индейцем, которого звали Билли Гилби, и с его сестрой Труди. Одно лето мы охотились почти каждый день.
— Странные имена для индейцев.
— Да, пожалуй, — согласился Ник.
— Расскажи, какие они были.
— Они были оджибуэн, — сказал Ник. — Очень славные.
— А хорошо было с ними?
— Как тебе сказать… — ответил Ник Адамс.
Как рассказать, что она была первая и ни с кем уже не было того, что с нею, как рассказать про смуглые ноги, про гладкий живот, твердые маленькие груди, крепко обнимавшие руки, быстрый, ищущий язык, затуманенные глаза, свежий вкус рта, потом болезненное, сладостное, чудесное, теснящее, острое, полное, последнее, некончающееся, нескончаемое, бесконечное — и вдруг кончилось, сорвалась большая птица, похожая на филина в сумерки, только в лесу был дневной свет и пихтовые иглы кололи живот».
В быте индейского поселка, естественном и таком близком к природе, в немудреном укладе жизни лесорубов, фермеров, жителей Хортон-Бей и Питоски, мир открывался любознательному мальчику такими разными гранями, какие трудно увидеть в городе. Он сталкивался с красотой и радостью жизни, с кровью и насилием, с рождением людей и их смертью. И Эрнест со жгучим любопытством вглядывался в жизнь, впитывал в себя эти противоречивые и острые впечатления.
Так проходили летние месяцы на озере Валлун. А в остальные времена года в трехэтажном особняке в Оук-Парке шла своя жизнь. Там командовала мать, там господствовали установленные ею порядки.
Вот против этих «порядков» Эрнест бунтовал. Его активная, ищущая натура не могла мириться с этим застойным бытом.
Впрочем, его энергия находила естественный выход в увлечении спортом. Эрнест рос крепким, здоровым парнем, к четырнадцати годам он перерос всех своих товарищей, у него появились мускулистые плечи и могучая шея.
Как и все школьники Оук-Парка, он играл в футбол. Но футбол не стал его страстью. Сам он однажды объяснил это следующим образом: «У меня не было ни честолюбия, ни шансов. В Оук-Парке, если ты мог играть в футбол, ты должен был играть».
По-серьезному его увлек другой вид спорта, к которому он стремился с того дня, когда мальчишка на ферме дяди Фрэнка швырнул его ударом кулака на землю. В один прекрасный день он прочитал в «Чикаго трибюн» объявление о школе бокса и заявил родителям, что хочет поступить в эту школу.
Как это обычно бывало, мнения в семье разошлись. Доктор Хемингуэй одобрил желание сына, а мать резко восстала — она считала бокс опасным, буйным и неэстетичным видом спорта. Кроме того, она подчеркивала, что Эрнест, несмотря на хорошие отметки, и так уж тратит слишком много времени на всевозможные дела, не связанные со школой, и слишком мало внимания уделяет виолончели.
После долгих споров Эрнест отправился на свой первый урок бокса. Этот урок мог оказаться и последним. Ему предложили выйти на ринг против сильного боксера среднего веса Янга О'Хирна. Профессиональный боксер О'Хирн обещал действовать против новичка со всей осторожностью, но Эрнест так активно атаковал его, что О'Хирн быстро забыл о своем обещании и начал драться всерьез.
Через минуту Эрнест лежал на полу с расплющенным носом.
Когда Хемингуэй со своим школьным товарищем, с которым они вместе отправились овладевать этой наукой, уходили с этого первого урока, Эрнест печально сказал:
— Я знал, что так случится. Но я все равно хотел попробовать.
— Ты испугался?
— Конечно. Этот парень дерется как черт.
— Зачем же ты тогда дрался с ним?
— Черт побери, я не настолько испугался.
На следующий день Эрнест как ни в чем не бывало опять явился на занятия боксом, нос у него был перевязан бинтом, под обоими глазами были синяки, но он все-таки снова вышел на ринг. Другие его товарищи вскоре бросили это опасное занятие, но Эрнест прошел весь курс обучения и уже через год выступал в соревнованиях. Вот тогда-то удар боксерской перчаткой в голову серьезно повредил ему глаз.
Можно представить себе переживания миссис Хемингуэй. Она волновалась, устраивала сцены, огорчалась и плакала. Ей так хотелось воспитать из сына благопристойною юношу, а он вечно ходил с синяками, перевязанный.
А сам Хемингуэй на всю жизнь сохранил любовь и интерес к боксу. Уже будучи взрослым, он говорил: «Бокс научил меня никогда не оставаться лежать, всегда быть готовым вновь атаковать… атаковать быстро и жестко, подобно быку. Кое-кто из моих критиков говорит, что у меня инстинкт убийцы. Они говорили то же самое о многих бойцах: о Джеке Демпсее и Флойде Паттерсоне, о Инго Иохансоне и Джо Луисе. Я в это не верю. Вы деретесь честно и без обмана, и вы деретесь, чтобы победить, а не чтобы убить».
В школе между мальчишками часто бывали споры и ссоры, которые, как правило, решались кулаками.
Эрнест в таких случаях предлагал:
— Пошли ко мне домой, и там мы спокойно все устроим.
Когда вся компания являлась в дом к Хемингуэям, требовалось несколько минут на разведку, чтобы выяснить, где находятся мать и сестры. Если территория была свободна, заинтересованные стороны и свидетели проникали в музыкальный салон с заднего двора через боковую дверь. Сестра Эрнеста Санни приносила боксерские перчатки, ведро с водой и полотенца.
Ковер быстро скатывали в сторону, и натертый воском деревянный пол музыкального салона становился идеальным местом для ринга. Кроме того, с такого пола можно было моментально вытереть следы крови от разбитых мальчишеских носов. По окончании боя все в салоне восстанавливалось в прежнем порядке. Родители оставались в счастливом неведении.
Помимо дома, спорта и развлечений, была еще школа.
Жители Оук-Парка с подозрением и предубеждением относились к системе частных школ. Там существовала городская школа, в которой обучение было поставлено превосходно. Выпускники средней школы Оук-Парка без труда поступали потом в лучшие университеты страны. Патриоты городка утверждали, что четыре старших класса в школе Оук-Парка заменяют два младших курса университета. Особенное внимание в школе уделялось изучению английского языка. В первый год обучения школьники подробно изучали книгу Гербера «Мифы Древней Греции и Рима». В последующих классах принимались за классическую английскую литературу.
Когда Хемингуэя уже на склоне лет спросили, как он изучал английский язык, он ответил: «В средней школе у меня было две преподавательницы английского языка: мисс Фанни Биггс и мисс Диксон… Обе они были очень внимательны, особенно внимательны ко мне».
Судя по воспоминаниям, обе они были превосходными педагогами и просто по-человечески значительными личностями. Один из соучеников Эрнеста по школе вспоминал, что мисс Диксон «поощряла творческое мышление, подталкивала нас к тому, чтобы мы развивали свое воображение и стремились записывать свои интересные и оригинальные мысли». Кроме того, она была суровым критиком. «Ее критические замечания были весьма едкими, но она всегда гордилась нашими успехами и рада была поздравить с ними, а уж если что было плохо, то пощады от нее нечего было ждать».
Друзья мисс Диксон часто слышали от нее восторженные отзывы о Хемингуэе, она утверждала, что это самый способный ученик, какого она когда-либо встречала.
Фанни Биггс интересовалась Эрнестом не только как учеником, она видела в нем незаурядную личность и относилась к нему как старший товарищ. Он чувствовал себя с ней легко и непринужденно и не раз советовался с ней по всяким личным вопросам, делился своими заботами.
Преподаватели и соученики Эрнеста вспоминают, что он резко выделялся среди всех своими способностями к языку и литературе. «Я помню, — говорит один из его школьных товарищей, — что его классные работы настолько отличались от всех остальных, что мне казалось, что их нельзя засчитывать как выполнение задания».
Фанни Биггс была руководителем школьного литературного клуба, участники которого собирались обычно раз в неделю, читали вслух свои сочинения и коллективно их обсуждали. Один из участников этого клуба рассказывал: «Я помню, что она всегда особенно радовалась, когда Эрнест приносил что-нибудь явно необычное». Это подтверждает и другой член клуба: «Она очень интересовалась Эрнестом, его очевидными способностями и любовью к сочинительству. Я много раз замечал, как она выбирала сочинения Эрнеста и читала их вслух собравшимся, выделяя их как интересный пример решения темы».
Действительно, страсть к сочинительству владела им с самых ранних лет. На вопрос корреспондента: «Не можете ли вы точно припомнить, когда именно вы решили стать писателем?» — Хемингуэй ответил: «Нет. Я всегда хотел стать писателем».
Тем более важно было поощрить эту страсть и направить ее по правильному руслу. Сам Эрнест никогда не решился бы дать свой рассказ в школьный журнал, называвшийся «Скрижаль». Это Фанни Биггс передала его учителю Платту, который добровольно помогал школьникам издавать журнал, а тот уже передал его редактору. Это было в феврале 1916 года. Рассказ назывался «Суд Маниту».
Это было чисто мальчишеское сочинение — в нем была северная экзотика, позаимствованная, видимо, в охотничьих рассказах Джека Лондона, много крови и страшное возмездие убийце от Маниту — злого духа индейского фольклора.
В следующем номере «Скрижали» Эрнест напечатал новый рассказ: «Все дело в цвете кожи». На этот раз он обратился к материалу, непосредственно ему знакомому — к боксу. Занимаясь в школе бокса, бывая в гимнастических залах Чикаго и на матчах, Эрнест успел познакомиться с закулисной, коммерческой стороной этого спорта — с грязными сделками менажеров, с крупными пари букмекеров, с заранее подстроенным исходом боя. Такой анекдот о «грязном» матче он и использовал для нового рассказа — менажер белого боксера нанимает человека, который должен из-за заднего занавеса ударить дубинкой по голове соперника-негра. Однако человек этот бьет белого боксера, и крупная ставка менажера в тотализаторе пропадает. Когда же менажер набрасывается на громилу с криком: «Я же велел тебе ударить черного!», тот смущенно отвечает: «Вы не должны были мне так говорить — я дальтоник».
Этот рассказ отличался от первого тем, что был написан в форме монолога старого менажера Боба Армстронга, и Эрнест старался здесь найти индивидуальные черточки речи профессионального боксера, широко использовал жаргон ринга и смело ввел в рассказ некоторые довольно сильные и откровенные словечки.
Эрнест с самого детства обожал слова, которые миссис Хемингуэй считала «неприличными» и «грязными». Мать в таких случаях командовала металлическим голосом: «Иди в ванную и вымой рот мылом!» А Эрнест был уверен, что это самый лучший и верный способ выражения эмоций. Лестер Хемингуэй вспоминает: «Наказание только подчеркивало силу таких слов. Эрнест с ранних лет знал вкус мыла».
Чем старше становился Эрнест, тем настойчивее стремился он завоевать себе независимость, освободиться от назойливой опеки родителей. Летом 1916 года, после того как закончились занятия в предпоследнем классе школы, он вместе со своим приятелем Лью Клараганом отправился в самостоятельное путешествие в Северный Мичиган. Они взяли с собой палатку, одеяла, рыболовные принадлежности, на пароходе перебрались через озеро Мичиган и двинулись дальше пешком, раскидывая лагерь там, где им нравилось, удили рыбу, сами ее готовили на костре. Временами они подсаживались на поезд. Так они добрались до Калкаски. Здесь они пообедали в трактире, где собирались лесорубы; Лью Клараган распростился с Эрнестом и отправился обратно в Чикаго, а Эрнест один двинулся дальше. В Манселоне он семь часов прождал поезда до Питоски. Эти часы он не потратил зря — разговаривал с попутчиками. В своем дневнике Эрнест записал всех тех, с кем ему удалось поболтать. Он уже думал о том, как много материала эти встречи дадут ему для новых рассказов.
Пройдет немало лет, и эти впечатления действительно найдут свое место в рассказах Хемингуэя. Он будет писать о местах, которые так хорошо узнал, о людях, с которыми сталкивался. И когда в рассказе «Чемпион» он будет описывать скитания своего героя, то это будут конкретные места: когда сволочь тормозной выбросит безбилетника Ника с поезда, то не где-нибудь, а на перегоне железной дороги между Калкаской и Манселоной. И встреча двух мальчишек с компанией лесорубов и шлюх в рассказе «Свет мира» произойдет в станционном помещении Калкаски.
Вскоре все семейство приехало в «Уиндмир», но Эрнест предпочитал большую часть времени проводить теперь в Хортон-Бей. Он часто бывал у Дилвортов и подружился с братом и сестрой Смитами — Биллом и Кэт, которых немного знал и раньше. Они были много старше Эрнеста — Кэт вскоре должно было исполниться двадцать пять лет, а Биллу двадцать один, и тем не менее они обращались с ним как с равным.
Его стремление к свободе проявилось и в том, что на этот раз он не захотел жить в «Уиндмире» и спал в палатке, которую разбил неподалеку от коттеджа, или в лагере, который он устроил себе в полумиле от родительского дома.
Так прошло это лето, наступила осень, семья Хемингуэев вернулась в Чикаго, начались занятия в школе. Эрнест пришел в класс переполненным летними впечатлениями, и в первом же номере «Скрижали» в новом учебном году появился его рассказ «Сепи Жинган». Героем этого рассказа был охотник из племени оджибуэев, которому Эрнест дал имя своего знакомца по индейскому поселку, расположенному рядом с «Уиндмиром», — Билли Тэйшбо. Охотник бесстрастно рассказывал автору историю кровной мести, перемежая свое страшное повествование рассуждениями о достоинствах разных сортов табака.
Эти первые рассказы Эрнеста имели немалый успех среди школьников Оук-Парка. Один из его соучеников рассказывал: «Эрнест не был нашим вожаком, но мы любили его. Он отличался от нас, он был сложной натурой… Мы, конечно, восхищались его рассказами и речами. Мне кажется, что Эрнест начал серьезно писать в 1915 году. В комнате на третьем этаже их дома, подальше от семьи, у него была пишущая машинка. До этого времени он писал для забавы и, по-видимому, понимал, что совершенствует свои способности в этом деле. Он читал нам некоторые свои рассказы. Мы слушали, раскрыв глаза, и удивлялись, как он, такой молодой, может писать о приключениях, о сексе, о преступлениях, о тех вещах, которые мы только стремились познать».
В школе, где учился Эрнест, издавалась своя газета под названием «Трапеция». Раньше она выходила весьма нерегулярно, и занимались ею один или два старших школьника. В 1916 году общее руководство «Трапецией» взял на себя преподаватель истории Артур Боббит. Он сразу наладил выпуск газеты раз в неделю, создал из школьников постоянный редакционный аппарат, и он же привлек в газету Хемингуэя. Боббит впоследствии рассказывал, как однажды он предложил Эрнесту написать что-нибудь для «Трапеции», ссылаясь на то, что товарищи Хемингуэя часто говорят о его писательских способностях. Эрнест ответил, что он не собирается писать для газеты. Однако Артур Боббит проявил настойчивость, и Эрнест написал свой первый репортаж о концерте Чикагского симфонического оркестра. С тех пор он стал самым активным сотрудником школьной газеты.
В последний свой школьный год Эрнест каждую неделю печатал какой-нибудь материал в «Трапеции». Большей частью он писал о спорте, но не только. Он вступал на страницах газеты в шутливую переписку со своей сестрой Марселиной, которая была одним из очередных редакторов «Трапеции», сочинял ехидные заметки, в которых высмеивал «светскую жизнь» Оук-Парка.
Все эти первые школьные литературные опыты — и рассказы, и газетные заметки — давались Эрнесту, казалось бы, легко, без всякого труда. Но за этой кажущейся легкостью нельзя не рассмотреть серьезных раздумий подростка о своем будущем. Уже в те юношеские годы он твердо решил для себя, что будет писателем.
ГЛАВА 2 ПОЛИЦЕЙСКИЙ РЕПОРТЕР
Когда туман снижался, он обнажал холм Главной больницы, от которой несло, казалось, всеми антисептическими запахами.
Э. Хемингуэй, Из письмаВот и пришла последняя весна его школьной жизни. Это была весна 1917 года. Где-то за океаном, в Европе, уже третий год шла мировая война, в которой Соединенные Штаты не участвовали. Где-то в далекой России этой весной сбросили царя. Но в доме Хемингуэев на Норт-Кенильворт-авеню главной проблемой, которая волновала этой весной семью, была проблема будущего устройства их старшего сына Эрнеста. Традиции обеих семей — и Хемингуэев и Холлов — требовали, чтобы мальчик, окончив школу, поступил в университет, потом нашел себе пристойное занятие, обзавелся семьей и жил тихо, выполняя свои обязанности христианина и воспитывая своих детей в духе смирения и добродетели.
Этот разговор возникал с методической последовательностью каждый день. Отец и мать выступали единым фронтом. Они напоминали Эрнесту, что бабушка и дедушка Хемингуэи учились в университете в Уитоне, что брат матери Лестер Холл окончил Амхарский университет, а отец, его братья и сестры учились в Оберлине.
Эрнест большей частью отмалчивался. Он сам не знал, что он хочет делать после окончания школы. Но зато он твердо знал, чего он не хочет делать. Он не хотел жить такой жизнью, какой жили его родители и все остальное население Оук-Парка. Эта пресная, добропорядочная жизнь его совершенно не устраивала. Он чувствовал в себе силы и хотел испробовать их, хотел увидеть мир, окунуться в другую жизнь, потрогать ее своими руками, потолкаться в ней, подраться, если нужно. Он только не знал, как это осуществить. Поэтому он пока уходил от этих разговоров и ничего не отвечал родителям на их настойчивые вопросы.
Оставался месяц до выпускных экзаменов, когда в апреле Соединенные Штаты вступили в войну. И сразу все переменилось. Война, казавшаяся американцам чем-то отдаленным и малореальным, вдруг приблизилась и стала их войной.
Мальчики уже не думали об экзаменах. Какое все это могло иметь значение, когда их ждали военные подвиги, приключения и слава. Газеты призывали их надеть военную форму и идти «защищать цивилизацию от варварства гуннов». В распаленном воображении мальчиков уже возникали прекрасные француженки, которых им предстоит спасать и которые, конечно, оценят по достоинству рыцарство этих замечательных парней из Нового Света, примчавшихся на их спасение.
Едва ли не самым пылким среди этих горячих голов был Эрнест Хемингуэй. Вопрос о том, что делать после окончания школы, решался сам собой. О каком, к черту, университете можно говорить, когда открывается такая блестящая перспектива, как война! Энергия, клокотавшая в нем, искала выхода, он жаждал действия, риска, опасности, возможности проявить себя. Война сулила все это, и Эрнест твердо заявил о своем намерении идти в армию.
Однако его энтузиазм натолкнулся на непреодолимое сопротивление родителей. «Мальчик слишком молод», — заявил отец, и переубедить его оказалось невозможным. А перешагнуть через мнение отца Эрнест еще не мог. Но решимость уйти из дому, завоевать свободу зрела в нем. В эти месяцы он не раз говорил об этом своей сестре Марселине. Пусть ему не разрешают уйти на войну, но из дому он все равно уйдет и будет жить своей собственной самостоятельной жизнью.
Между тем пришло лето, и семья, как обычно, собралась ехать в «Уиндмир». У Эрнеста необходимости принимать немедленное решение о своем будущем не было, можно было отложить это на осень. Да и не хотелось отказываться от радостной возможности еще раз побывать в любимых местах, побродить с ружьем по лесам, порыбачить на озере Валлун, поразмыслить наедине с самим собой.
Жизнь в «Уиндмире» протекала как обычно. На противоположном берегу озера доктор Хемингуэй купил маленькую ферму «Лонгфилд», и Эрнест с отцом трудились там в поте лица. С помощью фермера Уоренна Самнера, которому ферма была сдана в аренду, они разобрали домик бывшего владельца и построили ледник, который Уоренн обещал зимой, когда замерзнет озеро, набить льдом. Они также привели в порядок огород и вдвоем с отцом скосили сено на 20 акрах, посадили новые фруктовые деревья. Друзья Эрнеста, приезжавшие в «Уиндмир», охотно помогали хозяевам.
Как и в прошлое лето, он часто спасался от утомительного семейного общества в Хортон-Бей, где возобновил свою дружбу с Биллом и Кэт Смитами. Почти каждый день он уходил в коттедж Пайн-Лейк, где проводил летний отпуск его новый друг Карл Эдгар, с которым он познакомился в Хортон-Бей. Карл Эдгар был уже вполне независимым человеком — он работал в Канзас-Сити в конторе нефтяной компании и был сам себе хозяином. Мог ли Эрнест не позавидовать этой самостоятельности?
Он часто советовался с новым другом о своем будущем, и уже в июле, когда у Карла кончился отпуск и тот должен был возвращаться в Канзас-Сити, Эрнест твердо сказал ему о своем решении — осенью он приедет в Канзас-Сити и постарается устроиться в тамошнюю газету. Он завоюет себе самостоятельность.
Идея найти работу в канзасской «Стар» возникла не случайно. Много лет спустя Хемингуэй объяснял: «Я хотел работать в «Стар» потому, что считал ее лучшей газетой в Соединенных Штатах».
Канзасская «Стар» действительно в те годы была одной из лучших газет Америки. В ней начинали свою деятельность многие известные впоследствии журналисты и писатели. Наверное, и это имел в виду Хемингуэй, мечтавший стать писателем. К тому же он был уверен в своих силах и способностях и полагал, что сумеет проявить себя там с лучшей стороны.
К счастью, эта идея не вызвала активного сопротивления со стороны родителей. Этому способствовали два обстоятельства: во-первых, в Канзас-Сити жил младший брат отца Тейлор Хемингуэй, преуспевающий бизнесмен, занимавший видное положение в местном обществе, и, следовательно, Эрнест будет под контролем семьи. А во-вторых, родители надеялись, что Карл Эдгар, будучи старше и разумнее Эрнеста, сможет оказывать на него положительное влияние. Доктор Хемингуэй написал брату, и тот ответил, что, видимо, сумеет помочь племяннику устроиться в газету, так как один из ведущих сотрудников «Стар», Генри Хаскелл, — его старый приятель по оберлинскому колледжу. Таким образом, все устроилось ко всеобщему удовольствию.
Кончилось мичиганское лето, и с наступлением осени Эрнест вырвался из родного гнезда.
Дядя Тейлор сдержал обещание, и Эрнеста взяли в «Стар» начинающим репортером с месячным испытательным сроком. Эта газета отличалась тем, что там не любили брать на работу опытных журналистов из других газет. Заместитель редактора газеты Пит Веллингтон обычно говорил в таких случаях: «Когда человек становится сотрудником канзасской «Стар», он у нас и получает свой опыт. Нам не нужны люди из больших газет, и мы не хотим прыгунов, скачущих по стране из одной газеты в другую. Мы сами учим наших работников, и учим их неплохо».
Можно себе представить, с каким трепетом переступил впервые Хемингуэй порог редакции. Это, казалось, был совсем иной мир — здесь говорили громче, чем принято, все куда-то торопились, употребляли непонятный для непосвященных жаргон.
Первым человеком, с которым столкнулся Эрнест в редакции, был Пит Веллингтон. Начинающие репортеры находились у него в подчинении.
Прежде всего Пит Веллингтон положил перед новым сотрудником длинный лист бумаги, на котором было отпечатано 110 параграфов, и объяснил ему, что это «Правила» газеты, составленные ее основателем и хозяином полковником Уильямом Нельсоном.
Эрнест прочитал пункт первый: «Пиши короткими предложениями. Первый абзац должен быть кратким. Язык должен быть сильным. Утверждай, а не отрицай». Что ж, над этим стоило подумать.
Пункт третий: «Избегай обветшалых жаргонных словечек, особенно когда они становятся общеупотребительными». Ничего не скажешь, наверное, это правильно.
Пункт двадцать первый: «Избегай прилагательных, особенно таких пышных, как «потрясающий», «великолепный», «грандиозный», «величественный» и тому подобное».
И так сто десять пунктов, включающих правила орфографии и пунктуации. По тону Пита Веллингтона и всему его виду можно было понять, насколько серьезно относятся в редакции к этим «Правилам». Впоследствии Хемингуэй вспоминал: «Они давали вам эти правила, когда вы начинали работать, и после этого вы отвечали за знание их, как если бы вам прочитали устав военно-полевого суда».
Ну что ж, он готов был учиться, работать днем и ночью, лишь бы доказать, что он может быть газетчиком, лишь бы его оставили в редакции этой газеты.
Оставалось еще сбросить с себя последние узы, мешавшие ему стать взрослым и самостоятельным мужчиной. Обстановка в доме дяди Тейлора и тети Арабелл своей чинной скукой и массой условностей слишком напоминала ему родной дом в Оук-Парке. Пока он будет жить здесь, он все равно будет для них мальчиком, который должен отчитываться в каждом своем шаге. И уже через несколько дней под предлогом, что ему удобнее жить поближе к редакции, он перебрался в квартирку Карла Эдгара на Агнесс-стрит, и друзья зажили вместе.
Карл возвращался со своей работы довольно поздно, а Эрнест должен был быть в редакции к восьми утра, поэтому встречались они только поздно ночью, и тогда начинались все разговоры. Эдгар вспоминал: «Хемингуэй ощущал очарование и романтику газетной работы. Он мог часами говорить о своей работе, при этом зачастую тогда, когда лучше было идти спать».
Эрнест жадно хватался за любое поручение и торопился выполнить его со всей бушевавшей в нем энергией. «Нас заставляли работать с напряжением, особенно в субботние вечера, — писал он много лет спустя. — Мне нравилось работать с напряжением, и я любил всякую экстренную и сверхурочную работу».
Наконец наступил долгожданный день — его испытательный срок кончился, и он стал полноправным репортером, получающим шестьдесят долларов в месяц.
Началась настоящая учеба и настоящая работа. В 1952 году Хемингуэй вспоминал: «Я отвечал за небольшой район, в который входили полицейский участок на 15-й улице, вокзал Юнион-стейшн и Главная больница. В участке на 15-й улице вы сталкивались с преступлениями, обычно мелкими, но вы никогда не знали, не натолкнетесь ли на крупное преступление. Юнион-стейшн — это все, кто приезжал в город и уезжал из него… Здесь я познакомился с некоторыми темными личностями, брал интервью у знаменитостей. Главная больница находилась на высоком холме над Юнион-стейшн, и там вы сталкивались с происшествиями и выясняли подробности преступлений, связанных с телесными повреждениями».
Он был в постоянном движении, ему не сиделось на месте, хотелось все увидеть самому. Пит Веллингтон говорил о нем: «Когда его прикомандировали к Главной больнице, у него была раздражающая привычка — уезжать с машиной «Скорой помощи» по первому же вызову из-за любой пустяковой царапины, но ставя редакцию в известность, что на посту никого не осталось. Он всегда хотел быть на месте действия сам, и я думаю, что эта черта характерна и для его более поздней писательской работы».
Сам Хемингуэй рассказывал своему младшему брату Лестеру: «Мне повезло. Дело в том, что там любили, чтобы молодые парни не сидели в редакции, а доставляли материал. События сыпались на меня со всех сторон. Я обычно выезжал со «Скорой помощью», обслуживавшей большой госпиталь. По существу, я был полицейским репортером. Но это давало мне возможность узнать, что думают люди «Скорой помощи», как они делают свое дело. Повезло мне с большим пожаром. Даже пожарные держались осторожно. А я пробрался за линию оцепления и мог видеть все, что происходит. Это была отличная история… Искры так и летели кругом. На мне был новый коричневый костюм, который оказался прожженным до дыр. После того как я передал по телефону информацию, я предъявил редакции счет на пятнадцать долларов за испорченный костюм. Но моя просьба была отвергнута. Это меня чертовски многому научило. Никогда не следует ничем рисковать, если ты не готов потерять это вообще, — запомни это».
Такова была эта работа. Молодой полицейский репортер знакомился с притонами, сталкивался с проститутками, наемными убийцами, бывал в игорных домах, в тюрьмах. Он наблюдал, запоминал, старался понять мотивы человеческих поступков, улавливал манеру разговора, жесты, запахи. Все это откладывалось в его великолепной памяти, чтобы потом ожить сюжетами, деталями, диалогами его будущих рассказов. Потому что он твердо знал, что будет писателем. Он не хотел быть никем другим — только писателем. Пит Веллингтон не раз слышал от него торжественное обещание «написать великий американский роман». Впрочем, в «Стар» это не было редкостью. Рассел Краус вспоминал, что «каждый газетчик, которого я знал, втайне писал роман».
Однако в обязанности полицейского репортера входило не только поспевать на место происшествия и наблюдать, но и писать, давать материал в газету. И здесь Хемингуэй попал в суровую школу Пита Веллингтона.
Заместитель редактора был ревностным хранителем традиций газеты «Стар». И при этом он был замечательным, истинным педагогом. Тот же Рассел Краус вспоминал о Веллингтоне, что «у него была прекрасная манера обнять вас и начать говорить с вами, как будто он вам друг, а не босс». Ему-то и приносил ежедневно свой материал Хемингуэй, и тот придирчиво обсуждал с начинающим репортером каждую его строчку, что бы это ни было — переданная по телефону из Главной больницы информация об очередном происшествии или короткая зарисовка, написанная по возвращении в редакцию.
Прежде всего Веллингтон требовал точности и ясности языка. Он не терпел многословия, стилистической небрежности.
Впоследствии Хемингуэй вспоминал: «Пит Веллингтон был твердым сторонником дисциплины, и я никогда не смогу достаточно выразить, как я благодарен, что мне пришлось работать под его руководством».
Эрнест оказался достойным и внимательным учеником Веллингтона.
Сам Пит Веллингтон говорил о Хемингуэе, что тот «изо всех сил старался» делать свою работу, тщательно отрабатывал «даже заметку в один абзац».
Уже на склоне лет, в 1960 году, отвечая на вопрос корреспондента: «Как вы начали писать книги?», Хемингуэй ответил: «Я всегда старался писать. Начал с заметок в школьной газете. Первая самостоятельная работа тоже была связана с журналистикой. После окончания школы я поехал в Канзас-Сити и стал сотрудником газеты «Стар». Это была обычная репортерская работа: кто кого застрелил? Кто совершил ограбление и где именно? Где? Когда? Как? О причинах событий — почему? — мы не писали никогда».
Товарищ Хемингуэя по редакции репортер Уилсон Хикс рассказывал, что «Эрнест очень ответственно относился к своей работе, но, кроме того, он мог, вернувшись с задания, со смехом рассказывать о людях, замешанных в этой истории, и обрисовывать их так, как нельзя было написать в газете». Да, он оставался веселым, общительным юношей, привлекавшим к себе сердца своей непосредственностью, юмором и обаянием. Веллингтон вспоминал о нем: «Это был крупный, добродушный парень, всегда готовый улыбаться, и он дружил со всеми в редакции, с кем ему приходилось сталкиваться».
Домой, сестре Марселине, Эрнест писал письма, полные восторга, что теперь он настоящий репортер настоящей газеты, что он выезжает на пожары, на драки, на похороны, что он уже многому научился, что у него много новых друзей в редакции, которые намного старше его.
Среди этих новых друзей особое место занимал старый газетчик Лайонел Моис.
Товарищи по редакции наперебой рассказывали Эрнесту, что Лайонел Моис «последний из могикан» старой американской журналистики, странствующий репортер, не признающий над собой власти газетных боссов. Рассказывали о его феноменальных способностях журналиста и в качестве примера приводили известную всему газетному миру Америки историю о том, как Моис в течение месяца давал ежедневно в газету триста строк по поводу кометы Галлея.
Но еще чаще рассказывали о его пьяных похождениях, говорили, что в пьяном виде он не может равнодушно видеть полицейского — у него возникает непреодолимое желание ударить его. Немало было и сплетен о его романах с женщинами. В Канзас-Сити не было бара или салуна, где не знали бы Лайонела Моиса.
Однажды в редакцию пришел бродяга и рассказал какую-то совершенно фантастическую историю. Ему не поверили и для проверки позвали Моиса. Старый газетчик окинул его испытующим взором и заговорил с ним на совершенно непонятном для всех окружающих языке — это был жаргон бродяг — хобо. Через несколько минут Моис удовлетворенно кивнул головой и объявил, что история правдива. И она была тут же напечатана в газете. Удивленному Хемингуэю товарищи объяснили, что Моис считается непревзойденным знатоком мира хобо, что он знает все джунгли, где скрываются бродяги, от тихоокеанского побережья до Канзас-Сити.
Такой человек не мог не поразить воображение Хемингуэя. А Моису, видимо, понравился молодой, горячий парень, которого все интересовало и который к тому же так серьезно относился к своей газетной работе. Они подружились. Рассел Краус, вспоминая о Хемингуэе, говорил о нем как о «спутнике этого старого черта Моиса».
Моис настойчиво внушал своему молодому другу, что «ясное, объективное описание является единственной настоящей формой литературы». Его любимыми писателями были Сен-Симон, Марк Твен, Конрад, Киплинг, Драйзер. Он часто повторял: «Никаких этих потоков сознания. И нечего разыгрывать из себя стороннего наблюдателя в одном абзаце и всезнающего господа бога в следующем. Словом, никаких этаких штучек».
Хемингуэй жадно впитывал идеи старшего товарища. Ему была понятна и близка убежденность Моиса, что газетный язык должен быть прежде всего хорошей прозой.
Моис умел найти смешное и нелепое даже в самых, казалось бы, серьезных вещах, особенно там, где это было связано с точным употреблением слова. Так, однажды он не без иронии отозвался о национальном гимне Соединенных Штатов: «Что хорошего можно сказать о литературном вкусе великой нации, если она выбирает национальный гимн, начинающийся словами «О, скажи».
Вспоминая о Лайонеле Моисе, Хемингуэй в 1952 году охарактеризовал его как «очень живописного, динамичного человека с большим сердцем, сильно пьющего и хорошо сражающегося», добавив, что «всегда сожалел, что талант Моиса не был дисциплинирован и направлен на настоящую литературу».
При всем увлечении Эрнеста работой он не переставал мечтать о войне. Время и разлука сделали свое дело, и доктор Хемингуэй уже не так категорически противился желанию сына вступить в армию. Может быть, отец рассчитывал, и не без оснований, что Эрнеста все равно не возьмут в армию из-за плохого зрения. И действительно, сколько попыток ни делал Эрнест вступить в армию, во флот, в морскую пехоту, он везде получал отказ.
Его всегда отличало упрямство. Марселине он писал: «Я все равно так или иначе попаду в Европу, несмотря на свое зрение. Я не могу допустить, чтобы происходило такое представление, как это, и я не принял в нем участия. Настоящей войны не было с тех пор, как дедушка Хемингуэй сражался в битве при Булл Рэне». Его не смущало, что дедушка во время Гражданской войны сражался совсем не при Булл Рэне, а под Виксбургом. Важно было не это, важно было его желание увидеть «это представление» и принять в нем участие.
Случай помог Хемингуэю.
В редакции «Стар» появился новый начинающий репортер. Эрнест в этот момент яростно стучал на пишущей машинке и не сразу приметил его. Как вспоминал впоследствии его новый знакомец, «приблизительно каждая десятая буква не попадала на ленту. Он не обращал на это никакого внимания. Точно так же он не замечал, когда две буквы сталкивались». Он внезапно кончил печатать и повернулся к вошедшему: «Довольно дрянная копия получилась. Когда я немного возбужден, эта проклятая машинка доводит меня до бешенства». Он встал и протянул руку: «Моя фамилия Хемингуэй. Эрнест Хемингуэй. А вы новый работник?»
Новый работник не замедлил представиться. Его звали Тэд Брамбак. Он происходил из довольно известной в Канзас-Сити семьи, учился в университете, повредил там себе глаз во время игры в гольф. Однако ему удалось вступить в транспортный корпус Американского Красного Креста и побывать таким образом на фронте во Франции. Теперь срок его контракта кончился, и он вернулся в родной город. Благодаря связям своей семьи он сумел получить место репортера в «Стар».
Нужно ли говорить, что оба молодых человека сразу же потянулись друг к другу. Эрнест с завистью слушал рассказы Тэда о войне, и, кроме того, пример Брамбака очень воодушевлял его — значит, можно попасть на войну даже с поврежденным глазом.
Уже в декабре 1917 года Эрнест рассказал Карлу Эдгару, что будет стараться попасть шофером в Американский Красный Крест и таким образом отправиться в Европу. Тэд Брамбак решил ехать вместе с ним. Оставалось только дождаться подходящего случая.
Случай не заставил ждать себя слишком долго. В апреле Эрнест и Тэд, разбирая в редакции телеграммы от различных агентств, увидели среди них сообщение, что Американский Красный Крест вербует добровольцев для отправки в Италию. Друзья успели подать заявления раньше, чем телеграмма появилась в газете.
30 апреля 1918 года Хемингуэй и Брамбак получили cвою последнюю зарплату в редакции. Газета не замедлила сообщить своим читателям, что два ее молодых репортера отплывают «из одного атлантического порта» в Италию, на фронт.
В канзасской «Стар» Эрнест проработал всего семь месяцев, но приобрел он там немало. Вспоминая в 1940 году об этом периоде своей жизни, он говорил, что научился тогда рассказывать просто простые вещи. А ведь это и стало его писательским принципом, который он потом не раз высказывал — писать просто о простых вещах.
ГЛАВА 3 ТЕНЕНТЕ ЭРНЕСТО
Когда уходишь на войну мальчишкой, тобой владеет великая иллюзия бессмертия. Других убивают, но не тебя. Потом, когда тебя в первый раз тяжело ранят, эта иллюзия пропадает, и ты понимаешь, что это может случиться с тобой.
Э. Хемингуэй, Из интервьюОркестр безостановочно играл один и тот же марш — «Прощай, Бродвей, привет тебе, Европа». Гремели литавры, ухал барабан, зрители на тротуарах кричали что-то неразборчивое и махали шляпами.
Новобранцы в форме Американского Красного Креста шли парадным маршем по Пятой авеню.
На трибуне, сплошь завешанной американскими национальными флагами, стоял сам президент Вильсон. В ушах, путаясь с грохотом барабана, колотились какие-то фразы из торжественных напутственных речей — ведь они, американские мальчики, цвет и гордость нации, отправлялись за океан, в старушку Европу, чтобы выиграть эту войну за демократию, которая, как уверял мистер президент, будет последней войной в истории человечества.
Эрнест и Тэд Брамбак шли рядом.
Последняя ночь в Нью-Йорке была самой веселой и шумной в жизни восемнадцатилетнего Хемингуэя. Они с Тэдом Брамбаком так за всю ночь ни разу и не прилегли. До рассвета шатались они из одного бара в другой, не пропустили ни одной пивной, ни одного кафе, побывали и в Гарлеме, и в Центральном парке, приглашая каждый раз все новых и новых девушек.
28 мая 1918 года пароход «Чикаго» отчалил от Бруклинской пристани и взял курс на Бордо.
Шли без эскорта эсминцев, и в течение всего путешествия разговоры были только о немецких подводных лодках, которые топят торговые и пассажирские суда и расстреливают из пулеметов тонущих.
Хемингуэй мечтал о приключениях и долгими часами, днем и ночью, простаивал вместе с Тэдом Брамбаком на верхней палубе, всматриваясь в водную гладь, чтобы первым заметить перископ подводной лодки.
К его разочарованию, рейс проходил спокойно. Оставалось только заводить знакомства среди разноплеменного состава войск, направлявшихся в Европу, выпивать в офицерском баре и играть в карты и в кости.
Он близко сошелся с уроженцем городка Йонкерса из штата Нью-Йорк, выпускником Принстонского университета Биллом Хорном и Хоуэллом Дженкинсом. Немало часов Эрнест провел в разговорах с двумя поляками из города Буффало — Леоном Чокиановичем и Антоном Галинским, направлявшимися во Францию, чтобы вступить там в Войско Польское.
Один только раз за все путешествие пароход резко изменил курс, и все решили, что «Чикаго» уходит от немецкой подводной лодки. Возбуждение достигло предела. Однако ничего не случилось. И Хемингуэй сказал своему другу, что у него такое чувство, словно его надули.
Париж пришелся ему больше по вкусу. В тот самый день, когда они выгрузились из поезда на Северном вокзале, немцы начали обстреливать французскую столицу из новейшего дальнобойного орудия — «Большой Берты».
Хемингуэй был вне себя от возбуждения. Тут же, на вокзале, он схватил такси и потребовал от Тэда, который немного говорил по-французски, чтобы тот приказал шоферу везти их туда, где падают снаряды.
— Мы дадим такой репортаж в «Стар», — взволнованно твердил он другу, — что у них там, в Канзас-Сити, глаза на лоб полезут.
Они пообещали шоферу хорошие чаевые, и началась дикая гонка по городу, о которой Тэд Брамбак вспоминал как о «самой невероятной поездке на такси в его жизни». Около часа метались они по Парижу, стараясь угодить в то место, куда попадают снаряды.
Наконец им «повезло». Они оказались у церкви святой Мадлен как раз в тот момент, когда в нее угодил снаряд «Большой Берты». «Никто не пострадал, — вспоминал впоследствии Брамбак. — Мы услышали свист снаряда над головами. Звук был такой, что, казалось, снаряд должен попасть прямо в такси, где мы сидели. Это было действительно волнующе».
Двое суток молодые американцы знакомились с Парижем. Они побывали на левом берегу Сены, где жили художники, продолжавшие рисовать, пить и философствовать, словно в городе ничего и не происходило, объездили кабаре, где танцевали канкан полураздетые девицы. Но Хемингуэю это показалось малоинтересным, он рвался на войну. К концу вторых суток он сказал Брамбаку:
— Это в конце концов становится скучным. Мне бы хотелось, чтобы они поторопились и поскорее отправили нас на фронт.
Следующей остановкой на их пути был Милан. Матери своей Эрнест послал из Милана бодренькую открытку: «Прекрасно провел время». Но в письме редактору «Стар» в Канзас-Сити Хемингуэй написал правду: «В первый же день здесь получил крещение огнем, когда взорвался целый завод, изготовлявший боеприпасы».
Прямо с поезда их посадили на грузовики и срочно бросили в окрестности Милана помогать расчищать от трупов огромную территорию завода, превращенную в пустыню. Это было из тех впечатлений, забыть которые невозможно. Через много лет он описал в книге «Смерть после полудня» все, что увидел, скупо и точно, без ненужных эпитетов и псевдопереживаний, так, как это было:
«Мы разыскали и перенесли в импровизированную мертвецкую множество трупов, и я должен откровенно сознаться, что мы были потрясены, обнаружив, что эти мертвые — женщины, а не мужчины. В те времена женщины еще не стригли волос, как это делалось позднее в течение нескольких лет в Европе и Америке, и сильнее всего, — вероятно, потому, что это было самое непривычное, — нас смущали их длинные волосы, а в тех случаях, когда их не было, мы смущались еще больше. Я припоминаю, что после того, как мы добросовестно разыскали все целые трупы, мы стали собирать найденные части. Эти отдельные куски нам чаще всего пришлось вынимать из остатков колючей проволоки, которая плотным кольцом окружала территорию завода, что наглядно свидетельствовало об эффективности сильновзрывчатых веществ. Много таких кусков было найдено на значительном расстоянии от завода, в полях, куда их отнесло силой взрыва».
Хемингуэй по-прежнему был во власти всепоглощающего возбуждения. Война притягивала его непреодолимым магнитом. В следующей открытке, отправленной в Канзас-Сити, он писал: «Завтра я уезжаю на фронт. Ох, ребята!!! Как я рад, что я здесь!»
Их было двадцать два молодых американца, шоферов санитарных машин Красного Креста, и все они получили назначение в IV отряд, дислоцировавшийся в городке Шио в девяноста милях к востоку от Милана.
Это было милое, тихое местечко. По молчаливой договоренности австрийцы и итальянцы не обстреливали некоторые города по обе стороны линии фронта. Шио принадлежал к их числу.
И тем не менее как раз в день их приезда по совершенно непонятной причине австрийцы принялись ожесточенно обстреливать Шио. «Мы бросились бежать в здание железнодорожной станции, — вспоминал Брамбак, — торопясь попасть туда, пока не посыпались новые снаряды. Но обстрел продолжался недолго. Никто из нас не пострадал».
В Шио Хемингуэя ожидало новое разочарование. Артиллерийский налет в день их прибытия оказался единственным. Городок жил мирной и тихой жизнью. Водители санитарных машин обосновались на втором этаже бывшей лесопилки. Перед зданием было поле, где они играли в бейсбол, рядом река, в которой можно было поплавать. В других отрядах Красного Креста IV отряд, посмеиваясь, называли «Сельским клубом Шио». Действительно, дни проходили в развлечениях, плавании, карточной игре. Хемингуэя это приводило в ярость.
Впрочем, у водителей IV отряда было еще одно развлечение, в котором охотно принял участие Хемингуэй. Сюда в большинстве своем попали студенты университетов, по разным причинам оказавшиеся негодными к строевой службе. И они издавали свою газетку, названную ими не без иронии итальянским словом «Чао», что означает и «Привет» и «Прощай». Она очень напоминала газеты, издававшиеся в американских колледжах.
Главное место в ней занимал юмор. Под заголовком «Прогноз погоды» печатались, к примеру, такие сообщения: «Ясно, луна с бомбардировкой, к утру небо, возможно, покроется самолетами с последующим градом».
Хемингуэй незамедлительно принялся сотрудничать в «Чао». В первом же после его прибытия в IV отряд номере газеты появился его фельетон, озаглавленный: «Эл получает еще одно письмо». Он был написан в той же грубовато-иронической манере, в какой он писал свои фельетоны в школьной газете «Трапеция» в Оук-Парке.
«Ну вот, Эл, мы уже здесь, в этой старенькой Италии, и раз уж я попал сюда, то и не собираюсь отсюда выматываться. Совсем не намерен. И это не шутка, Эл, а чистая правда. Я теперь офицер, и, если бы ты повстречал меня, ты должен был бы отдать мне честь. Я являюсь временно исполняющим обязанности младшего лейтенанта без офицерского чина, но беда в том, что все остальные ребята имеют такое же звание. В нашей армии, Эл, нет рядовых, а капитана называют «шеф». Только мне не кажется, что он хоть сколько-нибудь умеет готовить».
Шутливая формула «исполняющий обязанности младшего лейтенанта без офицерского чина» имела под собой основания. Когда в 1961 году сестра Хемингуэя Марселина принялась за книгу своих воспоминаний, она обратилась к товарищу Эрнеста по итальянскому фронту Биллу Хорну с письмом, в котором просила его уточнить, в каком чине Эрнест был в итальянской армии. Билл Хорн ответил ей следующее:
«Когда мы приехали в IV отряд, нам сказали, что все мы — шоферы санитарных машин — считаемся почетными младшими лейтенантами итальянской армии. Насколько это было правдой, я не знаю, но в этом был свой смысл. Это позволяло нам питаться в офицерской столовой, когда мы бывали на линии фронта с итальянскими частями. Мы так всегда и делали. Это помогало нам пробиваться вне очереди с нашими машинами на дорогах. Это давало нам преимущества на армейских заправочных пунктах. Естественно, что нас всегда охотно пускали в рестораны, салуны и другие подобные приятные места, куда пускали итальянских офицеров и не пускали солдат».
Иногда Хемингуэю приходилось водить свой санитарный грузовик по узким горным дорогам с бесконечными поворотами, где колеса машины касались кромки, за которой начиналась пропасть. Однажды здесь, в предгорьях Доломитских гор, Эрнест встретил американца, уроженца Чикаго, который отрекомендовался выпускником Гарвардского университета Джоном Дос Пассосом. Дос Пассос уже успел побывать во Франции в транспортных частях Американского Красного Креста, теперь продолжал свою службу в Италии, но собирался в ближайшее время вернуться в Париж. Они провели несколько приятных часов за беседою и отправились каждый своим путем, не подозревая, что судьба еще сведет их в дальнейшем.
Совсем неподалеку, на реке Пьаве, начались активные боевые действия. Долго Хемингуэй вынести такой жизни не мог. Вскоре он заявил Брамбаку:
— С меня довольно. Здесь не война, а какое-то театральное представление. И больше ничего. Я хочу уйти из санитарного корпуса и выяснить, наконец, где же происходит война. Они там сражаются, а я должен сидеть здесь и ждать, когда я войду в игру…
И он добился своего. Он добровольно вызвался перейти на обслуживание армейских лавок на реке Пьаве и получил это назначение.
— Там ты, бродяга, увидишь все бои, какие хочешь, — сказал ему один из приятелей.
Хемингуэй в ответ только ухмыльнулся.
Одновременно с ним на эту работу вызвались Билл Хорн, Дженкинс и еще несколько человек.
Армейские лавки располагались не более чем в миле от передовой. Как правило, каждый такой пост состоял из двух домиков. В одном помещались лавка и комната, где жил офицер Красного Креста. В другом, побольше, были кухня и комната для отдыха солдат, приходивших туда из окопов.
Так он оказался почти на передовой. И все-таки это была не та война, которую искал Хемингуэй. Ведь он приехал сюда не для того, чтобы варить кофе и играть в шахматы с итальянскими солдатами. Он хотел быть в окопах, там, где люди сражаются.
Билл Хорн, например, вскоре разочаровался в этой работе и вернулся в Шио, в IV отряд.
А Хемингуэй оказался более упорным. Он нашел способ оказаться на передовой — он вызвался доставлять продукты прямо в окопы. Каждый день Эрнест нагружался шоколадом, сигаретами, почтовыми открытками, садился на велосипед, который неведомо где раздобыл, и ехал на передовую. Он быстро сдружился с итальянскими солдатами и офицерами, которые прозвали его Маленький Американо, не за рост, конечно, поскольку он был крупным парнем, а за молодость.
Теперь он был доволен. Он видел, как снаряды бьют по укрытиям, как падают раненые и убитые.
Уже после ранения он писал в письме к родным из госпиталя:
«Знаете, говорят, что в этой войне нет ничего веселого. Так оно и есть. Я не хочу сказать, что это ад, потому что эти слова порядком заездили с тех пор, как их произнес генерал Шерман. Но было по крайней мере восемь случаев, когда я не отказался бы от ада — потому что это вряд ли было бы хуже тех переделок, в которые я попадал.
Например, в траншее во время атаки, когда в то место, где стоишь, попадает мина. Вообще, мина — это не так уж плохо, если это не прямое попадание. Но после прямого попадания ты весь оказываешься забрызган тем, что осталось от твоих приятелей. «Забрызган» — это буквально.
За те шесть дней, что я провел на передовой, в пятидесяти метрах от австрийцев, я приобрел репутацию человека, заговоренного от пули. Эта репутация сама по себе немногого стоит, если ты на самом деле не заговорен. А я, кажется, заговорен».
Последние слова были не чем иным, как попыткой успокоить родных. Впрочем, Хемингуэй действительно имел случай поверить, что ему «везет». Он чудом остался жив.
Это случилось 8 июля 1918 года, за две недели до его девятнадцатилетия. Хемингуэй добрался в темноте до передовой. Ночь была тихая.
Раздав шоколад, Хемингуэй взял у одного из итальянских солдат винтовку и выстрелил в сторону австрийских окопов. Этот одиночный выстрел растревожил австрийцев, и они открыли ответный огонь. И тут Хемингуэй увидел при очередной вспышке, как приподнялся и упал, скорчившись, итальянский снайпер, притаившийся на ничьей земле, между итальянскими и австрийскими окопами.
Хемингуэй вскочил, чтобы броситься ему на помощь, но в этот момент в окоп попала австрийская мина. Солдат, оказавшийся рядом, был убит. Другому оторвало обе ноги.
Тряхнув головой, чтобы прийти в себя после взрыва, Хемингуэй пополз в темноту. Австрийцы заметили его и открыли шквальный огонь. Хемингуэй продолжал ползти на животе, временами поднимаясь для броска вперед и вновь падая в грязь.
В 150 ярдах от австрийских окопов он нашел, наконец, раненого снайпера. Тот был без сознания, но еще жив. Хемингуэй взвалил его себе на спину и пустился ползком в обратный путь по исковерканной, кровавой и вонючей ничьей земле.
Вдруг небо раскололось ослепительным светом и громом, и земля, как ему показалось, вздыбилась к небу. Это австрийцы пустили в ход новый мощный крупповский миномет — огромная мина взорвалась рядом с ним, осыпав все вокруг густым ливнем рваных металлических осколков.
Хемингуэй почувствовал, что ему пришел конец.
«Я умер, — писал он впоследствии, — я почувствовал, как моя душа или что-то в этом роде вылетела из моего тела, как это бывает, когда вытаскивают из кармана шелковый платочек. Она полетела и вернулась на место, и я уже был жив.
Я был в сознании и в то же время полностью оглушен. Наступило какое-то помрачение. Инстинкт заставлял меня ползти сквозь грязь, грохот, взрывы снарядов. Я спрашивал себя: жив ли я? Была только боль и чернота. Потом пришла мысль, что я должен думать о жизни, о своей прошлой жизни. Вдруг это показалось смешным, что я должен был приехать в Италию, чтобы думать о своей прошлой жизни. Я не мог подумать ни о чем, что когда-либо случилось со мной. Важно было доползти до окопов. В голове у меня вспыхивали зеленые и белые звезды, как это бывало, когда я ложился в постель пьяным и пытался заснуть… Я хотел бежать, но не мог, как это случается с каждым в ночных кошмарах».
Ему казалось, что он убит, парализован, а на самом деле он продолжал ползти, волоча на себе раненого снайпера. Итальянец стонал, потом вдруг громко вскрикнул, дернулся и затих. И тут же из австрийских окопов зашарил по ничьей земле луч прожектора — он нащупывал темную грязную фигурку человека, тащившего на себе другого. И одновременно ударил крупнокалиберный пулемет. Одна из пуль раздробила Хемингуэю коленную чашечку.
Но он упорно продолжал ползти. И все-таки дополз до своих окопов. Итальянец, которого он тащил на спине, был мертв.
В уже упоминавшемся письме, родным из госпиталя он постарался описать все случившееся с ним в слегка юмористических красках. Именно так, как, по его убеждению, должны были говорить мужчины о своих бедах. Так, как будут говорить его герои.
«Теперь я могу поклясться, — писал он, — что меня обстреливали фугасами, шрапнелью и газовыми бомбами, в меня стреляли из минометов, снайперских винтовок и пулеметов, а в качестве дополнительного развлечения — с самолета, обстреливавшего передовую… И после всей этой кутерьмы в меня попали только осколки мины и пули из пулемета, когда я пробирался в тыл. Мне здорово повезло, как говорят ирландцы. Правда, родственники?..
Итальянец, который был со мною, истекал кровью. Моя рубашка и штаны выглядели так, как будто кто-то варил в них кисель из красной смородины и потом проткнул дырки, чтобы он вытекал. Капитан — большой мой приятель (это был его окоп) — сказал: «Бедный Хем, скоро ему ПСМ (Покоиться с миром)».
Видите ли, они думали, что у меня прострелена грудь — вся рубашка у меня была в крови. Но я заставил их стащить с меня рубашку (белья на мне не было), и оказалось, что мое старое доброе туловище цело и невредимо. Тогда они сказали, что я, возможно, останусь жив. Это меня ужасно обрадовало.
Я им сказал по-итальянски, что хотел бы увидеть свои ноги, хотя и боялся на них смотреть. Они сняли мои штаны — и мои конечности оказались на месте, но на что они были похожи! Никто не мог понять, как я мог проползти 150 метров с таким грузом с простреленными коленями, с пробитой в двух местах правой ступней, — а всего было больше двухсот ран.
— О мой капитан, — сказал я по-итальянски, — это ничего. В Америке все так делают. Считается, что так и надо — не дать противнику заметить, что ты рассердился.
Эта речь потребовала большого лингвистического искусства, но я осилил ее и потом заснул на пару минут».
Его уложили на носилки и потащили за три километра на перевязочный пункт. Идти пришлось по обочине, потому что дорогу сильно обстреливали. Каждый раз, когда раздавался свист крупного снаряда, санитары опускали носилки и сами бросались на землю. «К тому времени, — писал Хемингуэй, — мои раны болели, как будто 227 маленьких дьяволов забивали гвозди в живое тело».
Перевязочный пункт оказался эвакуированным, и Хемингуэй два часа пролежал в конюшне, у которой крыша была снесена снарядом. Когда пришла санитарная машина, он приказал водителю ехать дальше к передовой, чтобы забрать там раненых, а на обратном пути захватить и его.
У него оказалось 227 ран. На перевязочном пункте у него вынули 26 осколков. Какое-то количество этих осколков осталось в его теле на всю жизнь веским напоминанием о войне.
Пять дней он пролежал в полевом госпитале, после чего его перевезли в госпиталь в Милан. Начались операции. Одна, вторая, третья… Его оперировали двенадцать раз.
Многие врачи считали, что он уже никогда не сможет ходить. Некоторые предлагали ампутировать правую ногу. Хемингуэй отказался.
— Нет, — сказал он хирургу, — я лучше подохну, чем буду жить с одной ногой. Я не против того, чтобы умереть, но я не хочу ковылять на этой проклятой деревяшке.
Он припомнил совет отца, преподанный в детстве, и, когда боль становилась нестерпимой, насвистывал какой-нибудь мотивчик. Есть его фотография, где он лежит с ногой на вытяжке и свистит.
Уже через полтора месяца после ранения он писал родным, пытаясь успокоить их: «Теперь я чувствую себя не в своей тарелке, если у меня ничего не болит».
На самом же деле все обстояло далеко не так, как он изображал. Нога действительно заживала, металлическая коленная чашечка, которую ему поставили, уже не так мешала. Но психическая травма, пережитая им, еще долго терзала его, он не мог заснуть в темноте.
«…уже давно я жил с мыслью, что, если мне закрыть в темноте глаза и забыться, — писал он много лет спустя в рассказе «На сон грядущий», — то моя душа вырвется из тела. Это началось уже давно, с той ночи, когда меня оглушило взрывом и я почувствовал, как моя душа вырвалась и улетела от меня, а потом вернулась назад. Я старался не думать об этом, но с тех пор по ночам, стоило мне задремать, это каждый раз опять начиналось, и только очень большим усилием я мог помешать этому».
Он занимался тем, что по ночам, лежа без сна, представлял себе речку, где ловил мальчишкой форель, и мысленно проходил ее всю, не пропуская ни одной коряги, ни одного изгиба русла. Бывали и такие ночи, кода он не мог думать о ловле форели, и тогда он лежал с открытыми глазами и старался помолиться за тех, кого когда-либо знал. «Если за всех помолиться, прочитав за каждого «Отче наш» и «Богородицу», то на это уйдет много времени, и под конец уже рассветет, а тогда можно заснуть…
В такие ночи я старался припомнить все, что со мной было в жизни, начиная с последних дней перед уходом на войну и возвращаясь мысленно назад от события к событию».
Он не раз вспоминал впоследствии об этом первом ранении и о той психологической травме, которую оно нанесло ему. Герой одного из его последних романов, «За рекой, в тени деревьев», пожилой полковник Кантуэлл, которому, как всегда, Хемингуэй придал много черт собственной биографии, говорил о себе: «Ни одна из его ран не оставила такого следа, как это первое ранение. Наверное, — думал он, — я тогда потерял веру в бессмертие. Что ж, в своем роде это немалая потеря».
В порядке возмещения итальянский король наградил Хемингуэя Военным крестом и серебряной медалью «За доблесть».
Впрочем, та первая война дала Хемингуэю еще и иной драгоценный опыт — опыт первой любви.
В американском госпитале в Милане, где лежал Хемингуэй, он познакомился с медицинской сестрой. Звали ее Агнесса фон Куровски, она тоже приехала в Италию из Соединенных Штатов и была несколько старше Эрнеста.
Агнесса обычно дежурила по ночам, а Эрнест не спал в эти часы, и она подолгу сидела у его койки, стараясь отвлечь его разговорами, заставить забыть про боль. Они рассказывали друг другу о своем детстве, о всех маленьких событиях своей прошлой жизни.
Агнесса была красивая и неглупая женщина и все понимала. Он влюбился в нее со всем пылом своих девятнадцати лет. И она полюбила его.
Им было хорошо вместе. Когда Агнесса дежурила ночью на другом этаже, он писал ей необыкновенные, как она потом вспоминала, письма и посылал их ей с кем-нибудь из сестер.
Через несколько лет в «Очень коротком рассказе» он рассказал об этой своей первой любви, изменив имя своей любимой.
«Люз уже три месяца несла ночное дежурство. Ей охотно позволяли это. Она сама готовила его к операции; и они придумали забавную шутку насчет подружки и кружки. Когда ему давали наркоз, он старался не потерять власти над собой, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего в припадке нелепой болтливости. Как только ему разрешили передвигаться на костылях, он стал сам разносить термометры раненым, чтобы Люз не нужно было вставать с постели. Раненых было мало, и они знали обо всем. Они все любили Люз. На обратном пути, проходя по коридору, он думал о том, что Люз лежит в его постели».
Он был весь полон этой любовью и бесконечно счастлив. Неподалеку был фронт, рядом лежали раненые, здесь было царство боли, крови и гноя, но жизнь брала свое, и они, несмотря ни на что, были счастливы.
Сестра Хемингуэя Марселина рассказывает в своих воспоминаниях, как однажды вечером они с подругой по колледжу пошли в Чикаго в кино на последний сеанс и вдруг в хронике, где показывали новый госпиталь Американского Красного Креста в Милане, она увидела своего брата, сидящего в каталке, которую толкает хорошенькая сестра. Марселина чуть с ума не сошла от волнения. Она бросилась к хозяину кинотеатра и умолила его показать ей эту хронику еще раз. А ночью она позвонила родителям в Оук-Парк и рассказала им о своем открытии.
На следующий же день родители примчались в Чикаго посмотреть на сына. Отец весь день ходил из кинотеатра в кинотеатр, чтобы еще и еще раз увидеть, как мелькнет на экране его Эрнест. Конечно, они тут же написали об этом Эрнесту и, кстати, спросили его — хорошенькая сестра, толкающая его каталку, и есть та самая Агнесса, о которой он так много писал им?
Хемингуэй ответил родным, что это была не Агнесса.
«Агнесса самая красивая, таких красивых вы никогда еще не видели, — с гордостью писал он. — Подождите, пока вы встретитесь с ней!»
Много лет спустя Агнесса рассказывала Лестеру Хемингуэю:
«Эрни был в некоторых отношениях очень непослушный больной, но он пользовался огромной популярностью среди других раненых и повсюду заводил себе друзей. У него часто бывали неприятности с директрисой госпиталя мисс Де Лонг, потому что его шкаф всегда был набит пустыми бутылками из-под коньяка. Мисс Эльза Макдональд, ее помощница, была его большим другом и всегда держала его сторону…
Помню, когда Эрни отправился на бега — это была его первая прогулка из госпиталя, — мы должны были срочно пришивать к его куртке нашивки о ранении, чтобы он мог появиться на людях. Бега были одним из немногих мест, куда мы могли пойти развлечься, и ходили мы туда довольно часто».
Мысль о том, что он должен стать писателем, не оставляла его. В Милане он написал рассказ и переслал его одной своей знакомой в Чикаго с просьбой показать его редакции журнала. Рассказ не был принят и затерялся.
В конце сентября Эрнеста отправили лечиться на озеро Маджиоре. Здесь, в гостинице «Гранд-Отель Стресса», он познакомился с пожилым итальянским аристократом графом Эмануэлем Греппи, они вместе играли в бильярд, граф угощал его шампанским и с увлечением рассказывал своему молодому компаньону о мировой политике.
Когда Эрнест вернулся в Милан, его ожидало там неприятное известие — Агнесса вызвалась отправиться в госпиталь во Флоренцию, где была вспышка инфлюэнцы.
Эрнест писал ей каждый день, иногда по два письма в день. Она отвечала ему так часто, как позволяли ей ее обязанности. И его и ее письма были полны нежности и любви.
Пришло письмо и из Оук-Парка. Отец спрашивал Эрнеста, когда он собирается возвращаться домой. Эрнест ответил, что считает своим долгом оставаться в Италии, пока не кончится война.
И действительно, вскоре он отправился опять в Шио. Однако там были только жалкие остатки IV отряда — основная часть была послана на помощь I отряду в Бассано, в районе горы Граппа, где ожидалось крупное наступление итальянских войск. Эрнест недолго думая бросился туда и в деревушке около Бассано разыскал Билла Хорна и еще одного из своих товарищей по IV отряду — Эммета Шоу. Их санитарные автомобили стояли в ожидании раненых рядом с расположением ударных итальянских частей — ардитти. Эти части славились своей храбростью, и рассказы об их подвигах пленили сердце Хемингуэя.
Он приехал как раз вовремя, чтобы увидеть артиллерийскую подготовку, которую вели итальянские войска перед наступлением. Всю ночь они вдвоем с Биллом Хорном наблюдали вспышки артиллерийских снарядов в зоне австрийских позиций на горе Граппа.
На следующий день Билл Хорн и Эммет Шоу выехали на своих автомобилях вывозить раненых, но Эрнест не смог отправиться вместе с ними — он заболел желтухой и вынужден был вернуться в Милан в госпиталь.
К счастью, его организм легко справился с болезнью, и вскоре Эрнест начал выходить. 3 ноября он сидел в офицерском клубе, когда принесли известие о перемирии между Италией и Австрией. В этот день он познакомился в клубе с английским офицером, ирландцем по национальности, Эриком Дорман-Смитом, который командовал английскими частями в районе горы Пасубио, потом заболел и теперь был старшим начальником английских частей в Милане. До Италии Дорман-Смит воевал в Бельгии, был ранен и получил Военный крест за героизм.
Такой человек не мог не вызвать восхищения Хемингуэя. Они подружились и много времени проводили вместе. Эрнест впитывал рассказы Дорман-Смита, которого друзья называли Чинком, о боевых действиях под Монсом.
В середине ноября в Милан вернулась Агнесса, и они опять были счастливы вдвоем, но уже через неделю ее отправили в Тревизо, около Падуи. Эрнест поехал туда навестить ее. Агнесса уговаривала его не задерживаться в Италии и поскорее возвращаться домой. Она обещала ему тоже вернуться в Штаты и стать его женой.
Война кончилась, и ему действительно пора было возвращаться домой.
Впоследствии, уже будучи зрелым человеком и крупным писателем, Хемингуэй не раз утверждал, что «всякий опыт войны бесценен для писателя». В книге «Зеленые холмы Африки» он рассказывал, как, читая «Севастопольские рассказы» Толстого, одну из своих любимых книг, он «задумался о Толстом и о том огромном преимуществе, которое дает писателю военный опыт. Война — одна из самых важных тем, и притом такая, когда труднее всего писать правдиво, и писатели, не видавшие войны, из зависти стараются убедить и себя и других, что тема эта незначительная, или противоестественная, или нездоровая, тогда как на самом деле им просто не пришлось испытать того, чего ничем нельзя возместить».
В другом случае Хемингуэй объяснял неоценимость военного опыта для писателя собственными наблюдениями, почерпнутыми на итальянском фронте первой мировой войны: «Я увидел людей в моменты нечеловеческого напряжения, я увидел, как они ведут себя до этого и после». Он узнал многое не только про других на войне. Может быть, еще важнее для него было то, что, как он сказал, «я много узнал про самого себя».
А пока что его путь лежал домой — в Соединенные Штаты, Иллинойс, Оук-Парк.
ГЛАВА 4 СОЛДАТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ
— Бог всем велит работать, — сказала мать. — В царстве божьем не должно быть лентяев.
— Я пока еще не в царстве божьем, — ответил Кребс.
— Все мы в царстве божьем.
Э. Хемингуэй, Дома21 января 1919 года пароход «Джузеппе Верди», следовавший курсом из Генуи через Гибралтар, прибыл в нью-йоркскую гавань. Он привез на родину 400 американских солдат и офицеров. Среди пассажиров был и девятнадцатилетний ветеран войны Эрнест Хемингуэй.
Слава ждала его у причала. Нью-Йорку еще не надоели раненые герои. Едва Хемингуэй вступил на пирс, как его атаковали репортеры. В тот же день в нью-йоркской «Сан» и в «Чикаго ивнинг америкэн» появились интервью с молодым героем. Репортеры описывали, как с борта парохода сошел «хромающий от ран человек, который пострадал более, чем кто-либо из всех вернувшихся с войны, Эрнест М. Хемингуэй, проживающий в Оук-Парке, штат Иллинойс, на Норт-Кенильворт-авеню, 600… Хемингуэй первый американец, раненный на итальянском фронте, король Италии наградил его серебряной медалью «За доблесть» и итальянским Военным крестом». Не забыли упомянуть и о том, что «до войны он был репортером «Стар» в Канзас-Сити».
На вопрос о его планах на будущее Хемингуэй ответил, что думает исключительно о литературной работе. Он заявил, что «обладает достаточной квалификацией, чтобы получить работу в любой нью-йоркской газете, которой нужен человек, не боящийся работы и ран».
Так начала создаваться легенда о Хемингуэе. Этот парень явно подходил для такой роли — большой, красивый, не сломленный тяжелым ранением, что должно было демонстрировать стойкость американского духа. И человек, оказывающийся в такой ситуации, уже вынужден приноравливаться к ней, соответственно держать себя и говорить именно то, чего от него ждут. Нечто похожее и произошло с Хемингуэем.
Для молодого человека, вернувшегося с войны, естественно торопиться скорее попасть в родной дом. Но у Хемингуэя уже появилось нечто более ценное, чем семейный очаг, — важнее всего для него стала фронтовая дружба. По дороге из Нью-Йорка он остановился в городке Йонкерсе, чтобы провести вечер со своим другом по транспортному корпусу Биллом Хорном.
Холодным снежным вечером прибыл он на чикагский вокзал.
Встречать его приехали отец и сестра Марселина. Отец очень волновался. Он даже попросил дочь остаться у лестницы, он хотел встретить сына один. Навстречу ему шел возмужавший человек в иностранной форме. Форма эта, как вспоминал впоследствии сам Хемингуэй, состояла из кителя, который он у кого-то перекупил, пары высоких, до колен, кожаных ботинок, рубашки, купленной в Гибралтаре, и черного кожаного итальянского пальто с подкладкой из барашка, принадлежавшего одному его убитому другу. Он слегка прихрамывал и опирался на палку. Отец засуетился вокруг сына, испытывая некоторую неловкость, — он не знал, как с ним обращаться: как с мальчиком, вернувшимся домой после отлучки, или как со взрослым мужчиной. Он все время просил Эрнеста опереться на него.
Эрнест сказал ему:
— Послушай, отец, я прекрасно проделал сам весь путь от Милана. Думаю, что я теперь в полном порядке. Вы с Марси идите вперед, я сам дойду со своей старой палкой.
Граница была определена — он не нуждался в опеке, он твердо стоял на собственных ногах и собирался жить так и впредь.
На Норт-Кенильворт-авеню их ожидали с трепетом. Весь дом был освещен. В гостиной собралась вся семья. Сестрам было разрешено не ложиться спать, а самых младших, Лестера и Кэрола, даже разбудили — случай, как свидетельствует Лестер, чрезвычайный. Эрнест стоял посреди комнаты, все его окружили, целовали, совали ему в руки чашку с горячим шоколадом. Пришли соседи, тоже жали ему руки, хлопали по плечу. Все просили его рассказать о своих приключениях. А он не знал, что говорить. Он ощущал себя человеком с другой планеты. Разве мог он объяснить этим людям, живущим в привычном и благополучном мире, все, что ему пришлось пережить? Однако надо было говорить, что-то рассказывать, причем именно то, чего от него ждали.
Вероятно, с этого вечера и начала вырабатываться у него манера разговора о войне с людьми, не бывшими на войне.
1 февраля местная газета «Оук-Паркер» опубликовала интервью с Хемингуэем, в котором его именовали либо «юным героем», либо «юным воином». Самой примечательной в этом интервью была последняя фраза: «Его единственное замечание по поводу войны сводится к тому, что война — это большой спорт и он готов опять к этой работе, если она еще раз случится».
Естественно, что «юный герой» понимал, каких слов от него ждут, к чему обязывает его ситуация. Вопрос заключается в другом: какова была здесь степень искренности, когда он отозвался о войне, как о «большом спорте», а какова доля позы, необходимой для роли национального героя.
Очень просто было бы предположить, что война открыла ему глаза в такой же, скажем, степени, как Анри Барбюсу, который тогда же написал резко антивоенный роман «Огонь», или отождествлять Хемингуэя с его героем тененте Генри из романа «Прощай, оружие!», который в разгар войны понимает всю бесчеловечность этой бойни, напоминающей ему чикагские бойни, с той только разницей, что «мясо здесь просто зарывали в землю», и дезертирует, заявляя: «Я заключил сепаратный мир». Но это было бы слишком просто. Роман «Прощай, оружие!» написан был не девятнадцатилетним юношей, вернувшимся с войны, а двадцатидевятилетним мужчиной, многое понявшим и увидевшим за это послевоенное десятилетие. Да и сам Хемингуэй не заключал «сепаратного мира», а после госпиталя, имея полную возможность уехать тут же домой, все-таки попросился опять на фронт.
В 1942 году он предельно точно определил свое тогдашнее отношение к войне: «Я был большим дураком, когда отправлялся на ту войну. Я припоминаю, как мне представлялось, что мы спортивная команда, а австрийцы — другая команда, участвующая в состязании».
Подлинная жизнь вообще редко укладывается в простые схемы, а в случае с Хемингуэем, человеком далеко не простым, тем более. Все было гораздо сложнее. О нем нельзя сказать, что с войны он вернулся духовно сформировавшимся человеком. Для этого он слишком молодым попал на войну и слишком недолгое время пробыл там.
Во всяком случае, бесспорно одно — духовное смятение, овладевшее им после возвращения домой. Здесь сливались воедино и переживания войны, владевшие им, и неясность будущего, и сложные отношения с родителями, которые никак не могли и не хотели понять, что он вернулся другим человеком и его нельзя уже стреножить привычными домашними средствами.
Карл Эдгар приезжал навестить Эрнеста в Оук-Парк. Он был поражен тем воздействием, которое оказала на его друга война, — «он вернулся фигурально и буквально растерзанным на куски». Единственное, что оставалось незыблемым, — это решимость стать писателем. «Чувствовалось, — вспоминал Эдгар, — что он испытывает огромную потребность выразить то, что он пережил и увидел».
А жизнь тем временем шла своим чередом. Первые недели дома Эрнест был в центре внимания семьи и всего Оук-Парка. За ним беспрерывно ухаживали, в дом чаще обычного приходили гости, всем хотелось послушать воспоминания «юного героя». Отцу это льстило, он гордился сыном, вновь и вновь просил Эрнеста рассказывать гостям о войне.
Хемингуэя пригласили в школу, где он учился, просили рассказать о своих военных приключениях. Он согласился. Собравшимся школьникам он заявил, что это его первая речь и, он надеется, последняя. Тем не менее он рассказал им многое из того, что ему довелось повидать, и продемонстрировал, как вспоминал один из очевидцев, «свои пробитые шрапнелью штаны».
Вскоре ему стало надоедать это внимание. Он все реже стал выходить к гостям и все чаще уединялся в своей комнате на третьем этаже. Здесь его окружали военные сувениры — фотографии из Италии, карты, обмундирование, ружья, медали, австрийская ракетница — и всегда была припрятана для друзей бутылка.
По утрам он подолгу лежал в постели, укрывшись поверх одеяла накидкой, вывезенной им из госпиталя Красного Креста. Она была вся в веселых зеленых, красных, желтых, черных и белых клетках. Сестре Марселине он говорил, что эта накидка помогает ему не тосковать по Италии.
Он много читал в эти месяцы, все, что было в доме, — книги, журналы, даже медицинские журналы отца. Потом, он стал брать книги в городской библиотеке.
Во второй половине дня он обычно надевал свою военную форму, начищал до блеска высокие ботинки из дубленой кожи, брал палку и отправлялся гулять. Ему хотелось общаться со старыми друзьями, но мало кто из них был в городе, а те, кто был, не могли, подобно ему, располагать свободным временем днем. Все они работали или учились в университете. Изредка он забредал в свою старую школу.
Надо было приспосабливаться к мирной жизни, а он все еще жил воспоминаниями о войне. Война напоминала о себе болями в ноге, ночными кошмарами — он никогда теперь не тушил на ночь свет в своей комнате.
С детьми ему было легче, чем со взрослыми. Однажды он устроил необыкновенный праздник для младшей сестры Санни и ее друзей. Он принес на двор свою трофейную австрийскую ракетницу и полдюжины осветительных ракет и, не думая о переполохе, который вызовет такая забава в центре благопристойного Оук-Парка, принялся выпускать в небо одну ракету за другой. Дети были в восторге, соседи перепуганы и возмущены.
Он не мог забыть о войне и потому, что оставил там, в Италии, свою первую любовь. Он часто писал туда письма и с нетерпением ждал ответного письма. Он тосковал по Агнессе, по своим фронтовым друзьям. После того мира, где он побывал, Оук-Парк, который он и раньше не очень жаловал, казался ему пресным болотом.
Однажды в эти первые месяцы Марселина прибежала к нему на третий этаж с какими-то своими девичьими заботами и проблемами. Эрнест выслушал ее, потом вытащил бутылку кюммеля и протянул ей.
— Глотни-ка вот это, Мазевин, — сказал он.
Марселина со страхом попробовала сладкую, пахнущую анисом жидкость.
— Не бойся, — сказал Эрнест, — выпей это, сестренка, это не принесет тебе вреда. В этой маленькой бутылке кроется покой. Не сам по себе. Но это успокаивает, когда очень уж больно. Мазевин, не бойся пробовать все другие вещи в жизни, которых нет здесь, в Оук-Парке. Эта жизнь правильная, но есть еще огромный мир, полный людей, которые по-настоящему чувствуют. Они живут, любят и умирают, испытывая все чувства. Не бойся пробовать новое только потому, что это новое. Иногда я думаю, что мы здесь живем только наполовину.
После этого разговора, вспоминает Марселина, она стала думать, что вряд ли Эрни будет опять счастлив дома.
Лучше всего он чувствовал себя вне дома. В Чикаго, где жило много итальянцев, он нашел себе новых друзей, с которыми ему было хорошо и свободно.
В эту весну итальянские друзья Эрнеста решили устроить праздник в его честь. Организаторы праздника явились в дом № 600 по Норт-Кенильворт-авеню и изложили родителям свой план. Вначале отец и мать ничего не могли понять. Почему все эти незнакомые люди собираются прийти к ним в дом и принести с собой свою еду?
Эрнест сказал отцу:
— Пусть они придут, отец. Они говорят, что принесут все с собой. Будет еда, будут оркестр и оперные певцы, выпивка и все, что надо.
— Но это же дорого! — всполошился отец. — Мы не можем принять от них это!
— Им нравится делать это, папа. Ты только обидишь их, если не позволишь им прийти. Они любят праздники. Успокойся, отец, тебе это понравится.
В назначенное воскресенье к дому Хемингуэев стали подъезжать одна за другой машины, из которых высаживались смуглые, говорливые, веселые люди с корзинами, полными всякой снеди. Среди них было несколько хористов из чикагской оперы, другие привезли с собой гитары, скрипку и мандолину. В музыкальном салоне миссис Хемингуэй был немедленно организован концерт.
Тем временем несколько других гостей, в обычные дни работавших в лучших чикагских ресторанах, быстро облачились в свои фартуки и отправились на кухню. Вскоре был готов великолепный обед — на столах стояли тарелки со спагетти, с жареными цыплятами, восхитительными рыбными салатами, между ними расположились кувшины с красным и белым вином.
За столом царило самое непринужденное веселье. Даже доктор Хемингуэй поддался общему настроению. Но мать осталась недовольна — в этом празднике было что-то выходящее за рамки общепринятого в Оук-Парке, и это могло повредить ей в глазах местного светского общества и приходского совета пресвитерианской церкви. Попытка повторить праздник натолкнулась на ее решительный отказ.
Такие, казалось бы, мелкие стычки, непонимание, вызывающие обоюдное раздражение, происходили на каждом шагу. Но главным был вопрос о будущем Эрнеста. И отец и особенно мать деликатно, но настойчиво намекали Эрнесту, что ему пора решить, что же он будет делать — будет ли искать себе пристойную работу или будет поступать в какой-нибудь университет. Мать постоянно повторяла: «Нельзя, чтобы мальчик валял дурака всю свою жизнь, он должен чем-то заняться».
А Эрнест отмалчивался, хмурился и ничего не хотел говорить о своих намерениях.
Он молча вынашивал свои планы, обдумывал их, а главное — он ждал письма из Италии, каждый день ждал, когда принесут почту, и с волнением торопился сам разобрать ее.
Наконец письмо пришло. Эрнест прочитал его, лег в постель и не вставал. Он заболел, но при этом категорически отказывался, чтобы его посмотрел врач, хотя у него была повышенная температура. Отец волновался за него, но был бессилен. Эрнест молчал и не хотел лечиться. Однажды, когда Марселина поднялась к нему в комнату, спросить, не надо ли ему что-нибудь, он неожиданно швырнул ей письмо и сказал:
— Прочти! Впрочем, нет, я сам перескажу его тебе.
Письмо было от Агнессы. Она писала, что не приедет в Америку, что то, что было между ними, не более чем детская влюбленность и что она влюблена в итальянского лейтенанта Доминико Караджоло.
Эрнест скомкал письмо, швырнул его в угол и опять отвернулся к стене. Потом он совсем уже по-мальчишески написал их общей приятельнице мисс Макдональд, которая была свидетельницей их любви, что он надеется, что когда Агнесса вернется в Штаты, то она споткнется на сходнях и вышибет свои проклятые зубы. Позднее он узнал, что замуж за итальянского лейтенанта Агнесса так и не вышла и жизнь ее сложилась в общем неудачно. Эрнест признавался своему другу Хоуэллу Дженкинсу, что он ужасно переживал из-за того, что Агнесса несчастлива, но дал себе зарок пьянствовать до тех пор, пока не сотрется память о ней.
Утешение он находил в друзьях. В Оук-Парк проездом в Хортон-Бей заехал старый приятель Билл Смит. Его старший брат недавно вернулся из санатория, где лечился от туберкулеза, и жил на Норт-Оук-Парк-авеню. Эрнест не виделся с Биллом с лета 1917 года, теперь они провели вместе несколько вечеров.
В одну из своих поездок в Чикаго Эрнест встретил Тэда Брамбака, с которым они в последний раз встречались в Милане, когда Тэд навещал Эрнеста в госпитале. Тэд после возвращения из Италии поступил на работу в чикагскую газету «Трибюн». Эрнест без груда уговорил Брамбака приехать к нему на озеро Валлун. С Тэдом ему было легко и просто — они вместе прошли через все то, что не давало Эрнесту спать по ночам, возвращалось ночными кошмарами, они понимали друг друга.
В начале июня Эрнест приехал в Хортон-Бей и остановился поначалу у тетки Билла Смита. Он охотно помогал Биллу ухаживать за садом, по вечерам они часто уезжали вдвоем в машине Билла в дальние прогулки.
Раны по-прежнему давали о себе знать — ноги болели, и приходилось то и дело обращаться к врачу в Бойн-Сити, чтобы он накладывал повязки. И тем не менее Эрнест, преодолевая боль, отправлялся на рыбную ловлю, уходил в леса. Младший брат Хемингуэя Лестер писал, что Эрнест «напоминал животное, которое увозили далеко и которое вернулось туда, где выросло, и убедилось, что здесь все так же, как ему помнилось, и что это действительно его родные места».
По вечерам, сидя у костра и ужиная только что пойманной форелью, Эрнест развивал перед друзьями свои планы на будущее. Он говорил, что собирается поступить на работу в газету, а в свободное время писать. Как только он начнет зарабатывать себе на жизнь литературой, он бросит газету и посвятит литературе все свое время. Он доверительно сообщил Тэду, что надеется обеспечить себя писательством «в скором времени».
В это лето Эрнест старался как можно меньше бывать в «Уиндмире». Большую часть времени он проводил в Хортон-Бей. Этот поселок сыграл немалую роль в его жизни, именно в Хортон-Бей происходит действие многих его рассказов. В рассказе «У нас в Мичигане» Хемингуэй оставил предельно точное описание этого местечка.
«Поселок Хортон-Бей на большой дороге между Бойн-Сити и Шарльвуа состоял всего из пяти домов. Лавка и почта с высоким фальшивым фронтоном, перед которой почти всегда стоял чей-нибудь фургон, дом Смита, дом Струда, дом Дилворта, дом Хортона и дом Ван-Хусена. Дома окружала большая вязовая роща, и дорога проходила по сплошному песку. По обеим сторонам дороги тянулись фермы и лес. Немного не доезжая поселка, у дороги была методистская церковь, а при выезде из него — начальная школа. Кузница, выкрашенная в красный цвет, стояла напротив школы.
Песчаная лесная дорога круто спускалась к заливу. С заднего крыльца дома Смитов был виден лес, спускавшийся к озеру, и дальний берег залива. Весной и летом там было очень красиво, залив ярко синел на солнце, а по озеру за мысом почти всегда ходили барашки от ветра, дувшего со стороны Шарльвуа и с озера Мичиган».
Здесь, в Хортон-Бей, у него были друзья, с которыми ему было приятно проводить время.
Было и еще одно обстоятельство, привлекавшее Эрнеста в Хортон-Бей. В это лето он встретил здесь девушку, которая ему понравилась. Быть может, это была подсознательная попытка освободиться от горечи, которую ему принесла любовь к Агнессе фон Куровски, излечиться от этой любви, забыть ее. Марджори Бамп была семнадцатилетняя хорошенькая девочка, ничем другим не примечательная. Жила она в Питоски, а на лето приезжала в Хортон-Бей к своему деду. Очевидцы вспоминают, что Марджори охотно принимала ухаживания Хемингуэя, но никак не отвечала на его чувства.
К концу лета Эрнест объявил родителям, что он решил остаться в Хортон-Бей на всю осень, чтобы писать. До этого ему никогда не удавалось провести в Мичигане осень, когда там самая лучшая охота. Теперь ему хотелось пожить одному, чтобы никто не мешал, поохотиться на тетеревов, увидеть, как приходит зима на пустынное озеро. А самое главное — он хотел сидеть в одиночестве и писать, писать, выплеснуть на бумагу все, что наболело в его душе.
14 октября 1919 года Марселина писала из Оук-Парка своему будущему мужу Стерлингу Санфорду: «Эрни опять с нами, но только на неделю. Он приехал в понедельник вместе с Биллом Смитом и собирается возвращаться в Хортон-Бей на всю зиму. Я боюсь, что он там замерзнет, но он хочет писать — создать огромное количество произведений, — и я думаю, что Хортон-Бей зимой будет самым спокойным местом для этого».
В Хортон-Бей Хемингуэй снимал комнату в доме у Джемса Дилворта, который был хозяином местной кузницы. Его жена Лиз готовила для Эрнеста.
Впрочем, в Хортон-Бей Хемингуэй этой осенью прожил недолго. То ли потому, что наступали холода, то ли потому, что ему хотелось быть поближе к Марджори Бамп, но он переехал в Питоски и поселился там в доме Поттеров. Там, в комнатке на втором этаже, он сидел целыми днями и работал на своей портативной пишущей машинке. Сам Хемингуэй спустя много лет говорил об этом периоде своей жизни: «Я писал в Питоски в Мичигане всю осень и часть зимы. Я работал и писал, но не мог ничего продать». Действительно, ничего из того, что он написал за это время, не нашло покупателя. Это угнетало, тем более что он знал, насколько отрицательно относятся родители к его намерению стать писателем, считая это занятие несерьезным и даже как-то малопочтенным. Но эти неудачи не могли поколебать его решимости. А кроме того, быть может, подсознательно он чувствовал, что ощущения и впечатления, откладываемые в нем мичиганскими лесами, одиночеством и раздумьями, еще пригодятся ему.
Впрочем, была не только работа и одиночество в комнатке у Поттеров. В Питоски он несколько неожиданно подружился с 14-летней Грейс Куинлейн. Грейс вспоминала, что их знакомство началось с того, что однажды на какой-то вечеринке она позвала его танцевать, но он оказался «таким ужасным танцором, что большую часть вечера мы сидели и разговаривали». Он стал часто бывать У нее в доме, иногда вместе с Марджори Бамп. Обычно они сидели на кухне, грызли жареные кукурузные зерна, слушали музыку и болтали.
Нашлись у него и более шумные приятели, одним из которых оказался сын местного судьи Пейлторна, по прозвищу Датч. С этой компанией он часто по вечерам сидел в баре «Парк-отеля» и выпивал. Порой они веселились настолько бурно, что это вызывало неодобрение местного общества. Так, например, однажды они устроили вечеринку в доме доктора Рамсделла в Бей-Вью, около Питоски. Как вспоминал Пейлторн, «мы выпили все домашнее пиво, а изюм выбрасывали за дверь. Когда доктор Рамсделл вернулся домой на следующее утро, он обнаружил, что весь двор забросан изюмом, и никак не мог понять, что же здесь происходило».
Иногда по просьбе своих друзей Хемингуэй рассказывал им про войну. Однажды, когда вся компания сидела в амбаре у доктора Рамсделла, Эрнест рассказал им, что ардитти ходили в атаку, зажав в зубах нож. Когда друзья выразили сомнение в пользе такого оружия, Эрнест продемонстрировал им, как это делается, и метнул нож через весь амбар, попав точно в указанное место.
Нет ничего удивительного в том, что местное светское общество не одобряло образа жизни этого молодого человека из Чикаго, — он часто появлялся в стоптанных башмаках и в потрепанных брюках, по нескольку дней не брился, выпивал с приятелями, а главное — он нигде не работал. Ведь нельзя же было считать за работу то, что он целыми днями стучал на машинке. Вообще он не подходил под их представление о благопристойности.
Тем не менее под рождество кто-то уговорил Хемингуэя выступить в местной публичной библиотеке с воспоминаниями о войне. Эрнест ради такого случая надел свою старую итальянскую форму ардитти и продемонстрировал свои, ставшие уже знаменитыми, продырявленные шрапнелью и окровавленные штаны.
В этот вечер состоялось знакомство, которое вскоре ему весьма пригодилось. Среди присутствовавших была миссис Коннебл, жена главы торговой сети магазинов Вулворта в Канаде. Ей представили Хемингуэя, он понравился, и вскоре она познакомила его со своим мужем.
Они жили постоянно в Торонто, а в Питоски у них был летний дом. Ральф Коннебл оказался мягким, общительным и веселым человеком, большим любителем всевозможных розыгрышей. Он быстро разобрался в терзаниях молодого и симпатичного ему Хемингуэя и предложил ему переехать жить к ним в Торонто, где Коннебл, пользуясь своими связями, попытается помочь ему устроиться в местную газету. А пока что Эрнест может жить у них в доме и заниматься с их сыном, который был на год его младше.
Это был выход. И Хемингуэй с благодарностью согласился.
ГЛАВА 5 ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ «ТОРОНТО СТАР УИКЛИ»
Когда пишешь для газеты, то, сообщая о каком-нибудь событии, так или иначе передаешь свои чувства; тут помогает элемент злободневности, который наделяет известной эмоциональностью всякий отчет о случившемся сегодня.
Э. Хемингуэй, Из интервьюРальф Коннебл сдержал свое обещание. По своим торговым делам он был связан с Артуром Доналдсоном, который заведовал рекламным отделом в местной газете «Торонто дейли стар», и, воспользовавшись этой дружбой, попросил его помочь устроить Хемингуэя в газету. Глава торговой сети магазинов Вулворта в Канаде был слишком важной фигурой для рекламного отдела, чтобы можно было невнимательно отнестись к его просьбе. Доналдсон немедленно представил Хемингуэя редактору литературного отдела «Торонто стар уикли» — еженедельного воскресного приложения газеты.
В результате этой несложной комбинации в начале февраля Хемингуэй оказался в кабинете редактора «Стар уикли» Джеймса Кранстона. В своих воспоминаниях Кранстон писал: «Раздался стук, и в мой кабинет вошел Грегори Кларк, моя правая рука. Следом за ним появился высокий худой парень с маленькими черными усиками. Он прихрамывал, на нем были шапка, кожаное пальто с несколько короткими рукавами и серые узкие брюки, тоже коротковатые.
— Босс, — сказал Кларк, — этот парень говорит, что он может писать и хочет что-нибудь для нас сделать. Его зовут Эрнест Хемингуэй.
Я выяснил из разговора, что он американец, приехал сюда в гости к Ральфу Коннеблу, состоятельному управляющему магазинами Вулворта в Торонто. Он окончил школу, бродяжил по Соединенным Штатам. Воевал в первую мировую войну в Италии. Он ничего не сказал про свои ордена. Сказал, что некоторое время работал в канзасской «Стар».
Кранстон заявил новичку, что штатных мест в газете нет, и единственное, на что тот может рассчитывать, — это на внештатную работу. Он может писать на любую тему, какую ему захочется, но оплачиваться будет только опубликованный материал.
Условия были довольно суровые, но претендовать на большее Хемингуэй не мог. Он согласился.
Газета, в которую он попал, ничем не напоминала канзасскую «Стар» с ее строгими правилами и их хранителем Питом Веллингтоном. Торонтская «Стар уикли» выходила раз в неделю, по воскресеньям, и представляла собой, как говорят американцы, «омнибус новостей» в дюйм толщиной, и, чтобы прочитать ее от первой страницы до последней, требовалось более пяти часов. Популярность ее выходила далеко за пределы Торонто — ее читали и в других городах Канады: в Монреале, в Виндзоре; ее выписывали и в ближних городах Соединенных Штатов: в Чикаго, Детройте, Буффало.
Владелец обоих изданий — и «Стар» и «Стар уикли» — Аткинсон намеревался со временем завоевать весь газетный рынок Канады. Но душой газеты, ее рулевым, был редактор «Стар уикли» Джеймс Кранстон. Как раз в то время, когда Хемингуэй толкнулся в двери этой редакции, Кранстон пользовался наибольшей свободой и мог проводить там свою линию.
Правила Кранстона укладывались в извечный газетный закон охоты за читателем. «Мы всегда старались, — писал он, — чтобы статья начиналась с ударного анекдота, который возбудил бы интерес читателя к дальнейшему. Наживка, предложенная в первых абзацах, должна была быть такой, чтобы читатель заглотил всю рыбу».
При этом Кранстон обладал несомненным литературным вкусом и известной широтой взглядов. Он стремился превратить «Стар уикли» в хороший, литературный, по существу, журнал. Для этого он усиленно привлекал в газету молодые литературные силы, откапывал новые таланты и всячески поощрял их. «Мы стремились к тому, — говорил он, — чтобы давать больше занимательной литературы и насколько возможно сокращать информационные статьи».
Отличительной чертой Кранстона как редактора была терпимость. Он не навязывал молодым авторам своих вкусов. Писатель Мерилл Денисон, работавший в те годы с Кранстоном, отзывался о нем: «Оглядываясь назад, я теперь понимаю, что он выбирал людей по их умению писать, а приняв их, позволял им идти своим собственным путем». По воспоминаниям другого писателя, Кранстон «был человеком скромным и застенчивым, сам он писал мало, но употреблял всю свою энергию на открытие и поощрение талантов, которые ему удавалось обнаружить». При этом он обладал безошибочной способностью угадывать читательские вкусы и всегда знал, что понравится читателю, а что нет. В редакции считали, что он «лучший судья в области рассказа».
Такой редактор был находкой для Хемингуэя. После суровой школы Веллингтона он получил здесь возможность свободного выбора интересующих его тем и мог пробовать себя в различных жанрах — юмористического рассказа, пародии, сатиры.
При этой первой встрече они «поговорили о том, в каких материалах нуждается газета, после чего лед был сломан».
Вскоре Хемингуэй принес Кранстону свой первый материал. В нем видна попытка молодого журналиста найти нужную манеру разговора с читателем, которая должна была понравиться публике. Статейка называлась «Кочующая выставка картин». Хемингуэй в ней издевался над местными снобами, бравшими напрокат картины, чтобы выглядеть любителями искусства. Эти «сливки общества», о которых он писал, были ему достаточно хорошо знакомы по Оук-Парку. Кранстон не был в восторге, но заметку принял, и она была напечатана без подписи 14 февраля 1920 года. Кранстон отозвался о ней впоследствии так: «Такую статейку мог сочинить любой приличный репортер. Он получил за нее 5 долларов».
Спустя три недели Хемингуэй принес Кранстону очерк, который уже больше понравился редактору и был напечатан 6 марта. Под этим очерком впервые в «Стар уикли» появилась подпись — Эрнест Хемингуэй. Название очерка было несколько неожиданным и уже обращало внимание читателя — «Попробуйте побриться бесплатно». Да и начало не могло не понравиться канадцам, переживавшим после войны сильнейший приступ национализма, обращенного против Англии и Соединенных Штатов. Что же касается Хемингуэя, то вряд ли он написал этот очерк только для того, чтобы потрафить канадскому антиамериканизму, — он достаточно хорошо знал Америку, чтобы не быть поклонником «американского образа жизни». Об этом он еще не раз будет писать на протяжения всей своей жизни.
«Страной свободных и родиной храбрых» — так скромно именуют республику, расположенную к югу от нас некоторые ее граждане. Возможно, что они храбрые, но что касается свободы — никакой свободы там нет: за все приходится платить. Время бесплатных завтраков давно прошло, а если попытаешься вступить в общество свободных каменщиков, то тут тебе напомнят, что это будет стоить семьдесят пять долларов.
Подлинным убежищем свободных и храбрых является школа парикмахеров. Там все бесплатно. И там действительно нужно быть храбрым. Если вы хотите сэкономить 5 долларов и 60 центов в месяц на бритье и стрижке, посетите школу парикмахеров, но не забудьте прихватить с собой все свое мужество.
Ибо посещение школы парикмахеров требует несгибаемого мужества человека, привыкшего смотреть смерти в глаза. Если не верите, посетите салон, где упражняются новички, и предложите себя бесплатно побрить. Я это сделал».
И далее Хемингуэй с неподдельным юмором описывал посещение школы парикмахеров и переживания человека, на котором тренируются ученики. Попутно он рассказал и о бесплатном лечении зубов студентами в Королевском колледже дантистов.
Кранстон вспоминал: «Его следующая заметка (о школе парикмахеров) была гораздо лучше. Ему платили полцента за слово — обычная цена в «Стар уикли» в те времена».
Общительный и веселый, новый сотрудник легко нашел свое место в шумной компании газетчиков. Грегори Кларк рассказывал, что Хемингуэй обычно приходил в редакцию, усаживался на подоконник и охотно принимал участие в общей болтовне. Его полюбили как веселого рассказчика, неистощимого на выдумки. Кранстон писал в своих воспоминаниях: «Иногда я прислушивался к его рассказам. На меня произвели впечатление его разговоры о еде. Похоже было, что он готов попробовать любую пищу. Если он слышал от кого-нибудь о новом блюде в любом месте земного шара, он считал, что должен его испробовать. Он утверждал, что ел слизней, земляных червей, улиток, муравьев. Однажды я предложил ему написать об этом, но такая статья не появилась. Вероятно, он просто разыгрывал нас».
Хемингуэй быстро завоевывал себе место на страницах газеты. Уже в следующем номере «Стар уикли» — 13 марта — появились сразу две его миниатюры. И темы их были посерьезнее. Первая из них касалась прошедшей войны. По Торонто слонялись тысячи бывших солдат — участников войны, озлобленных, не нашедших себе применения в мирной жизни, обиженных, что страна так быстро забыла об их подвигах и не сделала для них ничего. Их судьбы были близки Хемингуэю, и ради них он написал исполненную сарказма статью о тех, кто скрывался от войны. Он так и назвал ее — «Как прослыть ветераном войны, не понюхав пороха».
А на предыдущей странице газеты была напечатана другая сатирическая зарисовка Хемингуэя. В ней он высмеивал известного всему Торонто мэра города Томми Черча.
«Мэр Черч — страстный любитель всех спортивных состязаний. Он восторгается боксом, хоккеем и всеми мужественными видами спорта. Любое спортивное состязание, которое привлекает избирателей в качестве зрителей, не обходится без его посещения. Если бы горожане, возраст которых позволяет принимать участие в выборах, ходили бы смотреть игру в шарики, чехарду и в классы, мэр непременно посещал бы их с не меньшим энтузиазмом».
Далее Хемингуэй описывал матч бокса, на котором мэр, ничего но понимая в том, что происходит на ринге, невпопад аплодирует, невпопад свистит, невпопад комментирует.
«Бокс доставляет мэру громадное удовольствие. Не было ни одного человека, сидящего вокруг него, кому бы он не пожал руки. Казалось, он не заметил, когда бой кончился, так как он все еще продолжал жать руки в то время, когда гонг известил о конце раунда.
Между раундами мэр поднялся и стал смотреть поверх толпы.
— Что он делает — считает зрителей? — спросил меня мой сосед.
— Нет. Он просто дает возможность любителям спорта посмотреть на их мэра, который тоже любит спорт, — сказал я.
В течение двух следующих раундов мэр разглядел в толпе еще нескольких знакомых. Он счел должным каждого из них поприветствовать. Он пожал также руки всем присутствовавшим солдатам в форме, многим из них по два-три раза».
Все это завершалось такой концовкой:
«По окончании состязаний рассеянный мэр встал и, сказав: «Заседание закрыто», бросился к своей машине, думая, что он был на заседании городского муниципалитета.
Хоккеем мэр интересуется так же, как и боксом. Если бы поединок вшей, или шведский безик, или бросание австралийских бумерангов посещалось бы избирателями, то считайте, что мэр был бы там в первых рядах. Так как мэр любит все спортивные состязания».
Зарисовка тогда многим понравилась и запомнилась. Она явно говорила об одаренности автора. Грегори Кларк писал впоследствии: «Она была хороша. Быть может, мы даже не понимали, насколько она хороша».
На Кларка вообще произвела впечатление талантливость Хемингуэя, проглядывавшая почти в каждом его материале. «Он выбирает слова очень точно, с пониманием, — отзывался Кларк. — У него необыкновенный стиль». Джеймс Кранстон, со своей стороны, вспоминал в 1952 году: «Хемингуэй мог писать на хорошем, ясном англосаксонском языке, и у него был юмористический дар». В другом случае он писал: «Я не помню, чтобы мне приходилось сильно править его статьи синим карандашом».
За эти первые месяцы 1920 года Хемингуэй написал и напечатал в «Стар уикли» еще несколько статей. По ним видно, что он не просто гнал материал за материалом ради гонорара. Он экспериментировал, искал себя в разных газетных жанрах.
Зарабатывал Хемингуэй тогда немного — Кранстон утверждал, что самый большой его гонорар в тот год не превышал 10 долларов за статью. И все-таки он кое-чего добился — он мог считать себя профессионалом-газетчиком, он хорошо зарекомендовал себя в газете.
ГЛАВА 6 «УЕДУ Я ИЗ ЭТОГО ГОРОДА»
— Вы любите Америку? — спросил меня Фонтан.
— Видите ли, это моя родина. И я люблю ее, потому что это моя родина. Но едят в Америке неважно. Когда-то ели хорошо, а теперь нет.
Э. Хемингуэй, Вино ВайомингаВ конце мая 1920 года Эрнест приехал в Оук-Парк. Он был весел, оживлен и полон новых планов. Когда Марселина спросила его, собирается ли он и дальше писать для торонтской «Стар», он ответил: «К черту! Конечно, нет. Я собираюсь путешествовать», и тут же сообщил, что вскоре в Оук-Парк приедет из Канзас-Сити Тэд Брамбак и из города Сен-Джозеф (штат Миссури) Билл Смит и в начале июня они все вместе отправятся на озеро Валлун.
В эти дни он встретился в Оук-Парке со своим давним товарищем Джеком Пентекостом, который учился теперь в Мичиганском университете. Пентекост рассказал Эрнесту, что у него есть паспорт для поездки на Дальний Восток. Эта идея немедленно захватила Эрнеста. В письме к миссис Коннебл он сообщал, что собирается вместе с Пентекостом, Тэдом Брамбаком и Биллом Смитом отправиться путешествовать по Дальнему Востоку. Он писал, что они думают наняться матросами или кочегарами на какое-нибудь судно, идущее в Иокогаму.
Однако этот план не вызвал никакого сочувствия у миссис Хемингуэй. Она категорически отказалась дать сыну деньги, необходимые на то, чтобы добраться до Сан-Франциско и заплатить за паспорт. Она заявила Эрнесту, что ему пора заняться чем-нибудь серьезным и начать зарабатывать на жизнь. Его сотрудничество в «Стар уикли» она считала бездельем. Миссис Хемингуэй не допускала мысли, что может существовать какая-либо иная точка зрения, кроме ее собственной. Как писал Лестер Хемингуэй в своих воспоминаниях: «Наши родители сами жили и направляли жизнь своих детей на основе викторианской морали, в которой были воспитаны, главным были правила, которые нельзя было нарушать, а личность — ее особые нужды и обстоятельства — была на втором месте».
В результате Эрнест со своими друзьями уехал в Хортон-Бей. А вскоре миссис Хемингуэй с детьми появилась в «Уиндмире». Доктор Хемингуэй в это лето вынужден был оставаться в Оук-Парке, так как он не мог бросить своих пациентов. Вот тут-то и разыгрался конфликт, который на многие годы определил отношения Эрнеста с семьей.
Миссис Хемингуэй рассчитывала, что ее старший сын, поскольку он не работает, будет помогать ей по хозяйству и заменит в этом смысле отца. Тем более что она еще прошлым летом затеяла строительство на ферме «Лонгфилд» коттеджа, где она могла бы уединяться. «Я буду там сочинять музыку», — заявляла она. Будущий домик получил в семье название «коттедж Грейс», и стоить он должен был 2-3 тысячи долларов. Эрнест в свое время запротестовал против этой затеи, полагая, что эти деньги должны пойти на обучение младших детей в университете. Мать долго не могла ему простить, что он осмелился возражать ей.
Во всяком случае, сразу же после приезда в «Уиндмир» миссис Хемингуэй стала в письмах к мужу жаловаться на Эрнеста. Ее письма не сохранились, как не сохранились и письма Эрнеста к отцу. Остались только письма доктора Хемингуэя к жене, которые приводит в своей книге Лестер Хемингуэй. По ним можно судить, как развивался конфликт между матерью и старшим сыном.
11 июня доктор Хемингуэй писал жене: «Дорогие мои в «Уиндмире», надеюсь, что Эрнест был и помог вам».
13 июня: «Сегодня я напишу Эрнесту. Надеюсь, что он навестил вас и помог».
16 июня: «Сегодня с утренней почтой получил письмо от Эрнеста. Он собирается вскоре быть у вас… Пишет, что он и Билл очень много работают с тех пор, как они приехали».
Судя по тону и содержанию последующих писем, жалобы жены становились все более настойчивыми. 18 июня доктор Хемингуэй писал жене: «Я написал Эрнесту и послал ему чек, как мы договорились. Я посоветовал ему отправиться вместе с Тэдом в Траверс-Сити и найти там хорошую работу и, уж во всяком случае, сократить свои расходы. Я от души надеюсь, что теперь, когда он стал совершеннолетним, он будет больше думать о других и меньше употреблять саркастических выражений».
21 июля: «Сегодня Эрнесту исполняется двадцать один год, и я надеюсь, что это будет для него радостным днем».
22 июля: «Мне кажется, что Эрнест хочет как-то рассердить нас, чтобы Брамми оказался свидетелем того, как мы заявим, что будем рады, если он уедет и займется делом. Я написал ему, чтобы он нашел себе занятие, стал самостоятельным и респектабельным, уехал бы из Хортон-Бей и отправился работать в Траверс-Сити… Будь мужественной, моя дорогая».
26 июля: «Я очень хочу, чтобы Эрнест проявил пристойное послушание по отношению к тебе и не вел себя вместе со своим другом Тэдом как приживальщик… Я также напишу Тэду в Хортон-Бей, объясню ему, что для тебя это уж слишком, чтобы он дольше находился в «Уиндмире», и потребую, чтобы он и Эрнест не возвращались в «Уиндмир», пока ты не пригласишь их… Очень тяжело работать здесь в жару, но еще тяжелее знать, что ты переносишь такие оскорбления. Я буду по-прежнему молиться за Эрнеста, чтобы в нем проявилось большее чувство ответственности».
28 июля: «Мои дорогие в «Уиндмире», сегодня я не получил от вас письма, но пришло очень резкое письмо от Эрнеста, который отрицает все. Он очень странный юноша, он не понимает, что родители сделали для него гораздо больше, чем любой из его приятелей. Он уверяет, что страдает. Я не собираюсь обращать внимания на его утверждения, будто он не совершил ничего дурного в «Уиндмире».
30 июля: «Последнее письмо Эрнеста… не требует ответа. Оно написано в гневе и полно выражений, недостойных джентльмена и сына, для которого было сделано все. Мы сделали слишком много. Он должен найти себе занятие — идти собственным путем, одно только страдание сможет смягчить его железное сердце эгоиста».
Что же произошло в «Уиндмире» такое, из-за чего старшего сына на следующий день после его совершеннолетия выгнали из дому и запретили появляться там без специального приглашения? Лестер Хемингуэй в своей книге пишет, что он был поражен, прочтя через много лет эти письма: «Судя по сильным выражениям и взаимным обвинениям, можно было бы подумать, что совершены какие-то страшные грехи. На самом же деле, мать раздула целый скандал из-за некоторого недостатка вежливости со стороны Эрнеста и веселых развлечений его друзей».
Между тем сохранились письма Эрнеста к Грейс Куинлейн, содержание которых приводит Констанс Монтгомери в своей книге «Хемингуэй в Мичигане». По этим письмам можно представить, что же произошло на самом деле и как на все это реагировал Эрнест. В письме к Грейс Куинлейн от 9 августа из Бойн-Сити Эрнест излагал ей всю историю. Оказывается, 21 июля его младшие сестры Урсула и Саини со своими подругами решили устроить «ночной пикник» и пригласили Эрнеста и Тэда Брамбака принять в нем участие. Вернулись они домой в 3 часа ночи. Тем временем мать одной из девушек, миссис Лумис, разволновалась, что ее дочери так поздно нет дома, прибежала в «Уиндмир» и стала обвинять Эрнеста и Тэда, что они якобы организовали этот пикник в каких-то грязных целях. Миссис Хемингуэй на следующее же утро, не пожелав выслушать объяснений, выгнала Эрнеста и Тэда из дому. Эрнест писал Грейс Куинлейн, что, по его мнению, мать была рада поводу выставить его из дому.
В другом письме к Грейс Куинлейн Эрнест писал из Хортон-Бей, что родители обвинили его несправедливо и что он чувствует себя очень подавленным. Он добавлял, что очень огорчен, его выгнали и теперь у него нет дома, пусть он и не собирался жить в нем. Он сообщал своей приятельнице, что отправляется на рыбную ловлю на Блэк-Ривер.
8 августа Эрнест рассказывал в письме Грейс Куинлейн, как замечательно они провели время на Блэк-Ривер с Тэдом Брамбаком, Джеком Пентекостом и индейцем Диком Смоуком. По вечерам они сидели у костра под луной, Тэд играл на мандолине, а Эрнест читал им рассказы. К ним туда приезжал Билл Смит со своим дядей доктором Чарльзом и его женой, и ребята наловили им 50 форелей, которые они увезли домой.
В этом же письме он перечислял все то, что ему хотелось бы предпринять этой зимой: поездить по Соединенным Штатам с Джеком Пентекостом, вернуться в Италию, работать в газете или найти другую работу в Нью-Йорке. А больше всего ему хотелось бы, писал он, лежать, опершись подбородком на поросший травой утес, и смотреть на море.
Эрнест писал своей приятельнице, что после того, как его выгнали из дому, он уже собирался наняться работать на цементный завод в Питоски, но ему повезло — он сел играть в рулетку с 6 долларами в кармане, а к 2 часам ночи, когда игра кончилась, он выиграл 59 долларов. Только это, писал он, спасло его от цементного завода.
Сопоставление этих двух переписок позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, ясно, что миссис Хемингуэй не совсем точно информировала мужа о подлинной причине конфликта. Во-вторых, из писем Эрнеста видно, что он отнюдь не был таким «эгоистом», как писал о нем отец, а очень остро и тяжело переживал создавшуюся ситуацию. Что же касается писем доктора Хемингуэя, то они представляют интерес еще и потому, что в них вырисовывается фигура самого Кларенса Хемингуэя с его слабым характером, готовностью во всем подчиниться деспотичной жене, подавлявшей его своими христианскими добродетелями. Эти письма проливают некоторый свет на характер отношений в семье, на ту обстановку подавления личности, которая, видимо, привела доктора Хемингуэя к трагическому концу.
В конце концов, как это бывает в большинстве семей, конфликт со временем несколько смягчился. Благопристойность требовала, чтобы в семье все было в порядке и люди не могли бы судачить.
Однако в конце лета, когда семья переехала в Оук-Парк, Эрнест явился домой только для того, чтобы забрать свои вещи. Он решил поселиться в Чикаго отдельно от семьи.
Эрнест понимал, что обеспечить себя заметками и очерками в «Стар уикли», хотя теперь Кранстон печатал практически все предлагаемое ему Хемингуэем, было невозможно. Просить денег у родителей он не хотел. Оставалось искать постоянную работу, которая давала бы хоть какой-нибудь регулярный заработок и в то же время оставляла бы свободное время для литературного творчества.
Поначалу Хемингуэй поселился у своего друга по итальянскому фронту Билла Хорна в меблированных комнатах на втором этаже в доме № 1230 по Норт-Санд авеню. Это был довольно сомнительный район Чикаго, где жили гангстеры, бутлегеры, проститутки, боксеры. Эрнест ежедневно просматривал в «Чикаго трибюн» объявления о найме, а пока что посещал итальянские рестораны, пропадал в спортивных залах, где тренировались боксеры.
Наконец ему попалось на глаза объявление — ежемесячному журналу «Кооператив коммонуэлс» требовался человек для редакционной работы. Раздумывать и выяснять, что это за журнал и каковы его цели, не приходилось. Билл Хори вспоминал впоследствии об Эрнесте: «Он был совершенно без работы и без денег, пока не подвернулась эта работа в журнале».
Журнал, по словам его хозяина Гаррисона Паркера, преследовал благородные цели популяризации кооперативного движения. Но главное, что привлекало Хемингуэя, было жалованье в 50 долларов в неделю. В его обязанности входила организация материалов для журнала, а также то, что он называл «обдумывание и планирование передовых статей». Каждый месяц нужно было заполнять от 50 до 60 страниц журнала. Хемингуэя весьма устраивало еще и то обстоятельство, что у него не было фиксированных часов работы. Предполагалось, что значительную часть работы он делает дома. Печатался журнал хорошо, в нем были хорошие фотографии, яркая обложка и крупно набранные заголовки. Рассчитан он был на непритязательную аудиторию. Передовые статьи всегда были благочестивы, напичканы библейскими сравнениями и рассуждениями на такие темы, как, например, «Что такое идеализм?».
Журнал «Кооператив коммонуэлс» являлся органом «Кооперативного общества Америки», которым заправлял Гаррисон Паркер. Целью журнала было убедить возможно большее количество сограждан «обеспечить свою старость путем вкладов в великое кооперативное движение». Он также обещал «уменьшить стоимость жизни путем ликвидации извлечения прибылей с предметов первой необходимости».
В «Кооперативном обществе Америки» активно сотрудничали идеалистически настроенные студенты Чикагского университета, которые помогали распространять материалы общества и чувствовали себя при этом участниками евангельского крестового похода. Они были уверены, что кооперативное движение может спасти Америку. Хемингуэю подобные идеи были чужды, для него это была профессиональная работа, не больше.
В числе знакомых Хемингуэя в Чикаго был старший брат его друга Билла Смита. Эрнест знал его давно и искренне уважал. Смиту-старшему было тогда около 40 лет, и он с успехом работал в различных рекламных агентствах, обеспечив себе этим занятием вполне приличное положение. Смит с женой жили в большой старомодной квартире в доме № 100 по Ист-Чикаго-стрит, которую сдала им богатая дама, покровительница искусств, путешествовавшая в то время по Европе. В этой же квартире жили сестра Смитов Кэт, ее подруга журналистка Эдит Фоли и еще один молодой человек по имени Дональд Райт. Дом был приятный, веселый, молодежь чувствовала себя там свободно и непринужденно.
Хемингуэй и Билл Хорн любили бывать в этом доме, и, когда Смит-старший, осторожно выяснив, в каких условиях живут молодые люди, предложил им переехать в его квартиру, где была еще одна свободная комната для них двоих, они с радостью приняли это предложение.
Все в этом доме, кроме жены Смита, интересовались литературой и зарабатывали себе на жизнь в той или иной мере литературным трудом. Смит был высокообразованным человеком с превосходным вкусом, утонченным и деликатным, он сумел составить себе в Чикаго круг интересных и интеллигентных знакомых, музыкантов, художников, которые любили бывать в этом веселом и приветливом доме. Кэт Смит и ее подруга Эдит Фоли писали статьи для журналов. Дональд Райт и Билл Хорн работали для рекламы.
Днем все они были заняты своей работой, а по вечерам обычно собирались в гостиной и часами болтали, спорили или просто дурачились. Хемингуэй реже других проводил вечера в гостиной, он стал дорожить своим временем и предпочитал после окончания работы уединяться в своей комнате и писать. Он очень рано понял, что для писателя самодисциплина является одним из важнейших условий успеха.
Чаще всего молодые люди, жившие в квартире Смитов, и их гости спорили о литературе и искусстве. Эта болтовня раздражала Хемингуэя. «Художник! Искусство! Художественно! — кричал он. — Когда, наконец, мы кончим болтать об этом!» Он был уверен, что писатель должен быть профессионалом в своем деле.
По его позиции в горячих спорах в это время видно, что не вслепую искал он свой путь в литературе, он вырабатывал свое собственное отношение к писательскому труду, которое, кстати сказать, в последующие годы ему не пришлось пересматривать — оно только укреплялось и кристаллизовалось в нем.
В спорах с Дональдом Райтом, который был его основным оппонентом, Хемингуэй утверждал, что писатель «должен видеть, чувствовать, обонять». Он объяснял своим друзьям, какой смысл он вкладывает в эту формулу. Спустя много лет он повторил это объяснение: «Когда я отправлялся тренироваться в спортивный зал или на матч бокса, я всегда испытывал множество сильных ощущений». Сидя в спортивном зале, бинтуя себе запястья и ожидая выхода на ринг, он пытался определить различные запахи, разобраться в эмоциях, которые испытывал. «Когда я возвращался из спортивного зала, я старался записать свои ощущения». Этим он и отличался от своих друзей — в то время как они рассуждали о подлинных и мнимых ценностях литературы и искусства, он из вечера в вечер сидел за своей пишущей машинкой и старался писать честную и правдивую прозу.
В интервью Джорджу Плимптону в 1958 году Хемингуэй говорил: «В Чикаго в 1920 году я старался учиться и искал незаметные детали, которые вызывают ощущения. Например, как боксер, находящийся в дальнем углу от рефери, наносит удар перчаткой, не глядя, куда он попадет, или скрип канифоли на брезенте под спортивными башмаками боксера, или серый оттенок кожи у Джека Блэкберна, когда он только что вышел из схватки. Все эти детали я подмечал, как художник делает зарисовки. Вы видели странный оттенок кожи у Блэкберна и старый шрам от бритвы и как он наносит удар противнику, и вам становилась понятной вся его жизнь. Эти детали вызывали у вас определенные ощущения раньше, чем вы узнавали его историю».
Вот к чему он стремился — «искать незаметные детали, которые вызывают ощущения», находить скупое и точное выражение их, с тем чтобы вызвать у читателя аналогичные ощущения.
Когда в квартире Смитов вспыхивали споры о музыке и живописи, Хемингуэй очень четко формулировал свое отношение: музыка, говорил он, подобно литературе, должна быть прежде всего ясной; от живописи он требовал достоверности и непосредственности восприятия.
Его друзья отнюдь не разделяли полностью его убеждений. Большинству из них казалось, что реализм отмирает и на смену ему должно прийти что-то новое. До них уже, наверное, долетали отголоски новых веяний, шумно провозглашавшихся литературной богемой в Гринич Вилледж в Нью-Йорке. Дональд Райт, например, тоже собиравшийся стать писателем, обычно яростно спорил с Хемингуэем, утверждавшим, что реализм является единственным плодотворным путем в литературе.
Рассказы Хемингуэя, которые он иногда по вечерам читал своим друзьям, большого успеха у них не имели, единственный человек во всей этой компании, который почувствовал силу таланта Эрнеста и поверил в него, был Смит-старший. Впоследствии Смит вспоминал: «Он был самым ярким из нас и самым остроумным».
Смит более других понимал проблемы, мучившие Хемингуэя. Дональд Райт, вспоминая об отношениях Смита и Хемингуэя, писал, что они напоминали отношения отца с сыном. Смит понимал, что если Эрнест не совсем ясно еще представлял себе, как он будет жить дальше, то у него было четкое представление о том, как он не должен жить. «Он ненавидел идею работы с девяти до пяти, — вспоминал Смит. — Он хотел иметь свободу. Он не питал иллюзий в отношении журналистики, но решил, что это лучше, чем что-либо другое из того, что он знает».
Поэтому Хемингуэй не порывал связи с «Торонто стар уикли» и систематически посылал Кранстону новые статьи и очерки. На страницах «Стар уикли» он отвоевывал себе все более почетное место. Часть статей, опубликованных в течение этого года, была напечатана в три колонки с его подписью, набранной крупным шрифтом.
Теперь главным источником материала для его статей и очерков стал Чикаго. Канадцам было интересно читать о том, что происходит рядом с ними, за Великими озерами, в этой странной и непонятной стране, жившей смутной, лихорадочной жизнью, темп которой казался головокружительным.
Еще в те годы, когда Эрнест учился в оук-паркской школе, его живо интересовал мир преступности и насилия. Теперь он стал знакомиться с чикагским дном и писать о нем. 28 мая 1921 года «Стар уикли» опубликовала любопытный очерк Хемингуэя под заголовком: «Бурная политическая война между гангстерами в Чикаго».
В этот год Хемингуэй внимательным, оценивающим и скептическим глазом присматривался к различным сторонам американской действительности.
Эти критические настроения были характерны для всей компании молодых людей, собиравшихся в квартире Смитов. Они с отвращением относились к торгашескому духу бизнеса, пронизывавшему всю жизнь Америки. И то обстоятельство, что большинство из них было связано по работе с рекламными агентствами, только способствовало ироническому отношению к «американскому образу жизни». Они издевались над этим всепроникающим и всеобъемлющим духом купли-продажи, ставшим кумиром современной им Америки. Дональд Райт писал: «Мы часами развлекались, рассказывая всякие истории о недоумках, которые были нашими боссами в рекламных агентствах».
В 30-е годы Райт написал для журнала «Адвертайзинг энд Селлинг» серию статей под общим названием «Молодой журналист со Среднего Запада вспоминает». В одной из этих статей он вспоминал гостей Смитов как пример одной из «многочисленных компаний людей, занимавшихся литературно-рекламной работой» в Чикаго, и описывал «пародийные планы рекламы», которыми Хемингуэй развлекал их по вечерам.
Однажды у них зашел спор о национальном характере американцев. Видимо, Смит пытался как-то утихомирить резкий антиамериканизм Хемингуэя, который все чаще заявлял своим друзьям, что не хочет жить в этой стране. Хемингуэй, много думавший о прошедшей войне и старавшийся осмыслить для себя ее опыт и уроки, провел в защиту своей позиции параллель между национальным характером итальянцев и американцев. Он рассказывал, что итальянцы переживали как личное унижение и позор поражение их армии при Капоретто, и изобразил в лицах, как реагировали бы на такое поражение американцы. «В этом случае, — сказал он Смиту, — первые же четверо американских солдат организовали бы квартет и назвали бы себя в афишах «Парни из Капоретто».
Именно в таком саркастическом свете изображал он своих соотечественников в статьях, публикуемых им в «Торонто стар уикли». Примером тому может служить статья, опубликованная 19 февраля 1921 года. В ней он фантазировал о том, что происходило бы в древнем английском городе Стратфорде после того, как американцы купили бы себе гражданство Шекспира. «Английский городок на Эньоне украсился американскими флагами, на всех зданиях вывешены плакаты: «Мы хотели Билла, и мы его получили! Да, Билл!» Демонстранты несли куклу Шекспира в костюме широко разрекламированного американского портного с надписью: «Великий Билл Шекспир — стопроцентный американец!»
21 мая Хемингуэй напечатал пародийную рекламу американских курортов:
«Великолепное озеро Мухобойное гнездится, как язва, в самом сердце больших северных лесов. Вокруг него громоздятся величественные горы. А над ними высится величественное небо. Со всех сторон его окружают величественные берега. А берега усеяны величественной дохлой рыбой — заснувшей от скуки.
Улыбающееся озеро Ва-Ва всегда улыбается. Оно улыбается, глядя на людей, которые крадутся, мрачные и неулыбающиеся, вдоль его берегов. Улыбающееся озеро Ва-Ва знает, что это люди из гостиницы «Улыбающийся окунь». Ва-Ва видит, что эти люди голодны. Оно видит их исхудалые лица и лихорадочный блеск в их глазах, когда они отмахиваются от туч москитов. Улыбающееся озеро Ва-Ва знает, о чем думают эти люди, гуляя вдоль его берегов. Они ждут не дождутся, когда кончатся две недели их отпуска».
Знакомство Хемингуэя с «Кооперативным обществом Америки» Гаррисона Паркера тоже не способствовало доброму отношению к нравам деловой Америки. Зарегистрировано оно было на имя жены Паркера, которая к тому же еще получала 500 долларов в неделю в качестве мифического секретаря одного из филиалов общества. Паркер и двое его помощников распоряжались деньгами вкладчиков по своему усмотрению и бесконтрольно, занимаясь, как потом выяснилось, чистой спекуляцией.
Поначалу это развлекало Хемингуэя, и по вечерам он часто веселил своих друзей, рассказывая им анекдоты о нечистоплотных махинациях своих хозяев. Смит вспоминал, с каким циничным удовлетворением Хемингуэй повторял программное заявление одного из подручных Паркера: «Вкладчики имеют голос, но не право голоса».
Постепенно Хемингуэй стал понимать, что он попал просто в уголовную компанию. Впоследствии он вспоминал: «Я работал до тех пор, пока не убедился, что все это жульничество. Потом еще некоторое время оставался там, думая, что смогу написать и разоблачить эти махинации, а потом решил, что пусть это будет мне уроком, и послал их к черту». Хорн в своих воспоминаниях подтверждает, что Эрнест собрал определенное количество разоблачительных материалов и по наивности своей предлагал их для публикации некоторым чикагским газетам. Однако из этого ничего не вышло. Хорн писал, что «Паркер в то время занимал слишком видное положение, и газеты, видимо, считали, что трогать его небезопасно».
Весной 1921 года Хемингуэй порвал с «Кооператив коммонуэлс». Остается только добавить, что спустя некоторое время разъяренные вкладчики потянули Паркера в суд по обвинению в том, что он использовал их деньги для выдвижения себя на пост губернатора штата Иллинойс. В «Кооперативном обществе Америки» была 81 тысяча вкладчиков, и Паркер имел возможность манипулировать суммой в 11,5 миллиона долларов. Когда в октябре 1922 года суд официально признал Общество обанкротившимся, выяснилось, что у него было долгов на 15 миллионов долларов.
Смит предложил Хемингуэю устроить его в рекламное агентство Критчфилда, где время от времени работал сам, и повел Эрнеста к Рою Дики, руководителю отдела. По всей вероятности, Хемингуэй шел на это весьма неохотно, испытывая естественное отвращение к этому виду заработка. Поэтому, когда Рой Дики сказал, что в данный момент работы у него нет, Хемингуэй сделал вид, что его это мало трогает, и сказал Дики, что у него есть постоянная работа — он «поставляет регулярно материал в «Торонто стар».
Опять перед ним была проблема — найти себе такую работу, которая оставляла бы ему свободное время и давала возможность серьезно заниматься литературой.
В эти месяцы он не раз говорил своим друзьям, что хочет уехать в Европу. Но для этого нужны деньги, которых у него не было.
В доме Смитов у Хемингуэя произошли две встречи, оказавшие серьезное влияние на его последующую жизнь.
Первой была встреча с Шервудом Андерсоном. Этот писатель и раньше привлекал и интересовал Хемингуэя. Грегори Кларк вспоминал, что, живя в Торонто, Эрнест постоянно читал Андерсона и много говорил о нем. В книгах Андерсона Хемингуэй находил подтверждение своим мыслям, что можно писать о маленьких людях и тем не менее добиться успеха и завоевать симпатии читателей.
Шервуд Андерсон в эти годы был в расцвете своей славы. В 1919 году вышел сборник его рассказов «Уайнсбург, Огайо», который принес ему несколько скандальную известность, — эта книга изымалась из библиотек, а в одном из городов Новой Англии она даже была публично сожжена.
Шервуда Андерсона привел к Смитам Дональд Райт, который работал в рекламном агентстве вместе с Андерсоном и был его горячим поклонником. В первый же вечер, когда Андерсон пришел к Смитам, ему представили в числе прочих и Хемингуэя. Андерсон был тогда уже немолод — ему было сорок пять лет, — и он не без основания считал себя одним из основоположников новой американской литературы. Он был тщеславен и знал себе цену. И тем более примечательно, что Андерсон стал внимательно присматриваться к начинающему журналисту, который еще никак не проявил себя в литературе, и очень высоко оценил его. Уходя от Смитов, он сказал хозяину, с которым был знаком и раньше: «Спасибо, что вы познакомили меня с этим молодым человеком. Я думаю, что он выдвинется».
Зимой и весной этого года Андерсон стал частым гостем в квартире Смитов. Молодежь иногда беззлобно посмеивалась над ним, над его пристрастием к яркой одежде, над его экстравагантными выдуманными историями, которые он любил про себя рассказывать. И все равно его визиты становились каждый раз событием. Билл Хорн в своих воспоминаниях писал, что вообще возможность беседовать с разными людьми, приходившими к Смитам, «была очень важна для развития Хемингуэя как писателя» и что «кульминацией этих вечеров было, когда Шервуд Андерсон заходил и проводил с нами вечер».
Хемингуэй всегда был с ним очень внимателен и вежлив. Он словно присматривался к Андерсону, изучал его, стараясь понять его путь в литературе, найти пружины его успеха, выявить для себя его недостатки, чтобы не повторять ошибок. Он во многом не соглашался с Андерсоном, и прежде всего с его концепцией бессознательного искусства. Иногда он позволял себе критиковать стиль Андерсона. «Так нельзя строить фразу», — сказал он однажды после того, как Шервуд читал у Смитов один из своих новых рассказов. Но это было сказано уже после ухода Андерсона, когда разгорелся спор среди молодежи.
Впоследствии в книге «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэй вспоминал о Шервуде Андерсоне: «Мне очень нравились некоторые его рассказы. Они были написаны просто, а иногда превосходно, и он знал людей, о которых писал, и очень их любил».
В мае того года Андерсон, получив премию журнала «Дайал», уехал в Париж. Этот город произвел на него ошеломляющее впечатление. Вернувшись, он рассказывал, что, когда в первый раз увидел сквозь туманную дымку Париж, он заплакал от радости. Его взволнованные рассказы о Париже будоражили душу Хемингуэя, усиливали в нем желание уехать из Америки в Париж. К тому же Андерсон уверял его, что при нынешнем курсе доллара и французского франка в Париже можно прожить очень недорого.
Вторая встреча была не менее, а может, и более значительной. Весной к Кэт Смит приехала в гости ее подруга по колледжу в Сент-Луисе, веселая высокая девушка с каштановыми волосами. Ее звали Элизабет Хэдли Ричардсон, но все звали ее просто Хэдли.
«В тот момент, когда она вошла в комнату, — рассказывал впоследствии Хемингуэй, — я был потрясен. Я понял, что это девушка, на которой я должен жениться».
Они быстро подружились. Он прозвал ее «Рыжей Хэш». Его пленила непосредственность Хэдли и умение презирать условности и чувствовать себя свободно в любой ситуации.
Однажды они договорились, пойти вместе смотреть футбол на стадион Чикагского университета. Но накануне Хэдли подвернула ногу и не могла надеть туфлю. И тем не менее она не отказалась от намеченного похода и смело отправилась на стадион, надев на больную ногу красную домашнюю туфлю. «Любая другая смущалась бы, — рассказывал Эрнест сестре Марселине. — Я знаю, что ты тоже смущалась бы, Марс. А Хэдли не обращала никакого внимания на свою туфлю. Она шла так, как будто все в порядке. Это по-настоящему спортивная девушка».
Хэдли была способной пианисткой, и она мечтала уехать из Америки в Европу. Так что и в этом их вкусы совпадали.
Летом они решили пожениться. Эрнест, ненавидевший всяческие пышные церемонии, предложил устроить свадьбу в своем любимом Хортон-Бей, и Хэдли горячо одобрила эту идею, равно как и мысль остаться на некоторое время после свадьбы в Северном Мичигане.
Их свадьба состоялась 3 сентября 1921 года в Хортон-Бей в присутствии немногочисленных близких друзей. Вернувшись в Чикаго, молодая чета поселилась в маленькой квартирке на Ниер-Норт-Сайд. Как вспоминает Лестер Хемингуэй, родители очень надеялись, что женитьба заставит Эрнеста остепениться и стать наконец респектабельным. Но, к счастью, Хэдли оказалась легким человеком, не искавшим респектабельности и домашнего уюта. Она жили легко и весело, не придавая большого значения жизненным удобствам. Когда осенью они уезжали в Торонто, доктор Хемингуэй приехал на своей машине помочь им собираться. Лестер вспоминает, что отец вернулся в машину чем-то расстроенный и в сердцах сказал ему: «Ах эта молодежь! Ты знаешь, в чем они варят яйца? Я даже не могу тебе сказать!»
До их отъезда в Торонто состоялась еще одна церемония. Итальянское консульство в Чикаго с большой торжественностью организовало вручение Хемингуэю орденов, которыми он был награжден в Италии. Вручить их приехал итальянский генерал Арнольд Диас. Грегори Кларк рассказывает, как Хемингуэй уже в Торонто показал ему эти ордена. «На всю жизнь, — писал Кларк в 1950 году, — я не забуду холодной дрожи, которая пробежала у меня по спине. По краю медали было выгравировано: «Тененте Эрнесто Хемингуэй».
В Торонто Хемингуэй получил весьма приятное для него предложение, настолько совпадавшее с самыми заветными его мечтами, что в это трудно было даже поверить.
Редактор «Торонто дейли стар» Боун предложил ему поехать в Европу разъездным корреспондентом газеты со штаб-квартирой в Париже. Он предоставлял Хемингуэю полную свободу выбора материала, хотя предупреждал, что оплачивать гонорар и путевые расходы будет только за тот материал, который будет принят и напечатан в газете.
Эти условия не испугали Хемингуэя. Он был уверен в своих силах. А самое главное — они с Хэдли смогут жить в Париже, смогут путешествовать по Европе. Он интуитивно чувствовал, что для того, чтобы стать настоящим писателем, ему нужно подышать парижским воздухом, окунуться в эту единственную в своем роде атмосферу искусства, о которой так много и красочно рассказывал Шервуд Андерсон.
Эрнест сразу же принял предложение Боуна, и они с Хэдли, не медля ни дня, уехали в Чикаго, чтобы оттуда ехать дальше.
Перед отъездом в Европу они навестили Шервуда Андерсона. В своих «Мемуарах» Андерсон вспоминал: «Особенно живо я помню Хемингуэя, когда однажды вечером в Чикаго он явился ко мне на квартиру. Он только что женился и получил работу в Париже… Он уезжал на следующее утро в Европу и набил огромный армейский рюкзак провизией, которая у него оставалась. Это была хорошая идея — принести своему коллеге-бумагомарателю всю еду, которую он должен был бросить. Большой рюкзак был набит консервами. Я помню, как он поднимался по лестнице, великолепный, широкоплечий мужчина, громко возвещая криком, что он идет. В этом рюкзаке было по крайней мере сто фунтов отличной еды».
Шервуд Андерсон дал Хемингуэю несколько рекомендательных писем к своим знакомым в Париже.
Льюису Галантье, молодому чикагцу, интересовавшемуся искусством, который в то время работал в Париже, Шервуд Андерсон отправил письмо почтой 28 ноября, чтобы оно попало в Париж до приезда Хемингуэев:
«Дорогой Льюис! Мой друг и очень славный человек, Эрнест Хемингуэй с женой едут в Париж. Они отплывут 8 декабря и остановятся на какое-то время в отеле «Жакоб». Хемингуэй — молодой человек выдающегося таланта и, я верю, добьется успеха. Он был изумительным газетчиком, но практически в последний год оставил журналистику. Недавно он получил задание поставлять материал из Европы для одной торонтской газеты, для которой он раньше работал, и это дает ему возможность, которой он искал, пожить некоторое время в Европе. Я много говорил с ним о вас и дал ему ваш адрес. Я надеюсь, что вы разыщете его в отеле «Жакоб» 20 или 21 декабря. Он не такой, как Стерны, и у него очаровательная жена. Они будут жить в Париже, и я уверен, что вы найдете в них хороших друзей. Насколько я понимаю, денег у них будет немного, так что они, вероятно, захотят жить в Латинском квартале».
Другое письмо, адресованное Гертруде Стайн, американской писательнице, жившей в Париже, Андерсон вручил Хемингуэю. В нем он писал:
«Дорогая мисс Стайн, я пишу вам это письмо, чтобы представить вам моего друга Эрнеста Хемингуэя, который вместе с миссис Хемингуэй будет жить в Париже, и попрошу его отправить это письмо по почте, когда они приедут в Париж.
Мистер Хемингуэй американский писатель, который инстинктивно тянется здесь ко всему, что заслуживает внимания, и я уверен, что вам будет приятно познакомиться с мистером и миссис Хемингуэй. Они времен но остановятся в отеле «Жакоб» на улице Жакоб».
Вооруженные этими письмами и самыми радужными надеждами, налегке, оставив свои немногочисленные вещи в старом доме в Оук-Парке, уезжали Эрнест и Хэдли в Европу. На вокзале их провожали Смиты, Билл Хорн и вся их компания. Было холодное утро, и, когда они поднимались в вагон, Марселина заметила, что Хэдли без перчаток.
— Надень перчатки, Хэдли! — крикнула она.
— У меня их нет, Марселина, — ответила Хэдли. — Мне они и не нужны. Мы скоро будем на пароходе.
Тогда Марселина быстро сняла свои шерстяные перчатки и бросила ей.
— Спасибо, Марс! Это настоящий подарок в дорогу, — откликнулась Хэдли.
Поезд уже тронулся, когда Билл Хорн тоже стянул с себя перчатки, скомкал их и кинул Эрнесту.
Так они уехали, увозя с собой последнее тепло дружеских рук.
8 декабря 1921 года они отплыли из Нью-Йорка на старом французском пароходе «Леопольдина».
ГЛАВА 7 ПАРИЖ
…весь Париж принадлежит мне, а я принадлежу этому блокноту и карандашу.
Э. Хемингуэй, Праздник, который всегда с тобойУтром они проснулись от тишины — шум машин, к которому они уже привыкли за эти дни плавания через Атлантику, стих. Когда они поднялись на палубу, перед ними открылось необыкновенное зрелище.
Эту картину он в деталях описал в первом же своем очерке, отправленном из Парижа в Торонто: «Деревушка, выглядевшая бутафорской; булыжная мостовая, домики, выкрашенные в белый и оранжевый цвета, приютились на берегу большого, почти замкнутого залива, настолько большого, что в нем может уместиться весь британский флот. Выжженные солнцем бурые горы сползают к морю, совсем как усталые старые динозавры, и цвет воды такой же голубой, как лазурь Неаполитанского залива.
Серая бутафорская церковь с двумя колокольнями и унылый, мрачный форт на вершине горы смотрят на голубой залив, куда уйдут добрые рыбаки после того, как снег заметет северные реки и форель уснет в глубоких омутах под застывшей пеной льда. Ибо яркая голубизна залива полна жизни».
«Леопольдина» стояла в испанском порту Виго — конечном пункте их морского путешествия.
Хемингуэй был в восторге. В первом же письме Шервуду Андерсону из Парижа он писал: «Вы должны повидать испанское побережье».
Затем поездом они пересекли Испанию. Так из окна поезда он впервые увидел Испанию — тогда он еще не знал, что она станет страной его сердца. Впереди был Париж — город, к которому он так стремился.
В Париже Эрнест и Хэдли, как и предполагалось, остановились в отеле «Жакоб». Поначалу они были так увлечены городом, что у них не было даже времени отправить рекомендательные письма, которыми снабдил их Шервуд Андерсон. Они бродили по улицам Парижа, по его бульварам и паркам, сидели в знаменитых кафе «Дом» и «Ротонда», о которых им столько рассказывал Шервуд Андерсон. Все поражало их и бесконечно радовало. «Что за город!» — писал Эрнест Андерсону. Хэдли тоже писала восторженные письма родителям Эрнеста и в них, в частности, с удивлением сообщала, что здесь можно получить полный обед за семь или восемь франков, что составляло около 60 центов.
Значит, прожить в Париже действительно можно было недорого.
В скором времени Эрнест нашел квартирку на улице Кардинала Лемуана около площади Контрэскарп. В книге «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэй так описывал это жилье: «Нашим домом на улице Кардинала Лемуана была двухкомнатная квартирка без горячей воды и канализации, которую заменял бак, что не было таким уж неудобством для тех, кто привык к мичиганским уборным во дворе. Зато из окна открывался чудесный вид. На полу лежал хороший пружинный матрац, служивший удобной постелью, на стенах висели картины, которые нам нравились, и квартира казалась нам светлой и уютной».
Картины, впрочем, появились у них гораздо позже.
Квартирка была на втором этаже, над Bal Musette — заведением, где танцевали и выпивали жители ближних улиц — района рабочей бедноты. Не раз потом будет Хемингуэй с любовью возвращаться воспоминаниями к этим улицам своей парижской молодости.
В рассказе «Снега Килиманджаро» его герой писатель Гарри будет вспоминать, что «он никогда не писал о Париже. Во всяком случае, о том Париже, который был дорог ему».
«…разве продиктуешь о площади Контрэскарп, где продавщицы цветов красили свои цветы тут же, на улице, и краска стекала по тротуару к автобусной остановке, о стариках и старухах, вечно пьяных от вина и виноградных выжимок; о детях с мокрыми от холода носами; о запахе грязного пота, и нищеты, и пьянства, и о проститутках в Bal Musette, над которыми они жили тогда… Он знал тогда всех соседей в своем квартале, потому что это была беднота.
Люди, жившие вокруг площади, делились на две категории: на пьяниц и на спортсменов. Пьяницы глушили свою нищету пьянством; спортсмены отводили душу тренажем. Они были потомками коммунаров, и политика давалась им легко. Они знали, кто расстрелял их отцов, их близких, их друзей, когда версальские войска заняли город после Коммуны и расправились со всеми, у кого были мозолистые руки, или кепка на голове, или какое-нибудь другое отличие, по которому можно узнать рабочего человека. И среди этой нищеты и в этом квартале, наискосок от Boucherie Chevaline, в винной лавочке, он написал свои первые строки, положил начало тому, чего должно было хватить на всю жизнь. Не было для него Парижа милее этого — развесистые деревья, оштукатуренные белые дома с коричневой панелью внизу, длинные зеленые туши автобусов на круглой площади, лиловая краска от бумажных цветов на тротуаре, неожиданно крутой спуск к реке, на улицу Кардинала Лемуана, а по другую сторону — узкий, тесный мирок улицы Муфтар».
Когда они наконец устроились в своей квартирке на улице Кардинала Лемуана, № 74, Хемингуэй отправил почтой рекомендательные письма Шервуда Андерсона по адресам. Андерсону написал, что отправил его письма, «как выпускают флотилию кораблей».
И тут же сел писать свой первый очерк для «Торонто стар уикли» — об испанском порте Виго. Ему надо было много писать для газеты — он хотел заработать какую-то сумму денег, чтобы потом, летом, быть свободным от газетной работы, иметь возможность путешествовать и, главное, писать для себя.
«Я зарабатывал на хлеб наш насущный, — говорил он, — этой пишущей машинкой». Впрочем, журналистская судьба его сложилась довольно удачно — ведь от него в редакции не требовали политической информации, которую «Стар» получала от таких крупных агентств, как Ассошиэйтед Пресс и Рейтер.
От него ждали живых зарисовок европейской жизни, деталей быта, нравов. А это давало ему возможность самому выбирать темы для своих очерков и, что еще важнее, приближать их к литературе, отрабатывать на них свой стиль.
Они с Хэдли много гуляли и по Парижу и по его окрестностям. Лестер Хемингуэй вспоминает, что в письмах домой Эрнест описывал местности вокруг Парижа, «с полями, по которым вдоль вспаханных борозд прыгали большие черно-белые сороки».
На него произвели впечатление леса, очищенные от молодой поросли. Вместе с Хэш они прошли пешком сорок миль через леса Шантильи и Компьена, видели оленей, кабанов, лисиц и зайцев. По поводу восстановления разрушенных городов восточной Франции Эрнест писал, что новая французская архитектура «ужасна».
Потом в письмах он стал жаловаться на плохую погоду — дождь всегда действовал на него угнетающе. В «Празднике, который всегда с тобой» он вспоминал, как, сидя в кафе на площади Сен-Мишель, начал писать рассказ: «Я писал о том, как было у нас в Мичигане, и поскольку день был очень холодный, ветреный и неуютный, он получился таким же в рассказе».
А дальше он вспоминал, как обдумывал планы дальнейшей жизни:
«Теперь, когда наступили дожди, мы можем на время уехать из Парижа туда, где не дождь, а снег падает сквозь сосны и устилает дорогу и склоны гор, где он будет поскрипывать под ногами, когда мы будем возвращаться вечером домой. У подножья Лез-Авана есть шале, где прекрасно кормят, где мы будем вдвоем и с нами будут книги, а по ночам нам будет тепло вдвоем в постели, и в открытые окна будут сиять звезды. Вот куда мы поедем. Если взять билеты третьего класса, это будет недорого. А за пансион придется платить лишь немногим больше того, что мы тратим в Париже.
Я откажусь от номера в гостинице, где я пишу, и нам придется платить лишь за квартиру на улице Кардинала Лемуана, 74, — а это совсем немного. Я уже отправил материал в Торонто, и мне должны были выслать гонорар. Писать для газеты я мог где угодно и при любых обстоятельствах, а на поездку деньги у нас были».
В январе они действительно уехали в Швейцарию.
Им понравилась эта маленькая горная страна, вся утыканная коричневыми отелями, напоминающими старинные часы с кукушкой. Они бродили по пустынным дорогам, проложенным в лесах, покрывающих склоны гор. Им попадались следы оленей на глубоком снегу, большие вороны раскачивались на ветках сосен. Далеко внизу виднелись укутанные снегом долины, а за ними опять белые, зазубренные пики гор с темными пятнами хвойных лесов.
В отелях они с интересом присматривались к незнакомой и непривычной для них публике. В одном из своих очерков, написанных в Швейцарии, Хемингуэй описал эти различные виды туристов.
«Эти роскошные отели разбросаны по всей стране, как рекламы вдоль правой стороны железной дороги, и зимой наводнены очаровательными молодыми людьми в белых свитерах, с гладко зализанными волосами, которые хорошо зарабатывают на жизнь игрой в бридж. Эти молодые люди играют в бридж не друг с другом, во всяком случае в рабочее время. Обычно они играют с пожилыми женщинами, годными им в матери, и, когда эти женщины сдают карты, на их пухлых пальцах сверкают платиновые кольца. Я не знаю, как у них все разработано, но молодые люди, кажется, вполне удовлетворены, а женщины, очевидно, могут позволить себе проигрывать.
…Французская аристократия представлена в Швейцарии молодыми людьми, которые с одинаковым изяществом носят очень старинные фамилии и очень узкие в коленях бриджи для верховой езды. Их немного, тех, кто носит громкие имена Франции и благодаря акциям в угольном или горном деле разбогател во время войны, а теперь может себе позволить останавливаться в одних отелях с дельцами, поставлявшими армии одеяла и вино. Когда молодые люди со старинными фамилиями входят в комнату, где сидят барышники со своими довоенными женами и послевоенными дочками, кажется, что поджарый волк входит в загон к жирным овцам».
Хемингуэй так и назвал этот очерк: «Странная смесь аристократов, овец и волков в швейцарских отелях». Он был опубликован в «Торонто стар уикли» 4 марта 1922 года.
Когда они вернулись в Париж, там стояли ясные, холодные, чудесные дни. Надо было работать, зарабатывать на жизнь. За февраль и март он отправил в Торонто девять статей. Шервуду Андерсону он жаловался: «Эта проклятая газетная работа мало-помалу разрушает меня», и писал, что надеется «покончить с ней как можно быстрее и в течение трех месяцев поработать».
Он решил теперь написать несколько очерков о Париже — канадским читателям интересно будет прочитать об этой Мекке туристов.
Послевоенная Европа и в том числе Париж оказались землей обетованной для американских туристов. Обменный курс доллара — за него можно было получить двенадцать франков — обеспечивал им здесь дешевую и веселую жизнь. И они хлынули сюда, переполняя отели, бары, кафе, ночные кабачки, дансинги, растрачивая свои доллары и требуя за них развлечений, комфорта, женщин, хлынули шумные, назойливые, провинциальные в своем чванстве.
Ничего, кроме презрения, эта сытая толпа не могла вызвать у 22-летнего Хемингуэя. В первом же своем парижском очерке «Вот он какой — Париж» он беспощадно высмеял этих американских «галантерейщиков», которые жадно ищут развлечений и знакомства с ночной жизнью Парижа, не понимая, что их дурачат, демонстрируя им не настоящий Париж, а Париж, выдуманный специально для глупых туристов, яркую рекламную обертку.
Разделавшись с «галантерейщиками», приезжавшими сюда из Соединенных Штатов прожигать жизнь, Хемингуэй обратился к другой, тоже довольно многочисленной категории американцев в Париже — к литературной и художественной богеме. Посмотреть их можно было в кафе «Ротонда».
Здесь Хемингуэй увидел всю пену нью-йоркского квартала Гринич Вилледж, которая, как он писал, «перехлестнула через океан и своими вечерними приливами сделала «Ротонду» самым притягательным для туристов пунктом Латинского квартала». Когда посетитель впервые попадал в продымленный, тесно заставленный столиками зал «Ротонды», ему казалось, что он очутился в птичьем павильоне зоологического сада — оглушал потрясающий, зычный, многотембровый, пронзительный гомон, прорезаемый лакеями, которые порхали сквозь дым, как черно-белые сороки. За столиками всегда полно, кого-то оттесняют, что-нибудь смахнут со стола, в вертящуюся дверь прихлынет новая порция посетителей. Только понемногу человек начинает различать окружающие его лица.
Первое, на что обратил внимание Хемингуэй, — как странно выглядят и странно ведут себя те, что теснятся за столиками «Ротонды». «Все они, — писал он, — так добиваются небрежной оригинальности костюма, что достигли своего рода однообразия эксцентричности».
В очерке «Американская богема в Париже», который был напечатан в «Торонто стар уикли» 25 мая 1922 года, Хемингуэй набросал несколько беглых, но выразительных портретов этих дилетантов, изображающих из себя художников и людей богемы, болтающих о литературе и искусстве.
«Здесь, в «Ротонде», — писал он, — вы найдете все, что хотите, кроме серьезных художников. Беда в том, что посетители Латинского квартала, придя в «Ротонду», считают, что перед ними собрание истинных художников Парижа. Я хочу во весь голос и с полной ответственностью внести поправку, потому что настоящие художники Парижа, создающие подлинные произведения искусства, не ходят сюда и презирают завсегдатаев «Ротонды».
Их, как и многих других туристов, привела сюда обменная ставка 12 франков за доллар, и, когда восстановится нормальный обмен, им всем надо будет возвращаться в Америку. Почти все они бездельники, и ту энергию, которую художник вкладывает в свой творческий труд, они тратят на разговоры о том, что они собираются делать, и на обсуждение того, что создали художники, уже получившие хоть какое-то признание. В разговорах об искусстве они находят такое же удовлетворение, какое подлинный художник получает в самом творчестве».
В этом очерке все интересно и важно, и прежде всего проглядывающее в нем серьезное отношение Хемингуэя к литературе как к делу, требующему от художника всей его жизни, всех нравственных и физических сил. В мыслях, высказанных здесь, можно услышать отголоски ночных споров в чикагской квартире Смитов.
«С того доброго старого времени, — писал он, — когда Шарль Бодлер водил на цепочке пурпурного омара по улицам древнего Латинского квартала, немного написано хороших стихов за столиками здешних кафе. Даже и тогда, кажется мне, Бодлер сдавал своего омара там, на первом этаже, на попечение консьержки, отставляя закупоренную бутылку хлороформа на умывальник, а сам потел, обтачивая свои «Цветы зла», один, лицом к лицу со своими мыслями и листом бумаги, как это делали все художники и до и после него. Но у банды, обосновавшейся на углу Бульвара Монпарнас и Бульвара Распай, нет на это времени, они весь день проводят в «Ротонде».
Интересно, что в эти же месяцы Хемингуэй написал единственную за все время своей журналистской работы в Европе рецензию на литературное произведение. Это был отзыв о романе негритянского писателя Рене Марана «Батуала», получившем тогда премию Гонкуров. Но написал он этот отзыв не как критик, а как писатель. Говоря о романе Марана, Хемингуэй стремился опять-таки сформулировать свои собственные эстетические принципы, о которых он твердил в Чикаго Дональду Райту, главный из которых заключался в том, что писатель должен видеть, чувствовать и осязать свой материал.
«Когда читатель берет эту книгу, перед ним раскрывается жизнь африканской деревни, увиденная широко открытыми глазами негров, ощупанная их бледными ладонями, исхоженная их босыми широкими плоскими ступнями. Вы едите пищу негров, вы обоняете запахи деревни, вы относитесь к белому пришельцу с точки зрения черного обитателя деревни, и, пожив в ней, вы там же и умираете. Вот и все, что есть в этой книге, но, читая ее, вы сами были Батуалой, а это значит, что это хорошая книга».
Эту убежденность писателя он пронес через всю свою литературную жизнь, не изменяя ей.
Отрывая поневоле время для газетной работы, Хемингуэй упорно и ежедневно трудился над своими собственными произведениями. Он снял номер в гостинице, чтобы его никто не отвлекал, и там писал, писал, отделывая фразу за фразой.
В книге «Праздник, который всегда с тобой» он вспоминал:
«После трудных подъемов в горах мне доставляло удовольствие ходить по крутым улицам и взбираться на верхний этаж гостиницы, где я снимал номер, чтобы там работать, — оттуда видны были крыши и трубы домов на склоне холма. Тяга в камине была хорошей, и в теплой комнате было приятно работать. Я приносил с собой апельсины и жареные каштаны в бумажных пакетах и, когда был голоден, ел жареные каштаны и апельсины, маленькие, как мандарины, а кожуру бросал в огонь и туда же сплевывал зернышки. Прогулки, холод и работа всегда возбуждали у меня аппетит. В номере у меня хранилась бутылка кирша, которую мы привезли с гор, и, когда я кончал рассказ или дневную работу, я выпивал рюмку кирша. Кончив работу, я убирал блокнот или бумагу в стол, а оставшиеся апельсины клал в карман. Если их оставить в комнате на ночь, они замерзнут.
Радостно было спускаться по длинным маршам лестницы, сознавая, что ты хорошо поработал. Я всегда работал до тех пор, пока мне не удавалось чего-то добиться, и всегда останавливал работу, уже зная, что должно произойти дальше. Это давало мне разгон на завтра. Но иногда, принимаясь за новый рассказ и никак не находя начала, я садился перед камином, выжимал сок из кожуры мелких апельсинов прямо в огонь и смотрел на голубые вспышки пламени. Или стоял у окна, глядел на крыши Парижа и думал: «Не волнуйся. Ты писал прежде, напишешь и теперь. Тебе надо написать только одну настоящую фразу. Самую настоящую, какую ты знаешь». И в конце концов я писал — настоящую фразу, а за ней уже шло все остальное. Тогда это было легко, потому что всегда из виденного, слышанного, пережитого всплывала одна настоящая фраза. Если же я старался писать изысканно и витиевато, как некоторые авторы, то убеждался, что могу безболезненно вычеркнуть все эти украшения, выбросить их и начать повествование с настоящей, простой фразы, которую я уже написал. Работая в своем номере наверху, я решил, что напишу по рассказу обо всем, что знаю. Я старался придерживаться этого правила всегда, когда писал, и это очень дисциплинировало».
Кончив работать, он обычно отправлялся гулять по Парижу. Большей частью он уходил в Люксембургский сад, а потом шел в Люксембургский музей и смотрел картины своих любимых художников.
«Я ходил туда почти каждый день, — писал он, — из-за Сезанна и чтобы посмотреть полотна Мане и Моне, а также других импрессионистов, с которыми впервые познакомился в Институте искусств в Чикаго. Живопись Сезанна учила меня тому, что одних настоящих простых фраз мало, чтобы придать рассказу ту объемность и глубину, какой я пытался достичь. Я учился у него очень многому, но не мог бы внятно объяснить, чему именно. Кроме того, это тайна».
Он отнюдь не был затворником, и если ему были глубоко отвратительны завсегдатаи «Ротонды», то это не означает, что он не стремился найти в Париже настоящих серьезных людей, занимающихся искусством.
В одну из своих прогулок по Парижу Хемингуэй забрел на улицу Одеон и обнаружил там книжную лавку под любопытным названием «Шекспир и компания». Он заглянул внутрь. После улицы, где гулял холодный ветер, здесь ему показалось необыкновенно уютно. В шкафах стояли книги, масса книг, на столе лежали журналы, на стенах висели фотографии Уолта Уитмена, Эдгара По, Оскара Уайльда, автограф Уитмена. «Все фотографии, — писал он впоследствии, — были похожи на моментальные, и даже умершие писатели выглядели так, словно еще жили».
Навстречу ему вышла приветливая хозяйка. Она оказалась американкой, которая обосновалась в Париже и открыла здесь магазин литературы на английском языке. Этот магазин являлся одновременно и библиотекой, где можно было брать книги на дом. Имя хозяйки было Сильвия Бич.
«У Сильвии, — вспоминал он в книге «Праздник, который всегда с тобой», — было подвижное, с четкими чертами лицо, карие глаза, быстрые, как у маленького зверька, и веселые, как у юной девушки, и волнистые каштановые волосы, отброшенные назад с чистого лба и подстриженные ниже ушей, на уровне воротника ее коричневого бархатного жакета. У нее были красивые ноги, она была добросердечна, весела, любознательна и любила шутить и болтать. И лучше ее ко мне никто никогда не относился».
Сильвия Бич в своей книге воспоминаний тоже написала об этой встрече:
«Однажды я увидела высокого темноволосого молодого человека с маленькими усиками. Глубоким голосом он представился, сказав, что его зовут Эрнест Хемингуэй. Я пригласила его присесть и в разговоре выяснила, что он родом из Чикаго. Он был высокообразованный молодой человек… Несмотря на некоторую мальчишескость, он был очень умен».
Хемингуэй держался застенчиво — у него не было с собой денег, чтобы внести залог и записаться в библиотеку. Сильвия Бич сказала, что он может занести деньги потом, когда ему будет удобно, и предложила взять столько книг, сколько он хочет.
«У нее не было никаких оснований доверять мне, — писал Хемингуэй, — она меня не знала, адрес же, который я ей назвал, — улица Кардинала Лемуана, 74, — говорил только о бедности. И все-таки Сильвия была мила, обаятельна и приветлива, а за ее спиной поднимались к потолку и тянулись в соседнюю комнату, выходившую окнами во двор, бесчисленные книжные полки со всем богатством ее библиотеки.
Я начал с Тургенева и взял два тома «Записок охотника» и, если не ошибаюсь, один из ранних романов Д. Г. Лоуренса «Сыновья и любовники», но Сильвия предложила мне взять еще несколько книг. Я выбрал «Войну и мир» в переводе Констанс Гарнет и Достоевского «Игрок» и другие рассказы».
С этого дня началась их дружба, длившаяся много лет. Теперь Хемингуэй появлялся в лавке «Шекспир и компания» почти каждое утро, устраивался в углу и читал книги и журналы. Он, смеясь, называл себя «лучшим клиентом» Сильвии.
У Сильвии Бич он познакомился со многими писателями, которые тоже были здесь частыми гостями. Сильвия Бич сумела из своей скромной книжной лавки создать маленький культурный центр, где встречались молодые, да и не только молодые, люди, приехавшие в Париж, чтобы заниматься литературой и искусством.
Однако самым интересным и самым значительным для Хемингуэя оказалось знакомство с Гертрудой Стайн. Он переслал ей рекомендательное письмо Шервуда Андерсона, и вскоре они с Хэдли были приглашены в студию мисс Стайн на улице Флерюс, 27, неподалеку от Люксембургского сада.
«Мисс Стайн, — вспоминал Хемингуэй, — жила вместе с приятельницей, и, когда мы с женой пришли к ним в первый раз, они приняли нас очень сердечно и дружелюбно, и нам очень понравилась большая студия с великолепными картинами. Она напоминала лучшие залы самых знаменитых музеев, только здесь был большой камин, и было тепло и уютно».
Среди многочисленных картин, висевших в студии Гертруды Стайн, особое место занимали рисунки Пикассо. Из разговоров мисс Стайн можно было понять, что она хорошо знакома с этим великим художником, и даже сделать вывод, что она «открыла» его. На самом же деле широкому признанию Пикассо способствовал в какой-то мере ее брат Лео Стайн, который, кстати говоря, относился к своей сестре довольно скептически. Когда ему, например, сказали, что мисс Стайн написала статью против прагматизма, которая вызвала чье-то восхищение, он сказал:
«Она не могла это сделать. Гертруда не может мыслить последовательно в течение десяти секунд. Только после того, как я открыл Пикассо и его картины висели у меня в студии в течение двух лет, Гертруда стала думать, что она понимает их достоинства».
К самой себе Гертруда Стайн относилась с огромным уважением. Она, например, говорила о себе: «Никто ничего не сделал для развития английского языка со времен Шекспира, не считая меня и отчасти Генри Джеймса». В другом случае она спокойно и убежденно заявила: «Да, еврейская нация дала миру трех оригинальных гениев: Христа, Спинозу и меня».
В «Празднике, который всегда о тобой» Хемингуэй писал:
«Когда я познакомился с ней… она только что напечатала три рассказа, понятных каждому. Один из этих рассказов, «Меланкта», был особенно хорош, и лучшие образцы ее экспериментального творчества издали отдельной книгой, и критики, которые бывали у нее или хотя бы только раскланивались с ней, высоко их оценили. В ней была какая-то особая сила, и, когда она хотела привлечь кого-то на свою сторону, устоять было невозможно, и критики, которые были знакомы с ней и видели ее картины, принимали на веру ее творчество, хотя и не понимали его, — настолько они восхищались ею как человеком и были уверены в непогрешимости ее суждений. Кроме того, она открыла много верных и ценных истин о ритме и повторах и очень интересно говорила на эти темы».
Эти слова написал уже на склоне лет умудренный опытом писатель, в них содержится довольно точная и объективная характеристика Гертруды Стайн. Тогда же, в Париже, молодому начинающему писателю было, по всей видимости, не так-то просто не подпасть под влияние этой дамы, провозвестницы модернизма в тогдашней литературе. Нужно было обладать очень трезвым умом и врожденным чутьем писателя-реалиста, чтобы не дать увлечь себя модными идеями мисс Стайн, ее субъективизмом, демонстративным пренебрежением к социальным проблемам, ее экспериментами, которые вели к чисто формальной игре словами. «Я беру вещи, — писала Стайн, — и они выходят из моих рук совершенно независимыми от духовного сознания». Все эти «открытия» выглядели для многих молодых писателей очень заманчивыми и, конечно, какое-то влияние на Хемингуэя оказали.
Во всяком случае, сама Гертруда Стайн произвела на него сильное впечатление. В письме Шервуду Андерсону, отправленном, видимо, в марте, он сообщал: «Мы с Гертрудой Стайн почти как братья, и мы очень часто видимся с ней». В конце другого письма к Андерсону Хемингуэй приписал карандашом: «Мы любим Гертруду Стайн».
Ей Хемингуэй тоже понравился. Шервуду Андерсону она написала, что она и ее компаньонка Алиса Токлас «хорошо провели время» с Хемингуэями и надеются «еще увидеть их». Она любила, когда молодые писатели внимательно выслушивали ее рассуждения о том, какие способы должна искать литература для передачи подсознательных психологических процессов. Она была уверена, что в навязчивых повторах одних и тех же слов или сочетаний слов она нашла этот метод. «Повторение, — говорила она, — является чрезвычайно важным». Ее знаменитым в то время лозунгом была фраза: «Цивилизация началась с розы. А роза есть роза есть роза есть роза». При всем при том у нее был острый аналитический ум, привлекавший Хемингуэя, который страстно желал выработать именно метод, свой подход к изучению и описанию событий, людей, настроений. «Ее метод, — говорил он, — неоценим для анализирования любого явления или для описания человека или места».
При первом посещении студии Гертруды Стайн на улице Флерюс Эрнест и Хэдли пригласили Стайн и Алису Токлас к ним в гости.
«Когда они пришли, — вспоминал Хемингуэй, — мы как будто понравились им еще больше; но, возможно, это объяснялось теснотой нашей квартиры, где мы все оказались гораздо ближе друг к другу. Мисс Стайн села на матрац, служивший нам постелью, попросила показать ей мои рассказы и сказала, что они ей нравятся все, за исключением «У нас в Мичигане».
— Рассказ хорош, — сказала она. — Несомненно, хорош. Но он inaccrochable. То есть что-то вроде картины, которую художник написал, но не может выставить, и никто ее не купит, так как дома ее тоже нельзя повесить.
— Ну, а если рассказ вполне пристойный, просто в нем употреблены слова, которые употребляют люди? И если только эти слова делают рассказ правдивым и без них нельзя обойтись? Ими необходимо пользоваться.
— Вы ничего не поняли, — сказала она. — Не следует писать вещей inaccrochable. В этом нет никакого смысла. Это неправильно и глупо».
В тот вечер она похвалила также стихи, которые показал ей Хемингуэй, а в романе, который он тогда писал, нашла недостатки. «В нем слишком много описаний, и не очень хороших описаний, — сказала она. — Начните его писать заново и сосредоточьтесь».
В эти первые месяцы в Париже, да и в последующие годы, Гертруда Стайн оказалась для него тем старшим и более опытным товарищем, с которым хотелось советоваться, читать ему то, что пишешь. Он даже перепечатал для нее на машинке свои статьи, которые были опубликованы в «Стар уикли» в 1921 году.
Гертруда Стайн пренебрежительно относилась к работе в газете. Она доказывала Хемингуэю, что эта работа толкает на описательство, а не на созидание, что непосредственность журналистского отклика не есть подлинная непосредственность писателя, который должен смотреть на каждое свое переживание, как некоторые художники — Сезанн в особенности — смотрят на свою композицию.
Через много лет, в 1951 году, Хемингуэй вспоминал, как она, прочитав его рассказы, написанные до приезда в Париж, посоветовала ему «бросить журналистику и писать, чтобы не расходовать свои силы на другое. Она была совершенно права, это был лучший совет, который она мне дала». Он также вспоминал, как Гертруда Стайн тогда же сказала ему, что «из него может получиться хороший писатель новой манеры», и внушала, что «ни один классик не напоминает никого из предшествующих классиков».
Он внимательно вчитывался в ее книги, стараясь понять, в чем же на практике выявляется ее метод. Особенно его заинтересовала ее последняя книга. В мае 1922 года он писал Шервуду Андерсону: «Эта книга — «Становление американцев» Гертруды Стайн замечательна».
Шервуд Андерсон по-прежнему занимал в его литературных раздумьях значительное место. С ним Хемингуэй продолжал переписываться, обсуждать свои планы и заботы. В тот год в Париже Эрнест познакомился и часто встречался с корреспондентом херстовского агентства Интернейшнл Ньюс Сервис Фрэнком Мейсоном, который любил литературу и серьезно ею интересовался. Третьим участником их встреч обычно оказывался корреспондент бруклинской газеты «Игл» Гай Хикок. Разговаривали и спорили они в основном о литературе. Впоследствии Мейсон вспоминал, что в 1922 году Хемингуэй постоянно говорил о Шервуде Андерсоне и собирался в своей литературной карьере следовать примеру Андерсона.
В том году Шервуд Андерсон способствовал опубликованию первых двух литературных опытов Хемингуэя. Зимой 1921/22 года Андерсон был в Новом Орлеане и познакомился там с издателями маленького журнала «Дабл-дилер». Видимо, он и передал им без просьбы со стороны Хемингуэя его сказку «Пророческий жест», представлявшую собой не слишком удачную попытку подражания Анатолю Франсу, которая была напечатана в майском номере журнала, и стихотворение «Наконец», опубликованное в следующем, июньском, номере.
Это коротенькое стихотворение в четыре строки заслуживает внимания не своими художественными достоинствами, а потому, что дает некоторое представление об отвращении, которое испытывал молодой Хемингуэй к демагогии:
Он старался выплюнуть истину; Сначала во рту пересохло, Потом он заболтал, распуская слюни; Истина повисла на его подбородке.2О творческом влиянии Шервуда Андерсона на Хемингуэя говорилось и писалось очень много. И действительно, два ранних рассказа Хемингуэя — «У нас в Мичигане» и «Мой старик», носят определенные следы подражания Шервуду Андерсону.
Однако Хемингуэй настойчиво отрицал, что он простой продолжатель Андерсона. В 1923 году он писал в письме: «Я знаю его очень хорошо, но не видел несколько лет. Похоже, что его творчество пошло к черту, возможно, потому, что люди из Нью-Йорка слишком много говорили ему о том, какой он хороший писатель. Функция критики. Я его очень люблю. Он писал хорошие рассказы».
У Сильвии Бич Хемингуэй познакомился с американским поэтом Эзрой Паундом, который только незадолго до этого переехал в Париж из Лондона, объясняя, что его оттуда выгнали туманы.
В Англии Эзра Паунд считался одним из зачинателей модернистского течения в поэзии, названного имажинизмом. Эти поэты и в первую очередь сам Паунд искали спасения от действительности в уходе в «чистую образность», откуда и пошел термин «имажинизм». Они отказывались от попыток истолковать действительность и искали вдохновения в древних культурах Греции, Китая, Японии, и это обрекло их поэзию на книжность, оторванность от реальной жизни.
Эзра был высокий человек, одевавшийся в вельветовый пиджак и рубашку с открытым воротом — обычный костюм английского эстета того времени. Торчащая в разные стороны рыжая борода и не поддающиеся гребенке волосы придавали ему странноватый вид.
Сильвия Бич вспоминает, как она с удивлением обнаружила, что Эзра Паунд вопреки своей славе поэта отнюдь не надменен и не склонен говорить только о своем творчестве. Он любил похвастать, но не своими книгами, а своим плотницким мастерством. В один из первых же приходов в лавку «Шекспир и компания» он спросил у Сильвии, нет ли у нее чего-нибудь требующего починки. После этого он прекрасно отремонтировал ей ящичек для сигарет и стул. Когда же она похвалила его работу, он уговорил ее прийти к нему в студию на Нотр-Дам-де-Шан посмотреть мебель, которую он сделал сам.
Эзру Паунда отличала способность увлекаться талантами своих друзей, поощрять их к серьезной литературной работе. Хемингуэй говорил, что Эзра расходовал на собственную работу не более одной пятой своего времени. «Все остальное время он тратил на то, чтобы создать успех, как материальный, так и творческий, своим друзьям. Он защищал их, когда на них нападали, он устраивал их в журналы и выручал из тюрем. Он одалживал им деньги. Он продавал их картины. Он организовывал им концерты. Он писал о них статьи. Он знакомил их с богатыми женщинами. Он находил издателей для их книг. Он сидел рядом с ними ночами, когда они говорили, что умирают, и свидетельствовал их завещания. Он оплачивал расходы за их содержание в больницах и отговаривал их от самоубийства. И в конце концов только некоторые из них удержались от того, чтобы не вонзить ему нож в спину при первой возможности».
Хемингуэй и Эзра Паунд оставались друзьями до тех пор, пока политические взгляды Паунда, пошедшего на службу к итальянскому фашизму, не сделали эту дружбу далее невозможной для Хемингуэя.
Паунд был одним из первых, кто правильно оценил талант молодого Хемингуэя. Когда американский поэт Джон Бишоп летом 1922 года приехал в Париж, он спросил у Паунда, кто самые талантливые писатели из американских эмигрантов в Париже.
«Не говоря ни слова, — рассказывал в своих воспоминаниях Бишоп, — Эзра схватил старенькое такси, которое не торопясь повезло нас через левый берег по крутым улочкам, взбирающимся на гору святой Женевьевы, и доставило на улицу Кардинала Лемуана. Там мы вскарабкались на четыре лестничных пролета, чтобы найти Эрнеста Хемингуэя. Он тогда не опубликовал ничего, кроме газетных статей, которых я никогда не читал. Таким образом, мое впечатление от него было чисто личным.
Хемингуэй, как мне показалось, обладал множеством недостатков, присущих художнику, особенно тщеславием… Но в применении к нему они искупались исключительными литературными достоинствами. Он был инстинктивно интеллигентен, абсолютно бескорыстен и не старался говорить замысловато. К своему литературному таланту он относился скромно и, более того, обладал абсолютной честностью, которую мне не приходилось встречать».
Паунду очень хотелось стать литературным наставником и редактором Хемингуэя. Однако Хемингуэй умел выслушивать советы, спорил, соглашался или не соглашался, но предпочитал иметь Паунда приятелем и партнером по боксу, нежели редактором. Паунд как-то попросил Эрнеста обучить его боксу, и с тех пор они часто тренировались вместе.
В письме к Андерсону Хемингуэй писал, что Эзра Паунд, боксируя, обычно выставляет вперед подбородок и двигается с элегантностью рака. Тем не менее Эрнест считал, что в Эзре есть спортивная жилка, если он готов рисковать своим достоинством.
С глубоким человеческим и профессиональным интересом присматривался Хемингуэй к Джеймсу Джойсу, известному уже в ту пору писателю, кумиру авангардистской литературы. В первый же свой визит в лавку «Шекспир и компания» Хемингуэй спросил у Сильвии Бич:
— Когда у вас бывает Джойс?
— Как правило, в конце дня, — ответила она. — Разве вы его никогда не видели?
— Мы видели, как он с семьей обедал у Мишо, — сказал Хемингуэй. — Но смотреть на людей, когда они едят, невежливо, и это дорогой ресторан.
Он хорошо знал первые книги Джойса — «Дублинцы» и «Портрет художника в молодости» — и восхищался мастерством этого писателя. Его привлекала глубина психологического анализа Джойса, совершенное владение подтекстом.
Сильвия Бич познакомила их. Джойс оказался худым, изящным человеком, с легкой походкой, с необыкновенно синими глазами, о которых Сильвия говорила, что это глаза гения. У него были густые рыжеватые вьющиеся волосы, которые он постоянно отбрасывал с высокого лба.
Последний роман Джойса «Улисс» цензура не разрешала печатать ни в Англии, ни в Соединенных Штатах. Степень откровенности, с которой Джойс писал в этом романе о темных сторонах человеческой натуры, выходила для того времени за все рамки допускаемого. Когда жену Джойса Нору спросили, читала ли она роман своего мужа и как она его оценивает, она сказала: «Я думаю, он гений, но что за грязный ум у него!»
Случилось так, что Хемингуэй сумел помочь в распространении «Улисса». Сильвия Бич, преклонявшаяся перед Джойсом, решила на свой страх и риск издать «Улисса» во Франции на английском языке. Она договорилась с Дарантье — хозяином типографии в Дижоне, который взялся отпечатать «Улисса», и организовала подписку на эту книгу. Однако когда тираж уже был отпечатан и Сильвия Бич начала пересылать экземпляры подписчикам в Соединенные Штаты, то первая же партия книг была изъята в нью-йоркской таможне и уничтожена. Сильвия была в отчаянии — она не знала, как ей оправдаться перед американскими подписчиками. Однажды она рассказала всю эту историю Хемингуэю и попросила у него совета. Он сказал ей: «Дайте мне двадцать четыре часа».
На следующий день Хемингуэй пришел к Сильвии с готовым планом. Он рассказал ей, что у него в Чикаго есть друг, который может взяться за это дело. Весь фокус заключался в том, что в Канаде «Улисс» не был запрещен. Друг Хемингуэя поехал в Торонто, снял там помещение, на адрес которого Сильвия отправляла посылки с книгами, и потом по одному-два экземпляра перевозил через границу, пряча под одеждой. В ту пору на канадско-американской границе процветало бутлегерство, и на пароме, пересекавшем границу, было немало людей со странными очертаниями фигур, но это только увеличивало опасность. Во всяком случае, операция прошла благополучно, и американские подписчики получили таким необычным образом свои экземпляры «Улисса», а Сильвия Бич стала относиться к Хемингуэю с еще большей симпатией.
Был и другой, на этот раз комический, случай, когда Хемингуэй выручил Сильвию. В ее лавку постоянно ходил какой-то господин, явно помешанный на том, что все шекспировские пьесы написаны Бэконом. Название лавки раздражало его, и он всегда старался чем-нибудь помешать Сильвии. Однажды она заметила, что он присматривается к кочерге с явной целью учинить погром в лавке. Она перепугалась, но в этот момент в лавку явился Хемингуэй и выпроводил этого поклонника Бэкона.
Так шли дни в Париже.
На улицах стояла неповторимая парижская весна. Хотелось работать, не отвлекаясь ничем, меньше видеть людей, которые могут помешать. «Единственное, — писал он, — что могло испортить день, — это люди, но если удавалось избежать приглашений, день становился безграничным. Люди всегда ограничивали счастье — за исключением очень немногих, которые несли ту же радость, что и сама весна».
В «Празднике, который всегда с тобой» Хемингуэй оставил коротенький набросок, вобравший в себя всю прелесть такого весеннего утра:
«Весной я обычно работал рано утром, когда жена еще спала. Окна были распахнуты настежь, и булыжник мостовой просыхал после дождя. Солнце высушивало мокрые лица домов напротив моего окна. В магазинах еще не открывали ставен. Пастух гнал по улице стадо коз, играя на дудке, и женщина, которая жила над нами, вышла на тротуар с большим кувшином. Пастух выбрал черную козу с набухшим выменем и подоил ее прямо в кувшин, а его собака тем временем загнала остальных коз на тротуар. Козы глазели по сторонам и вертели головами, как туристы. Пастух взял у женщины деньги, поблагодарил ее и пошел дальше, наигрывая на своей дудке, а собака погнала коз, и они затрусили по мостовой, встряхивая рогами».
Близилось лето, он мечтал освободиться от газетной работы и уехать вместе с Хэдли куда-нибудь, где можно будет отдохнуть и поработать над своими рукописями.
Но редактор «Торонто стар» Боун одной телеграммой разрушил эти планы. В Генуе созывалась международная конференция, и «Стар» хотела иметь там своего корреспондента.
А конференция в Генуе действительно вызывала всеобщий интерес. Впервые после окончания войны поверженная Германия должна была как равная сесть за стол переговоров с победителями. Но еще более жгучий интерес вызывало предстоящее присутствие в Генуе представителей Советской России — первый дипломатический контакт нового революционного государства с миром, который так долго отказывался признать Советскую Россию после того, как тщетно пытался уничтожить ее силой оружия. Отказ Соединенных Штатов принять участие в конференции только обострял интерес к ней.
Для Хемингуэя это было первое специальное и ответственное задание, с которого начался для него курс изучения политических наук.
27 марта 1922 года он уже был в Генуе.
До открытия конференции еще оставалось время, основная масса корреспондентов еще не съехалась, но Хемингуэя остро интересовало то, что происходит в Италии, в стране, где он воевал и пролил свою кровь.
Трудно было бы ожидать от двадцатидвухлетнего молодого человека, никогда не интересовавшегося политикой, безупречного классового анализа происходящих в Италии событий. Скорее можно было предположить, что он, подобно большинству американских и западноевропейских журналистов, станет писать о «красной опасности», угрожающей гражданскому миру в Италии. Ведь в вопросах политической и социальной борьбы он был совершенным новичком.
Однако произошло нечто совсем иное — начинающий европейский корреспондент поставил в затруднительное положение редакторов «Торонто стар». Первый же очерк, посланный Хемингуэем из Генуи, содержал хотя и несколько поверхностный, но достаточно трезвый и непредубежденный анализ существа политической борьбы, кипевшей в то время в Италии. Он разглядел звериный облик «чернорубашечников», выступавших под якобы патриотическими лозунгами.
«Фашисты, — писал он в статье «Революция и контрреволюция», — это отродье зубов дракона, посеянных в 1920 году, когда казалось, что вся Италия может стать большевистской… Набраны они из молодых экс-ветеранов с целью защитить существующее правительство от всякого рода большевистских заговоров и агрессий. Короче говоря, это контрреволюционеры, и в 1920 году это они подавили красных бомбами, пулеметами, ножами и щедрым применением керосиновых бидонов, чтобы поджигать места красных митингов, и тяжелыми, окованными железом дубинками, которыми они мозжили головы красным, когда те пытались выскочить.
Фашисты действовали с совершенно определенной целью и уничтожали все, что могло грозить революцией. Они пользовались если не активной поддержкой, то молчаливым одобрением правительства, и не подлежит никакому сомнению, что именно они сломили красных. Но они привыкли к безнаказанному беззаконию и убийству и считали себя в праве бесчинствовать, где и когда им вздумается».
Хемингуэй настойчиво подчеркивал кровавую опасность фашизма в Италии. «Фашисты, — писал он, — не делают различия между социалистами, коммунистами, республиканцами или кооператорами. Для них все они — красные и опасные смутьяны».
Статья была в редакции задержана и напечатана только 13 апреля. За эти дни Хемингуэй успел передать телеграфом короткую корреспонденцию о пресс-конференции русской делегации, и редакция «Стар» напечатала ее, сопроводив примечанием от редакции, которым явно старалась смягчить антифашистскую направленность статьи о внутриполитическом положении в Италии, ввести читателя в заблуждение. Редакция сообщала: «Корреспондент «Стар» Эрнест М. Хемингуэй, путешествующий по Европе и присылающий нам свои обзоры, находится в Генуе, чтобы наблюдать ход конференции глазами канадцев. В следующей корреспонденции он описывает реальную опасность беспорядков, происходящих там от присутствия делегации Советской России».
9 апреля вместе с другими корреспондентами Хемингуэй отправился в расположенное недалеко от Генуи местечко Рапалло, где была резиденция советской делегации. Здесь состоялась пресс-конференция главы делегации Чичерина. В короткой, переданной по телеграфу корреспонденции Хемингуэя трудно отыскать нюансы его личных симпатий, но отчетливо видно одно — в ней нет никакой враждебности по отношению к Советской России. Как известно, главным вопросом Генуэзской конференции был вопрос о долгах царского правительства, возмещения которых требовали империалистические правительства Англии и Франции. Чичерин заявил о согласии Советского правительства уплатить царские долги, если правительства Англии, Франции и США возместят ущерб, нанесенный России их интервенцией в годы гражданской войны. Хемингуэй в своем отчете о пресс-конференции выделил слова Чичерина, подчеркнув, что они выражают справедливую позицию Советского правительства. «Что касается всех вопросов, связанных с долгами, — сказал Чичерин, — то мы приехали сюда со свободными руками, ничем себя не связав. Права иностранного капитала в России будут гарантированы, но Россия будет сопротивляться всем попыткам консорциумов превратить Россию в колонию».
10 апреля Хемингуэй вместе с другими журналистами сидел на галерее прессы в Палаццо ди Сан Джорджио и наблюдал за процедурой открытия конференции.
Статью об открытии конференции Хемингуэй решил послать не телеграфом, а обычной почтой и потому мог позволить себе написать не сухой отчет, а живую зарисовку, передающую его собственные ощущения от происходившего. Он обращал внимание на детали обстановки, на поведение делегатов, не забыл упомянуть о том, что в советской делегации есть две секретарши, «без всякого сомнения самые привлекательные девушки во всем зале».
С присущей ему иронией приводил высеченные на мраморной доске в зале заседаний слова из «Истории» Маккиавелли, рассказывавшие о создании банка Сан Джорджио, которому принадлежал этот дворец, самого старинного банка в мире. «Маккиавелли, — писал он, — в свое время написал книгу, которая может быть руководством для проведения всех конференций, и, судя по их результатам, изучается она весьма тщательно».
«Зал уже почти полон, когда входит британская делегация. Они прибыли в автомобилях, мимо выстроенных вдоль улиц солдат, и входят эффектно. Это лучше всех одетая делегация. Сэр Чарльз Блейр Гордон, глава канадской делегации, блондин с румяным лицом, чувствует себя несколько не по себе. Он сидит четвертым от Ллойд Джорджа.
В сопровождении доктора Вирта, германского канцлера, похожего на музыканта-трубача из какого-нибудь немецкого оркестра, вошел смахивающий на ученого Вальтер Ратенау — самый лысый из всех участников конференции. Они разместились чуть пониже за тем же длинным столом. Ратенау — типичный социалист из богачей и считается самым способным человеком в Германии…»
Все были в сборе, отсутствовала лишь советская делегация. Это был напряженный момент, все гадали: придут ли русские вообще? Хемингуэй тогда сказал кому-то из своих соседей: «Это четыре самых пустых кресла, какие я только видел в своей жизни». Эти слова он потом вставил в свою корреспонденцию. Он подробно описал всех членов русской делегации — Литвинова, Чичерина, Красина и Иоффе, выделяя в их внешности характерные черты.
В тот же день он отправил в Торонто еще одну статью, посвященную судьбе разоружения. Он рассказывал о сенсации, имевшей место в день открытия конференции, когда все газетные «умники» уже покинули зал и «остались только те немногие, которые считают, что видели игру, если оставались до последнего судейского свистка». Очень скупо и точно передавал Хемингуэй напряженную атмосферу, воцарившуюся в зале в связи с выступлением Чичерина о всеобщем разоружении:
«Чичерин встал, руки у него дрожали. Он заговорил по-французски своим странным свистящим выговором — следствие несчастного случая, стоившего ему половины зубов. Толмач звонким голосом переводил. В паузах не слышно было ни звука, кроме позвякивания массы орденов на груди какого-то итальянского генерала, когда тот переступал с ноги на ногу. Это не выдумка. Можно было различить металлическое звяканье орденов и медалей».
С интересом разглядывал Хемингуэй корреспондентов, собравшихся в ложе прессы. Здесь были асы мировой журналистики, многие из которых были причастны и к литературе. В своей корреспонденции Хемингуэй упомянул и Марселя Кашена, лидера Французской коммунистической партии и редактора «Юманите», не забыв описать его изможденное лицо, растрепанные рыжие усы и очки в черепаховой оправе, сползающие на кончик носа.
Рядом с Кашеном сидел либеральный американский журналист Макс Истмен, похожий, как писал Хемингуэй, на веселого профессора университета со Среднего Запада. Истмен особенно интересовал Хемингуэя, который неустанно думал о том, чтобы пробиться со своими рассказами в американские журналы.
Хемингуэй оказался в одной гостинице с Истменом, и ему удалось с ним поближе познакомиться. Истмену поправилось, как просто говорил Хемингуэй о войне. Однажды, когда они сидели в номере у Хемингуэя, в ванной комнате взорвалась газовая колонка, и Хемингуэя вышвырнуло в прихожую. Он спокойно поднялся на ноги и, улыбаясь, что поразило всех присутствующих, сказал, что уже был напуган до смерти во время войны.
Эрнест попросил Истмена прочитать рассказы, которые он предусмотрительно взял с собой в Геную в надежде показать их кому-нибудь из влиятельных американских журналистов. На Истмена рассказы Хемингуэя не произвели, как он писал впоследствии в своих мемуарах, сильного впечатления, но тем не менее он послал их редакторам журнала «Либерейтор» Клоду Маккею и Майклу Голду. Опубликованы они не были.
Когда Истмен и Джордж Слокомб, корреспондент лондонской «Дейли геральд», поехали в Рапалло навестить известного английского юмориста Макса Бирбома, они пригласили с собой и Хемингуэя. На обратном пути Истмен остановил свою машину неподалеку от виллы Бирбома, чтобы записать для памяти некоторые фразы Бирбома. Хемингуэй засмеялся и, хлопнув себя ладонью по лбу, сказал: «Я храню каждое слово здесь!»
Хемингуэй пробыл в Генуе недолго. Он по телеграфу сообщил своей газете о главной сенсации конференции — о договоре, подписанном в Рапалло между Советской Россией и Германией, который покончил с попытками дипломатической изоляции молодого Советского государства, — и уехал на день в местечко Эгль в Швейцарии поудить рыбу в Роне. Об этом дне он написал очерк.
Рассказывая о ловле форели, он не упустил случая поиронизировать по поводу пользы печатных органов:
«Тогда приходит время, — писал он, — завернуть форель в последнюю речь лорда Нортклиффа… или в сообщение о неизбежном распаде коалиции, или же в пикантную историю о весельчаке герцоге и серьезной вдове, и, оставив дело Боттомли, чтобы почитать в поезде на обратном пути, кладешь газету с форелью в карман пиджака. Много форели водится в Canal du Rhone, когда солнце ушло за горы, и удишь вниз по течению, и дует вечерний ветерок, именно тогда она хорошо идет».
В Париж он возвращался с чувством удовлетворения — он, безусловно, справился со своим первым ответственным заданием, укрепил свою профессиональную репутацию журналиста и заработал кое-какие деньги.
Однако главное для него было писать. Рассказы, которые он посылал в американские журналы, регулярно возвращались ему с обидными резолюциями. Но он не унывал, он твердо был уверен, что будет печататься. Случай помог ему отыскать одну такую возможность.
В Генуе Хемингуэй познакомился с американским журналистом, постоянно жившим в Париже, Уильямом Бердом. Впрочем, случай только помог их знакомству. Если бы они не познакомились в Генуе, то все равно их пути сошлись бы в Париже, где оба были постоянными посетителями лавки Сильвии Бич «Шекспир и компания». Это был высокий человек с острой бородкой, мягкий, добрый и непринужденный. Он был страстным любителем и знатоком книг; Сильвия Бич утверждала, что он знает все про редкие издания. У него были свободные деньги и свободное время, и он решил стать издателем.
Берд сам рассказывал друзьям, что затеял дело с издательством просто для того, чтобы иметь хобби. Большая часть его друзей играла в гольф, но спорт никогда не интересовал его. Однажды в Париже он обнаружил на острове Сен-Луи французского журналиста Роже Девиня, который печатал книги на ручном прессе времен Бенжамена Франклина. Он загорелся этой идеей и договорился с Девинем печатать на его станке книги на английском языке. Для этого Берд купил полный набор шрифтов. Свое издательство он назвал «Три маунтен пресс». Оставалось продумать, что именно печатать.
Вот тогда-то Берд и познакомился с Хемингуэем, который сказал ему, что Эзра Паунд пишет сейчас большую поэму и, может быть, захочет часть ее напечатать. Уильям Берд отправился к Паунду, а через два дня Эзра пришел к нему с готовым проектом — он предложил издать серию из шести книг. Таким образом, Эзра Паунд стал редактором издательства «Три маунтен пресс». В числе этих шести книг они наметили и издание книги рассказов Хемингуэя.
Издание серии продвигалось крайне медленно — пресс был ручной, и издатель мог крутить его только в свободное от своей основной журналистской работы время. Первой вышла книга стихотворений Эзры Паунда. Вторую книгу серии — роман Форда Мэдокса Форда «Мужчины и женщины» — Берду пришлось печатать на стороне, так как Девиню самому понадобился его станок. Но в это время по соседству нашлась свободная мастерская, и Берд купил уже свой собственный печатный станок, тоже двухвековой давности.
Мастерская Берда помещалась в низком подвале старинного дома на набережной острова Сен-Луи. Мастерская была настолько тесная, что когда Сильвия Бич однажды зашла к Берду, то, как она вспоминала, он вынужден был выйти на тротуар, чтобы поговорить с ней, потому что в мастерской было место только для пресса и для печатника.
Книга рассказов Хемингуэя стояла последней в этом списке из шести книг, и ждать нужно было еще долго.
А пока что пришло лето, и можно было думать об отдыхе.
Вместе с Хэдли и своим давним знакомым по Милану капитаном Чинком Дорман-Смитом они отправились в Швейцарию.
В Монтре они ловили форель, взбирались на Сар en moine — крутую снежную вершину, с которой спускались, просто сев на снег.
Из Швейцарии они пешком прошли через Сен-Бернарский перевал и оказались в Италии. Это было веселое и беззаботное путешествие. В книге «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэй воспроизводил свой разговор с Хэдли, когда они вспоминали об этом путешествии:
«— Ты помнишь, как мы карабкались по снегу, а на итальянской стороне Сен-Бернара сразу попали в весну, и потом ты, Чинк и я весь день спускались через весну к Аосте?
— Чинк назвал эту вылазку «В туфлях через Сен-Бернар». Помнишь эти туфли?
— Мои бедные туфли!
— …И вы с Чинком все время говорили о том, как добиваться правды, когда пишешь, и правильно изображать, а не описывать. Я помню все. Иногда был прав он, а иногда ты. Я помню, как вы спорили об освещении, текстуре и форме».
Рассказы Дорман-Смита о войне во Франции, которую Хемингуэю не довелось увидеть, впоследствии ему очень пригодились. Они обогатили его собственное короткое восприятие войны и послужили материалом для будущих рассказов.
Хемингуэю хотелось побывать в памятных ему местах и прежде всего в Милане, с которым было связано столько воспоминаний. И старая сердечная боль, которая, казалось бы, давно должна была забыться, вспыхнула с новой силой. Он не выдержал и написал Агнессе нежное письмо, в котором рассказывал ей, как живо эти места напомнили ему те счастливые времена, когда они были вместе, и какой она замечательный человек. Далекий и, вероятно, уже трансформированный временем отзвук этого письма есть в рассказе «Снега Килиманджаро», где писатель Гарри вспоминает, что, когда «чувство одиночества не только не прошло, а стало еще острее, он написал ей, первой, той, которая бросила его, написал о том, что ему так и не удалось убить в себе это… О том, что все женщины, с которыми он спал, только сильнее заставляли его тосковать по ней. И что все то, что она сделала, не имеет никакого значения теперь, когда он убедился, что не может излечиться от этой любви». Это не автобиографическая запись, это художественное произведение, где, как всегда у Хемингуэя, сложнейшим образом переплетаются личный опыт и вымысел, но трудно избавиться от ощущения, что в этих словах есть отзвук и собственных переживаний.
Из Италии он отправил в Торонто две статьи об итальянском фашизме, одна из них представляла его интервью с Муссолини. Обе они были опубликованы 24 июня 1922 года, одна в «Стар», другая в «Стар уикли».
Едва вернувшись в Париж, они опять уехали, на этот раз в Германию. Эту поездку Хемингуэй предпринял на свой страх и риск, не имея никаких заданий от редакции. Однако он решил, что серия статей о послевоенной Германии будет небезынтересна канадским читателям и, таким образом, путевые издержки будут оплачены редакцией.
Из Парижа в Страсбург они летели самолетом. Это был первый воздушный перелет Хемингуэя. Тогда, в 1922 году, воздушный транспорт был новинкой, пользовались им мало, и Хемингуэю хотелось испытать это новое ощущение. Первая статья, которую он отправил из Страсбурга в Торонто 23 августа, представляла собой рассказ об этом воздушном перелете. Из Страсбурга они перебрались в Кельн. Здесь к ним присоединился Уильям Берд со своей женой.
Из Страсбурга Хемингуэй послал в Торонто статью об инфляции в Германии и о катастрофическом падении курса немецкой марки.
Затем они двинулись на юг во Фрейбург, оттуда заехали в Шварцвальд и, наконец, обратно в Кельн.
Статьи, написанные Хемингуэем за время этой месячной поездки по Германии, не претендовали на глубокий анализ внутреннего положения страны, оказавшейся после Версальского мира в столь тяжелом состоянии. Скорее их можно было назвать путевыми заметками или зарисовками. Однако и в этих зарисовках Хемингуэй не упустил случая показать отвратительную роль международных монополий, наживающихся на бедствиях народа.
«Спекулянты обеих сторон стараются не упустить ни гроша из любых затрат правительства и граждан. Герр Стиннес и группа французских дельцов и подрядчиков договорились, что все материалы, поставляемые французам в счет репараций, должны проходить только через герра Стиннеса.
Стиннес по этому соглашению должен получать шесть процентов со всего, что проходит через его руки… Спекулянты обеих сторон объединяются в своего рода спекулянтский трест».
Конечно, то были мимолетные ощущения, и вряд ли в эту свою первую поездку в Германию Хемингуэй имел время и возможности серьезно разобраться в сложной ситуации, сложившейся в стране. Через 12 лет, уже будучи умудренным опытом человеком, в статье «Старый газетчик» он вернется к анализу положения в послевоенной Германии. В ней содержатся весьма примечательные для Хемингуэя, вокруг которого тщательно создавали легенду о его принципиальной аполитичности, утверждения и раздумья:
«Непосредственно после войны мир был гораздо ближе к революции, чем теперь. В те дни мы, верившие в нее, ждали ее с часу на час, призывали ее, возлагали на нее надежды (курсив мой. — Б. Г.), потому что она была логическим выводом. Но где бы она ни вспыхивала, ее подавляли. Долгое время я не мог понять этого, но наконец, кажется, понял. Изучая историю, видишь, что социальная революция не может рассчитывать на успех в стране, которая перед этим не перенесла полного военного разгрома. Надо самому видеть военный разгром, чтобы понять это. Это настолько полное разочарование в системе, которая привела к краху, такая ломка всех существующих понятий, убеждений и приверженностей, особенно когда воюет мобилизованный народ, что это необходимый катарсис перед революцией.
…Германия не знала военного разгрома. Она не знала нового Седана, такого, какой привел к Коммуне. Просто Германии не удалось победить в весенних и летних битвах 1918 года, но армия ее не разложилась, и мир был заключен раньше, чем поражение успело перерасти в тот разгром, из которого возникает революция. Революция все же была, но она была обусловлена и ограничена тем, как кончилась война, и те, кто не хотел признать военного поражения, ненавидели тех, кто признавал его, и стали расправляться с наиболее способными из своих противников путем обдуманной программы убийств, гнуснее которых никогда еще не было на свете. Они начали сейчас же после окончания войны убийством Карла Либкнехта и Розы Люксембург и продолжали убивать, систематически уничтожая как революционеров, так и либералов все теми же методами предумышленного убийства».
Но к этим выводам он пришел значительно позже, после того как прошел полный курс политических наук, который могла ему предложить послевоенная Европа. А на предметные уроки этого курса политических наук молодой журналист наталкивался на каждом шагу. На обратном пути, в Эльзасе, Хемингуэю удалось получить интервью у бывшего премьера Франции Клемансо, который только незадолго перед этим ушел от политической деятельности. В течение ряда лет «тигр» Клемансо был для Хемингуэя героем, образцом политического деятеля. Тем более счастлив был Хемингуэй, когда суровый Клемансо не устоял перед обаянием молодого журналиста и стал, по словам Хемингуэя, «на некоторое время очень разговорчивым». Клемансо весьма мрачно смотрел на будущее Европы и высказал эти горькие мысли со всей присущей ему грубой прямотой.
Для Хемингуэя получить такое интервью было большом победой. Однако его постигло немалое разочарование — редактор «Стар» Боун вернул ему интервью и в записке, носившей характер выговора, написал, что «Клемансо может говорить что ему вздумается, но не на страницах нашей газеты».
Этот случай, естественно, не мог усилить привязанность Хемингуэя к газетной работе, которой он и без того тяготился.
ГЛАВА 8 БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Позднее ему пришлось увидеть такое, чего он даже в мыслях себе не мог представить; а потом он видел и гораздо худшее. Поэтому, вернувшись в Париж, он не мог ни говорить, ни слушать об этом.
Э. Хемингуэй, Снега КилиманджароВзяв интервью у Клемансо, Хемингуэй заторопился в Париж — ему хотелось попасть на матч в новом зале Монруж между известными боксерами Сики и Карпентье. 24 сентября он уже был в Париже.
Однако насладиться покоем парижской осени ему не пришлось. Уже через день или два после его возвращения пришла новая телеграмма — Боун предлагал своему парижскому корреспонденту срочно выехать в Константинополь.
Трудно было придумать другое поручение, которое больше обрадовало бы и заинтересовало Хемингуэя.
На Ближнем Востоке шла так называемая «малая война» — между Грецией и Турцией, и взоры всего мира были прикованы к этому району — эта «малая война» легко могла перерасти во всеобщую, мировую войну.
Перед самым отъездом в Константинополь Хемингуэй завтракал со своими друзьями Фрэнком Мейсоном и Гаем Хикоком. Мейсон вспоминает, как взволнован был Эрнест. Ведь он был уверен, что именно на войне наиболее полно раскрывается характер человека. Лицом к лицу со смертью, со страданием человек невольно сбрасывает с себя защитную оболочку условностей и притворства.
Во время этой встречи Хемингуэй договорился с Мейсоном, что тот будет оплачивать его расходы за счет Интернейшнл Ньюс Сервис, а Эрнест будет присылать ему информацию с Ближнего Востока. У Мейсона такой необходимости не было — в его парижской конторе просто перепечатывали сообщения английских и французских телеграфных агентств и передавали их в Нью-Йорк, — но ему хотелось помочь товарищу, и, таким образом, Хемингуэй уехал в Константинополь представителем не только торонтской газеты, но и херстовского агенства.
30 сентября он прибыл в Константинополь. В тот же день он отправил в Торонто телеграмму: «Константинополь — шумный, жаркий, холмистый, грязный и прекрасный город. Он наводнен слухами и мундирами. Прибывшие в город британские войска готовы предотвратить вторжение кемалистов. Иностранцы нервничают и, помня судьбу Смирны, заказали билеты на все отходящие из страны поезда уже несколько недель назад». Эта телеграмма появилась на первой полосе «Стар» под большим заголовком и с редакционным предисловием, в котором сообщались сведения об авторе — специальном корреспонденте газеты Эрнесте Хемингуэе.
Ему предстояло разобраться не столько в военных действиях, сколько в довольно сложной дипломатической игре, которая и повлекла за собой эту войну. К концу мировой войны Оттоманская империя, сражавшаяся в одном лагере с кайзеровской Германией и потерпевшая поражение, была накануне развала. Державы-победительницы спорили из-за наследства «больного», как называли тогда турецкую империю. Среди этого наследства было две драгоценности — нефтяные богатства Ближнего Востока и проливы, соединяющие Черное море со Средиземным.
В начале 1920 года султан выехал во Францию, в город Севр, для подписания там мирного договора с державами-победительницами. Султан признавал ликвидацию Оттоманской империи и отдавал четыре пятых ее бывших территорий державам Антанты — Палестину, Ирак, Трансиорданию, Ливан, Сирию и даже Фракию, которая по Севрскому договору отходила к Греции. Это было последним актом султана — националистическая партия во главе с офицером армии Мустафой Кемалем объявила его низложенным и образовала в Анкаре свое правительство.
Теперь заволновался Лондон. Поддерживая султана, чья власть уже не распространялась дальше дворцовых ворот, Великобритания рисковала, что наследство «больного» уплывет из ее рук. Оставалось только одно — выпустить на арену греческого короля Константина. Ему были обещаны территории, военная слава и Смирна — древний центр греческой культуры и важнейший порт Анатолии. В 1921 году греческие войска пересекли пролив и отбросили армию Кемаля до Анкары. Установилось некое шаткое равновесие, во время которого обе стороны пока что расправлялись с соответствующими национальными меньшинствами — турки резали и выселяли христианское население в Анатолии, греки расправлялись с мусульманами, проживавшими во Фракии.
И вот неожиданно в августе 1922 года турецкая армия Кемаля перешла в контрнаступление. Решающее сражение продолжалось десять дней. 7 сентября греческая армия была окончательно разгромлена и стала в беспорядке отступать к Смирне, которая была переполнена ранеными греческими солдатами и бежавшим мирным населением. 9 сентября турецкая кавалерия начала просачиваться в Смирну. 14 сентября в христианском секторе города вспыхнул пожар. Греки к тому времени передали город союзному командованию, но Кемаль отверг все предложения о перемирии, настаивая на возвращении Турции Адрианополя и Смирны. Он угрожал вторгнуться в Месопотамию — английский мандат, если его условия не будут приняты. Он готовился к наступлению на Константинополь и Фракию, где греческие войска лихорадочно готовились к обороне.
Хемингуэй появился в Константинополе как раз накануне ожидавшейся битвы за Фракию, которую он и должен был описывать как военный корреспондент.
Однако эта битва не состоялась. В Греции произошел переворот, король Константин был свергнут и на престол возведен крон-принц Георг, который немедленно заключил перемирие с Кемалем.
Через четыре дня после своего приезда Хемингуэй отправил в Торонто статью о мирных переговорах в Мудании, жарком и пыльном порту на Мраморном море.
Никому из журналистов не разрешили присутствовать на этой встрече. Хемингуэй в связи с этим саркастически писал о военных чинах, которые считают, что судьбы народов должны решать они и народам незачем знать о том, кто и как определяет их судьбу. Но все равно, писал он, «даже если никому никогда не разрешат упоминать об этой встрече, если никто никогда не признает, что Запад пришел к Востоку просить о мире, эта встреча имеет именно такое значение, потому что она знаменует конец европейского господства в Азии».
Хемингуэй не писал в своей корреспонденции о тех коренных изменениях в соотношении сил, которые произошли в мире в результате Октябрьской революции в России, и не упоминал, в частности, договор о дружбе, подписанный Советской Россией с правительством Кемаля, но он уловил существенное — на этот раз, вместо того чтобы угрожать, как обычно, орудиями «Айрон Дюка» — флагманского корабля британского военного флота, Запад прибыл сюда не для того, чтобы требовать или ставить условия, а для того, чтобы просить мира.
И еще одна характерная деталь была в этой корреспонденции Хемингуэя — он начал понимать разницу между солдатами, сражающимися за освобождение своей родины, — в данном случае это были турки — и мобилизованными греческими солдатами, «которые, — писал он, — призваны в армию девять лет назад, и у них нет никакою личного стремления завоевывать Малую Азию, и они сыты этим по горло и начинают понимать, что идут в бой умирать, как скот, ради чужой выгоды».
Для молодого журналиста это был уже серьезный шаг в понимании подлинной сущности захватнических войн.
5 октября он послал через Париж в Торонто статью о Кемале. Хемингуэй писал, что еще недавно Кемаля представляли на Востоке новым Саладином, который изгонит христиан со всех земель, принадлежавших ранее исламу, объявит газават — священную войну. Между тем Кемаль оказался трезвым политиком, который руководствуется реальными государственными интересами своей страны.
В свободное от работы время Хемингуэй знакомился с Константинополем, запоминал его краски, его запахи, вид Босфора при восходе солнца. В очерке, написанном тогда в Константинополе, он описал этот город:
«Утром, когда вы просыпаетесь и видите туман над Золотым Рогом и минареты, тянущиеся из тумана к солнцу, стройные и чистые, и муэдзин призывает верующих к молитве голосом, в котором взлеты и падения напоминают русскую оперу, вы ощущаете магию Востока.
Когда вы смотрите в зеркало и обнаруживаете, что ваше лицо усеяно множеством мелких красных точек от укусов насекомых, которые добрались до вас прошлой ночью, вы понимаете, что такое Восток».
Он не забыл описать улицы Константинополя, покрытые густым слоем пыли и превращающиеся в потоки грязи во время дождя, упомянуть о сорока тысячах русских беженцев. Он рассказал о ночной жизни города, в котором уважающие себя люди не садятся обедать раньше девяти вечера, где театры открываются в десять, а респектабельные ночные бары в два часа ночи.
«Перед восходом солнца вы можете пройти по черным тихим улицам Константинополя, и крысы будут выскакивать у вас из-под ног, бродячие собаки будут рыться в помойках, полоски света пробиваются сквозь щели в ставнях, и доносится пьяный смех. Этот пьяный смех служит контрастом к великолепным руладам муэдзина, зовущего к молитве, и темные, скользкие, вонючие, загаженные отбросами улицы Константинополя ранним утром и являют собой реальную магию Востока».
Через несколько дней он выехал из Константинополя, чтобы своими глазами увидеть отход греческой армии, эвакуирующейся из Восточной Фракии. Его корреспонденция об этом отходе была написана 14 октября в Мурадии, маленькой деревушке около озера Ван. Он описал то, что сам видел:
«Когда я пишу эти строки, греческие войска начинают отступление из Восточной Фракии. В своей плохо пригнанной американской форме они идут по равнине, впереди них кавалерийские патрули, солдаты шагают, временами угрюмо улыбаясь нам, когда мы обгоняем их беспорядочно растянувшиеся колонны. За собой они перерезали все телеграфные провода, и те свисают со столбов, как ленты с майского шеста. Они оставили свои соломенные шалаши, замаскированные огневые позиции своих батарей, свои пулеметные гнезда и все густо заплетенные, растянутые, укрепленные рубежи, на которых они собирались дать последний отпор туркам… Заляпанные грязью буйволы с прижатыми к спине рогами тянут по пыльным дорогам тяжело нагруженные обозные фургоны. Некоторые из солдат взгромоздились на горы поклажи, другие погоняют буйволов. А впереди и позади обозных телег тянутся войска. Вот он, конец великой греческой военной авантюры».
В Мурадии Хемингуэй познакомился с капитаном Уиттолом, английским офицером, служившим ранее в Индии, который был прикомандирован к греческой армии в качестве наблюдателя во время сражения у Анкары прошлым летом.
Уиттол рассказал Хемингуэю, как совершенно неопытные греческие артиллерийские офицеры принимали команду над батареями и расстреливали собственную пехоту. Он рассказал о пехотных офицерах, которые больше привыкли иметь дело не с порохом, а с пудрой для лица и помадой, о штабных офицерах с их преступным невежеством и беспечностью.
Обо всем этом Хемингуэй написал в своем очерке. С болью человека, прошедшего войну, он писал о солдатах, преданных своими командирами:
«Целый день я проезжал мимо них, грязных, усталых, небритых, обветренных, бредущих вдоль дорог коричневой, волнистой, голой Фракийской равнины. Никаких оркестров, питательных пунктов, организованных привалов, только вши, грязные одеяла и москиты ночью. Вот остатки той славы, которая именовалась Грецией. Вот он, конец второй осады Трои».
Увидев своими глазами отступление греческой армии из Восточной Фракии, Хемингуэй ненадолго вернулся а Константинополь и поспешил на север, чтобы описать эвакуацию греческого населения из Западной Фракии.
19 октября он уже был в Адрианополе. В 11 часов вечера он сошел с поезда и увидел станцию — грязную дыру, забитую солдатами, узлами, пружинными матрацами, швейными машинами, детьми, сломанными телегами. Кругом была страшная грязь, а сверху моросил дождь. Начальник станции рассказал ему, что в этот день он отправил 57 вагонов с отступающими солдатами. Телеграфные провода повсюду оборваны. Скопляется все больше войск, и нет никакой возможности вывозить их.
Начальник станции объяснил Хемингуэю, что единственное место в городе, где можно выспаться, это гостиница мадам Мари. Солдат проводил его туда по темным улицам, тщательно обходя лужи грязи.
В гостинице ему открыл дверь сонный француз, босой и в кальсонах, который объяснил, что номеров нет, но, если у американца есть одеяло, он может спать на полу. Как раз в это время подъехала машина, из которой вылезли двое американцев — кинооператоров. У них были три походные койки, и одну из них они предложили Хемингуэю. Шофер пошел спать в машину.
Когда они разлеглись на своих койках, оператор Шорти Ворналл рассказал Хемингуэю, что они проделали сегодня чудовищный путь от Родосто на берегу Мраморного моря…
— Сделал сегодня несколько отличных кадров горящей деревни, — сказал Шорти. — Зрелище будь здоров — горящая деревня. Как развороченный муравейник. Снял с двух или трех разных точек… Черт меня побери, как я устал! С беженцами творится просто ад. В этой стране можно увидеть страшные вещи.
Через две минуты он уже храпел. Хемингуэй вспоминал, что он дважды вставал в эту ночь, потому что его мучила малярия, которую он подхватил в Константинополе, принимал аспирин и хину. К тому же гостиница кишела вшами.
Утром, когда мадам Мари, большая, неряшливая хорватка, подала им завтрак, состоявший из кофе и кислого черного хлеба, Хемингуэй сказал ей про вшей. Она спокойно развела руками:
— Но это лучше, чем спать на дороге? Как вы считаете, мосье? Ведь лучше?
Пришлось с ней согласиться.
За окнами по-прежнему шел дождь. В конце грязной улицы видна была бесконечная процессия людей, медленно двигавшихся по каменистой дороге, проходившей через Адрианополь, через долину реки Марицы до Карагача и там разветвлявшейся на множество дорог, ведущих в Македонию.
Шорти со своей компанией уезжал на машине обратно в Родосто и дальше в Константинополь, они подвезли Хемингуэя часть пути по дороге, запруженной беженцами. Он прошел с беженцами пять миль.
В тот же день он записал все, что видел:
«Нескончаемый, судорожный исход христианского населения Восточной Фракии запрудил все дороги к Македонии. Основная колонна, переправляющаяся через Марицу у Адрианополя, растянулась на двадцать миль. Двадцать миль повозок, запряженных коровами, волами, заляпанными грязью буйволами; измученные, ковыляющие мужчины, женщины и дети, накрывшись с головой одеялами, вслепую бредут под дождем вслед за своими жалкими пожитками. Этот главный поток набухает от притекающих из глубины страны пополнений. Никто из них не знает, куда идет. Они оставили свои дома, и селения, и созревшие, буреющие поля и, услышав, что идет турок, присоединились к главному потоку беженцев. И теперь им только и остается, что держаться в этой ужасной процессии, которую пасут забрызганные грязью греческие кавалеристы, как пастухи, направляющие стада овец.
Это безмолвная процессия. Никто не ропщет. Им бы только идти вперед. Их живописная крестьянская одежда насквозь промокла и вываляна в грязи. Куры спархивают с повозок им под ноги. Телята тычутся под брюхо тягловому скоту, как только на дороге образуется затор. Какой-то старый крестьянин идет, согнувшись под тяжестью большого поросенка, ружья и косы, к которой привязана курица. Муж прикрывает одеялом роженицу, чтобы как-нибудь защитить ее от проливного дождя. Она одна стонами нарушает молчание. Ее маленькая дочка испуганно смотрит на нее и начинает плакать. А процессия все движется вперед».
Он пересек мост через Марину — там, где накануне было сухое русло, забитое телегами беженцев, на четверть мили шириной несся кирпично-красный поток, — и повернул обратно в гостиницу мадам Мари, чтобы записать там все, что увидел. Телеграф не работал — все провода были оборваны. В конце концов он нашел итальянского полковника, который возвращался в Константинополь с союзной комиссией, и тот обещал ему отправить эту телеграмму на следующий же день.
Вечером у них произошел любопытный разговор с мадам Мари. Малярия трепала его еще сильнее, и хозяйка принесла ему бутылку тошнотворно сладкого фракийского вина — запивать хинин.
— Я не боюсь, что турки придут, — заявила мадам Мари.
— Почему? — спросил Хемингуэй.
— Вое они одинаковые. И греки, и турки, и болгары. — Она приняла стакан вина, который он ей предложил. — Я всех их видела. Все они владели Карагачем.
— И кто же лучше?
— Никто. Все они одинаковые. Сейчас здесь спят греческие офицеры, потом придут турецкие офицеры. Когда-нибудь вернутся греческие офицеры. Все они платят мне.
— А бедные люди, которые сейчас на дороге? — спросил он, не в состоянии избавиться от кошмара, который видел в тот день.
— Перестаньте, — пожала плечами мадам Мари, — с народом всегда так поступают. Вы знаете, у турок есть пословица. У них есть хорошие пословицы. «Виноват не только топор, но и дерево».
Последнюю статью, в которой он изложил все, что увидел в Адрианополе, он написал в поезде и отправил в Торонто, проезжая через Софию.
«В комфортабельном поезде, когда ужасы эвакуации из Фракии позади, — писал он, — все виденное уже начинает казаться нереальным. Это преимущество нашей памяти.
Из Адрианополя я уже писал об эвакуации. Не нужно возвращаться к этому опять. Эвакуация все еще продолжается. Не важно, сколько времени потребуется этому письму, чтобы дойти до Торонто; когда вы будете читать его в «Стар», вы можете быть уверены, что та же ужасающая, волочащаяся процессия людей, изгнанных из своих домов, продолжает непрерывной лентой двигаться по дороге в Македонию. Нужно очень много времени, чтобы ушло четверть миллиона людей».
Через Триест он вернулся в Париж. Осенний сезон был в разгаре, скачки в Отейле были особенно хороши, в кафе можно было встретить кучу знакомых, а он не мог отделаться от своих воспоминаний. Память о человеческих страданиях терзала его.
Спустя 30 лет Хемингуэй писал: «Я помню, как я вернулся домой с Ближнего Востока с совершенно разбитым сердцем и в Париже старался решить, должен ли я посвятить всю свою жизнь, пытаясь сделать что-нибудь с этим, или стать писателем. И я решил, холодный, как змий, стать писателем и всю свою жизнь писать так правдиво, как смогу».
Вот он — ключ к общественной и творческой позиции Хемингуэя, заповедь, которой он уже не изменял никогда.
Он хотел помочь людям, хотел бороться против подавления человеческой личности, против превращения человека в удобрение для истории.
Можно смело утверждать, что ни одна журналистская командировка Хемингуэя не дала для его становления как писателя так много, как поездка на Ближний Восток. Впечатления, вынесенные им из этой поездки, послужили ему материалом для лучших рассказов его первой книги. Не случайно Хемингуэй говорил впоследствии своему другу Малькольму Каули, что он «по-настоящему узнал про войну» на Ближнем Востоке. Эти впечатления очень помогли ему при работе над романом «Прощай, оружие!» — не увидев своими глазами, что такое отступление разбитой армии, он вряд ли смог бы с такой силой и достоверностью описать отступление итальянской армии под Капоретто.
ГЛАВА 9 ЛОЗАННА
Все они хотят мира. — Что такое мир?
Э. Хемингуэй, Из стиховИтак, он опять был в Париже, стояла прекрасная осень, и было много развлечений. О своих переживаниях и впечатлениях после Ближнего Востока он никому не рассказывал.
Впрочем, в Париже ему удалось провести всего несколько недель. Новая телеграмма Джона Боуна предлагала ему выехать в Лозанну, где собиралась международная конференция, которой предстояло урегулировать греко-турецкий конфликт.
Из Лозанны он чуть было не уехал уже к концу первой недели своего пребывания там. Как он объяснил своему знакомому Генри Уэлсу, который был в Лозанне корреспондентом чикагской «Трибюн», «для него расходы в Швейцарии слишком велики». Стоимость жизни там действительно была довольно высокой, а условия, на которых он работал в «Стар», довольно тяжелыми — путевые издержки и гонорар за статьи он получал только после их опубликования. Да и обстановка на Лозаннской конференции была для корреспондентов неблагоприятна. Началось с того, что их не допустили на открытие конференции, состоявшееся 20 ноября 1922 года в лозаннском казино. Их также не допустили в здание в Уши, куда переехала конференция для дальнейшей работы.
Но главным для него был вопрос денег. По счастливой случайности Генри Уэлс сумел ему помочь. Через час после разговора с Хемингуэем его вызвал по телефону из Парижа Чарльз Бертелли, руководитель парижского отделения херстовского агентства Юниверсал Пресс, и, сказав, что не сможет сам присутствовать на конференции, попросил Уэлса найти кого-нибудь, кто мог бы давать ежедневную информацию для Юниверсал Пресс. Уэлс немедленно нашел Хемингуэя и предложил ему связаться по телефону с Бертелли.
Договоренность была тут же достигнута. Как вспоминал в 1952 году Бертелли, «я был перегружен работой, поэтому нам был нужен кто-то, кто снабжал бы нас материалами, и этим человеком оказался Хемингуэй». Его работа для Юниверсал Пресс, по словам Бертелли, «заключалась только в коротких телеграммах с сообщениями о новостях, никаких описаний и ничего длинного, требующего подписи известного писателя».
Бертелли интересовали главным образом пресс-конференции и ежедневные коммюнике. На основании их Бертелли в Париже составлял полный отчет и передавал его в Нью-Йорк.
С такой механической газетной работой Хемингуэй столкнулся впервые. Здесь не было места личным впечатлениям, которые он до сих пор посылал в свою торонтскую газету, возможности излагать собственные взгляды, тренировать себя на сжатых, но выразительных описаниях. Это была газетная рутина в ее чистом виде. Хемингуэй говорил впоследствии об этой работе как об очень утомительной.
На Лозаннской конференции, как писал корреспондент «Нейшн» Ладуэлл Денни, был установлен «абсолютный контроль над источниками новостей». Главы делегаций, за исключением Чичерина, прибывшего в Лозанну только в декабре, пресс-конференций не устраивали. А интервьюировать второстепенных делегатов не имело никакого смысла, так как они, по словам Денни, «так же как и журналисты, не знали, что происходит в комнате лорда Керзона», возглавившего английское правительство после Ллойд Джорджа, на которого взвалили всю ответственность за провал английской политики в греко-турецком конфликте.
Ежедневно в полдень Хемингуэй в числе других корреспондентов спешил в бар огромного отеля «Бо-Риваж» на берегу Женевского озера, где размещались английская и итальянская делегации, и выслушивал подготовленные для печати тексты, которые зачитывал секретарь английской делегации. В них излагались тщательно отредактированные формулировки, отражавшие английскую точку зрения. После этого нужно было спешить в город, в отель «Палас», чтобы там выслушать французское и турецкое коммюнике.
«Так как каждая страна стремилась выдать свою версию того, что происходит, раньше, чем поверят версии другой страны, — объяснял впоследствии Хемингуэй, — то эти пресс-конференции в спешке следовали одна за другой, и надо было поторапливаться, чтобы поспеть на все».
Обычно он отправлял последнюю телеграмму в три часа ночи и оставлял еще одну швейцару гостиницы, где он жил, чтобы тот «отправил ее при открытии телеграфа в семь утра».
В «Торонто стар» он за все время послал только два очерка. И тем не менее оба эти очерка свидетельствуют о том, насколько вырос этот двадцатитрехлетний журналист, как свободно разбирался он в сложнейших вопросах международной политики, как четко определились его политические симпатии и антипатии.
В то время как большинство буржуазных газет захлебывалось в антисоветском лае, Хемингуэй писал о советской делегации и ее позиции с пониманием и симпатией. Один очерк из двух, отосланных в Торонто, он посвятил Чичерину, который интересовал его и как личность, и как представитель нового государства. Хемингуэй старался объективно изложить позицию советской делегации, противопоставляя ее захватнической позиции английской дипломатии.
Еще более четко и недвусмысленно проявилась политическая позиция Хемингуэя по отношению к итальянскому фашизму и лично к Муссолини. На Лозаннской конференции Италию представлял уже новый фашистский диктатор. За полгода до конференции состоялся фашистский «поход на Рим», и перепуганный король Виктор Эммануил вручил судьбу итальянского государства в руки Муссолини. Лозанна была первым международным дебютом дуче.
Хемингуэй не пожалел сарказма на описание первой пресс-конференции Муссолини. На нее собрались все корреспонденты, бывшие в Лозанне. Они вошли в комнату, где за письменным столом сидел Муссолини. Он читал книгу.
«На лбу его пролегали знаменитые морщины. Он разыгрывал Диктатора. Сам в прошлом газетчик, он знал, до скольких читателей дойдет то, что сейчас напишут о нем вот эти люди. И он не отрывался от книги. Мысленно он уже читал строчки в двух тысячах газет, которые обслуживались этими двумястами журналистами. «Когда мы вошли, Чернорубашечный Диктатор не поднял глаз от книги, так велика была его сосредоточенность, и т. д.».
Хемингуэй на цыпочках зашел к нему за спину, чтобы разглядеть, какую это книгу он читает с таким неотрывным интересом. Это был французско-английский словарь, и держал он его вверх ногами.
Хемингуэй написал о фашистском диктаторе с беспощадной точностью. Эту оценку, данную двадцатитрехлетним журналистом, ему никогда не пришлось пересматривать.
«Муссолини, — писал он, — величайший шарлатан Европы. Хотя бы он схватил меня и расстрелял завтра на рассвете, я все равно остался бы при этом мнении. Самый расстрел был бы шарлатанством. Как-нибудь возьмите хорошую фотографию синьора Муссолини и попристальней вглядитесь в нее, вы увидите, что у него слабый рот, и это заставляет его хмуриться в знаменитой гримасе Муссолини, которой подражает каждый девятнадцатилетний фашист в Италии. Приглядитесь к его биографии. Вдумайтесь в компромисс между капиталом и трудом, каким является фашизм, и вспомните историю подобных компромиссов. Приглядитесь к его способности облачать мелкие идеи в пышные слова. К его склонности к дуэлям. По-настоящему храбрым людям незачем драться на дуэли, но это постоянно делают многие трусы, чтобы уверить себя в собственной храбрости. И наконец, взгляните на его черную рубашку и белые гетры. В человеке, носящем белые гетры при черной рубашке, что-то неладно даже с актерской точки зрения».
В ту пору было модно сравнивать Муссолини с Наполеоном — ему это бесконечно льстило. Хемингуэй же написал, что Муссолини гораздо больше напоминает Боттомли, чем Наполеона. Это был английский финансист, член парламента, владелец крайне националистического журнала «Джон Буль», красноречивый демагог, постоянно выступавший с ура-патриотическими речами и статьями. Как раз в том году Боттомли был осужден на семь лет за злоупотребление общественными средствами. Сравнение было убийственным. И в то же время Хемингуэй не преуменьшал опасности фашизма. Он писал, что Муссолини все же не совсем похож на Боттомли.
«Боттомли был дурак. А Муссолини не дурак и хороший организатор. Но очень опасно организовать патриотизм нации, если сам он неискренен, особенно же опасно взвинчивать их патриотизм до такого накала, что они добровольно ссужают деньги правительству без всякого процента».
Вот с этой поры Хемингуэй и стал убежденным и непримиримым антифашистом. И поэтому, когда в 1940 году Арчибальд Мак-Лиш упрекнул Хемингуэя в безразличии к политической деятельности, Хемингуэй с полным основанием заявил: «Сражаясь с фашизмом всюду, где можно было реально воевать с ним, я не испытывал никаких сожалений — ни литературных, ни политических».
Этими двумя статьями, весьма показательными для становления политического самосознания Хемингуэя, ограничилась его работа для «Торонто стар» в период Лозаннской конференции. В остальном работа сводилась к неинтересным для него телеграммам в Юниверсал Пресс. Для себя он за это время написал только небольшую поэму под характерным названием: «Все они хотят мира. — Что такое мир?» Он съездил на день в Париж, виделся там, между прочим, с Гертрудой Стайн и довольно долго с ней беседовал. Возвращаясь ночным поездом в Лозанну, он думал о том, что утром опять должен послать телеграмму в Юниверсал Пресс, и, сидя за бутылкой Боне в вагоне-ресторане, попытался записать для себя характеристику конференции. Эта характеристика неожиданно вылилась в стихи. Верный своему ощущению, он назвал в этой поэме Муссолини «темной личностью».
Работы было, конечно, много, но ею отнюдь не ограничивались дни в Лозанне. Стояла отличная погода, по утрам Хемингуэй боксировал, обычно с Прайсом, корреспондентом лондонской «Дейли мейл», по вечерам журналисты, как правило, собирались в баре, выпивали, рассказывали друг другу всевозможные байки о своей газетной работе.
Среди этой веселой и циничной братии был один человек, знакомство с которым оказало немалое влияние на молодого Хемингуэя. Это был уроженец Южной Африки, корреспондент английской газеты «Манчестер гардиан» Уильям Болито Райалл. Впоследствии он стал известен как писатель под фамилией Болито. Современники вспоминают о нем как о человеке блестящем, необыкновенно острого и ироничного ума. Сам Хемингуэй писал о нем впоследствии: «Я никогда не видел его с тех пор, как он стал Болито, но, когда он был Райаллом, он был замечательным парнем. Может быть, он стал еще более блестящим, когда стал называться Болито, но я не представляю себе, возможно ли это». В устах Хемингуэя, который вообще был скуп на похвалы, это высочайшая оценка. При этом он написал о Болито следующие, очень важные для него самого слова: «Никто из нас не смотрел на него, как на гения, и я не думаю, что он сам думал о себе так, будучи слишком занятым, слишком интеллигентным и к тому же слишком ироничным, чтобы считать себя гением в городе, где их было тринадцать на дюжину и где гораздо важнее было упорно трудиться». Речь шла о Париже, где они продолжали встречаться.
Болито был старше Хемингуэя и гораздо опытнее, причем его личный опыт был таков, что не мог не вызывать интереса и восхищения у Хемингуэя. Болито был боевым офицером во время мировой войны, где был тяжело ранен. Потом он служил в английской разведке и в период Версальской конференции «занимался, — как писал Хемингуэй, — раздачей определенных денежных сумм, которые англичане тратили на субсидирование определенных лиц и органов французской прессы», — то есть, проще говоря, занимался подкупом в интересах английской разведки и дипломатии. Поэтому он, как никто, знал закулисную сторону международной политики, все ее тайные ходы, закоулки и извивы.
Судя по всему, Болито был человеком радикальных убеждений. Об этом, в частности, свидетельствует рассказ известного журналиста Уолтера Дюранти о пребывании Болито в Руре в 1920 году. В качестве корреспондента «Манчестер гардиан» Болито находился в городке Альтен-Эссен, неподалеку от основных крупповских заводов. В этом городке был штаб революционных красных отрядов, у которых были там довольно сильные позиции. Остальная часть Рура находилась в руках реакционных войск, намеревавшихся уничтожить восставших рабочих. Болито придумал выход и целую ночь просидел с красными лидерами, убеждая их.
— Петля вокруг вас затягивается, — говорил он, — но у вас есть еще 48 часов, чтобы действовать. Пошлите немедленно Шейдеману ультиматум: если он не согласится на определенные экономические и политические условия и, естественно, не даст гарантию безопасности для всех вас, вы взорвете все шахты и заводы в районе, который вы контролируете. И потом, не ожидая его ответа, немедленно взорвите какую-нибудь маленькую шахту или заводик, чтобы показать ему, что вы не шутите.
— Вы думаете, они это сделали? — с отвращением рассказывал Болито через два дня, когда они встретились с Дюранти в Дюссельдорфе. — Конечно, нет. В Германии не будет красной революции, потому что они слишком уважают частную собственность. Они этого не сделали, они предпочли поверить слову Шейдемана, что с ними обойдутся справедливо. Справедливо! — добавил он с горечью. — Их расстреляли по приговору военного суда раньше, чем я успел покинуть город.
Таков был этот Уильям Болито Райалл. Хемингуэю он успел преподать в Лозанне неплохой курс политических наук.
Он безжалостно разрушал пышные фасады таких уважаемых зданий, как демократия, общественное мнение, словно хирург скальпелем снимал покровы и обнажал прогнившие ткани буржуазного государства.
— Не забывайте, — обычно говорил он, — что большинство людей и большинство мнений по любому вопросу почти всегда ошибочны; не всегда, но почти всегда; и если вы сомневаетесь и не можете принять решение, но должны принять его, есть всегда основания полагать, что вы будете правы, приняв решение, противоположное мнению большинства. Все эти разговоры о «демократии», и о «Суверенном Народе», и о том, что глас народа — глас божий, — все это шуточки хитрых демагогов, чтобы обмануть массы. Почитайте книгу Густава Ле Бож о психологии масс, и вы будете знать подлинную цену так называемому общественному мнению.
В течение двух месяцев каждый вечер они проводили вместе. С блеском разбрасывая парадоксы, Райалл рассказывал случаи из своей богатой журналистской практики, а Хемингуэй больше слушал.
Накануне закрытия конференции произошел случай, о котором немало судачили в журналистских кругах. Когда все уже было как будто договорено и турки соглашались подписать мир, они пригласили лорда Керзона на обед. И тот ответил словами, которые тут же стали известны турецкой делегации: «Мой долг вынуждает меня вести с ними переговоры на этой конференции. Но этот долг не требует от меня, чтобы я садился за один стол с невежественными анатолийскими крестьянами». В результате турки, естественно, смертельно обиделись, и подписание договора сильно затянулось.
Когда журналисты за ужином обсуждали это происшествие, Райалл принялся развивать идею о том, что власть сама по себе обладает определенными свойствами и с какими бы хорошими намерениями человек ни приходил к власти, власть неизбежно испортит его, заставив поступать вразрез с лучшими нравственными идеалами, которые он исповедует. А власть имущий всегда сам найдет — или услужливые люди подскажут ему — оправдание самым грязным и самым безнравственным поступкам. Райалл утверждал, что симптомы этой болезни рано или поздно проявляются у всех людей, облеченных властью. Он приводил множество примеров. В частности, ссылался на президента Вильсона.
Хемингуэй спросил его, что он думает в связи с этим о Клемансо. Болито ответил, что если бы Хемингуэй знал Клемансо получше, он не так преклонялся бы перед ним. Он говорил о том, что в молодости Клемансо был большим задирой и убивал людей без всякой причины на дуэлях, а когда он, уже старым человеком, получил во время войны власть, он всех своих старых политических противников посадил в тюрьмы, расстрелял или выслал, заклеймив их как предателей.
Идол был повергнут. Хемингуэй запомнил слова Райалла о Клемансо и много лет спустя в статье «Старый газетчик», написанной в 1934 году, за год до статьи, в которой он вспоминал о Райалле и приводил разговор с ним в Лозанне о Клемансо, расправился со своим бывшим кумиром. Он писал о том, как Клемансо, взяв власть в руки, «расстрелял или терроризировал всех своих старых политических противников», «казнил бог весть сколько солдат, которые умирали в Венсенне без огласки, привязанные к столбам перед карательными взводами».
«Тот, кто видел, — писал Хемингуэй, — как по приказу Клемансо республиканская гвардия в блестящих кирасах и хвостатых касках на широкогрудых, тяжелоногих, крепко подкованных лошадях атаковала и топтала шествие инвалидов войны, которые были уверены, что «старик» никогда не тронет их, любимых его poilus; тот, кто видел блеск сабель и рысь, переходящую в галоп, и опрокинутые кресла-каталки, и людей, выкинутых из них на тротуар и не способных двинуться, сломанные костыли, мозги и кровь на камнях мостовой, железные подковы, выбивающие искры из булыжника и глухо топчущие безногих и безруких людей и бегущую толпу, — кто видел все это, для того ничего нового не было в том, что Гувер направил войска, чтобы рассеять голодный поход ветеранов».
Эти идеи Болито Райалла ложились на уже хорошо подготовленную почву. Небольшой личный опыт Хемингуэя подсказывал ему сходные выводы.
Впоследствии, в 1935 году, Хемингуэй написал о Болито: «Поскольку я тогда был мальчишкой, он объяснил мне множество вещей, ставших началом всего моего образования в области международной политики».
Болито, хотя сам был выдающимся журналистом, поддерживал и укреплял в своем молодом коллеге убеждение, что от газетной работы надо вовремя отказаться. Уолтер Дюранти вспоминает его слова: «Смените газетную игру на то, что мы умеем делать, а именно писать. Писать книги, пьесы, все, что вы можете. Превращайте в капитал ваши знания, и опыт, и способность писать на бумаге слова так, чтобы это было интересно читателю». Он часто возвращался к этой теме, приводя многочисленные примеры того, как кончают стареющие газетные репортеры. «Мне не важно, — говорил он, — будет ли это документальная вещь или художественное произведение, но это должно быть сделано, если вы не хотите закончить… как выжатый репортер, выпрашивающий выпивку и мелкие поручения у своих молодых друзей».
Такой же совет давала Хемингуэю и Гертруда Стайн, но в устах известного журналиста это пожелание выглядело особенно убедительным.
На Лозаннской конференции Хемингуэй встретился еще с одним выдающимся журналистом, обладавшим к тому времени уже мировой известностью, который отнесся к нему очень внимательно и разглядел в нем талант писателя, — с Линкольном Стеффенсом.
Линкольн Стеффенс прославился в Америке как «разгребатель грязи» — в течение многих лет он разоблачал коррупцию, царившую среди администрации городов и штатов. Он являл собой тип либерала девятнадцатого века, воюющего в одиночку с язвами капиталистического общества.
Хемингуэй знал, что встретит в Лозанне Стеффенса, ему очень хотелось познакомиться с ним, и в надежде на это он захватил с собой в Лозанну лучшие свои корреспонденции, чтобы при случае показать Стеффенсу и услышать мнение знаменитого журналиста.
Стеффенс был не просто хорошим журналистом, это был человек думающий, старавшийся доискаться первопричин явлений, осмыслить происходящие события. Его, в частности, искренне волновало настроение умов среди молодежи. В своей «Автобиографии» он писал, что был поражен тем, что в Европе после войны ничего не изменилось, никто ничему не научился. «Я видел государственных деятелей и финансистов, — писал он, — теперь я общался с художниками, писателями, и это была та же самая картина — никто не задумывался о войне, которая потрясла нас, не задавался вопросом, почему это произошло, никто не думал о том, как предотвратить новую войну. Горечь, цинизм, пьянство, секс — в избытке, но не наука. Революционный дух был, но он обратился в область искусства, морали, поведения. Война возымела свое действие но не на умы людей, а на их эмоции».
Линкольну Стеффенсу, естественно, было интересно поговорить с таким представителем этого загадочного поколения, как молодой американец, прошедший войну и тяжело на ней раненный, живущий в Париже в окружении той богемы, которая испугала Стеффенса своим цинизмом и нежеланием задумываться над судьбой мира, к тому же человек, решивший стать писателем.
Однажды в Лозанне Хемингуэй пришел к Стеффенсу и попросил почитать его корреспонденции. Стеффенс вспоминал в своей «Автобиографии»: «Он только что перед этим вернулся с фронта войны, где наблюдал исход греческих беженцев из Турции, и его депеша сжато и ярко передавала все детали этого трагического потока голодных, перепуганных, отныне бездомных людей. Я словно сам их увидел, читая строки Хемингуэя, и сказал ему об этом. «Нет, — возразил он, — вы читаете код. Только код. Ну разве это не замечательный язык?» Он не хвастал — так оно и было. Я припоминаю, что он сказал: «Я должен бросить заниматься журналистикой. Я слишком увлекаюсь жаргоном телеграфа».
В молодом журналисте было нечто такое, что заинтересовало Стеффенса, не говоря уже о впечатлении, которое произвел на него очерк Хемингуэя о беженцах. Он попросил Хемингуэя дать ему прочитать и другие его корреспонденции и рукописи рассказов, которые, по словам Хемингуэя, неукоснительно отвергали все журналы.
У Хемингуэя оказалась с собой рукопись рассказа «Мой старик», и он дал его прочитать Стеффенсу. Рассказ Стеффенсу понравился, он убедил его, что у Хемингуэя, как писал впоследствии Стеффенс, «есть будущее». Более того, Стеффенс послал этот рассказ своему знакомому Рею Лонгу в журнал «Космополитен».
Видимо, в это время Хемингуэй начал в свободные минуты работать над серией коротких записей, «сильных и горьких, как ночные письма», как назвал их американский критик Карлос Бейкер.
Он взял наиболее нравившуюся ему корреспонденцию об исходе беженцев из Анатолии и попробовал сократить и обработать ее так, чтобы, опустив все лишнее, постараться передать свои ощущения от этого зрелища и вызвать аналогичные ощущения и те же мысли у читателей. Из очерка получилась миниатюра всего в 13 строк. Он убрал эпитеты, общие места, сконцентрировал внимание на фигуре рожающей женщины. И вдруг понял, что материал этот обрел новое качество — он перестал быть очерком, описанием, появилось изображение. Пожалуй, это было то, чего он добивался.
Он попытался также записать коротко и выразительно кое-что из рассказов Чинка Дорман-Смита о битве при Монсе и о других эпизодах его пребывания на фронте во Франции. Он ставил перед собой задачу передать характерный жаргон английского офицера, сохранив тем самым элемент личного восприятия факта конкретным человеком.
Так появились на свет миниатюры: «Все были пьяны. Пьяна была вся батарея, в темноте двигавшаяся по дороге. Мы двигались по направлению к Шампани…»; «Мы попали в какой-то сад в Монсе…»; «Жара в тот день была адова. Мы соорудили поперек моста совершенно бесподобную баррикаду…»
Он не собирался писать больших рассказов о человеке на войне, вероятно, потому, что чувствовал себя еще не готовым к этому. Пока что он стремился запечатлеть отдельные моменты, словно выхваченные лучом прожектора из темноты войны. Смерть, ставшая на войне обычным, естественным делом, бытом, непреложным фактом бытия людей, брошенных в эту мясорубку, человек перед лицом смерти — вот что его волновало.
Как-то в Париже он встретил своего старого знакомого по Ближнему Востоку, кинооператора Шорти Ворналла, и тот рассказал Хемингуэю заключительный эпизод греческой трагедии, свидетелем которого Ворналл оказался в Афинах 28 ноября 1922 года, через месяц после того, как Хемингуэй уехал из Турции в Париж, — расстрел шести греческих министров. Рассказ этот поразил Хемингуэя, и теперь он решил сделать из этого короткую миниатюру:
«Шестерых министров расстреляли в половине седьмого утра у стены госпиталя. На дворе стояли лужи. На каменных плитах было много мокрых опавших листьев. Шел сильный дождь. Все ставни в госпитале были наглухо заколочены. Один из министров был болен тифом. Два солдата вынесли его прямо на дождь. Они пытались поставить его к стене, но он сполз в лужу. Остальные пять неподвижно стояли у стены. Наконец офицер сказал солдатам, что поднимать его не стоит. Когда дали первый залп, он сидел в воде, уронив голову на колени».
Это предельно лаконичное изображение убийства, лишенное, казалось бы, всякой эмоциональной авторской окраски, не может оставить читателя равнодушным — оно рождает ужас перед этой почти протокольно изложенной картиной убийства.
Хемингуэй знал, что Маргарет Андерсон — основательница и редактор влиятельного журнала «Литл ревью», которая переезжала из Чикаго в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Париж вслед, за писателями, печатавшимися у нее, — готовит специальный номер журнала, посвященный творчеству молодых американских писателей, обосновавшихся в Париже. Хемингуэй был приглашен участвовать в этом номере. Эти шесть миниатюр он послал в «Литл ревью».
Между тем подходили рождественские каникулы, и в работе конференции должен был быть устроен перерыв. Хемингуэй решил провести эти каникулы вместе с Хэдли в горах и предложил ей приехать в Лозанну.
Когда он встретил ее на вокзале, он сразу понял, что случилось несчастье. Она плакала навзрыд и не могла выговорить ни слова.
В книге «Праздник, который всегда с тобой» он вспоминал об этом:
«Сначала она только плакала и не решалась сказать. Я убеждал ее, что как бы ни было печально случившееся, оно не может быть таким уж страшным и, что бы это ни было, не надо расстраиваться, все уладится. Потом, наконец, она все рассказала».
Оказалось, что Хэдли решила сделать ему сюрприз и привезти в Швейцарию все его рукописи, включая главы неоконченного романа. Как впоследствии она объясняла, «Эрнест так хвалил в письмах Линкольна Стеффенса, своего нового друга, что я была уверена, что ему захочется показать Стеффенсу эти главы». Кроме того, она хотела дать Эрнесту возможность поработать над ними во время отдыха в горах. При этом она уложила в чемодан все оригиналы и машинописные экземпляры со всеми копиями. В этом чемодане оказалось все написанное им с 1919 года, включая то, над чем он работал еще в Мичигане.
На Лионском вокзале, оставив чемодан в купе поезда, она вышла купить бутылку минеральной воды. Когда она вернулась, чемодана не было — его украли.
«Я не мог поверить, — вспоминал Хемингуэй, — что она захватила и все копии, подыскал человека, который временно взял на себя мои корреспондентские обязанности, сел в поезд и уехал в Париж, — я тогда неплохо зарабатывал журналистикой. То, что сказала Хэдли, оказалось правдой, и я хорошо помню, как провел ту ночь в нашей квартире, убедившись в этом».
Он нашел там рукопись только одного-единственного рассказа — «У нас в Мичигане». Он был написан, вспоминал Хемингуэй, «до того, как у нас в доме побывала мисс Стайн. Я так и не перепечатал его на машинке, потому что она объявила его inaccrochable. Он завалялся в одном из ящиков стола».
Удар был тяжелым. Хэдли впоследствии писала: «Мне кажется, что Эрнест так и не оправился от этого удара». Сама она была в отчаянии и никак не могла простить себе своего проступка. «Но ведь вы женитесь на женщине, — писал много лет спустя Хемингуэй, — не за ее способности хранить рукописи, и мне на самом деле было больнее видеть, как она ужасно переживает это, чем потеря всего, что я успел написать. Она была прелестная и верная женщина, которой не везло с рукописями. Сохранился один рассказ. Он назывался «Мой старик». Линкольн Стеффенс послал его в журнал, откуда рассказ был возвращен. Он стал моим единственным литературным капиталом. Мы так его и называли «Das Kapital».
Рождественские каникулы они все-таки провели в Альпах. Здесь их встретил Чинк Дорман-Смит, и они очень мило провели время — катались на лыжах, по вечерам пили горячий кирш, и Эрнест старался забыть о своей потере.
Сюда ему переслали письмо от Агнессы фон Куровски. Она писала, что после того, как пришла в себя от удивления, получив его письмо, она поняла, что это самый радостный день в ее жизни. «Ты знаешь, — писала она, — я всегда испытывала горечь от того, как кончилась наша дружба, особенно с того момента, когда я вернулась домой и Элзи Макдональд прочитала мне очень обидное письмо, которое ты написал ей обо мне… И все-таки я всегда знала, что все кончится хорошо и что это был лучший выход — и я уверена, что и ты так думаешь теперь, имея Хэдли… Как горда я буду когда-нибудь… сказать: «О, да. Эрнест Хемингуэй. Хорошо знала его во время войны». Я всегда знала, что ты пробьешься, и всегда приятно знать, что твое предположение оправдывается».
Январь 1923 года принес маленькую радость — вышел номер чикагского журнала «Поэтри», где были опубликованы шесть стихотворений Хемингуэя. Это была, по существу, первая публикация его литературных произведений.
Исследователи его творчества редко обращаются к стихам Хемингуэя, он вошел в литературу как один из крупнейших прозаиков века, не оставив никакого следа в поэзии. Однако биографы не могут пройти мимо его стихов, во-первых, потому, что в те годы становления он в равной степени писал и прозу и стихи, да и в зрелые годы иногда испытывал потребность выразить какие-то свои переживания в стихах, а во-вторых, потому, что эти стихи стали фактом его биографии, в них просвечивают его настроения, его мысли и чувства.
Эти мысли и чувства прежде всего обращены к судьбе его поколения, которое прошло через огонь мировой войны, и неизгладимая печать пережитого лежит на этом поколении, определяя его нелегкие и непростые пути в жизни. По существу, все главное, что он написал в своей жизни, было биографией его поколения, и первые эскизные наметки этой биографии проглядывают в его ранних стихах.
В этом плане очень характерно стихотворение «Эпиграф к главе», который, как справедливо отмечал И. Кашкин, «звучит действительно словно эпиграф для главы романа «Фиеста»:
Мы загадывали далеко, Но шли кратчайшим путем. И плясали под сатанинскую скрипку, Спеша домой помолиться, И служить одному господину ночью, Другому — днем.Здесь уже слышатся первые нотки темы «дня и ночи» — трагического разрыва между тем, как ощущает себя человек днем на людях и ночью, один на один с самим собой, своими мыслями, своим одиночеством. Через несколько лет в романе «Прощай, оружие!» его герой тененте Генри скажет: «Я знаю, что ночью не то же, что днем, что все по-другому, что днем нельзя объяснить ночное, потому что оно тогда не существует, и если человек уже почувствовал себя одиноким, то ночью одиночество особенно страшно».
Эти первые эскизы биографии поколения видны и в стихотворении о солдате, которое он с горькой издевкой назвал «Camps d'honneur» («Поля чести»):
Как умрет в бою солдат — В землю закопают, И крестов дощатых ряд Всех их отмечает. А пока с забитым ртом, Отползя в сторонку, Всю атаку под огнем Проторчит в воронке.Война помогла этому поколению избавиться от иллюзий, распознать и возненавидеть демагогию политических деятелей, обманывавших народы.
Среди других стихотворений в журнале «Поэтри» было опубликовано стихотворение «Рузвельт», посвященное бывшему президенту Теодору Рузвельту, давшему Америке и миру образец современной политической демагогии:
Рабочие верили, Что он борется с трестами, И выставляли в окнах его портрет. «Вот он бы показал бошам во Франции!» — Говорили они. Все может быть — Он мог бы сложить там голову, Может быть, Хотя генералы чаще умирают в постели, Как умер и он. И все легенды, порожденные им в жизни, Живут и процветают, И он не мешает им своим существованием.Тень войны лежит на хемингуэевском восприятии мира, и даже самое «личное» стихотворение, посвященное верной спутнице, портативной пишущей машинке «Корона», где он говорит о своих муках творчества, облекается в образы войны, и стихотворение получает название «Пулемет»:
Мельницы богов мелют медленно; Но эта мельница Дребезжит в механическом стаккато. Безобразная маленькая пехота мыслей Продвигается по трудной местности Под прикрытием единственного пулемета — Вот такой портативной «Короны».В январе Лозаннская конференция закончилась, и Эрнест с женой поехали в Италию, в Рапалло, где жил Эзра Паунд. Здесь они попали в знакомую обстановку споров о литературе и искусстве. Хемингуэй играл в теннис с Эзрой Паундом и художником Майком Стрэйтером, который незадолго до этого сделал рисунки к стихам Паунда, беседовал о литературе с Эдвардом О'Брайеном, американским издателем, выпускавшим ежегодно сборники «Лучшие рассказы года». О'Брайен спросил Хемингуэя, не может ли тот показать ему что-нибудь из своих рассказов. Пришлось объяснить ему, что все написанное за последние годы потеряно. В руках у Хемингуэя был его единственный «литературный капитал» — рассказ «Мой старик». В книге «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэй вспоминал об этом разговоре и, что еще важнее, о своих переживаниях в тот период:
«Это было скверное время, я был убежден, что никогда больше не смогу писать, и показал ему рассказ как некую диковину: так можно в тупом оцепенении показывать компас с корабля, на котором ты когда-то плавал и который погиб каким-то непонятным образом, или подобрать собственную ногу в башмаке, ампутированную после катастрофы, и шутить по этому поводу. Но когда О'Брайен прочитал рассказ, я понял, что ему больно даже больше, чем мне. Прежде я думал, что такую боль может вызвать только смерть или какое-то невыносимое страдание, но когда Хэдли сообщила мне о пропаже всех моих рукописей, я понял, что ошибался… Но теперь все это было уже позади, а Чинк научил меня никогда не говорить о потерях; и я сказал О'Брайену, чтобы он не принимал этого так близко к сердцу. Возможно, даже и лучше, что мои ранние рассказы пропали, и я утешал О'Брайена, как утешают солдат после боя. Я скоро снова начну писать рассказы, сказал я, прибегая ко лжи только ради того, чтобы утешить его, но тут же понял, что говорю правду».
В Рапалло у Эзры Паунда Хемингуэй познакомился и с Робертом Мак-Элмоном. Это была весьма примечательная фигура среди американских эмигрантов в Париже, занимавшихся литературой.
Роберт Мак-Элмон был младшим ребенком в семье «бродячего пастора», как он сам называл своего отца. Его ярко-голубые глаза выдавали его шотландско-ирландское происхождение. Решив стать писателем, он перебрался из штата Миннесота в Нью-Йорк, в Гринич Вилледж — район, где обитала писательская и художественная богема. Там он однажды встретил маленькую молчаливую англичанку с необыкновенными синими глазами, которую друзья называли Брайер. На следующий день они поженились. Мак-Элмон даже не знал, кто она и из какой семьи. Однако об этом браке моментально узнали репортеры, и через день Мак-Элмон выяснил из газет, что женился на дочери сэра Джона Эллермана, одного из крупнейших финансистов Англии. Сама Брайер предпочла ничего не говорить ни ему, ни родителям. Вскоре они перебрались в Париж, где Роберт собирался продолжать заниматься литературой.
В Париже Сильвия Бич познакомила его с Джойсом. Когда Мак-Элмон показал Джойсу свой первый сборник рассказов, Джойс спросил его: «Вы собираетесь печатать их через «Шекспира и компанию» или сами?» В эту минуту Мак-Элмон принял решение не обращаться за помощью к Сильвии Бич, а издать свои рассказы самому. В Нью-Йорке он вместе с Уильямом Карлосом Уильямсом в свое время создал нечто вроде издательства, названное ими «Контакт мувмент», которое выпустило два сборника. Теперь Мак-Элмон договорился с хозяином типографии в Дижоне, который печатал по заказу Сильвии Бич «Улисса», что тот после окончания работы над книгой Джойса будет печатать его сборник рассказов, названный Мак-Элмоном по предложению Джойса несколько иронически — «Опрометчивая связка».
На следующем сборнике своих рассказов он уже поставил марку «Контакт паблишинг компани» и стал считать себя издателем. Это имело неожиданный эффект — вскоре его комната в отеле Фойо была завалена рукописями его знакомых, они скапливались на стульях, в гардеробе, под постелью. Ему нравилось, что в нем нуждаются, его разыскивают.
Человек он был веселый и общительный, в любом обществе он оказывался центром внимания. Получалось так, что именно в том кафе или баре, где бывал в данное время Мак-Элмон, собиралась вся «Банда», как называл он шумную компанию писателей и художников, уехавших из Америки и нашедших себе пристанище в Латинском квартале Парижа.
Роберт Мак-Элмон так увлекся этой безалаберной ночной жизнью с шумными выпивками, бурными спорами об искусстве, делами своих друзей, что у него не хватало времени заниматься собственным творчеством. Сильвия Бич вспоминает такой характерный для Мак-Элмона эпизод. Однажды он сказал ей, что уезжает на юг Франции, чтобы найти там тихое место, где он сможет уединиться и работать. Вскоре она получила от него телеграмму: «Нашел подходящее место и спокойную комнату». А через некоторое время кто-то из общих друзей, приехавших с юга, рассказал ей: «Он живет в комнате над бистро, и вся компания собирается в этом бистро».
Идеи Мак-Элмона в области книгоиздательского дела достаточно полно характеризует объявление, которое он позднее — в январе 1924 года — поместил в первом номере журнала «трансатлантик ревью»: «С интервалом от двух недель до шести месяцев или шести лет мы будем издавать книги различных авторов, которых не хотят печатать другие издатели по коммерческим или правовым причинам. Каждая книга будет печататься тиражом только 300 экземпляров. Эти книги издаются просто потому, что они написаны, и они достаточно нам нравятся, чтобы выпустить их. Интересующиеся могут связаться с «Контакт паблишинг компани» по адресу: Париж, улица Одеон, 12». Это был адрес книжной лавки Сильвии Бич.
Таков был этот своеобразный человек, с которым познакомился Хемингуэй в Рапалло у Эзры Паунда. Мак-Элмон немедленно предложил Хемингуэю издать его книгу. Но печатать было почти нечего.
Из Рапалло они с Хэдли уехали в Доломитовые Альпы, в местечко Кортина д'Ампеццо, чтобы походить на лыжах. Там они провели несколько восхитительных недель.
Как всегда, он много читал. Чтение значило для него очень много.
«С тех пор как я обнаружил библиотеку Сильвии Бич, — вспоминал он в книге «Праздник, который всегда с тобой», — я прочитал всего Тургенева, все вещи Гоголя, переведенные на английский, Толстого в переводе Констанс Гарнет и английские издания Чехова… Открыть весь этот новый мир книг, имея время для чтения в таком городе, как Париж, где можно прекрасно жить и работать, как бы беден ты ни был, все равно что найти бесценное сокровище. Это сокровище можно было брать с собой в путешествия, и в городах Швейцарии и Италии, куда мы ездили… тоже всегда были книги, так что ты жил в найденном тобой новом мире: днем снег, леса и ледники с их зимними загадками и твое пристанище в деревенской гостинице «Таубе» высоко в горах, а ночью — другой чудесный мир, который дарили тебе русские писатели. Сначала русские, а потом и все остальные. Но долгое время только русские».
Новая телеграмма Джона Боуна опять прервала их отдых. Редакция требовала, чтобы он выехал, в Германию, в Рурскую область, и написал оттуда серию статей о результатах французской оккупации Рура.
ГЛАВА 10 РУР
Победитель не получает ничего.
Э. XемингуэйВооруженный уроками Уильяма Болито Райалла, Хемингуэй с полной серьезностью отнесся к новому заданию газеты. Он был в состоянии дать глубокий анализ европейской политики и рассказать о французской оккупации Рура в обстоятельной серии статей. Поэтому он не бросился ловить первый же поезд, отходящий в Кельн, а послал из Парижа три вступительные статьи, разъясняющие предысторию оккупации и политические обстоятельства, ей предшествующие и сопутствующие.
Первая из этих статей появилась в «Дейли стар» 13 апреля 1923 года под заголовком: «Победа без мира толкнула французов на оккупацию Рура».
«Чтобы писать о Германии, вы должны сначала написать о Франции. Есть волшебство в слове «Франция». В нем то же волшебство, что и в запахе моря, или в зрелище голубых холмов, или марширующих солдатах. Это очень древнее волшебство.
Франция огромная и прекрасная страна. Самая прекрасная страна из всех, какие я знаю. Невозможно писать без пристрастия о стране, которую любишь. Однако можно писать беспристрастно о правительстве этой страны. Франция отказалась в 1917 году заключить мир без победы. Теперь она обнаружила, что имеет победу без мира. Чтобы понять, почему это произошло, нужно бросить взгляд на французское правительство».
Далее Хемингуэй характеризовал «национальный блок», на который опиралось в парламенте тогдашнее французское правительство; особое внимание он обращал на роль роялистской партии.
Редактор «Дейли стар» Джон Боун сразу уловил масштабность задуманной Хемингуэем серии статей и решил сопроводить их рекламой погромче. В тот день, когда в «Дейли стар» появилась первая статья Хемингуэя о Германии, в воскресном издании «Стар уикли» была напечатана целая колонка, озаглавленная: «Кое-что об Эрнесте Хемингуэе, который раскрывает тайны Европы». В ней говорилось о его работе в качестве европейского корреспондента «Дейли стар», о его биографии. Читателей призывали следить за «этими чрезвычайно интересными статьями».
Следующая статья была опубликована 18 апреля и целиком была посвящена деятельности роялистской партии во Франции, ее фашистским молодчикам — «камелотам» и загадке растущего влияния роялистов на Пуанкаре. Хемингуэй описывал, в частности, скандал в палате депутатов, когда Андре Бертон обвинил Пуанкаре в том, что он является пленником главаря роялистов Леона Додэ, и заканчивал статью такими словами:
«В июле прошлого года в беседе с английскими и американскими журналистами, обсуждая ситуацию в Руре, Пуанкаре сказал: «Оккупация была бы бесполезной и абсурдной. Совершенно очевидно, что Германия может платить в настоящее время товарами и трудом». Тогда он был жизнерадостным Пуанкаре.
Между тем французское правительство истратило (по официальным данным) 160 миллионов франков на оккупацию, и рурский уголь обходится Франции 200 долларов за тонну».
Последнюю статью из этого вступительного цикла Хемингуэй открывал риторическим вопросом: «Что думает французский народ о Руре и о германской проблеме в целом?» — и в следующей фразе давал на первый взгляд несколько парадоксальный ответ: «Вы этого не узнаете, читая французские газеты». И далее, отнюдь не придавая своей статье излюбленного журналистами сенсационного характера, анализировал бесстрастно и точно истинное положение дел во французской прессе.
«Французские газеты торгуют своими страницами, отведенными для политических новостей, точно так же, как и страницами для рекламы. Это делается совершенно открыто, и все об этом догадываются.
…Правительство платит газетам определенную сумму, чтобы они печатали правительственные новости. Это рассматривается как правительственная реклама, и каждая большая французская ежедневная газета, как «Матэн», «Пти паризьен», «Эко де Пари», «Энтрансижан», «Тан», получает постоянную субсидию за публикацию правительственных новостей. Таким образом, правительство является самым крупным клиентом в части рекламы для газет… Если какая-нибудь из этих ежедневных газет отказывается печатать правительственные новости или начинает критиковать правительственную точку зрения, правительство прекращает выплату субсидии, и газета теряет свой самый крупный доход от рекламы. Вследствие этого большие парижские газеты всегда стоят за правительство, за любое правительство, которое находится у власти.
Когда одна из газет отказывается публиковать новости, поставляемые правительством, и начинает атаковать его политику, вы можете быть уверены в одном: что она отказалась от субсидии, только получив заверения в том, что получит другую, и весьма существенную, от нового правительства, которое наверняка придет к власти.
…Все европейские правительства имеют специальные секретные фонды для субсидирования газет. Иногда это приводит к поразительным случаям, как это было год назад, когда были опубликованы факты, свидетельствовавшие о том, что «Тан» получила субсидию на пропаганду от двух враждующих балканских государств и печатала попеременно их материалы под видом своих собственных корреспонденций».
Хемингуэй при этом ссылался на опыт своего друга Уильяма Болито Райалла, не называя его. В статье он упоминал «одного из своих лучших друзей, который в конце войны руководил английской пропагандой во французской прессе».
Свою поездку в Рур Хемингуэй тщательно продумал — он решил начать знакомство с оккупированной зоной, с города Оффенбурга, самой южной точки занятого французами района. Оттуда он намеревался проследовать через Карлсруэ во Франкфурт, Кельн и Дюссельдорф — по международной железнодорожной линии, проходившей через сердце оккупированной зоны.
В первой же статье, отправленной из Оффенбурга, он описал путешествие из Парижа в Страсбург. Уже в Париже выяснилось, что попасть в Германию не так-то просто. Немцы не хотели впускать к себе ни туристов, ни корреспондентов. «Откуда мы знаем, что вы не будете писать ложь о Германии?» — сказал ему германский консул, ставя, наконец, въездную визу на паспорт.
Холодным, серым, промозглым утром он приехал поездом в Страсбург. Поездов из Страсбурга в Германию не оказалось. Сторож объяснил ему, что лучше всего проехать на трамвае через Страсбург до Рейна, там перейти через мост в Германию, а из Коля рано или поздно будет военный поезд в Оффенбург. На передней площадке трамвая Хемингуэй пересек Страсбург. Трамвай ехал мимо остроконечных оштукатуренных домиков, окна которых были крест-накрест забиты большими досками, несколько раз пересекал петляющую по городу реку, вдоль берега которой сидели одинокие рыбаки, проезжал по широким современным улицам с большими немецкими магазинами, на которых были теперь новые французские вывески, обогнал длинную вереницу телег с провизией, которую везли на рынок, шел вдоль канала, по берегу которого две лошади медленно тянули баржу.
У большого уродливого железного моста через Рейн трамвай остановился. Хемингуэй вылез и, минуя двух французских сержантов, пешком вошел в Германию. Вокзал, когда-то оживленный, был совершенно пуст, билетные кассы заколочены, все было покрыто слоем пыли. Буфетчик на вокзале с грустью рассказал ему, что все фабрики закрыты. Угля нет. Поезда не ходят. Бывают только военные поезда, но ходят они нерегулярно. На стене висело меню, где были указаны цены: пиво — 350 марок стакан; вино — 500 марок стакан; бутерброд — 900 марок; завтрак — 3500 марок. — Хемингуэй вспомнил, что в июле прошлого года они с Хэдли платили здесь в лучшем отеле 600 марок за день.
За окном раздался пронзительный свисток. Хемингуэй заплатил буфетчику и вышел, чтобы сесть на воинский поезд в Оффенбург.
Оффенбург, расположенный в самой южной точке Французской зоны оккупации, оказался чистеньким, аккуратным городком, за которым возвышались холмы Шварцвальда, а по другую его сторону простиралась равнина Рейна. Французы оккупировали Оффенбург для того, чтобы держать под своим контролем международную железнодорожную линию, проходящую от Базеля в Швейцарии через Фрибург, Оффенбург, Карлсруэ, Франкфурт, Кельн и Дюссельдорф в Голландию. Немцы заявили, что оккупация Оффенбурга, расположенного в нескольких сотнях миль от Рура, является нарушением Версальского договора. Тогда французы выслали из города бургомистра и еще двести граждан, которые подписали протест. В ответ на это немцы объявили, что ни один поезд не пройдет через Оффенбург.
Хемингуэй постоял на мосту через железнодорожные пути — на север и на юг тянулись четырехколейные пути, покрывшиеся ржавчиной. Поезда вот уже два месяца останавливались за три мили южнее и севернее города, и пассажиров, если они были немцами, перевозили от поезда к поезду на автобусах, а если они были французы, им предоставлялась возможность идти эти шесть миль пешком вместе с их багажом. Ни один поезд с углем не прошел за эти два месяца через Оффенбург. Провал затеи с оккупацией Рура в целях выкачивания угля из Германии здесь на месте становился особенно очевидным.
До Ортенбурга, где можно было сесть на поезд, Хемингуэй добирался на попутной машине. По дороге он разговорился с шофером-немцем, и тот рассказал ему, что тяжело пострадал от газов в битве при Сомме. Рассказал и о своем брате, который тоже был поражен газом, на фронте, а теперь французы выгнали его с работы — он был сигнальщиком на железной дороге. Германское правительство платит ему его жалованье, но цены так растут, что прокормить семью на эти деньги он уже не может.
Эту поездку и свои впечатления от Оффенбурга Хемингуэй описал в статье, названной им «Коммерческая война».
Целую неделю скитался Хемингуэй в вагонах четвертого класса, останавливался в деревенских постоялых дворах, в гостиницах маленьких городов. Однажды ему пришлось семь часов простоять на ногах в битком набитом проходе вагона второго класса. Его интересовало экономическое положение различных слоев населения, их настроения, желания. За это время он поговорил в числе других с владельцем маленькой фабрики, с несколькими рабочими, с хозяином гостиницы, с профессором университета.
Все они жаловались на чудовищную инфляцию, на то, что стоимость жизни растет и никто, кроме спекулянтов, не может прокормить семью, объясняли ему, что на экономической разрухе наживаются крупные промышленники и банки.
Профессор сказал ему, что получает в месяц 200 тысяч марок. Можно подумать, что это вполне хорошая заработная плата. Но одно яйцо стоит 4 тысячи марок. Рубашка стоит 85 тысяч марок. Питаются они всей семьей из четырех человек только два раза в день.
— Мы можем полагаться теперь только на бога, — сказал профессор. — Мы, немцы, обычно полагались на бога и на правительство. Теперь мы более не можем полагаться на наше правительство.
Решив посмотреть, как живут те, кто наживается на страданиях народа, Хемингуэй во Франкфурте остановился в хорошей гостинице, где в холле, обставленном в восточном стиле, в глубоких креслах, окутанные голубоватым дымком сигар, наслаждались жизнью спекулянты. Он провел в гостинице ночь и половину дня. Счет составил 145 тысяч марок.
Статью об этих своих впечатлениях он отправил 22 апреля из Майнца и озаглавил ее «Как легко истратить миллион».
Далее его маршрут пролегал в Кельн. Из Висбадена он плыл по Рейну на грузовой барже мимо унылых коричневых холмов с разрушенными замками. Он подсчитал, что за 14 часов, пока они плыли по Рейну, им попалось только 15 барж, груженных углем. На всех них был французский флаг. Как тут было не вспомнить, что, когда он в прошлом сентябре плыл здесь на пассажирском пароходе, он наблюдал бесконечную вереницу таких барж, перевозивших уголь во Францию в качестве репараций. Теперь эти 15 барж являли собой жидкий ручеек угля, получаемого Францией в результате оккупации Рура.
Кельн выглядел преуспевающим городом. Сверкали витрины магазинов, улицы были чистыми, щеголеватые английские офицеры изящно двигались в толпе, одетые в зеленую форму немецкие полицейские неуклонно козыряли им. По вечерам немецкие дети танцевали на тротуарах под музыку, доносящуюся из окон офицерских клубов.
Эта благополучная картина могла обмануть туристов, которые путешествуют в скорых поездах, останавливаются в отелях, предназначенных для них господином Куком, не знают, как правило, ни одного языка, кроме своего собственного. Такой турист, приезжая в Германию, не видел никаких бедствий.
«Здесь нет попрошаек, — писал Хемингуэй в статье, отправленной им из Кельна 27 апреля. — Нет несчастных женщин и голодных детей, которые осаждали бы железнодорожные станции.
Турист уезжает из Германии, удивляясь, откуда все эти разговоры о голоде. Страна выглядит процветающей. А в Неаполе он видит толпы оборванных, грязных нищих, детей с больными глазами, толпу, которая выглядит голодной. Туристы видят профессиональных нищих, но они не видят дилетантов-голодающих.
На каждые десять профессиональных нищих в Италии приходится сто дилетантов-голодающих в Германии. Дилетант-голодающий не любит умирать от голода на глазах у публики.
Более того, никто не знает, что дилетант умирает от голода, пока его не находят. Обычно его находят в постели».
После этого горького пассажа Хемингуэй приводил в статье несколько характерных примеров того, как это происходит — как тихо голодают эти люди, стараясь в силу своей немецкой добропорядочности не привлекать внимания соседей и газет. Он подчеркивал, что все эти примеры взяты им из официального документа — обращения о помощи голодающим Кельна, подписанного английскими представителями.
Итоговой статьей, в которой он сформулировал свои выводы по поводу оккупации Рура, оказалась не последняя, десятая, статья этого цикла, а девятая. В ней он обратился к такому важному вопросу, как внутриполитическое положение в Руре.
«Ненависть в Руре вы ощущаете как некую действительную конкретную реальность. Она так же определенна, как неподметенные, измазанные угольной пылью тротуары Дюссельдорфа или длинные ряды грязных кирпичных домиков, где каждый в точности похож на соседний, в которых живут рабочие Эссена.
Немцы ненавидят не только французов. Они смотрят в сторону, когда проходят мимо французских постовых у почтовых контор, у городской ратуши около отеля Кайзергоф в Эссене, и глядят прямо впереди себя, встречая французских пуалю на улице. Но когда встречаются националисты и рабочие, они смотрят в лицо друг другу с ненавистью такой же холодной и основательной, как горы шлака позади литейных цехов фрау Берты Крупп.
Большинство рабочих Рура коммунисты. Рур всегда был самой красной частью Германии. Он был настолько красным, что до войны здесь никогда не расквартировывали воинские гарнизоны, потому что, во-первых, правительство не доверяло нраву населения, а во-вторых, боялось, что войска могут разложиться в этой коммунистической атмосфере».
Хемингуэй писал, что в первое время оккупации вспышка ненависти к французам привела к тому, что патриотические чувства взяли верх и рабочие Рура объединились с предпринимателями в поддержке правительства. Теперь этот недолгий период национального единения оказался позади, и рабочие опять стали выступать со своими классовыми требованиями. Предприниматели же стараются спровоцировать кровавые столкновения рабочих с французскими войсками, чтобы отвлечь рабочих и постараться возродить этот дух национального единения.
Далее Хемингуэй рассказывал о новых веяниях во французском парламенте, где усиливается оппозиция политике правительства в вопросе об оккупации Рура. Заканчивал статью он такими словами:
«Похоже, что авантюра с Руром близится к концу. Она ослабила Германию и тем самым доставила удовольствие господину Додэ и господину Пуанкаре. Она породила новую ненависть и заставила вспыхнуть старую злобу. Она принесла страдания множеству людей. Вопрос заключается в том: усилила ли она Францию?»
ГЛАВА 11 ВЕСНА, ИСПОЛНЕННАЯ НАДЕЖД
Бой быков — это не спорт. Это трагедия.
Э. Хемингуэй, Из репортажаПосле Рура Хемингуэй поспешил обратно в Доломитовые Альпы, где ждала его Хэдли. Настроение у него было самое радужное — он знал, что командировка в Германию принесла ему кое-какие деньги и можно будет летом сделать перерыв и не работать для газеты. А значит, можно будет писать для себя.
Здесь, в Кортина д'Ампеццо, он сумел перебороть себя и оправиться от травмы, вызванной потерей всех его рукописей. Так боксер, брошенный в нокдаун, поднимается на ноги и собирает силы для продолжения схватки.
В книге «Праздник, который всегда с тобой» он писал:
«…я начал вспоминать, когда же я сумел написать свой первый рассказ после того, как потерял все. Это было в те дни, когда я вернулся в Кортина д'Ампеццо к Хэдли, после того, как весной мне пришлось на время прервать катание на лыжах и съездить по заданию газеты в Рейнскую область и Рур. Это был очень незамысловатый рассказ «Не в сезон».
Быть может, толчком послужил весенний номер журнала Маргарет Андерсон «Литл ревью», где были опубликованы шесть его коротких рассказов-миниатюр и стихотворение «Все они хотят мира. — Что такое мир?». Этот номер журнала вышел 1 апреля 1923 года.
В этом новом рассказе он описал пьяницу-старика итальянца, пытающегося заработать себе на выпивку, помогая американцам удить форель… Происходило это все в Кортина д'Ампеццо, и он упомянул маленький кабачок-кантину у моста, лавку с вывеской «Продажа местных и заграничных вин», строительство нового отеля, написал, что погода была ветреная, и солнце показывалось из-за туч, а потом опять пряталось, и накрапывал дождь.
Между американцами — мужем и женой — что-то произошло, но что именно — остается неизвестным.
«— Мне очень жаль, что у тебя испортилось настроение, Тайни, — сказал американец. — Очень жалею, что поднял этот разговор за завтраком. В сущности, мы говорили об одном и том же, но с разных точек зрения.
— Какая разница? — сказала она. — В конце концов мне безразлично».
Половить форель им не удалось — забыли грузило. И все надежды старика Педуцци на денежки рухнули — американец сказал, что вряд ли он завтра пойдет ловить форель. Рассказ получился грустный.
«…я опустил настоящий конец, — вспоминал впоследствии Хемингуэй, — заключавшийся в том, что старик повесился. Я опустил его согласно своей новой теории: можно опускать что угодно при условии, если ты знаешь, что опускаешь, — тогда это лишь укрепляет сюжет, и читатель чувствует, что за написанным есть что-то, еще не раскрытое».
Рассказ «Не в сезон» в этом отношении оказался первой пробой сил в освоении нового литературного приема, найденного Хемингуэем в процессе длительных поисков своего собственного стиля и композиции. Много лет спустя он объяснил эту свою находку более образно. Он писал: «Я всегда стараюсь писать по методу айсберга. Семь восьмых его скрыто под водой, и только восьмая часть — на виду. Все, что знаешь, можно опустить — от этого твой айсберг станет только крепче. Просто эта часть скрыта под водой. Если же писатель опускает что-нибудь по незнанию, в рассказе будет провал».
Рассказ «Не в сезон» действительно оказался серьезным шагом вперед — в нем уже не было элементов подражательства Шервуду Андерсону, которые проглядывали в таких рассказах, как «У нас в Мичигане» и «Мой старик».
Потом они вернулись в Париж, и в Париже была весна, и город был так прекрасен, как может быть прекрасен только этот город и только весной.
Было радостно думать, что можно хоть какое-то время не писать для газеты, а заниматься собственным творчеством.
Роберт Мак-Элмон, несмотря на репутацию пьяницы и легкомысленного человека, в действительности оказался вполне деловым издателем — Дарантье, типограф в Дижоне, со своим линотипом в 90 лошадиных сил готов был печатать книгу Хемингуэя.
Нужно было срочно готовить сборник. Конечно, в этой ситуации трудно было еще раз не пожалеть об утерянных рукописях, но он дал себе слово не горевать о потерях. Надо было искать выход. Миниатюры, опубликованные в «Литл ревью», и те, над которыми он продолжал работать, Хемингуэй обещал Уильяму Берду. Но упускать возможность, предоставляемую Мак-Элмоном, было глупо. И он нашел выход — он взял два сохранившихся у него рассказа, «У нас в Мичигане» и «Мой старик», присоединил к ним написанный в Кортина д'Ампеццо новый рассказ «Не в сезон», шесть стихотворений, напечатанных в журнале «Поэтри», и еще четыре новых и составил маленькую книжечку, которую назвал «Три рассказа и десять стихотворений».
Из новых стихотворений обращало на себя внимание одно — «Монпарнас». Оно полно горечи и презрения к богатым и благополучным людям.
В квартале не бывает самоубийств среди порядочных людей — самоубийств, которые удаются. Молодой китаец кончает с собой, и он мертв. (Его газету продолжают опускать в ящик для писем.) Молодой норвежец кончает с собой, и он мертв. (Никто не знает, куда делся товарищ молодого норвежца.) Находят мертвую натурщицу — в ее одинокой постели, совсем мертвую. (Консьержка едва перенесла все эти хлопоты.) Порядочных людей спасает касторовое масло, белок, мыльная вода, горчица с водой, желудочные зонды. Каждый вечер в кафе можно встретить порядочных людей.В парижских кафе действительно можно было каждый вечер встретить порядочных людей. Это были люди из другого мира. Хемингуэй им не завидовал, он не искал богатства. В ту пору он был просто беден, но относился к бедности на редкость спокойно — не стеснялся ее и не кичился ею. Когда читаешь его слова о бедности в книге «Праздник, который всегда с тобой», ощущаешь отличное нравственное здоровье этого человека:
«Того, кто работает и получает удовлетворение от работы, нужда не огорчает. Ванные, души и теплые уборные я считал удобствами, которые существуют для людей во всех отношениях ниже нас, нам же они доставляли удовольствие во время путешествий, а мы путешествовали часто. А так — в конце улицы у реки были бани. Моя жена никогда не жаловалась на все это… Я вел себя глупо, когда ей понадобился серый цигейковый жакет, но, когда она купила его, он мне очень понравился. Я вел себя глупо и в других случаях. Но все это было следствием борьбы с бедностью, которую можно победить, только если не тратить денег. И особенно когда покупаешь картины вместо одежды. Но дело в том, что мы вовсе не считали себя бедными. Мы просто не желали мириться с этой мыслью. Мы причисляли себя к избранным, а те, на кого мы смотрели сверху вниз и кому с полным основанием не доверяли, были богатыми. Мне казалось вполне естественным носить для тепла свитер вместо нижней рубашки. Странным это казалось только богатым. Мы хорошо и недорого ели, хорошо и недорого пили и хорошо спали, и нам было тепло вместе, и мы любили друг друга».
Он по-прежнему часто бывал у Гертруды Стайн. Она всегда встречала его радушно. Хемингуэй вспоминал, что, когда он возвращался из своих поездок по заданию газеты, Гертруда требовала, чтобы он рассказывал ей обо всех смешных происшествиях.
«В курьезах, — вспоминал он, — недостатка не было, и они ей нравились, как и рассказы, которые, по выражению немцев, отдают юмором висельника. Она хотела знать только веселую сторону происходящих в мире событий, а не всю правду, не все дурное».
Мисс Стайн любила слушать про всевозможные нелепые и забавные случаи. Именно об этом он ей и рассказывал.
«А об остальном я не говорил, об остальном я писал для себя».
Фраза весьма примечательная — он уже понял, что о самом главном не следует говорить: непосредственность ощущений стирается, и писать потом об этом так, как хочется, уже трудно.
Он, как всегда, много и напряженно работал. Но после работы ему хотелось почитать или поговорить о прочитанном. Он объяснял эту потребность:
«После работы мне необходимо было читать. Потому что, если все время думать о работе, можно утратить к ней интерес еще до того, как сядешь на другой день за стол. Необходимо получить физическую нагрузку, устать телом, и особенно хорошо предаваться любви с любимой женщиной. Это лучше всего. Но потом, когда приходит опустошенность, нужно читать, чтобы не думать и не тревожиться о работе до тех пор, пока не приступишь к ней снова. Я уже научился никогда не опустошать до дна кладезь творческой мысли и всегда прекращал писать, когда на донышке еще что-то оставалось, чтобы за ночь питающие его источники успели вновь его наполнить».
Он много читал, доставая книги в библиотеке Сильвии Бич или у букинистов на набережной. Читал не просто для времяпрепровождения, а в поисках высоких образцов. И характерно, что, несмотря на окружающую его атмосферу всеобщих поисков новых путей и новых форм в литературе, столь модных в те годы в Париже, его тянуло к великим произведениям реалистической и в первую очередь русской литературы. Уже на склоне лет, в книге «Праздник, который всегда с тобой», вспоминая о тех годах в Париже, когда он искал свой собственный путь, свой стиль, свою позицию в жизни, он вспоминал прежде всего о русских писателях-реалистах.
«В Торонто, еще до нашей поездки в Париж, мне говорили, что Кэтрин Мэнсфилд пишет хорошие рассказы, даже очень хорошие рассказы, но читать ее после Чехова — все равно что слушать старательно придуманные истории еще молодой старой девы после рассказа умного знающего врача, к тому же хорошего и простого писателя. Мэнсфилд была как разбавленное пиво. Тогда уж лучше пить воду. Но у Чехова от воды была только прозрачность. Кое-какие его рассказы отдавали репортерством. Но некоторые были изумительны.
У Достоевского есть вещи, которым веришь и которым не веришь, но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам, —слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились реальностью, как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева и передвижение войск, театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения у Толстого. По сравнению с Толстым описание нашей Гражданской войны у Стивена Крейна казалось блестящей выдумкой больного мальчика, который никогда не видел войны, а лишь читал рассказы о битвах и подвигах и разглядывал фотографии Брэди, как я в свое время в доме деда».
Об этих книгах, об этих впечатлениях ему хотелось поговорить со своими старшими друзьями, которые, кстати сказать, считали себя его наставниками. Но отклика у них он не находил.
Однажды, возвращаясь после тенниса с Эзрой Паундом, Хемингуэй спросил его, какого он мнения о Достоевском.
— Говоря по правде, Хэм, — сказал Эзра, — я не читал ни одного из этих русских.
«Это был честный ответ, — вспоминал Хемингуэй, — да и вообще Эзра в разговоре всегда был честен со мной, но мне стало больно, потому что это был человек, которого я любил и на чье мнение, как критика, полагался тогда почти безусловно, человек, веривший в mot juste — единственное верное слово, — человек, научивший меня не доверять прилагательным, как позднее мне предстояло научиться не доверять некоторым людям в некоторых ситуациях; и мне хотелось узнать его мнение о человеке, который почти никогда не находил mot juste и все же порой умел делать своих персонажей такими живыми, какими они не были ни у кого».
Бесполезно было говорить об этих писателях и с Гертрудой Стайн. Ее интересовало только ее собственное творчество, и ничье больше.
«За три-четыре года нашей дружбы, — писал Хемингуэй, — я не помню, чтобы Гертруда Стайн хоть раз хорошо отозвалась о каком-нибудь писателе, кроме тех, кто хвалил ее произведения или сделал что-нибудь полезное для ее карьеры… Она не желала говорить о творчестве Андерсона, как не желала говорить и о Джойсе. Стоило дважды упомянуть Джойса, и вас уже никогда больше не приглашали в этот дом. Это было столь же бестактно, как в разговоре с одним генералом лестно отозваться о другом».
Можно ли после этого удивляться, что именно мисс Стайн, считавшая Хемингуэя своим учеником, тем не менее с известной долей раздражения сказала о нем: «Он выглядит современным, но пахнет музеем». Ей было глубоко чуждо реалистическое начало, неизменно присутствовавшее во всем, что писал Хемингуэй.
И все-таки пока что он считался с ее мнением и вкусом. Когда из Дижона прибыли гранки книги, которую издавал Мак-Элмон, Хемингуэй понес показать их Гертруде Стайн.
Все у него складывалось как будто удачно, он, похоже, начинал выбираться на нужную ему дорогу. Но жизнь неожиданно внесла свои коррективы. Однажды он зашел к Гертруде Стайн, просидел у нее целый день и был необычно для него рассеян и озабочен. И только перед уходом объяснил мисс Стайн, что произошло, — Хэдли забеременела. «А я, я слишком молод, чтобы быть отцом», — сказал он. Действительно, предстоящее рождение ребенка не могло не осложнить жизнь, нужно было отказываться от неприхотливой системы жизни вдвоем, когда не страшны никакие лишения, нужно было думать о деньгах, чтобы обеспечить будущему ребенку все необходимое. Короче, он не был подготовлен к этому ни морально, ни материально.
Впрочем, он не любил и не умел долго унывать, а будущее прибавление семейства — событие, о которым, как правило, отцы примиряются легко. И он опять погрузился в работу и в те недорогие развлечения, которые всегда к услугам желающих в Париже.
Сильвия Бич в своей книге вспоминает, как именно в это время он предложил ей и ее подруге Адриенне Монье, хозяйке книжной лавки, где продавалась французская литература, просветить их по части бокса. Вместе с Эрнестом и Хэдли они отправились в дальний район Парижа Менильмонтан, где жили рабочие, спортсмены и уголовные элементы. На станции метро «Пеллепорт» они поднялись на улицу, причем, вспоминает Сильвия, Эрнест бережно поддерживал беременную Хэдли, которая немного задыхалась от крутого подъема. Через какой-то задний двор они вышли к рингу и с трудом нашли себе места на узких скамейках без спинок.
На ринге дрались какие-то мальчишки, рьяно пускавшие друг другу кровь из носов. Хемингуэй объяснил своим спутницам, что все это дешевка и ничего страшного пока не происходит. Кто-то из спутниц поинтересовался, что это за темные личности бродят вокруг ринга, не обращая, казалось, никакого внимания на боксеров и то и дело советуясь о чем-то между собой. Оказалось, что это менажеры, высматривающие здесь новых перспективных боксеров.
Потом начался главный бой, и Хемингуэй уже забыл, что обещал комментировать его своим дамам, так он был поглощен подсчитыванием ударов и очков. Через короткое время этот бой перерос в другой, в котором на этот раз уже приняли участие зрители. Их мнения разделились в связи с решением рефери, все повскакали на скамейки и стали бросаться друг на друга, как вспоминала Сильвия, начался чистой воды ковбойский фильм. Сильвия перепугалась, что в этой суматохе их сомнут, особенно Хэдли. Послышались крики: «Полицию!», но выяснилось, что полицейских, чье присутствие на общественных зрелищах во Франции, будь то «Комеди Франсез» или спортивный зал в Менильмонтане, обязательно, — нет. Хемингуэй с возмущением кричал: «Ну конечно, легавые, как всегда, в уборной!»
В другой раз Хемингуэй потащил их на шестидневную велосипедную гонку на Зимнем велодроме — самое популярное событие парижского сезона. Они увидели маленьких, похожих издали на обезьян гонщиков, которые медленно ехали круг за кругом или неожиданно вырывались вперед, и это происходило день и ночь, день и ночь в течение шести суток среди шума толпы, рева громкоговорителей, сигарного дыма, пыли, в свете театральных прожекторов.
Сильвия Бич и ее подруга нашли это зрелище необычайно увлекательным, но, добавляла Сильвия, в присутствии Хемингуэя любое зрелище становилось увлекательным.
По его собственному признанию, ему очень хотелось написать рассказ о велосипедных гонках.
«Я начинал много рассказов о велогонках, но так и не написал ни одного, который мог бы сравниться с самими гонками на закрытых и открытых треках или на шоссе! Но я все-таки покажу Зимний велодром в дымке уходящего дня, и крутой деревянный трек, и особое шуршание шин по дереву, и напряжение гонщиков, и их приемы, когда они взлетают вверх и устремляются вниз, слившись со своими машинами; покажу их волшебство demi-fond: ревущие мотоциклы с роликами позади и entraineurs в тяжелых защитных шлемах и кожаных куртках, которыми они загораживают от встречного потока воздуха велогонщиков в легких шлемах, пригнувшихся к рулю и бешено крутящих педали, чтобы переднее колесо не отставало от ролика позади мотоцикла, рассекающего для них воздух, и треск моторов, и захватывающие дух поединки между гонщиками, летящими локоть к локтю, колесо к колесу, вверх-вниз и все время вперед на смертоносных скоростях до тех пор, пока кто-нибудь один, потеряв темп, не отстанет от лидера и не ударится о жесткую стену воздуха, от которого он до сих пор был огражден».
Он действительно не оставил рассказа о велогонках, но этот маленький отрывок из «Праздника, который всегда с тобой», с его поразительно емким описанием атмосферы гонок, стоит иного рассказа.
Здесь, в Париже, Хемингуэй как-то встретил своего старого знакомого по греко-турецкой войне, кинооператора Шорти Ворналла, который рассказал ему, как он в Афинах снимал греческого короля и королеву в их саду.
Но самым значительным событием начала лета 1923 года стало для него настоящее знакомство с Испанией и с боем быков. С этой встречи вспыхнула любовь к этой стране и к этому зрелищу, которая не ослабевала до конца его жизни.
О бое быков Хемингуэю впервые рассказала Гертруда Стайн. «Помню, — писал он в книге «Смерть после полудня», — как Гертруда Стайн, говоря о бое быков, восхищалась Хоселито и показала мне фотографии, на которых она снята вместе с ним в Валенсии: она сидит в первом ряду, подле нее Алиса Токлас, под ними, на арене — Хоселито и его брат Галло, а я тогда только что приехал с Ближнего Востока, где греки, прежде чем оставить Смирну, сталкивали с пристани в мелкую воду своих тягловых и вьючных животных, предварительно перебив им ноги, и, помнится, я сказал, что не люблю боя быков, потому что мне жаль несчастных лошадей».
Примечательно, что сам Хемингуэй связывал свой интерес к бою быков со своими творческими поисками того периода, и его высказывание по этому поводу имеет существенное значение для понимания его устремлений как писателя. Из него становится ясным, чего добивался начинающий писатель Хемингуэй в своем творчестве, какие преследовал цели.
«В то время я начинал писать, и самое трудное для меня, помимо ясного сознания того, что действительно чувствуешь, а не того, что полагается чувствовать и что тебе внушено, было изображение самого факта, тех вещей и явлений, которые вызывают испытываемые чувства».
Итак, первая задача: выделить истинное ощущение, не спутать его с тем, что полагается чувствовать, или с тем, что тебе внушено.
Вторая задача: изобразить сам факт, который вызывает эти подлинные чувства.
Но это еще не главное. Дальше Хемингуэй писал следующее:
«…проникнуть в самую суть явлений, понять последовательность фактов и действий, вызывающих те или иные чувства, и так написать о данном явлении, чтобы это оставалось действенным и через год, и через десять лет, — а при удаче и закреплении достаточно четком даже навсегда, — мне никак не удавалось, и я очень много работал, стараясь добиться этого».
Вот она, главная задача, — «проникнуть в самую суть явлений». Не удивительно, что в поисках образца он обращался не к модным в его время писателям, увлекавшимся прежде всего формальными изысками, а к Толстому и Достоевскому, подлинным исследователям человеческого бытия. Это ни в коей мере не означало, что он собирался писать так, как писали они. Его привлекала в них глубина исследования фактов и явлений, умение передать, «закрепить» подлинные человеческие ощущении в реальных и точно описанных обстоятельствах так, что читатель и через многие десятилетия, читая эти описания, ощущает себя действующим лицом, его сопереживание становится таким убедительным, словно это происходит с ним самим.
А отсюда и интерес Хемингуэя к бою быков, который он четко объяснил в этой главе в «Смерти после полудня»:
«Войны кончились, и единственное место, где можно было видеть жизнь и смерть, то есть насильственную смерть, была арена боя быков, и мне очень хотелось побывать в Испании, чтобы увидеть это своими глазами. Я тогда учился писать и начинал с самых простых вещей, а одно из самых простых и самых существенных явлений — насильственная смерть… Я читал много книг, в которых у автора вместо описания смерти получалась просто клякса, и, по-моему, причина кроется в том, что либо автор никогда близко не видел смерти, либо в ту минуту мысленно или фактически закрывал глаза, как это сделал бы тот, кто увидел бы, что поезд наезжает на ребенка и что уже ничем помочь нельзя».
Это очень важное объяснение его интереса к бою быков. Не простая жестокость, смакование насилия, кровожадность толкали его писать о насильственной смерти. А ведь именно в этом упрекала его критика. И напрасны были потуги тех, кто пытался изобразить Хемингуэя родоначальником современного «романа жестокостей». Сам он однажды ответил на этот вопрос исчерпывающе: «Я не ломаю руки мужчины для того, чтобы слышать хруст его костей, я не стреляю женщине в живот, ведь с женщиной можно заниматься другими, более приятными вещами».
В то лето Хемингуэй уговорил Роберта Мак-Элмона и Уильяма Берда съездить в Испанию. Берд должен был догнать их в Мадриде. Художник Майк Стрэйтер нарисовал им на обратной стороне меню ресторана «Стрикс» карту Испании, записал адрес ресторана в Мадриде, специальность которого — жареный молочный поросенок, адрес пансиона на Виа Сан-Херонимо, где живут матадоры, и начертил план размещения картин Эль Греко в музее Прадо. Но главная их цель была — посмотреть корриду.
По дороге в Мадрид их поезд остановился на маленькой станции, и они увидели напротив своего вагона открытую машину, на которой лежал изъеденный червями труп собаки. Мак-Элмон, рассказавший об этом эпизоде в своей книге воспоминаний, отвернулся, а Хемингуэй тут же прочел ему целую лекцию о том, что нужно уметь смотреть на любую действительность и что их поколение должно приучить себя и к виду боли, и к жестокой правде.
В Мадриде они с большим трудом достали у спекулянтов два билета на корриду. В очерке, который он потом написал для «Торонто стар уикли», Хемингуэй подробно описывал арену для боя быков, красочную и оживленную толпу, уличных торговцев, продававших воду из терракотовых бутылей, мальчишек, торговавших веерами, консервами, жареным миндалем, фруктами, мороженым, конных полицейских в лакированных кожаных треуголках набекрень, с карабинами за плечами. Так же подробно он описал всю церемонию, начиная с выхода герольдов в средневековой одежде, затем процессию, которую открывали матадоры, одетые в черные с желтым плащи из тяжелой парчи, рубашки с отложными воротниками, короткие брюки, розовые чулки, поразившие его своей неуместностью на бое быков, и легкие бальные туфли, за ними следовали куадрильи, затем пикадоры. Он отмечал, что они идут «легким, натренированным шагом, плавно раскачиваясь, без всякой театральности. Все они владеют непринужденной грацией и пластикой профессиональных атлетов».
Особенно сильное впечатление на Эрнеста произвело появление быка. Он записал это впечатление со всеми деталями. Потом он не раз будет в своих книгах обращаться к описанию боя быков, но это было первое и потому наиболее интересное для нас ощущение.
«Потом из темного загона, наклонив голову, вступил на арену бык. Стремительный, огромный, черный с белыми пятнами, весом свыше тонны, он двинулся вперед тихим галопом. Яркий солнечный свет словно ослепил его на мгновение. Бык застыл на месте. Крепко натянутые узлы мускулов на загривке вздулись, ноги словно вросли в землю, глаза бегали, озираясь, рога были уставлены вперед, черно-белые, острые, как иглы дикобраза. Потом он ринулся вперед, и тут я понял, что такое бой быков.
Ибо бык превратился в нечто невероятное. Он стал похож на какое-го огромное доисторическое чудовище, абсолютно беспощадное и злобное. Не издавая ни звука, он ринулся в атаку каким-то неописуемым мягким галопом. Поворачивался он в сторону или назад сразу всеми четырьмя ногами, словно кошка».
Дальше Хемингуэй описывал работу матадора. «В этой схватке, когда он выходит на арену со своей тонкой шпагой и куском красной материи, смерть может настигнуть либо быка, либо его, матадора. Ибо ничьей в этой борьбе не бывает».
Нет, это никак нельзя назвать любованием смертью, смакованием жестокости. Он действительно был поражен необычным для него зрелищем. И увидел он в этом зрелище отнюдь не спорт. Он так и написал: «Бой быков — это но спорт. И никогда не задумывался как спорт. Это трагедия. Большая трагедия. Трагедией является смерть быка… В любом случае это не спорт. Это трагедия, и она символизирует борьбу между человеком и зверем».
На третий день в Мадриде к ним присоединился Уильям Берд, они поехали в Севилью, потом в Ронду, о которой Гертруда Стайн говорила, что там замечательный бой быков. Затем они отправились в Гранаду, но там шел дождь, и им пришлось удовлетвориться тем, что они, как все туристы, отправились посмотреть, как танцуют цыгане в своих пещерах.
Когда они вернулись в Париж, Хемингуэй без конца рассказывал всем друзьям о бое быков, объяснял, что это великое искусство, великолепный танец со смертью. Если раньше он любил боксировать «с тенью», то теперь то и дело принимался изображать поединок матадора с быком, взмахивая воображаемой мулетой и вонзая воображаемую шпагу в загривок быка. Быть может, в этой игре была и какая-то доля позы.
Он так увлекся боем быков, что решил в июле еще раз съездить в Испанию, на этот раз вместе с Хэдли, чтобы посмотреть знаменитую фиесту в честь святого Фирмина.
Автобус привез их в Памплону уже вечером. Ощущение было странное — как будто из реального мира они переселились в мир сказки. Вся площадь была заполнена народом. Главным образом здесь были крестьяне, спустившиеся ради этого праздника с окрестных гор, на шее у них висели связки чеснока, а за спинами — разнообразной формы бурдюки с вином. Оркестр, состоявший из барабана, дудок и еще каких-то старинных баскских народных инструментов, играл безостановочно. Все танцевали. Над головами взрывались ракеты огненными крутящимися стрелами, взлетали и падали.
Танцующие окружили автобус и хотели вовлечь в свой танец приехавших, не дожидаясь, пока они снимут свой багаж с крыши автобуса. Это было безудержное и заразительное веселье.
Хотя Хемингуэй заказал номер в гостинице телеграфом за две недели до фиесты, выяснилось, что никаких свободных комнат нет. Хозяйка гостиницы спокойно объяснила, что за эти десять дней она должна заработать деньги на весь год вперед. Пришлось удовлетвориться комнатой в частном доме.
Всю ночь им не давала спать оглушающая музыка на улице. Город не ложился спать, все пили и танцевали. На рассвете их разбудили звуки военного оркестра. Эрнест и Хэдли выглянули в окно и увидели, что улица полна людей и все идут в одном направлении. Они поспешно оделись и влились в это шествие. Тысяч двадцать любителей боя быков выстроились вдоль главной улицы и сгрудились у арены боя быков.
Издалека донеслись гул и крики. Эрнест спросил у соседа, что там происходит. Тот объяснил, что это выпустили быков из загона и теперь они бегут через весь город по главной улице. Вскоре показалась толпа мужчин и мальчишек, стремглав бегущих впереди быков. Какой-то мальчишка споткнулся, и передний бык отшвырнул его в сторону рогами. Мальчишка отлетел к ограде, а быки тяжело пробежали дальше.
Арена тоже была заполнена мужчинами и юношами. Все они были безоружны и размахивали перед быками всевозможными тряпками, рубашками, пытались схватить быка за хвост или за рога. Каждый мог показать здесь свое мужество, ловкость и умение. Такова традиция. Конечно, это не обходилось без крови, увечий, а иногда кончалось и смертью.
Утром городок затихал, отсыпался, чтобы с середины дня опять начать гулянье. Многочисленные кафе в сводчатых галереях, окружавших площадь Конституции, заполнялись народом. Здесь можно было встретить любителей боя быков из всех уголков Испании, высокие сомбреро андалузцев перемешивались с соломенными шляпами мадридцев, с беретами наварцев и басков. Все были веселы и доброжелательны. Крестьяне с гор охотно угощали иностранцев вином и учили их пить из бурдюков — надо было поднять бурдюк высоко над головой и нажать его так, чтобы струя терпкого, пахнущего кожей вина лилась прямо в подставленный рот. Это требовало известной тренировки.
Днем они смотрели бой быков с участием самых знаменитых матадоров Испании — Маэры, Альгабено. Некоторые детали этого боя Хемингуэй описал в очерке «Памплона в июле», напечатанном в «Стар уикли» в октябре. Эти детали интересны для сравнения с миниатюрами о бое быков в книге «в наше время». Сопоставление одной и той же истории, изложенной в очерке и потом в рассказе-миниатюре, так же как история фракийских беженцев, дает возможность заглянуть в творческую лабораторию писателя, увидеть, как преобразуются в рассказе подлинные факты, как изображение становится сжатым, упругим, впечатляющим, как отсекаются второстепенные детали, как от внешнего описания факта Хемингуэй идет к воссозданию картины изнутри, делая читателя соучастником, «сопереживателем» действия.
В очерке «Памплона в июле» Хемингуэй описывал, как работал Маэра с быком, и как в момент решающего удара шпагой бык выбил ее и повредил Маэре кисть руки, и как Маэра с распухшей рукой вновь и вновь поднимал с песка выскальзывавшую у него шпагу и пытался нанести удар быку, и как, наконец, ему это удалось. Следующим выступал Россарио Ольмос.
«Он взмахнул плащом перед мордой быка и одним очень мягким и изящным движением описал полный круг. Он пытался повторить этот прием, классическую «веронику», но бык не дал ему закончить. Вместо того чтобы застыть на месте в завершении вероники, бык набросился на матадора. Он поднял Ольмоса на рога и высоко подкинул его. Ольмос тяжело рухнул на землю, и бык, стоя над ним, бодал его рогами, всаживая их глубже и глубже. Ольмос лежал на песке, уронив голову на руки.
…Матадорам запрещено иметь дублеров. Маэра вышел из строя. Его рука не способна теперь поднять шпагу в течение нескольких недель. У Ольмоса было тяжелое сквозное ранение. Этот бык был быком Альгабено. Этот и все пять остальных.
Альгабено справился с ними со всеми. Он победил их. Он работал плащом легко, грациозно, уверенно. Прекрасно действовал мулетой. И заключительный удар его был решительным и серьезным. Пять быков убил он, одного за другим. И каждый был новой проблемой, которую он разрешал перед лицом смерти. В конце концов его жизнерадостность пропала. Осталось только одно — выстоять, или быки одолеют его. Все быки были великолепны».
В Париже Хемингуэй продолжал много и плодотворно работать. Он писал короткие рассказы-миниатюры такого же характера, как и первые шесть, которые были опубликованы в «Литл ревью». Он вводил новые темы в складывавшуюся постепенно книгу, ждавшую своей очереди к печатному станку Уильяма Берда.
Теперь Хемингуэй обратился к своему личному военному опыту. Три новых рассказа были посвящены итальянскому фронту. Все они представляют самостоятельное художественное значение и, кроме того, интересны, поскольку в них явственно проглядывают зерна, из которых в будущем произрастет роман «Прощай, оружие!».
Один из рассказов, начинающийся словами: «Ник сидел, прислонясь к стене церкви, куда его притащили с улицы, чтобы укрыть от пулеметного огня», передает ощущения и восприятие окружающего мира тяжело раненным человеком. «Ник смотрел прямо перед собой блестящими глазами. Розовая стена дома напротив рухнула, отвалившись от крыши, и над улицей повисла исковерканная железная кровать. В тени дома, на груде щебня, лежали два убитых австрийца. Дальше по улице были еще убитые».
В этом коротком рассказе впервые у Хемингуэя возникает тема «сепаратного мира». Ник говорит лежащему рядом с ним раненому Ринальди: «Оба мы с тобой заключили сепаратный мир». В романе «Прощай, оружие!» эта тема станет одной из основных линий сюжета.
В другом рассказе Хемингуэй исследовал психологию страха во время боя. «Когда артиллерийский огонь разносил окопы у Фоссальты, он лежал плашмя и, обливаясь потом, молился: «Иисусе, выведи меня отсюда, прошу тебя, Иисусе. Спаси, спаси, спаси меня. Сделай, чтобы меня не убили…» И великолепная концовка: «На следующий вечер, вернувшись в Местре, он не сказал ни слова об Иисусе той девушке, с которой ушел наверх в «Вилла-Росса». И никому никогда не говорил».
Личные переживания, связанные с историей его любви к Агнессе фон Куровски, послужили основой для миниатюры, которую потом, в новом американском издании сборника «в наше время», Хемингуэй выделил, дав ей название «Очень короткий рассказ». На полутора страничках уложена вся история любви героя к сестре в госпитале, их намерение пожениться после войны и конец этой любви, такой же грустный, как и конец любви Хемингуэя к Агнессе фон Куровски.
«В Генуе он сел на пароход, отходивший в Америку. Люз поехала в Порденоне, где открывался новый госпиталь. Там было сыро и дождливо, и в городе стоял батальон ардитти. Коротая зиму в этом грязном, дождливом городишке, майор батальона стал ухаживать за Люз, а у нее раньше не было знакомых итальянцев, и в конце концов она написала в Штаты, что их любовь была только детским увлечением. Ей очень грустно, и она знает, что, вероятно, он не поймет ее, но, быть может, когда-нибудь он простит и будет ей благодарен, а теперь она совершенно неожиданно для себя собирается весной выйти замуж».
И далее следовал нарочито грубый, обнаженный эпилог:
«Майор не женился на ней ни весной, ни позже. Люз так и не получила из Чикаго ответа на свое письмо. А он вскоре после этого заразился гонореей от продавщицы универсального магазина, с которой катался в такси по Линкольн-парку».
Эту концовку он придумал, чтобы показать, как в подлинной жизни сплетается высокое с низким, любовь и грязь. Он был убежден, что настоящая честная проза должна уметь рассказать обо всем, ничего не скрывая и не приукрашивая.
Два рассказа были посвящены воспоминаниям Хемингуэя о его работе в Канзас-Сити полицейским репортером газеты «Стар». В одном из них он описал, как полицейские убивают двух венгров, забравшихся в табачную лавку. При этом он не забыл упомянуть, что полицейские приехали из участка, находившегося на Пятнадцатой улице, — это был тот самый полицейский участок, куда любил исчезать молодой репортер Хемингуэй и откуда он вместе с инспектором Босвеллом мчался в полицейской машине на место происшествия.
Рассказ подчеркивал обыденность убийства уже не на фронте, а в повседневной жизни, «бытовой», если можно так сказать, характер убийства. Один из полицейских пугается, что теперь поднимется тарарам. Второй ему отвечает:
«— Ворье они или не ворье? — сказал Бойл. — Итальяшки они или не итальяшки? Кто будет поднимать из-за них тарарам?
— Ну, может, на этот раз сойдет, — сказал Древист, — но почем ты знал, что они итальяшки, когда стрелял в них?
— В итальяшек-то? — сказал Бойл. — Да я итальяшек за квартал вижу».
В другом рассказе, тоже навеянном воспоминаниями о Канзас-Сити, Хемингуэй описал казнь Сэма Кардинелла, которую он наблюдал в 1918 году в старой тюрьме на углу Миссури-авеню и Оук-стрит. Исследователи его творчества утверждают, что описание тюрьмы и процедуры казни было дано Хемингуэем с абсолютной точностью.
Шесть рассказов он посвятил бою быков. В этих коротеньких рассказах Хемингуэй заставлял читателя взглянуть на бой быков под самыми разными углами зрения, начиная от чисто внешнего впечатления и кончая взглядом изнутри, показывал и закулисную жизнь арены боя быков.
И в этих рассказах он стремился воссоздать всю картину с ее впечатляющими деталями, жестокими проявлениями толпы, воспроизвести работу матадора и в то же время вызвать у читателя этим сжатым и очищенным от всего лишнего изображением подлинные ощущения, не такие, какими они должны быть, а подлинные. Каждый рассказ представлял собой концентрированную трагедию схватки человека со зверем, поединка, в котором не может быть ничьей.
«Первому матадору бык проткнул правую руку, и толпа гиканьем прогнала его с арены. Второй матадор поскользнулся, и бык пропорол ему живот, и он схватился одной рукой за рог, а другой зажимал рану, и бык грохнул его о барьер, и он выпустил рог и упал, а потом поднялся, шатаясь как пьяный, и вырывался от людей, уносивших его, и кричал, чтобы ему дали шпагу, но потерял сознание. Вышел третий, совсем еще мальчик, и ему пришлось убивать пять быков, потому что больше трех матадоров не полагается, и перед последним быком он уже так устал, что никак не мог направить шпагу. Он едва двигал рукой. Он нацеливался пять раз, и толпа молчала, потому что бык был хороший, и она ждала, кто кого, и наконец нанес удар. Потом он сел на песок, и его стошнило, а толпа ревела и швыряла на арену все, что попадалось под руку».
В другой миниатюре он изобразил трагедию коня — беспомощной жертвы, которая обречена на мучительную гибель. Одна из миниатюр рассказывала о матадоре-неудачнике, у которого толпа отрезает косичку — символ профессии матадора.
Высокому искусству матадора Хемингуэй посвятил рассказ о Виляльте. С поразительной точностью Хемингуэй сумел в этом рассказе из 22 строк изобразить высочайший момент боя быков:
«Когда наступало время для последнего удара, все происходило в одно мгновение. Разъяренный бык, стоя прямо против Виляльты, не спускал с него глаз. Виляльта одним движением выхватывал из складок мулеты шпагу и, направив ее, кричал быку: «Торо! Торо!» — и бык кидался, и Виляльта кидался, и на один миг они сливались воедино. Виляльта сливался с быком, и все было кончено. Виляльта опять стоял прямо, и красная рукоятка шпаги торчала между лопатками быка. Виляльта поднимал руку, приветствуя толпу, а бык не спускал с него глаз, ревел, захлебываясь кровью, и ноги его подгибались».
И наконец, в последней миниатюре из этой серии Хемингуэй изобразил трагическую гибель матадора, изобразил скупо и в то же время с глубочайшим проникновением в ощущения умирающего человека:
«Сверху, с трибун, доносился рев толпы. Маэра почувствовал, что все кругом становится все больше и больше, а потом все меньше и меньше. Потом опять больше, больше и снова меньше и меньше. Потом все побежало мимо, быстрей и быстрей, — как в кино, когда ускоряют фильм. Потом он умер».
Особый интерес представляет рассказ, завершавший книгу, которую складывал Хемингуэй. Он служил иронической концовкой к проведенной пунктиром через всю книгу трагедии греческого народа. Первой черточкой этой истории была картина исхода греческих беженцев из Фракии, второй — изображение расстрела шести греческих министров. Последней черточкой — интервью с греческим королем, одним из главных виновников гибели и страданий тысяч людей. Материалом для этой миниатюры послужил рассказ кинооператора Шорти Ворналла. Здесь Хемингуэй достиг вершин иронии — король, чья армия потерпела поражение, чьи интриги послужили причиной таких бедствий народа, оказывается милым и ничтожным человеком. Он работает у себя в саду, королева подрезает розы, они угощают репортера виски с содовой и непринужденно болтают.
«— Пластирас, по-видимому, порядочный человек, — сказал король, — но ладить с ним нелегко. Впрочем, я думаю, он правильно сделал, что расстрелял этих молодцов. Конечно, в таких делах самое главное — это чтобы тебя самого не расстреляли!
Было очень весело. Мы долго разговаривали. Как все греки, король жаждал попасть в Америку».
Эту книгу рассказов он решил назвать «в наше время». Андре Моруа утверждает, что это название ироническое, идущее от известной формулы из молитвы: «Мир в наше время, о господи!..» Так ли это на самом деле, сказать трудно, но, по существу, это правильно. Хемингуэй своей книгой изображал современный ему мир таким, каким он был в действительности, — кровавым, жестоким, полным страданий, где мира нет и не может быть.
Тем временем Мак-Элмон в июле успел выпустить в Дижоне книгу «Три рассказа и десять стихотворений» тиражом 300 экземпляров. На голубовато-серой обложке резко выделялись набранные крупным черным шрифтом фамилия автора и название. Денег Хемингуэю эта книга не принесла, но первый серьезный шаг был сделан. И кроме того, — а это было, пожалуй, еще важнее, — он понимал, что, выпустив в свет эту маленькую книгу и сдав Уильяму Берду рукопись книги «в наше время», он завершает некий начальный период своего творчества.
Однако радости и надежды были омрачены необходимостью решать проклятый вопрос — где жить, как зарабатывать на жизнь? Предстоящее рождение ребенка вынуждало принимать какое-то решение. В конце концов, они решили вернуться на два года в Торонто, чтобы Хэдли рожала там и ребенок получил канадское или американское гражданство. За два года Эрнест рассчитывал заработать немного денег, чтобы иметь возможность потом уехать опять в Париж и уже целиком отдаться литературе.
Решение было вынужденное, неприятное, но другого выхода не было. В сентябре 1923 года они выехали в Канаду.
ГЛАВА 12 ПРОЩАНИЕ С ГАЗЕТОЙ
Работая для газеты, вы должны каждый день стирать губкой все впечатления на доске вчерашнего дня… И газетная работа ценна для писателя лишь до тех пор, пока она не начинает разрушать его память. Писатель должен бросить работу в газете еще до этого.
Э. Хемингуэй, Из интервьюХемингуэй возвращался в Торонто с репутацией крупного журналиста международного класса. Все в редакции «Стар» помнили его европейские корреспонденции, особенно с Ближнего Востока. С Джоном Боуном была достигнута договоренность, что Хемингуэй станет ведущим репортером газеты и в его обязанности будет входить интервьюирование местных и приезжих знаменитостей. Ему была обещана хорошая ставка — 125 долларов в неделю. Молодые журналисты «Стар» с интересом ожидали встречи со знаменитым газетчиком, имя которого вдобавок было овеяно легендой, связанной с его участием в мировой войне. Старые друзья — Грегори Кларк и Кранстон встретили Эрнеста и его жену тепло и приветливо, помогли им найти квартиру в получасе езды от редакции, и Хэдли принялась устраивать ее и готовить все для ребенка. Кранстон к тому же обещал почаще печатать очерки Хемингуэя в «Стар уикли».
Но принадлежал Хемингуэй теперь уже не еженедельной «Стар уикли», где работали его друзья, а ежедневной «Стар». А в этой редакции ситуация за эти годы, проведенные Хемингуэем в Европе, резко изменилась. Фактическим руководителем газеты стал заместитель редактора некий Гарри Хайндмарш, женившийся на дочери владельца газеты.
Хайндмарш был фигурой в своем роде примечательной. Он боялся и ненавидел людей, самостоятельно мыслящих, имеющих собственное мнение. Он мечтал искоренить в газете это племя веселых и ироничных журналистов, бунтующих против начальства. Пользуясь своей властью, он любил «обламывать», «подминать» таких репортеров, ему нужны были не талантливые люди, а послушные исполнители, которые смотрели бы ему в руки в ожидании подачки — хорошего задания, выгодной командировки, повышения в должности. Одни с этим смирялись, другие уходили из газеты.
Еще не увидев в глаза Хемингуэя, Хайндмарш был уверен, что тот представляет именно этот ненавистный ему тип журналиста, к тому же еще избалованного независимостью корреспондента в Европе. И он твердо решил «сломать» его.
Хемингуэй почувствовал это на собственной шкуре с первых же дней своего появления в редакции. С 10 по 25 сентября он не имел ни одного серьезного поручения, не напечатал на страницах газеты ни одного материала, под которым мог бы поставить свою подпись. Задания, которые получал Хемингуэй от Хайндмарша, носили откровенно издевательский характер — его посылали в городской муниципалитет посмотреть, что там происходит, поручали писать отчеты о концертах в городском зале Массихолл, однажды подняли с постели в четыре часа ночи, чтобы он написал о мелком пожаре. Такие поручения обычно даются начинающим репортерам, а не крупному журналисту, бывшему собственным корреспондентом этой газеты в Европе.
Канадец Морли Каллаган, ставший впоследствии писателем, а в 1923 году бывший еще студентом и внештатным сотрудником «Стар», рассказывает в своей книге воспоминаний о знакомстве с Хемингуэем. Как и многие молодые сотрудники «Стар», Каллаган с интересом ожидал встречи с журналистом, который успел принять участие в мировой войне, объездил почти все страны Европы, жил в Париже и был лично знаком с такими знаменитостями, как Джойс, Паунд, Гертруда Стайн. Интерес Каллагана был особенно острым, потому что он сам втайне писал рассказы и мечтал стать писателем.
Однажды в сентябре Каллаган встретил у подъезда редакции высокого, широкоплечего, румяного, кареглазого мужчину с черными усиками. На нем была странная шапочка с козырьком. Столкнувшись с Каллаганом, человек этот широко и дружески улыбнулся ему. Ни один журналист в Торонто, вспоминал Каллаган, не рискнул бы носить такую шапочку с козырьком. Начинающий журналист догадался, что это и есть новый сотрудник редакции Эрнест Хемингуэй.
На следующий день, когда из кабинета Хайндмарша принесли журнал поручений и все репортеры сгрудились вокруг журнала, Каллаган заглянул в него и увидел в самом конце фамилию Хемингуэя. Заинтересовавшись, Каллаган прочел, какие же поручения дают известному журналисту. К своему удивлению, он обнаружил, что все это малозначительные задания, которые могли бы дать и ему, начинающему репортеру. В это время подошел Хемингуэй, заглянул в журнал, краска схлынула у нею с лица, он тихо, но выразительно выругался и быстро ушел.
Интерес Каллагана к Хемингуэю усилился еще больше, когда он узнал, что Хемингуэй привез с собой из Парижа изданную там книгу. Каллаган выпросил ее на ночь у своего приятеля по редакции Джимми Коуана, и она произвела на него огромное впечатление. Каллаган не давал покоя своим товарищам, убеждая их, что Хемингуэй великий писатель.
Потом они встретились в библиотеке и разговорились. Хемингуэй рассуждал о литературе с пониманием и убежденностью.
— Джеймс Джойс, — говорил он Каллагану, — самый великий писатель в мире. «Гекльберри Финн» — великая книга. Читали ли вы Стендаля? А Флобера?
Он был доброжелателен и проявлял заинтересованность. Когда Каллаган признался ему, что пишет рассказы, Хемингуэй немедленно предложил прочитать эти рассказы. Он разговаривал с молодым студентом на равных, без всякой позы и, подчеркивая это равенство, сказал, что, пока он будет читать рассказы Каллагана, он хотел бы, чтобы Каллаган прочитал гранки его новой книги «в наше время», которые ему только что прислали из Парижа.
Один из рассказов Каллагана он похвалил и обещал помочь ему опубликовать его через своих друзей в Париже. Впоследствии он выполнил это обещание.
Когда Каллаган, пораженный необычностью рассказов Хемингуэя, собранных в книге «В наше время», спросил у него, что говорят об этой книге его друзья в Париже, Хемингуэй спокойно сказал: «Эзра Паунд говорит, что это лучшая проза, которую он читал за сорок лет». В этих словах не было ничего от позы. И Каллагана, и других молодых друзей Хемингуэя, которые появились у него в Торонто, удивляло то, как Хемингуэй рассказывал о своих парижских друзьях — о Джойсе, Паунде, Гертруде Стайн — без всякого бахвальства, очень скромно, никак не возвеличивая свою собственную фигуру.
А молодым журналистам, интересовавшимся литературой, он казался метром. Раза два они устраивали чествование Хемингуэя в своем университетском клубе. После одной такой встречи он, смеясь, сказал одному из своих коллег: «Они заставляют меня чувствовать себя так, словно я Анатоль Франс».
Каллаган вспоминает, что Хемингуэй часто и охотно делился своими мыслями о писательском труде. «Писатель, — обычно говорил он, — как священник. Он должен испытывать по отношению к своей работе такие же чувства». В другой раз он высказал очень характерное убеждение: «Даже если ваш отец умирает, — сказал он, — и вы с разбитым сердцем стоите у его постели, то и тогда вы должны запоминать каждую мелочь, как бы это ни было больно».
Подружился Хемингуэй и с молодой канадкой, работавшей в редакции «Стар», Мэри Лоури. Он, как никто другой, понимал ее личные проблемы — она выросла точно в такой же среде, как и он, и порвала с семьей, решив жить самостоятельно и самой зарабатывать себе на жизнь. Впоследствии она стала писательницей, а тогда, в 1923 году, Мэри Лоури была одной из сотрудниц «Стар», яростно бунтовавшей против диктатуры Хайндмарша. Ее маленькая комнатка в редакции стала убежищем для Хемингуэя. «Он бушевал там, — вспоминала Мэри Лоури много лет спустя, — неистовствовал и веселился по разным поводам».
С ней и еще несколькими сотрудниками, с которыми он подружился, Хемингуэй часто заходил после работы или в свободные часы в кафе Чайльда, где они пили кофе и болтали, или в итальянский кабачок Анджелло, у которого всегда было прекрасное кьянти.
Его ненависть к Хайндмаршу обострялась с каждым днем. Один из его коллег вспоминает, что, когда он передал Хемингуэю задание Хайндмарша пойти в городской парк и «написать что-нибудь о природе», Хемингуэй не сдержался: «Пойдем обратно в редакцию, — сказал он мрачно, — и выколотим из него к чертовой матери всю душу!» Однако взял себя в руки и пошел выполнять задание.
Своим друзьям в Торонто Хемингуэй не раз говорил, что думает написать сатирический роман под названием «Зять» и изобразить в нем Хайндмарша. Потом, правда, он отказался от этой идеи, объяснив друзьям, что романист не должен писать произведение, если он ненавидит главного героя и его прообраз, — эмоции могут исказить подлинную картину.
Отношения с Хайндмаршем достигли накала в начале октября, когда заместитель редактора поручил Хемингуэю выехать в Нью-Йорк, куда прибывал Ллойд Джордж, и сопровождать его в поездке по Канаде. Хэдли должна была со дня на день родить, и Эрнест, естественно, очень волновался. Он попросил Хайндмарша послать кого-нибудь другого. Тот не пожелал слушать никаких доводов и приказал Хемингуэю ехать. 10 октября Хэдли родила сына, а Эрнест в это время был где-то между Монреалем и Торонто, сопровождая Ллойд Джорджа в поездке по стране. Сына они назвали Джон Хэдли Никанор.
Жизнь в Торонто становилась все более тягостной для Хемингуэя. Атмосфера ханжества и благопристойности, которую он возненавидел еще в Оук-Парке, здесь приобретала совсем уж уродливые и отвратительные формы. Театры в городе по воскресеньям не работали, продажа спиртных напитков была запрещена.
Однажды Хайндмарш послал Хемингуэя и Мэри Лоури писать отчет о совещании священников церквей Торонто, на котором обсуждалась проблема введения цензуры на кинофильмы. Мэри Лоури вспоминала, что Эрнест весь кипел от возмущения. «Будь они прокляты! — вполголоса восклицал он. — Я ненавижу все эти ограничения!»
К этой пуританской, ханжеской обстановке в городе успешно приноравливалась газета «Стар». Недаром ее хозяина Джозефа Аткинсона молодые сотрудники называли «Святоша Джо».
Работа в газете не только не могла принести хотя бы минимального удовлетворения, но вызывала у Хемингуэя активную неприязнь. Писать было не о чем. Отводил душу и зарабатывал деньги он главным образом в дружественной ему «Стар уикли», где Кранстон по-прежнему охотно печатал его статьи и очерки. Для этих очерков Хемингуэй использовал свои европейские материалы, причем вспоминал о Европе он с тоской человека, вырванного из нужной ему среды.
В очерке о фиесте в Памплоне он писал: «Когда работаешь здесь, в конторе, то кажется, что это было в другом веке… А на самом деле отсюда только четырнадцать дней пути океаном до Испании, и не нужен даже замок. Там всегда есть комната на Eslava, 5».
В нем все больше зрела решимость бросить эту газетную работу и уехать в Париж.
Впоследствии Хемингуэй писал Кранстону: «Работать под руководством Хайндмарша было все равно что служить в немецкой армии под начальством дурака-командира».
Писать для себя в этой удушающей обстановке он не мог. И это было, пожалуй, самое главное соображение в пользу отъезда в Париж. Хэдли впоследствии вспоминала: «Эрнест чувствовал, что, если мы не вырвемся поскорее из этой атмосферы, его душа — он имел в виду свое творческое начало — высохнет в нем».
На мысли об отъезде наталкивало и первое признание, которое он получил от критика, чье мнение Хемингуэй очень ценил.
В начале ноября он прочитал в «Букмен дейбук», воскресном приложении к нью-йоркской «Трибюн», где Бартон Раско вел литературный отдел, следующую заметку:
«Вчера в конце дня я навестил Мэри и Эдмунда Уилсонов, и он обратил мое внимание на любопытный материал, опубликованный Эрнестом Хемингуэем в последнем номере «Литл ревью». Галантье прислал мне экземпляр книги Хемингуэя «Три рассказа и десять стихотворений», вышедшей в Париже, и написал, что я найду ее интересной, но я еще не собрался прочитать ее. Уилсон простужен и жалуется, что в Нью-Йорке трудно себя хорошо чувствовать, это нервирует, и жители Манхэттена всегда простужены».
Эта заметка взволновала Хемингуэя — Уилсон был известным и уважаемым критиком, чьи оценки обычно были объективны и справедливы. После некоторых раздумий Эрнест решился написать Уилсону письмо, датированное 11 ноября:
«Дорогой мистер Уилсон!
В светских и литературных заметках Бартона Раско я прочитал, что Вы обратили его внимание на мои материалы в «Литл ревью».
Посылаю вам «Три рассказа и десять стихотворений». Насколько я знаю, в Штатах никто их не рецензировал. Гертруда Стайн пишет мне, что написала отзыв, но я не знаю, сумела ли она опубликовать его. В Канаде никогда ничего не узнаешь.
Я хотел бы послать несколько экземпляров для отзыва, но не знаю, следует ли делать на них дарственные надписи, что является обязательным в Париже, или нет. Поскольку моя фамилия неизвестна и книга не выглядит импозантно, она, вероятно, будет встречена так же, как ее встретил мистер Раско, который не нашел за три месяца времени прочитать экземпляр, присланный ему Галантье (он мог прочитать ее за полтора часа)…
Надеюсь, что книга Вам понравится. Если она Вас заинтересует, но можете ли Вы прислать мне фамилии четырех-пяти человек, чтобы я послал им книгу для отзыва. Это будет очень любезно с Вашей стороны. Мой адрес действителен до января, когда мы возвращаемся в Париж.
Очень благодарен Вам вне зависимости от того, найдете ли Вы время или нет.
Искренне Ваш
Эрнест Хемингуэй».
Он с волнением ожидал, придет ли ему ответ и какой. Вскоре письмо от Уилсона пришло. Критик сообщил Эрнесту, что готов написать рецензию на его книгу в журнал «Дайал». 25 ноября Хемингуэй писал Уилсону:
«Дорогой мистер Уилсон!
Большое спасибо Вам за письмо. Оно для меня очень много значит. Книжка действительно дурацкого размера. Мак-Элмон хотел издать серию маленьких книжечек Минны Лой, У. К. Уильямса и др. и решил включить и меня. Я дал ему эти рассказы и стихи. Я рад, что они вышли, и раз уж они опубликованы — это позади.
Я очень рад, что Вам кое-что понравилось. Насколько я могу судить в настоящее время, единственное мнение в Штатах, к которому я отношусь с уважением, это Ваше. Мэри Колум иногда выступает здраво. Раско проявил понимание в отношении Эллиота. Есть, наверное, и другие хорошие критики, но я их не знаю.
Я не считаю, что рассказ «Мой старик» идет от Андерсона… Я знаю, что он на меня не оказал влияния…
Может быть, отложить «Короткие заметки» для «Дайал», пока где-то в будущем месяце выйдет «в наше время», и я пришлю ее Вам? Из нее Вы сможете увидеть, чего я стараюсь добиться, и две книги уже лучше для рецензента.
Я ужасно рад, что Вам понравилось «в наше время» в «Литл ревью», и мне думается, что там я справился с задачей.
Бесполезно пытаться объяснить это, не имея книги.
Это очень любезно с Вашей стороны предлагать мне помощь в рекомендации книги издателям. Я никого из них не знаю.
Эдвард О'Брайен написал мне как-то и попросил разрешения перепечатать «Мой старик» в его сборнике «Лучшие рассказы 1923 года» и посвятить книгу мне. Поскольку сборник еще не вышел, это между нами. Он печатает и дрянь и хорошие вещи. Он спрашивал меня, есть ли у меня достаточно рассказов для книги в издательстве «Бони и Ливрайт». Не знаю, может ли он рекомендовать им ее. Если Вы не возражаете, я напишу Вам и спрошу Вас об этом, когда придет время…
Извините за слишком длинное письмо и еще раз большое спасибо за Ваше письмо и добрый совет. Мне очень хотелось бы увидеться с Вами, когда мы будем проезжать через Нью-Йорк».
Приняв решение уехать из Торонто в Париж, Хемингуэй принялся лихорадочно зарабатывать деньги, чтобы обеспечить себя и семью хотя бы на первое время в Париже. С согласия Кранстона он начал писать по две статьи для каждого номера «Стар уикли». «Скоро я буду заполнять весь этот журнал, черт бы его побрал!» — сказал он одному своему коллеге. Часть статей он подписывал псевдонимом Джон Хэдли.
Он заготовил впрок столько статей, что они продолжали печататься еще некоторое время после их отъезда.
Доктор Хемингуэй и его жена ожидали, что на рождество Эрнест с Хэдли приедут в Оук-Парк и привезут внука. Это был первый внук в семье. Однако Эрнест написал отцу, что они решили, что будет неразумно везти ребенка в Оук-Парк, так как в январе они уезжают во Францию.
Сам Эрнест накануне рождества, возвращаясь из очередной командировки, заехал в Оук-Парк на два дня, торопясь в Торонто, чтобы встретить рождество вместе с Хэдли и сыном. Там он застал свою старшую сестру Марселину, которая приехала на праздники к родителям вместе со своим мужем Стерлингом Санфордом, и между ними произошла любопытная сцена, воспроизведенная Марселиной в ее книге воспоминаний.
Родители были у себя наверху, а Марселина, Стерлинг и Эрнест сидели в гостиной у камина. Эрнест достал из кармана маленькую книжку и бросил ее на колени Марселине.
— Не показывай это родителям, Марс, — сказал он. — Это только для тебя. Прочитаешь, когда уедешь отсюда.
Марселина глянула на название — «Три рассказа и десять стихотворений», сунула книгу в сумочку и вытащила только в поезде, возвращаясь в Детройт. Она открыла ее с интересом и принялась читать первый рассказ — «У нас в Мичигане». «Как приятно, думала я, — вспоминала впоследствии Марселина, — два главных героя рассказа, мужчина и женщина, носили имена наших близких знакомых, которых мы очень любили. Их описание, особенно мужчины, было настолько точным, что когда я прочитала рассказ и поняла, что Эрнест использовал этих добрых людей для вульгарной и грязной истории, придуманной им, во мне все перевернулось. Я уверена, что родители никогда не видели эту книгу».
Такова была возмущенная реакция сестры — любящего человека — на его первую книгу.
Между тем в Торонто разыгрался последний эпизод затянувшейся схватки между Хемингуэем и Хайндмаршем. Хемингуэй получил очередное задание — проинтервьюировать венгерского дипломата графа Апоньи. Хемингуэй встретился с графом, побеседовал и взял для подкрепления своего интервью некоторые официальные документы, заверив графа, что документы будут возвращены ему.
Документы Хемингуэй переслал Хайндмаршу с запиской, в которой просил спрятать их в редакционный сейф до того, как Эрнест сможет вернуть их Апоньи. Хайндмарш прочел записку и, видимо желая нанести Хемингуэю сокрушительный удар, выбросил документы в корзину для бумаг. В конце дня, как обычно в редакции, все бумаги из корзин были сожжены в топке. Как только Хемингуэй узнал об этом, он тут же написал заявление об отставке.
19 января 1924 года Хемингуэй с женой отплыли из Нью-Йорка во Францию на пароходе «Антония».
Второй раз они пересекали Атлантику, направляясь в желанный Париж. Но теперь все выглядело иначе. Не было обеспеченной работы в газете, когда редакция оплачивала публикуемые статьи и путевые расходы. Можно было рассчитывать только на себя. К тому же их было уже не двое, а трое. В каюте лежал трехмесячный Джон Хэдли Никанор, именуемый в просторечии Бэмби. Правда, младенец, видимо, понимал, что впереди предстоят немалые испытания и от него тоже потребуется выдержка. Во всяком случае, за все двенадцать дней плавания по зимней Атлантике Бэмби ни разу не заплакал и весело смеялся, когда около него на койке воздвигалась баррикада, чтобы в штормовую погоду он не скатился на пол.
Все трое были молоды и полны оптимизма.
ГЛАВА 13 НА ВЫУЧКЕ У ГОЛОДА
Париж очень старый город, а мы были молоды, и все там было не просто — и бедность, и неожиданное богатство, и лунный свет, и справедливость или зло, и дыхание той, что лежала рядом с тобой в лунном свете.
Э. Хемингуэй, Праздник, который всегда с тобойВ Париже они нашли квартиру на улице Нотр-Дам-де-Шан, в доме 113, над лесопилкой; «Внезапное взвизгивание пилы, — вспоминал Хемингуэй в книге «Зеленые холмы Африки», — запах опилок, каштан, поднимавшийся над крышей, и сумасшедшая в нижнем этаже».
Истосковавшийся в провинциальном, надувшемся от ханжества Торонто Хемингуэй с наслаждением окунулся в бурлящую парижскую жизнь. Здесь по-прежнему, как и полгода назад, бушевали литературные споры, рождались новые «школы», возникали и умирали новые журналы.
Здесь были все старые друзья, встретившие его с радостью. Гертруда Стайн по-прежнему сидела в своей студии на улице Флерюс в окружении картин Пикассо, Брака, Матисса и поучала молодых писателей, готовых слушать ее. Эзра Паунд, как всегда, кого-то опекал и редактировал. Боб Мак-Элмон пропадал в ночных барах. Сильвия Бич занималась своей книжной лавкой и молилась на Джойса. Уильям Берд упорно крутил вручную свой печатный станок, который на этот раз оттискивал лист за листом новую книгу Хемингуэя «в наше время».
В студии у Эзры Паунда Хемингуэй познакомился с писателем Фордом Мэдоксом Фордом. Как вспоминал впоследствии Хемингуэй, это был высокий и крупный человек, «он тяжело отдувался в густые крашеные усы и держался прямо, словно ходячая, хорошо одетая пивная бочка».
Форд Мэдокс Форд был немцем по национальности (настоящая его фамилия была Хюффер), который писал на английском языке. Форд был уже немолод, перевидал на своем веку уйму разных людей, знал многих писателей старшего поколения и любил рассказывать о них бесконечные литературные анекдоты. С Джозефом Конрадом они были друзьями и даже написали вместе один роман. Он с удовольствием рассказывал, что учил Конрада писать по-английски. В Лондоне Форд с успехом издавал журнал «Инглиш ревью», в котором печатал лучших современных писателей. В конце 1923 года Форд перебрался в Париж, как в центр наиболее интенсивной литературной жизни, с тем чтобы издавать здесь новый журнал, который он решил назвать «трансатлантик ревью».
О первой встрече с Хемингуэем Форд записал в своих воспоминаниях. Хемингуэй произвел на него впечатление прежде всего тем, что внешне он никак не был похож на нарочито неряшливых обитателей Латинского квартала, которые считали, что неряшливость является неотъемлемым признаком таланта. Форд вспоминал, что Хемингуэй «выглядел как выпускник Итонского колледжа в Оксфорде, этакий рослый молодой капитан английской армии».
Само собой получилось, что Хемингуэй тут же вошел в компанию своих друзей, принимавшую горячее участие в издании «трансатлантик ревью». Более того, он добровольно и безвозмездно взял на себя обязанности заместителя редактора журнала и взвалил на свои плечи большую и кропотливую организационную и редакторскую работу.
Контора нового журнала помещалась в маленькой, похожей на птичью клетку, галерее над печатней Уильяма Берда на набережной Анжу, 29. Ф. М. Форд вспоминал, что сводчатый потолок был таким низким, что он там никогда не мог выпрямиться. Журнал печатался на том же станке семнадцатого века, и все по очереди крутили его тяжелый рычаг. За окном тихо текла серая Сена, листья платанов осыпались на набережную.
В 1932 году Форд Мэдокс Форд вспоминал: «Это были прекрасные времена в Париже, когда Уильям Берд и я, да уверен, что и Хемингуэй, не знаю почему, верили, что спасение может быть найдено в отказе от прописных букв. Мы издавали и печатали в сводчатом винном подвале, необыкновенно старом и тесном, на острове Сен-Луи с видом на Сену. В этом должно было быть спасение, к которому мы стремились, ибо мечты об удаче редко посещали нас, а сама удача никогда».
Это была шумная и веселая компания. «Если бы вы видели эти чаепития по четвергам в конторе «трансатлантик ревью», которое писалось без прописных букв! — вспоминал Ф. М. Форд. — Французы говорят о неделе с двумя четвергами. По-моему, их было шестьдесят, судя по шуму, силе легких, спорам и обвинениям. Они сидели на школьных скамьях, стоявших вокруг ручного пресса Берда… Я числился главным редактором. Они все кричали на меня: я не знаю, как писать, или знаю слишком много, чтобы уметь писать, или не знаю, как издавать, как вести счета, или как петь «Фрэнки и Дженни», или как заказывать обед… В этот шум врывался Хемингуэй, покачивающийся с носков на пятки, размахивающий перед моим носом своими большими руками и рассказывающий злые истории про парижских квартирных хозяев».
Обязанности Хемингуэя в редакции журнала были неопределенны и в силу этого весьма разнообразны. Ему приходилось читать поступавшие рукописи и писать на них рецензии. «Я обычно отправлялся на Набережную и забирал там пачки рукописей, — вспоминал Хемингуэй в одном письме. — Я должен был составлять краткий отзыв, на основании которого Форд писал письмо об отклонении произведения». Типичная резолюция Хемингуэя: «Это дерьмо, но он может написать рассказ, если будет стараться». После этого Форд, не читая рукописи, пускал в дело свой дипломатический талант и писал автору прекрасное письмо, поощряя его к дальнейшей работе.
Иногда Хемингуэй практики ради переписывал за авторов их рассказы.
В его функции входило также разыскивать для журнала новые интересные произведения. Хемингуэй старался использовать свои возможности в журнале, чтобы проталкивать неопубликованные работы своих друзей. Однажды в феврале он в страшной спешке ворвался к Гертруде Стайн и объявил ей, что они решили печатать в журнале с продолжением ее роман «Возвышение американцев», который пылился у нее в шкафу с 1912 года, и первый кусок в пятьдесят страниц нужен ему немедленно. Выяснилось, что рукопись в таком состоянии, что представить ее в редакцию невозможно. Тогда Хемингуэй собственноручно переписал и отредактировал эти пятьдесят страниц, и они были напечатаны во втором (апрельском) номере «трансатлантик ревью».
В этом же номере «трансатлантик ревью», помимо большого куска из романа Гертруды Стайн, были опубликованы отрывок из нового романа Джойса «Поминки Финегана» и рассказ самого Хемингуэя «Индейский поселок».
Тем временем шло к концу печатание книги «в наше время». Уильям Берд, большой знаток и любитель хорошо изданных книг, придавал огромное значение полиграфическому выполнению. Сборник печатался на особой необрезанной бумаге ручной выделки, много внимания было уделено обложке, которая была смонтирована из газетных заголовков, кусочков газетного текста и реклам, напечатанных красным шрифтом на бежевом фоне. Название и фамилия автора были напечатаны черным шрифтом. Немалых усилий потребовала гравировка портрета Хемингуэя работы его друга художника Майка Стрэйтера, помещенного в качестве фронтисписа. Два месяца держал книгу переплетный мастер.
Наконец в марте 1924 года все 170 экземпляров книги были готовы и поступили в продажу в магазине «Шекспир и компания» у Сильвии Бич на улице Одеон. В книге было всего 32 страницы. Материального положения Хемингуэя эта книга тоже не улучшила. Но важно было другое — книга была серьезной заявкой, она определяла направление его поисков в литературе.
Уже в апрельском номере «трансатлантик ревью» появилась первая рецензия, подписанная инициалами М. Р. Рецензента поразила краткость, концентрированность помещенных в книге рассказов-миниатюр. В статье отмечалось, что автор ухватил «те моменты, когда жизнь конденсированна, резко очерчена и наиболее выразительна, представив их в коротких зарисовках, где опущены все лишние слова. Каждая история значительно более емкая, чем кажется по количеству строк».
В первую очередь Хемингуэй отправил экземпляр книги в Нью-Йорк Эдмунду Уилсону. Сообщил он о выходе книги и в Оук-Парк родителям, и в Детройт сестре Марселине. Доктор Хемингуэй, по воспоминаниям Марселины, заказал шесть экземпляров «в наше время». А дальше разыгралась следующая история. Вскоре после этого Марселина со своей дочерью приехала в Оук-Парк навестить родителей. Она сразу почувствовала, что в доме что-то неладно — отец ходил мрачный, на лице у матери были видны следы слез. Потом она увидела, как отец на кухне увязал какой-то пакет и отнес его на почту. Мать рассказала ей, что они с отцом прочли книгу Эрнеста и были чрезвычайно шокированы ее содержанием, особенно главой X, впоследствии получившей название «Очень короткий рассказ». Отец был, по словам Марселины, крайне возмущен тем, что Эрнест настолько забыл свое христианское воспитание, что употребил в книге вульгарные выражения. Доктор Хемингуэй решил вернуть все экземпляры книги в издательство и написал сыну, что настоящий джентльмен никогда не позволит себе упомянуть о венерической болезни, кроме как в кабинете врача. После этого Эрнест перестал писать родителям.
Возня с «трансатлантик ревью» отнимала у Хемингуэя какое-то время, но отнюдь не была его главным занятием в 1924 году. Основное свое время он отдавал писательскому труду. В тот год он работал особенно интенсивно. Он писал рассказ за рассказом и посылал их в различные американские журналы. Но рассказы регулярно отклонялись.
В книге «Зеленые холмы Африки» Хемингуэй вспоминал об этом времени, «как весь тот год нас угнетало безденежье (рассказы один за другим возвращались обратно с почтой, которую опускали в отверстие, прорезанное в воротах лесопилки, и в сопроводительных записках редакций их называли не рассказами, а набросками, анекдотами, contes и т. д. Рассказы не шли, и мы питались луком и пили кагор с водой)». Однако он не унывал — ничего, что его рассказы не понимают. Он был уверен, что придет время и их поймут — точно так, как это бывает с картинами. «Нужно лишь время и вера в себя».
И тем не менее надо было каждый день есть самому и кормить жену и сына. Помогало ироническое отношение к материальным проблемам. «Голод хорошо дисциплинирует и многому учит, — писал Хемингуэй в «Празднике, который всегда с тобой». — И до тех пор пока читатели не понимают этого, ты впереди них. «Еще бы, — подумал я, — сейчас я настолько впереди них, что даже не могу обедать каждый день. Было бы неплохо, если бы они немного сократили разрыв».
Деньги, заработанные прошлой осенью в «Стар уикли», подходили к концу, «трансатлантик ревью» платил за рассказы тридцать франков за страницу, то есть 150 франков за рассказ в пять страниц. Книга «в наше время» с ее тиражом в 170 экземпляров никаких денег принести не могла.
В какой-то степени поддержал Хемингуэя случай. В кругу друзей он познакомился с музыкантом и композитором Джорджем Антейлем. Похожий на американского школьника, с русой челкой на лбу, диковатыми глазами, перебитым носом и широкой улыбкой, Джордж Антейль представлял собой довольно колоритную и характерную для Монпарнаса фигуру. Отец его был владельцем обувного магазина в городке Трентоне в штате Нью-Джерси. Все попытки отца заставить сына заниматься торговлей оказались напрасными. Мальчик хотел заниматься только музыкой. В 18 лет он удрал в Филадельфию искать свое счастье. Там на него обратила внимание богатая дама миссис Бок и стала оплачивать его обучение. Антейль стал серьезным пианистом, выступал в концертах, но в середине своей гастрольной поездки по Германии вдруг решил, что должен стать композитором, и, прервав гастроли, уехал со своей женой, венгеркой Боской, в Париж. Миссис Бок была очень огорчена этим поступком своего протеже и прекратила оказывать ему финансовую помощь. Джордж с Боской поселились в квартирке над книжной лавкой Сильвии Бич. Это были веселые и беззаботные люди. Боска умудрялась готовить гуляш для двоих буквально на несколько су. Когда Джордж забывал ключи, а Боски не было дома, он, совершенно не стесняясь прохожих, карабкался к себе на второй этаж по стене, опираясь ногой на портрет Шекспира, висевший над входом в лавку Сильвии.
Антейль быстро сдружился с писателями, посещавшими Сильвию. Эзра Паунд написал книгу о его музыке. В 1924 году Антейль в поисках заработка стал парижским представителем незадолго до этого организованного немецкого журнала «Квершнитт», издававшегося во Франкфурте-на-Майне графом фон Веддеркопом, которого монпарнасцы шутливо называли мистер Очень Приятно, поскольку это были единственные два слова по-английски, которые он знал и постоянно повторял.
Антейль связал Хемингуэя с «Квершниттом», где Эрнесту удалось опубликовать несколько стихотворений и даже поэму «Земля Испании» — с издателями Мак-Элмоном и Бердом.
Конечно, эти случайные публикации не могли обеспечить семью Хемингуэя, и приходилось им очень туго. В книге «Праздник, который всегда с тобой» он писал об этом времени:
«Когда в Париже живешь впроголодь, есть хочется особенно сильно, потому что в витринах всех булочных выставлены всевозможные вкусные вещи, а люди едят за столиками прямо на тротуарах, и ты видишь еду и вдыхаешь ее запах. Если ты бросил журналистику и пишешь вещи, которые в Америке никто не купит, а своим домашним сказал, что приглашен кем-то на обед, то лучше всего пойти в Люксембургский сад, где на всем пути от площади Обсерватории до улицы Вожирар тебя не смутит ни вид, ни запах съестного. И можно зайти в Люксембургский музей, где картины становятся яснее, проникновеннее и прекраснее, если сосет под ложечкой и живот подвело от голода.
Пока я голодал, я научился гораздо лучше понимать Сезанна и по-настоящему постиг, как он создавал свои пейзажи. Я часто спрашивал себя, не голодал ли и он, когда работал. Но решил, что он, наверно, просто забывал поесть. Такие не слишком здравые мысли-открытия приходят в голову от бессонницы или недоедания. Позднее я решил, что Сезанн все-таки испытывал голод, но другой».
Работать Хемингуэй обычно уходил в кафе. Там можно было взять на завтрак кофе с бриошами — это стоило меньше франка — и работать в тишине весь день.
Обычно он направлялся в ближайшее от Нотр-Дам-де-Шан кафе «Клозери-де-Лила». Оно считалось одним из лучших в Париже, завсегдатаи таких фешенебельных кафе, как «Купол» и «Ротонда», никогда здесь не появлялись, и никто не приставал с разговорами. Зимой там было тепло, а весной и осенью круглые столики стояли в тени деревьев, там, где возвышалась статуя маршала Нея. Тень ложилась на бронзу его обнаженной сабли.
В книге «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэй вспоминал об одном из таких дней:
«Я сел в углу — так, чтобы через мое плечо падали лучи вечернего солнца, и стал писать в блокноте. Официант принес мне cafe-creme, я подождал, пока он остыл, выпил полчашки и, отодвинув чашку, продолжал писать. Когда я кончил писать, мне не хотелось расставаться с рекой, с форелью в заводи, со вздувшейся у свай водой. Это был рассказ о возвращении с войны, но война в нем не упоминалась». Это писался рассказ «На Биг-Ривер».
В 1925 году Хемингуэй говорил одному своему приятелю: «Я пишу медленно и с большим трудом, и для этого моя голова не должна быть ничем забита. Когда я пишу, я должен пережить все это». В этом «переживании» был ключ к его методу воссоздания действительности. Не описательство, а сотворение мира, пропущенное через собственное сердце, — именно это должно было потом дать читателю ощущение такой правды, словно это случилось не с героем, а с ним, с читателем. В той же книге «Праздник, который всегда с тобой» есть драгоценный отрывок, воспроизводящий этот процесс творчества:
«Синие блокноты, два карандаша и точилка (карманный нож слишком быстро съедает карандаш), мраморные столики, запах раннего утра, свежий и всеочищающий, да немного удачи — вот и все, что требовалось. А удачу должны принести конский каштан и кроличья лапка в правом кармане. Мех кроличьей лапки давным-давно стерся, а косточки и сухожилия стали как полированные. Когти царапали подкладку кармана, и ты знал, что твоя удача с тобой.
В иные дни все шло хорошо и удавалось написать так, что ты видел этот край, мог пройти через сосновый лес и просеку, а оттуда подняться на обрыв и окинуть взглядом холмы за излучиной озера. Случалось, кончик карандаша ломался в воронке точилки, и тогда ты открывал маленькое лезвие перочинного ножа, чтобы вычистить точилку, или же тщательно заострял карандаш острым лезвием, а затем продевал руку в пропитанные соленым потом ремни рюкзака, вскидывал его, просовывал вторую руку и начинал спускаться к озеру, чувствуя под мокасинами сосновые иглы, а на спине — тяжесть рюкзака».
Нет никаких сомнений, что и это воспоминание относится к моменту создания рассказа «На Биг-Ривер», который Хемингуэй любил и всегда считал одним из лучших своих произведений.
Когда писался этот рассказ, Хемингуэй пытался теоретически осмыслить свои взгляды на проблему соотношения жизненного материала и вымысла в художественном произведении. «На Биг-Ривер» в первом варианте завершался большим внутренним монологом Ника Адамса, его размышлениями о специфике литературного творчества. При этом Хемингуэй ссылался на примеры своих друзей-писателей и анализировал их сильные и слабые стороны. Потом Хемингуэй почувствовал, что этот внутренний монолог разрушает целостность рассказа, и выкинул его. Сохранился черновик, представляющий немалый интерес для понимания тогдашних раздумий Хемингуэя.
«Единственная стоящая литература, — писал он, — это когда создаешь, придумываешь». И далее утверждал, что слабость Джойса проявляется именно тогда, когда он копирует жизнь, когда в герое своего романа «Улисс» Дедалусе Джойс изображает самого себя. Выдуманные же Джойсом характеры, как, например, Блум, превосходны. Такой же недостаток, считал Хемингуэй, мешает творчеству Мак-Элмона, который «работает слишком близко к жизни».
«Жизнь надо изучать, — писал Хемингуэй, — и затем создавать своих собственных героев… Ник (Адамс) в рассказах никогда не был самим автором. Он создал Ника. Конечно, он никогда не видел, как индианка рожала ребенка. И поэтому в рассказе это получилось хорошо. Он видел рожавшую женщину на дороге в Карагач и пытался помочь ей. Вот как это было на самом деле.
(Ник) хотел стать великим писателем. Он был уверен, что станет им… Он, Ник, хотел написать о земле так, как если бы ее рисовал Сезанн… Он точно представлял себе, как бы нарисовал Сезанн этот изгиб реки».
Эта проблема соотношения реальной жизни и ее воплощения в произведении всегда занимала критиков, изучавших творчество Хемингуэя, давая повод для множества превратных толкований, сводившихся зачастую к полному отождествлению автора с его героями.
Уже после смерти Хемингуэя друг его молодости американский прогрессивный поэт Арчибальд Мак-Лиш в своих воспоминаниях дал очень верный ключ к пониманию этой проблемы жизни и творчества Хемингуэя. «Писателей обычно судят по их творчеству, — писал Мак-Лиш, — но жизнь Хемингуэя с такой угрожающей силой врывается в его творчество, что критики никак не могут сойтись в своих мнениях… Они неправильно понимают взаимоотношения между задачей писателя и его жизнью. Они считают жизнь и творчество различными и даже противоречащими вещами. Критик осуждающий полагает, что жизнь Хемингуэя была предательством по отношению к его обязанностям — вы не должны часами сражаться с марлином и смотреть, как убивают 1500 быков, если вы серьезно относитесь к своему писательскому мастерству. Восторженный критик думает об обязанностях как о побочных явлениях по отношению к жизни — вы застрелили гризли, а потом вы напишете об этом. Никто из них не понимает простого факта, что творчество — настоящее творчество — не является простым производным от отдельного изолированного опыта и не является изолированным созданием изолированного человека».
Хемингуэй продолжал писать биографию своего героя Ника Адамса. В тот год были написаны рассказ «Индейский поселок», рассказ «Доктор и его жена», в котором, помимо отца и матери, он вывел в качестве третьего действующего лица своего старого знакомца по индейскому поселку Дика Боултона, отца Труди, и упомянул Билли Тэйбшо, рассказы «На Биг-Ривер» и «Кросс по снегу». Последний рассказ был навеян воспоминаниями о поездках в Шварцвальд и катании на лыжах с гор. В этом рассказе слышны отклики настроений Хемингуэя прошлого, 1923 года, когда ему и Хэдли предстояло возвращаться в Канаду.
«— Что, Эллен ждет ребенка? — спросил Джордж, отделившись от стены и тоже ставя локти на стол.
— Да.
— Скоро?
— В конце лета.
— Ты рад?
— Да. Теперь рад.
— Вы вернетесь в Штаты?
— Очевидно.
— Тебе хочется?
— Нет.
— А Эллен?
— Тоже нет.
Джордж помолчал. Он смотрел на пустую бутылку и на пустые стаканы.
— Скверно, да? — спросил он.
— Нет, ничего, — ответил Ник».
Примерно в это же время Хемингуэй написал рассказ «Мистер и миссис Эллиот», открывавший новую тему в его творчестве — тему американских экспатриантов, обосновавшихся во Франции. Здесь прозвучали отголоски того иронического, даже презрительного отношения к состоятельным американцам, из снобизма занимающимся литературой, которым была пронизана одна из первых его парижских статей в «Стар уикли» в 1922 году, «Американская богема в Париже», и которое потом нашло свое законченное выражение в образе Роберта Кона в романе «И восходит солнце». Хемингуэй в этом рассказе создал характерный тип американского так называемого «интеллектуала», взращенного пуританской средой, поиздевался над их инфантилизмом в жизни и дилетантизмом в литературе.
О своем герое Хемингуэй писал так:
«Он был поэтом и имел около десяти тысяч долларов годового дохода. Он писал очень длинные стихотворения и очень быстро. Ему было двадцать пять лет, и он ни разу не спал с женщиной до того, как женился на миссис Эллиот. Он хотел остаться чистым, чтобы принести своей жене ту же душевную и телесную чистоту, какую ожидал найти в ней. Про себя он называл это — вести нравственную жизнь. Он несколько раз был влюблен до того, как поцеловал миссис Эллиот, и рано или поздно сообщал каждой девушке, что до сих пор хранит целомудрие. После этого почти все они переставали им интересоваться».
Не без влияния уроков мисс Стайн Хемингуэй на протяжении всего рассказа обыгрывал, добиваясь каждый раз нового иронического эффекта, фразу: «Мистер и миссис Эллиот очень старались иметь ребенка».
Коротко, достигая максимальной выразительности, воссоздавал Хемингуэй пустую и бессодержательную жизнь, которую вели эти американцы во Франции, их стремление быть все время на людях, потому что сами они себе неинтересны. Не забыл он подчеркнуть и тот характерный факт, что мистер Эллиот собирался издавать книгу стихов за свой собственный счет. Печальным аккордом этой жизни звучала последняя фраза, завершавшая рассказ:
«Вечером они все вместе обедали в саду под платаном; дул горячий вечерний ветер, Эллиот пил белое вино, миссис Эллиот и подруга разговаривали, и все они были вполне счастливы».
Этот рассказ был напечатан в осеннем номере журнала Маргарет Андерсон «Литл ревью».
Хемингуэй много работал, однако до сих пор ему удавалось только изредка печататься в маленьких парижских журналах, издававшихся на английском языке, которые платили ничтожно малый гонорар, да в немецком «Квершнитте». Редакции американских журналов, куда он посылал свои рассказы, по-прежнему возвращали их с отказами. Жить было очень трудно.
«С точки зрения любых норм мы по-прежнему были очень бедны, и я все еще, чтобы немного сэкономить, говорил жене, что приглашен на обед, а потом два часа гулял в Люксембургском саду и, вернувшись, рассказывал ей, как великолепен был обед. Если не обедать, когда тебе двадцать пять и ты сложен как тяжеловес, голод становится нестерпимым. Но голод обостряет восприятие, и я заметил, что многие люди, о которых я писал, имели волчий аппетит, любили хорошо поесть и в подавляющем большинстве всегда были не прочь выпить».
Во время своих голодных прогулок по Люксембургскому саду Хемингуэй обычно проходил мимо недавно поставленного здесь бюста Флобера, о котором впоследствии писал: «Того, в кого мы верили, кого любили, не помышляя о критике». Он преклонялся перед самодисциплиной Флобера и часто говорил о его примере. Американский поэт Джон Бишоп, вспоминая о своих парижских встречах с Хемингуэем, писал, что больше, чем у кого-либо из других писателей, Хемингуэй учился у Флобера, учился его самодисциплине.
Никакая бедность не могла заставить Хемингуэя пойти против своей писательской совести и начать писать ради денег. В «Празднике, который всегда с тобой» он писал:
«Я знал, что должен написать роман, но эта задача казалась непосильной, раз мне с трудом давались даже абзацы, которые были лишь выжимкой того, из чего делаются романы. Нужно было попробовать писать более длинные рассказы, словно тренируясь к бегу на более длинную дистанцию. Когда я писал свой роман, тот, который украли с чемоданом на Лионском вокзале, я еще не утратил лирической легкости юности, такой же непрочной и обманчивой, как сама юность. Я понимал, что, быть может, и хорошо, что этот роман пропал, но понимал и другое: я должен написать новый. Но начну я его лишь тогда, когда уже не смогу больше откладывать. Будь я проклят, если напишу роман только ради того, чтобы обедать каждый день! Я начну его, когда не смогу заниматься ничем другим и иного выбора у меня не будет.
Пусть потребность становится все настоятельнее. А тем временем я напишу длинный рассказ о том, что знаю лучше всего».
В этом отрывке все важно — и понимание того, что утрата рукописей, написанных им в Северном Мичигане, в Чикаго и в первый год жизни в Париже, быть может, полезна для его писательской биографии, потому что после ему пришлось садиться перед чистым листом бумаги уже более зрелым, и глубокая убежденность, что начинать писать новое произведение он должен только тогда, когда почувствует в этом внутреннюю необходимость. «Будь я проклят, если напишу роман только ради того, чтобы обедать каждый день!»
Он предпочитал отправиться в гимнастический зал на улице Понтуаз и заработать там по десять франков за раунд, выступая партнером для тренирующихся профессиональных боксеров-тяжеловесов. Или поехать на скачки в Отейл или Энгиен и поставить там какие-нибудь деньги на приглянувшуюся лошадь. Случалось выигрывать.
На литературных чаепитиях у Ф. М. Форда Эрнест познакомился и даже подружился с молодым американцем Гарольдом Лебом, сыном известного банкира, партнера богатейшего банкирского дома «Кун и Леб». По матери Гарольд Леб был родственником миллионеров Гугенхеймов и Ротшильдов. Он окончил Принстонский университет и хотел посвятить себя литературе, в США он выпускал эстетский журнальчик под названием «Брум» («Метла»).
С Лебом Эрнест главным образом играл в теннис и иногда занимался боксом.
Подружился Эрнест и с талантливым американским юмористом Дональдом Огденом Стюартом, с которым познакомился еще прошлой весной в Париже.
Частым гостем и приятелем Хемингуэя стал американский писатель Джон Дос Пассос, с которым Эрнест впервые познакомился в Доломитовых Альпах в 1918 году, а потом встречал в Париже в прошлый приезд. У Дос Пассоса за спиной было уже два изданных романа, один из которых — «Три солдата» — Хемингуэю нравился.
С Дос Пассосом Эрнесту было интересно поговорить о литературе, о писательском мастерстве.
Об одной из таких бесед вспоминает в своей автобиографии Линкольн Стеффенс. Они ужинали вчетвером в китайском ресторанчике — четвертой была невеста Стеффенса Элла Уинтер, — и Хемингуэй вместе с Дос Пассосом принялись уверять молодую женщину, что писать может каждый.
— Вы можете, — говорил Хемингуэй, нанося символический удар левой по челюсти Эллы Уинтер. — Это ад. Это выкачивает из вас почти все. Это почти убивает вас, но вы можете это делать. Каждый может. Даже вы, Стефф… Вы можете писать. Каждый может. Это ад, и я еще не научился этому, но я научусь.
Вспоминая об этом эпизоде, Стеффенс писал: «Я думаю, он считал, что литература — это вопрос честности и труда».
Финансовые дела «трансатлантик ревью» шли из рук вон плохо, и Форд решил отправиться в Америку в лекционное турне, чтобы заработать денег и попробовать найти там богатого мецената, который согласился бы поддержать журнал. На время своего отсутствия Форд оставил во главе журнала Хемингуэя.
Впоследствии Форд не без юмора вспоминал об этом эпизоде: «Когда я уехал в Нью-Йорк, я доверил журнал ему. Я дал ему строгие инструкции, кого не печатать, а главное — кого не сокращать. Последний смертельный враг, которого он мне нажил, умер вчера. Хемингуэй сократил его статью и все вообще статьи моих самых лелеемых и самых страшных для меня авторов. Зато он напечатал всех своих диких друзей полностью».
Эрнест действительно поместил в очередном номере журнала повесть Дос Пассоса, рассказ Натана Аша, сына известного еврейского писателя Шолома Аша, статью Гая Хикока, еще один отрывок из книги Гертруды Стайн «Возвращение американцев».
Тем временем подошло лето, и Эрнест с Хэдли опять решили побывать в Испании на бое быков. На этот раз их сопровождала большая компания друзей, воодушевленных рассказами Эрнеста о корриде, — Билл Берд с женой, Дос Пассос, Дональд Стюарт, Боб Мак-Элмон. В Памплоне к ним присоединился и Чинк Дорман Смит.
Фиеста удалась на славу — они веселились, пили с крестьянами во всех кабачках, плясали, дурачились. Дональд Стюарт доказал, что он природный комик — с первого же раза, когда его затащили в круг танцевать, он с его внешностью американского профессора покорил все сердца и стал ближайшим другом всех крестьян с окрестных гор.
Роберт Мак-Элмон вспоминает в своей книге, что Эрнест в эти дни в Памплоне без конца говорил о том, что каждый должен испытать себя и выйти на арену, когда туда выпускают молодых быков и любители выходят продемонстрировать свою ловкость и мужество.
Из всей компании, кроме Эрнеста, решился выйти на арену один только Дональд Стюарт. Бык немедленно бросился на него и швырнул на землю. Отважному юмористу пришлось бы худо, если бы Эрнест, размахивая рубашкой, не отвлек быка, схватил его за рога и повалил на землю под бурные крики толпы, приветствовавшей смелого иностранца.
Когда фиеста в Памплоне кончилась, они отправились в Бургете, маленький городок в Пиренеях неподалеку от французской границы. После шума и сутолоки Памплоны здесь было тихо и почти безлюдно. На соседних холмах паслись стада овец и коз, пастухи пригоняли их в город, груженных связками дров или бурдюками с вином. В нескольких милях от города, в горах, была старая шахта и ручей, где отлично ловилась форель.
Оттуда вся компания решила пойти пешком до Андорры, но для Хэдли такая прогулка была не по силам, и Эрнест, проводив своих друзей в горы, вернулся к Хэдли и вместе с ней отправился в Париж.
В Париже его ожидало небольшое огорчение — в его отсутствие вернулся Ф. М. Форд, увидел августовский номер «трансатлантик ревью», пришел в негодование и в последнюю минуту успел вставить в номер уведомление от редакции, в котором осуждал Хемингуэя за то, что в журнале слишком преобладают произведения его молодых американских друзей, и обещал, что в следующих номерах журнал восстановит свой интернациональный характер. Эрнест обиделся.
Новое столкновение между Эрнестом и Фордом произошло, когда умер Джозеф Конрад и Форд в октябрьском номере журнала дал специальное приложение, посвященное памяти Конрада. Хемингуэй написал небольшую статью, в которой, восхваляя Конрада, попутно весьма пренебрежительно отозвался об одном из апостолов современного модернизма, американском поэте Томасе Эллиоте, жившем в Англии. «Если бы я знал, — писал Эрнест, — что сотри я мистера Эллиота в мельчайший порошок и посыпь я этим порошком могилу мистера Конрада, от чего мистер Конрад не замедлил бы воскреснуть, раздраженный неестественным возвращением к жизни, и продолжал бы писать, я завтра же чуть свет отправился бы с мясорубкой в Лондон».
Форд эту статейку напечатал, но в ноябрьском номере журнала счел нужным отмежеваться от Хемингуэя и принести Эллиоту свои извинения. «Два месяца назад, — писал Форд, — один из этих джентльменов обрушился на мистера Т. С. Эллиота… Мы долго колебались в отношении этической стороны этого дела, решив в конце концов, что наши принципы должны восторжествовать. Мы пригласили этого писателя сотрудничать в журнале, мы не устанавливали рамок для его кровожадности… Сейчас мы пользуемся случаем в десятый раз выразить наше восхищение поэзией мистера Эллиота».
Хемингуэй после такого выступления Форда счел себя окончательно оскорбленным, и дружба с Фордом оборвалась.
В октябре из Нью-Йорка пришел журнал «Дайал» с рецензией Эдмунда Уилсона на обе книги Хемингуэя — «Три рассказа и десять стихотворений» и «в наше время». Это был первый отклик на его работу в Соединенных Штатах.
Рецензия Эдмунда Уилсона называлась «Гравюры мистера Хемингуэя». Критик начинал ее с утверждения, что стихотворения Хемингуэя не представляют особого интереса, но его проза отличается высокими качествами. Далее Уилсон указывал на влияние Шервуда Андерсона и Гертруды Стайн на молодого автора и утверждал, что эти трое писателей уже создали собственную школу. «Характерным для этой школы является безыскусственность языка, часто переходящая в речевую обрисовку персонажей, которая служит для передачи глубоких эмоций и сложных движений души. Это отчетливое американское развитие в прозе».
Однако, отметив влияние Андерсона и Стайн на первые рассказы Хемингуэя, Уилсон подчеркивал, что Хемингуэй отнюдь не подражатель. «Напротив, — писал он, — Хемингуэй скорое поразительно оригинален и в сухих, сжатых миниатюрах книги «в наше время» почти изобрел свою собственную форму». Процитировав полностью миниатюру «Шестерых министров расстреляли в половине седьмого утра…», критик приходил к выводу, что автор «добивается явного успеха в подсказывании определенных моральных ценностей серией простых утверждений такого типа».
Далее шла наиболее значительная часть рецензии:
«Его более важная книга названа «в наше время», и за ее холодной объективной манерой воссоздается бедственная картина жестокостей того мира, в котором мы живем: вы видите не только политические казни, но и казни преступников, бой быков, убийства, совершаемые полицией, жестокости и ужасы войны. Мистер Хемингуэй невозмутим, рассказывая нам о всех этих вещах, он не пропагандирует даже гуманность. Его зарисовки боя быков обладают сухой остротой и изяществом литографий боя быков Гойи. И, подобно Гойе, он заинтересован прежде всего в том, чтобы создать прекрасную картину. Будучи слишком гордым художником, чтобы упрощать ради традиционных требований, он показывает вам, что такое жизнь. И я склонен думать, — писал Уилсон, — что его маленькая книжка имеет больше художественных достоинств, чем что бы то ни было написанное в американской литературе со времени войны. Это, по-видимому, не только самая яркая, но и самая глубокая книга».
Не понравился Эдмунду Уилсону рассказ «У нас в Мичигане» за его грубоватость, и раскритиковал он манеру печатать название книги без заглавных букв, считая это модернистским изыском.
Уже 18 октября — сразу после получения журнала «Дайал» — Хемингуэй отправил Эдмунду Уилсону письмо, которое представляет определенный интерес, поскольку в нем Хемингуэй говорит о своей работе и, в частности, поясняет замысел построения новой книги, получившей название «В наше время» — на этот раз уже с заглавной буквы.
«Дорогой Уилсон!
Огромное Вам спасибо за рецензию в октябрьском номере «Дайал». Она мне очень понравилась. Вы совершенно правы в отношении заглавных букв — мне это кажется очень глупым и волнует меня, — но Берд печатал «в наше время» сам, и это единственное развлечение, которое выпало на его долю, и я думаю, что он мог позволить себе повалять дурака на свой собственный манер, поскольку он не вмешивался в текст.
Я ужасно рад, что книга Вам понравилась.
Мы живем очень спокойно, много работаем, исключением была поездка в Испанию, в Памплону, где мы отлично провели время, и я много узнал о бое быков, то, что происходит за сценой. Было множество более мелких приключений.
Я работаю как дьявол большую часть времени, и мне кажется, что пишу лучше. Заканчиваю книгу из 14 рассказов, а между рассказами главки из «в наше время» — так задумано, — чтобы дать общую картину, перемежая ее изучением в деталях. Это подобно тому, как вы смотрите невооруженным глазом на что-то, скажем, проезжая мимо берега, а потом рассматриваете его в 15-кратный бинокль. Или, быть может, скорее так — смотреть на берег издали, а потом поехать и пожить там, а потом уехать и посмотреть опять издали.
…Я думаю, книга Вам понравится, в ней есть единство. В некоторых рассказах, написанных после книги «в наше время», мне удалось четко описать и людей, и место действия. Чувствуешь себя хорошо, когда можешь сделать такое. Мне кажется, что я как будто добился желаемого».
Из этого письма видно, что план новой книги «В наше время» к октябрю 1924 года уже сложился и новые рассказы, вошедшие в книгу, были уже написаны. Важно здесь и свидетельство самого автора о принципе композиции книги. Сочетание больших рассказов с миниатюрами из прошлой книги давало ему искомое — подробное исследование духовного мира своего героя Ника Адамса, истории его возмужания и рядом осколочное видение окружающего жестокого мира с войнами, убийствами, насильственной смертью.
В новую книгу он включил два рассказа из первой своей книги — «Мой старик» и «Не в сезон», напечатанный к тому времени рассказ «Индейский поселок», рассказ «Мистер и миссис Эллиот», который был принят осенний номер журнала «Литл ревью», рассказы «Донор и его жена» и «Кросс по снегу», которые были напечатаны в декабрьском номере «трансатлантик ревью» за 924 год и в январском номере того же журнала, после его «трансатлантик ревью» закончил свое существование.
Биография Ника Адамса развивалась в новых рассказах: «Что-то кончилось», «Трехдневная непогода», «Чемпион».
В рассказе «Что-то кончилось» Хемингуэй исследовал процесс умирания любви. С абсолютной, как всегда, точностью Хемингуэй описал Хортон-Бей — городок, вымерший после того, как закрыли лесопильный завод.
«Шхуна вышла из бухты в открытое озеро, унося на борту, поверх теса, которым был забит трюм, две большие пилы, тележку для подвоза бревен к вращающимся круглым пилам, все валы, колеса, приводные ремни и металлические части. Грузовой люк был затянут брезентом, туго перевязан канатами, и она на всех ярусах вышла в открытое озеро, унося на борту все, то делало завод заводом, а Хортон-Бей — городом.
Одноэтажные бараки, столовая, заводская лавка, контора и сам завод стояли заброшенные среди опилок, покрывавших целые акры болотистого луга вдоль берега бухты».
На этом печальном фоне умирания и разворачивалась рама умирания любви между Ником Адамсом и девушкой с памятным Хемингуэю именем Марджори. В этой цене нет никаких драматических слов и жестов, все происходит обыденно, слова все самые простые. Ник говорит Марджори:
«— Скучно. Все стало скучно.
Она молчала. Он снова заговорил:
— У меня такое чувство, будто все во мне оборвалось. Не знаю, Марджори. Не знаю, что тебе сказать.
Он все еще смотрел ей в спину.
— И любить скучно? — спросила Марджори.
— Да, — сказал Ник. Марджори встала. Ник сидел, опустив голову на руки».
А в финале рассказа, когда Марджори уже ушла, появляется друг Ника по имени Билл, и становится ясным, что здесь взяла верх мужская дружба.
Естественным продолжением этого рассказа стал рассказ «Трехдневная непогода». В нем те же двое друзей Ник и Билл выпивают и болтают о любимых книжках, о бейсболе, о рыбной ловле, а кончается все это разговором о той же Марджори. Билл убеждает Ника, что тот поступил правильно, порвав с Марджори, потому что иначе ему нужно было бы жениться, а «раз уже человек женится, пропащее дело. Больше ему надеяться не на что. Крышка. Спета его песенка». А Ник молча про себя переживает этот разрыв.
«Он знал только одно: когда-то у него была Марджори, а теперь он ее потерял. Она ушла, он прогнал ее. Все остальное не имело никакого значения. Может быть, он никогда больше ее не увидит…
Раньше Ник собирался уехать домой и подыскать работу. Потом решил остаться на зиму в Шарльвуа, чтобы быть поближе к Марджори. Теперь он сам не знал, что ему делать».
Важное место в новой книге занимал рассказ «Дома». Это рассказ о солдате, вернувшемся домой после войны. И хотя здесь Хемингуэй дал герою иное имя — Кребс, но это продолжение той же биографии. В рассказе воспроизведены все те переживания, которые испытал сам Хемингуэй, вернувшись с войны. Это драма возникшей пропасти между сыном и родителями, смятения человека, который, вернувшись с фронта, не может найти своего места в жизни, а родители тем временем настаивают, чтобы он искал себе работу. И разговор между матерью и сыном, видимо, очень напоминал разговоры, происходившие в доме Хемингуэев в Оук-Парке.
«— Бог всем велит работать, — сказала мать. — В царстве божьем не должно быть лентяев.
— Я не в царстве божьем, — ответил Кребс.
— Все мы в царстве божьем.
— Это все? — спросил Кребс.
— Да. Разве ты не любишь свою мать, милый мой мальчик?
— Да, не люблю, — сказал Кребс.
Мать смотрела на него через стол. Ее глаза блестели. На них навернулись слезы.
— Я никого не люблю, — сказал Кребс.
Безнадежное дело. Он не мог растолковать ей, не мог заставить ее понять. Глупо было говорить так».
В рассказе «Чемпион» Хемингуэй обратился к воспоминаниям своей юности. Тормозной сбросил Ника с поезда, и парень набрел на таких же бродяг, как и он, из которых один оказался бывшим чемпионом бокса, свихнувшимся и больным, а второй — негром, из доброты ухаживающим за бывшим боксером.
Рядом с уже упоминавшимся рассказом «Мистер и миссис Эллиот, Хемингуэй поставил новый рассказ «Кошка под дождем». Это рассказ тоже про американцев, скитающихся по Европе.
Составляя новую книгу, Хемингуэй взял две миниатюры из книги «в наше время» и поместил как рассказы, назвав один «Самый короткий рассказ», а другой — «Революционер».
Книга была готова. Оставалось продать ее.
В это время появился в Париже черноволосый красавец поэт, похожий на героя кинофильма, с поэтической внешностью, «отмеченный, — как писал о ном впоследствии Хемингуэй, — печатью смерти», Эрнест Уолш. Он остановился в самом роскошном и дорогом Парижском отеле «Кларидж», ездил в сверкающем огромном лимузине этого отеля в сопровождении двух прелестных блондинок в норковых манто, с которыми он познакомился на пароходе во время путешествия из Нью-Йорка.
Кончилась эта эпопея довольно странно. Однажды Сильвия Бич получила записку из отеля «Кларидж» от Эрнеста Уолша, с которым не была знакома. Уолш писал ей, что у него есть к ней рекомендательное письмо от кого-то из Чикаго. Он извинялся, что не может сам прийти к ней, так как болен и лежит в постели. Кроме того, он сообщал, что деньги у него кончились и если его не выкупят, то администрация отеля выселит его и пожалуется в полицию. Девицы, обнаружив, что у него больше нет денег, исчезли. К счастью для Уолша, у него было также рекомендательное письмо к Эзре Паунду, который обожал спасать молодых поэтов и немедленно бросился на выручку.
Вскоре Уолш появился у Сильвии Бич в сопровождении своей новой приятельницы, Этель Мурхед, состоятельной шотландки, которая прославилась как суфражистка. Они вдвоем решили издавать журнал «Куотер». Уолш действительно был безнадежно болен туберкулезом и знал, что ему отпущены считанные годы. Штаб-квартирой нового журнала они решили сделать Ривьеру, так как парижский климат был опасен для Уолша.
Эзра Паунд познакомил Уолша с Хемингуэем, и это знакомство имело потом некоторые последствия.
В это же время Хемингуэй познакомился с американским поэтом Арчибальдом Мак-Лишем, поселившимся в Париже, и это знакомство переросло в многолетнюю дружбу.
Однако, кроме работы и светских развлечений, был еще быт — семья, маленький ребенок. Хемингуэй оказался на редкость заботливым и трогательным отцом. Нанять человека, который присматривал бы за ребенком, они не могли, и приходилось все делать самим. В «Празднике, который всегда с тобой» Хемингуэй вспоминает, как он рано утром вставал, кипятил соски и бутылочки, готовил молочную смесь, разливал ее по бутылочкам и давал мистеру Бэмби, который лежал в своей высокой кроватке с сеткой в обществе большого преданного кота по кличке Ф. Кис.
Сильвия Бич вспоминала, как она однажды утром забежала к Хемингуэям и была поражена тем, с каким умением Хемингуэй купал Бэмби. Папа Хемингуэй был чрезвычайно горд такой похвалой и спросил, не кажется ли ей, что он мог бы прекрасно работать нянькой.
Еще до того, как Бэмби научился ходить, он стал частым посетителем лавки «Шекспир и компания». Сильвия прозвала его своим «вторым лучшим клиентом». Хемингуэй по-прежнему часто являлся к Сильвии, теперь уже вместе с Бэмби, и читал последние газеты и журналы, осторожно держа сына под мышкой, правда, иногда немножко вниз головой. Что касается самого Бэмби, вспоминала Сильвия, то он был всем доволен, когда был со своим обожаемым папой. Иногда Хемингуэй сажал его на высокий стул, и малыш спокойно озирал библиотеку со своего насеста, терпеливо ожидая, пока отец кончит просматривать журналы и снимет его. Потом они уходили, но еще не домой, поскольку надо было дать Хэдли время без помех заняться домашним хозяйством, а в ближайшее бистро. Там они садились за столик, перед каждым стоял положенный ему напиток — перед Бэмби гренадин, — и они серьезно, как два товарища, обсуждали какие-то свои проблемы. Бэмби, по свидетельству своего отца, никогда не плакал, интересовался всем происходящим и никогда не скучал.
Однако зимой им пришлось трудно с ребенком. Хемингуэй писал об этом периоде:
«Когда нас стало трое, а не просто двое, холод и дожди в конце концов выгнали нас зимой из Парижа. Если ты один, то можно к ним привыкнуть, и они уже ничему не мешают. Я всегда мог пойти писать в кафе и работать все утро на одном cafe-creme, пока официанты убирали и подметали, а в кафе постепенно становилось теплее. Моя жена могла играть на рояле в холодном помещении, надев на себя несколько свитеров, чтобы согреться, и возвращалась домой, чтобы покормить Бэмби… Но наш Париж был слишком холодным для него».
В конце ноября они уехали в горы — в Австрию, в Форарльберг, в местечко Шрунс. Поезд шел через Лихтенштейн и останавливался в Блуденце, откуда вдоль речки с каменистым дном, где водилась форель, поезд шел до Шрунса через лесистую долину. Шрунс был маленький городок, залитый солнцем, с лесопилками, лавками, гостиницами и хорошим зимним отелем «Таубе», где они жили.
В Шрунсе им всем троим было хорошо. Местная няня вывозила Бэмби в санках на солнышко и присматривала за ним, пес по кличке Шнаутс дружил с Бэмби и бежал рядом с саночками. А отец и мать в это время взбирались на горы и спускались оттуда на лыжах. Лифтов и фуникулеров тогда там не было, и они взбирались по тропам лесорубов и пастухов. А если отправлялись в многодневную прогулку к ледникам, приходилось тащить на себе дрова и провизию.
В эту зиму, пока они ходили на лыжах в Шрунсе, произошло очень важное для Хемингуэя событие — американские издательства наконец обратили внимание на его рассказы. Произошло это следующим образом. Критик Эдмунд Уилсон познакомил с его рассказами тогда уже широко известного и очень популярного в Соединенных Штатах молодого писателя Скотта Фицджеральда. Увлекающийся, импульсивный Фицджеральд пришел в восторг и принялся убеждать своего редактора в издательстве «Скрибнер» Макса Перкинса завязать отношения с Хемингуэем. Перкинс был человеком незаурядным, отличавшимся великолепным литературным вкусом, любовью к литературе и желанием помогать молодым писателям. Впоследствии он стал одним из ближайших друзей Хемингуэя, и эта дружба длилась вплоть до смерти Перкинса. Макс Перкинс охотно прислушался к горячим увещеваниям Фицджеральда, который уже в течение пяти лет с большим успехом печатался в издательстве «Скрибнер», и 21 февраля 1925 года послал Хемингуэю письмо с предложением установить деловой контакт на предмет издания его книги. Однако адрес Хемингуэя, который дали Перкинсу, оказался неточным, и письмо не дошло. 26 февраля Перкинс узнал у Джона Бишопа, что Хемингуэю надо писать на адрес книжной лавки Сильвии Бич, и немедленно отправил ему второе письмо, вложив в конверт и копию первого письма.
Между тем случилось так, что как раз в это же время другие поклонники таланта Хемингуэя столь же горячо пропагандировали его творчество в другом крупном американском издательстве — «Бони и Ливрайт». Шервуд Андерсон, бывший одним из главных авторов «Бони и Ливрайт», вспоминает в своих мемуарах, что он пошел к Горэсу Ливрайту и ходатайствовал за издание книги рассказов Хемингуэя. О Хемингуэе говорил в этом издательстве и Эдвард О'Брайен. В результате один из редакторов «Бони и Ливрайт» отправил Хемингуэю на адрес Сильвии Бич телеграмму с предложением аванса в 200 долларов за книгу рассказов и просьбой немедленно сообщить телеграфом согласие. Телеграмма эта попала к Хемингуэю раньше, чем второе письмо Макса Перкинса. Хемингуэй ответил согласием. Когда же до него дошло письмо Перкинса, он уже подписал договор с «Бони и Ливрайт», о чем и сообщил Перкинсу в письме от 15 апреля 1925 года.
Условиями договора с «Бони и Ливрайт» предусматривалось, что Хемингуэй передает им свою книгу рассказов «В наше время» и право издания двух своих последующих книг. Если издательство в течение 60 дней со дня получения рукописи следующей книги не издаст ее или откажется издавать, оно теряет право на издание третьей.
Уже из Парижа он отправил Шервуду Андерсону письмо, в котором благодарил его за помощь в издательство «Бони и Ливрайт» и писал, как много для него значит, что рассказы приняты и, таким образом, с ними покончено, и он может освободить свои мозги для будущей работы.
ГЛАВА 14 «ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Да, по-моему, это было разбитое поколение, разбитое во многих отношениях. Но — черт возьми! — мы вовсе не погибли, конечно, кроме погибших, искалеченных и явно сошедших с ума. Погибшее поколение! — нет… Мы были очень выносливым поколением…
Э. Хемингуэй, Из интервьюВ марте они вернулись из Шрунса в Париж.
Вновь Хемингуэй окунулся в это бурлящее море, в эту шумную и безалаберную жизнь Латинского квартала, в этот богемный космополитический котел, где варились представители самых разных наций. В тот год здесь было особенно много американцев.
Форд Мэдокс Форд вспоминал об этом времени: «Молодая Америка, освобожденная, ринулась из необъятных прерий в Париж. Они ринулись сюда как сумасшедшие жеребята, когда убирают изгородь между вытоптанным пастбищем и свежим. Шум от их нашествия заглушил все остальные звуки. Их бесчисленные отряды ободрали даже деревья на Бульварах. От их бесконечного движения начинала кружиться голова. Опавшие листья платанов, эти отличительные знаки серого спокойного Парижа, хрустели у них под ногами и исчезали, как снежинки в море».
Жизнь этой Банды, как называл ее Боб Мак-Элмон, протекала в непрерывном шатании из одного кафе в другое, в устройстве пьяных вечеринок, в тяжелом похмелье по утрам, в драках в ночных барах. Здесь все были знакомы друг с другом, мелкое честолюбие удовлетворялось тем, что человека знали как постоянного посетителя кафе «Купол» или, что было еще значительнее, «Ротонды» на перекрестке бульваров Монпарнас и Распай. Как писал Хемингуэй, «в какой-то мере эти кафе дарили такое же кратковременное бессмертие, как столбцы газетной хроники».
В этой Банде Левого берега были свои звезды, вокруг которых крутились спутники. Такой заметной фигурой Левого берега была англичанка леди Дафф Твисден, высокая, темноволосая женщина лет тридцати, с чуть раскосыми глазами. Она славилась своим богатым прошлым, обилием поклонников и способностью в огромных количествах поглощать спиртные напитки. Рядом с ней обычно маячила пьяная фигура джентльмена из Шотландии Пата Гатри, бездельника, который вечно был в долгах. В Дафф Твисден было нечто, трудно поддающееся определению, что неудержимо влекло к ней мужчин. Быть может, это был своеобразный стиль этой женщины, а может, бездумная легкость, с которой она относилась к жизни.
В этом веселом круговороте Левого берега Хемингуэй чувствовал себя как рыба в воде. Закончив дневную работу, он с удовольствием встречался с друзьями, выпивал с ними, спорил, регулярно посещал матчи бокса, велосипедные гонки, скачки. Он умел веселиться и развлекаться, в любых компаниях Хемингуэй оказывался своим человеком, интересным собеседником за рюмкой чего-нибудь крепкого, азартным зрителем любого спортивного зрелища. Отличался он от своих приятелей по веселью, пожалуй, тем, что, искренне участвуя в этом непрекращающемся празднике жизни, он в то же время оставался пристальным наблюдателем. Как подметила Гертруда Стайн, у него были глаза не столько интересные, сколько интересующиеся. Он внутренне фиксировал атмосферу, ее детали, характерные черточки поведения людей, их манеру разговаривать, общаться друг с другом. В нем жила убежденность, что все это нужно ему как писателю, и он копил в себе эти наблюдения, ощущения, эти людские характеры.
И его покорила женственность и безалаберность Дафф Твисден. Между ними возникли странные отношения — это была дружба, за которой стояло нечто большее, чего они сами, видимо, старались не касаться. Много лет спустя, когда Хэдли спросили об этом, она сказала: «Дафф! Она была красива. Смела и красива. Настоящая леди и очень во вкусе мужчин. Она пользовалась большим успехом, но и к женщинам относилась хорошо. Словом, хороша была во всех отношениях… Была ли у них связь? Возможно, но наверняка сказать не могу. Это не из таких тем, на которые мужья распространяются со своими женами, не правда ли? Думаю, что случаи всякие бывали, но в общем это женщины были от него без ума. Мне кажется, Дафф была очень неравнодушна к Эрнесту… Так что был ли у них роман? Не думаю. Но что может знать бедная жена?..» Сама Дафф Твисден высказалась на этот счет тоже довольно туманно. Когда Хемингуэя стали отождествлять с его героем Джейком Барнсом и шептаться о его мужской неполноценности, она с улыбкой говорила: «Бессилие Хемингуэя — это его жена и ребенок». Слова довольно многозначительные.
Когда Эрнест вернулся в Париж из Шрунса, к нему прибежал Гарольд Леб поздравлять Хемингуэя с тем, что оба они теперь будут издаваться в одном и том же издательстве «Бони и Ливрайт». В честь такого события Леб пригласил Эрнеста и Хэдли поужинать вместе с ним и его любовницей Китти Канелл. За ужином Китти познакомила их с двумя своими приятельницами, сестрами Пфейфер, Полиной и Вирджинией. Старшая из них, Полина, работала в парижском издании журнала мод «Вог». Их отец был президентом «Пиготт Кастом Джин Компани» в городе Пиготте в Арканзасе, изготовлявшей хлопчатобумажные ткани, и богатым землевладельцем. Превосходно одетая Полина с сожалением смотрела на бедненький туалет Хэдли. После того как они побывали в гостях у Хемингуэев в их квартирке над лесопилкой, Полина говорила Китти, что она была шокирована теми условиями, на которые Хемингуэй обрек свою жену и ребенка во имя искусства. Она не могла понять, как Хэдли может жить в такой обстановке.
Никакие развлечения, однако, не могли помешать Эрнесту заниматься главным его делом — литературой. Как и прежде, он с утра засаживался в пустынном кафе и писал, зная, что его никто не побеспокоит.
Были у него и другие заботы. Сразу же после приезда из Шрунса Хемингуэй со свойственной ему энергией бросился помогать Уолшу и Этель Мурхед в издании их нового журнала. Опять, как и с «трансатлантик ревью», он взял на себя массу обязанностей — он договаривался с авторами, организовывал печатание журнала, искал иллюстрации — в основном это были фотографии скульптур Бранкузи, — читал и правил гранки. В первом номере журнала, который вышел 26 мая 1925 года, были напечатаны его рассказ «На Биг-Ривер» и статья об Эзре Паунде.
Еще в марте, в разгар работы над первым номером «Куотера», из журнала «Дайал» ему вернули рассказ «Непобежденный». Рассказ этот был программным для Хемингуэя. В нем он подробнейшим образом изобразил бой быков со всеми его перипетиями, причем изобразил не внешнюю его сторону, так сказать, зрительскую, а показал бой быков глазами действующего лица — стареющего и больного матадора, одержимого одной идеей — доказать, что он еще может быть матадором, еще может убивать быков. Программность рассказа заключалась в мысли, очень дорогой и важной для Хемингуэя, что, и терпя поражение, человек может нравственно, с точки зрения «спортивности» — одного из любимых словечек Хемингуэя, — остаться непобежденным.
Редактор «Дайал» писал ему, что это прекрасный рассказ, но слишком сильный для американского читателя. Тогда Хемингуэй тут же вложил рукопись в другой конверт и отправил его на Ривьеру Уолшу. Уолш, прочитав рассказ, немедленно ответил, что принимает его. К письму был приложен чек за подписью Этель Мурхед. «Непобежденный» был напечатан в осенне-зимнем номере «Куотер» 1925/26 года. Но еще раньше, летом 1925 года, первая часть рассказа появилась в немецком журнале «Квершнитт». Вторая часть была напечатана там же в марте 1926 года.
Когда первый номер «Куотер» был целиком подготовлен, Хемингуэй решил, что он достаточно потратил сил на этот журнал, и написал Уолшу, что должен прекратить работу над журналом, чтобы заняться своими собственными делами. Ибо, когда он не пишет, он чувствует себя абсолютно несчастным и противен самому себе. Чтобы писать так, как он должен писать, его голова должна была быть свободна от всего. Если Уолшу нужен редакционный помощник, Хемингуэй рекомендовал ему своего друга юности Билла Смита, который вскоре приедет в Париж. Уолш отнесся к этой идее с подозрением. Хемингуэй обиделся, и с этих пор его отношения с журналом Уолша и с ним лично сильно охладились.
Тем временем на парижском горизонте появилась новая примечательная фигура. Однажды в мае, когда Эрнест вместе с Дафф Твисден и Патом Гатри сидели в баре «Динго», к ним подошел светловолосый молодой человек с высоким лбом, горящими, но добрыми глазами и нежным ирландским ртом. Он представился — писатель Скотт Фицджеральд. Дафф о Патом ушли, а Скотт, радуясь знакомству с Хемингуэем, продолжал безостановочно говорить.
В книге «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэй вспоминал об этой встрече:
«Скотт говорил, не умолкая, и так как его слова сильно меня смущали — он говорил только о моих произведениях и называл их гениальными, — я вместо того, чтобы слушать, внимательно его разглядывал. По нашей тогдашней этике похвала в глаза считалась прямым оскорблением… До тех пор я полагал, что сокровенная тайна о том, какой я гениальный писатель, известна только мне, моей жене и нашим близким знакомым. Я был рад, что Скотт пришел к тому же приятному выводу относительно моей потенциальной гениальности, но я был рад и тому, что красноречие его стало иссякать».
Через несколько дней они опять встретились и долго говорили о литературе. Скотт с некоторым пренебрежением говорил обо всем, что написал, и Хемингуэй понял, что новая книга Скотта, должно быть, очень хороша, если он без горечи говорит о недостатках предыдущих книг.
Скотт к тому времени был уже известным, вполне преуспевающим писателем. Тем не менее в нем были черты, поразившие и возмутившие Хемингуэя.
«Он рассказал мне, — вспоминал Хемингуэй, — как писал рассказы, которые считал хорошими — и которые действительно были хорошими, — для «Сатердей ивнинг пост», а потом перед отсылкой в редакцию переделывал их, точно зная, с помощью каких приемов их можно превратить в ходкие журнальные рассказики. Меня это возмутило, и я сказал, что, по-моему, это проституирование. Он согласился, что это проституирование, но сказал, что вынужден так поступать, потому что журналы платят ему деньги, необходимые, чтобы писать настоящие книги. Я сказал ему, что, по-моему, человек губит свой талант, если пишет хуже, чем он может писать. Скотт сказал, что сначала он пишет настоящий рассказ и то, как он потом его изменяет и портит, не может ему повредить. Я не верил этому и хотел переубедить его, но, чтобы подкрепить свою позицию, мне нужен был хоть один собственный роман, а я еще не написал ни одного романа. С тех пор как я изменил свою манеру письма, и начал избавляться от приглаживания, и попробовал создавать, вместо того чтобы описывать, писать стало радостью. Но это было отчаянно трудно, и я не знал, смогу ли написать такую большую вещь, как роман. Нередко на один абзац уходило целое утро».
Вскоре Скотт дал прочитать Хемингуэю свой последний роман «Великий Гетсби», и Эрнест признал, что это великолепная книга.
Они стали друзьями, причем, хотя Скотт был старше Хемингуэя и уже известным писателем, в их дружбе роль старшего досталась Хемингуэю. Скотт относился к нему совершенно влюбленно. Своему редактору Максуэллу Перкинсу Скотт сразу же после знакомства с Эрнестом написал: «Хемингуэй — прекрасный, обаятельный парень, и он чрезвычайно высоко оценил ваше письмо. Если Ливрайт не удовлетворит его требований, он придет к вам, а за ним будущее». Критику Менкену Скотт писал из Парижа: «Я встретил здесь подавляющее большинство американских литераторов (толпа, группирующаяся вокруг Паунда) и нашел, что в основном это ненужное старье, за исключением нескольких, вроде Хемингуэя, которые, пожалуй, думают и работают больше, чем молодые люди в Нью-Йорке».
Скотт и его жена Зельда вели в Париже весьма великосветский образ жизни, каждый вечер кончался попойкой. Зельда ревновала мужа к работе и подталкивала его на пьянство, чтобы он не мог на следующий день писать. Скотт впоследствии вспоминал это время в Париже как сплошную вечеринку, стоившую тысячу долларов. При этом у Скотта была черта, совершенно противопоказанная Хемингуэю, — Скотт преклонялся перед богатыми людьми, благоговел перед ними. Однажды он в присутствии Хемингуэя с убежденностью сказал: «Богатые не похожи на нас с вами», на что Хемингуэй ответил: «Правильно, у них денег больше».
Обычно раз в неделю они встречались втроем — Хемингуэй, Скотт и их приятель Кристиан Гаусс, профессор французской литературы в Принстонском университете, который интересовался как французской, так и американской авангардистской литературой. Обсуждали они серьезные вопросы, связанные с литературой, причем каждый раз уславливались, о чем будут говорить в следующую встречу.
Однажды у них зашел разговор о литературных влияниях. Кто-то из них вспомнил совет Стивенсона молодому писателю усердно подражать старшим писателям, пока в свое время он не найдет свой материал и свою манеру. Скотт сказал, что некоторыми сторонами своего романа о Принстонском университете «По эту сторону рая» он обязан произведениям английского писателя Комптона Маккензи. Кроме того, на него повлиял роман Джойса «Портрет художника в молодости». Хемингуэй назвал своим первым образцом книгу Шервуда Андерсона «Уайнсбург, Огайо». «Однако оба они согласились на том, — вспоминал Гаусс, — что позднее приходится расплачиваться за любую помощь, которую в период ученичества получаешь от такого подражания».
В июне этого знаменательного 1925 года Хемингуэй совершенно неожиданно для себя вдруг засел за роман. Назвал он его «Вместе с юностью». Героем романа был Ник Адамс, местом действия — военный транспорт «Чикаго», шедший июньской ночью 1918 года через Бискайский залив. Хемингуэй успел написать всего 27 страниц — в основном это были разговоры между Ником, двумя польскими офицерами, Леоном Чокиановичем и Антоном Галинским, и еще одним пьяным молодым человеком. На этих первых страницах ничего не происходило, попутчики выпивали и разговаривали. По всей вероятности, Хемингуэй уже тогда хотел воплотить в романе свой жизненный опыт и описать путешествие Ника Адамса через Бордо, Париж, Милан, описать Шио, Пьаве, свою любовь к Агнессе. Но, написав эти 27 страниц, он почувствовал, что ничего не получается. Видимо, время для такого романа еще не настало.
Еще с весны Хемингуэй мечтал о новой поездке летом на фиесту в Памплону и сколачивал хорошую компанию для этого. Кроме самого Хемингуэя, Хэдли и Билла Смита, приехавшего к этому времени в Париж, собирались ехать Дональд Стюарт и Гарольд Леб. К концу июня все было готово и договорено. Бэмби отправляли в Бретань с няней. В журнале «Квершнитт» Эрнест получил аванс под книгу о бое быков, которая должна была быть иллюстрирована рисунками Пикассо, Хуана Гриса и других художников.
Эрнест и Хэдли намеревались провести неделю в Бургете и половить там рыбу, а Билл Смит, Стюарт и Гарольд Леб должны были позже присоединиться к ним. Незадолго до намеченного срока Гарольд Леб сказал Хемингуэю, что он хочет уехать на неделю в Сен-Жуан-де-Люз к морю. При этом он не сказал только одного — что едет туда вместе с Дафф Твисден, с которой у него начался бурный роман.
Когда Дафф вернулась в Париж, она прислала Эрнесту записку на обратной стороне счета в баре: «Приходи, пожалуйста, немедленно в бар Джимми. У меня неприятности. Звонила сейчас на Парнас, но от тебя нет ни слова. SOS. Дафф». О чем она ему рассказывала? Быть может, об этой случайной связи и о том, что Гарольд успел надоесть ей. Лебу она, во всяком случае, написала, что хочет вместе с Патом приехать в Памплону — не будет ли он против? Гарольд побаивался Эрнеста, его ревности. Тогда Дафф написала ему еще одно письмо, в котором сообщала, что «Хем обещал вести себя хорошо и мы должны прекрасно провести время». Пока что она предложила провести неделю втроем с Патом в Сен-Жуан-де-Люз. Гарольд согласился и телеграфировал Эрнесту, что не приедет в Бургете, а встретится с ними в Памплоне 5 июля.
Поездка Эрнеста и Хэдли в Бургете оказалась неудачной — весной лесорубы работали на берегу реки, и рыба исчезла.
В Памплоне тоже все было не так, как в прошлые фиесты. Внешне все были веселы, но в компании чувствовалась напряженность, ее создавал Гарольд, который никак не мог примириться с мыслью, что Дафф его отвергла. Дело дошло до прямого скандала между Гарольдом и Патом Гатри, в который вмешался и Хемингуэй, закричавший на Гарольда, что он не смеет приставать к Дафф. Они чуть было не подрались.
А фиеста тем временем предлагала им свои развлечения — каждый день происходил бой быков. Кумиром публики на этот раз стал 19-летний матадор Каэтано Ордоньес, выступавший под именем Ниньо де ла Пальма. Хэдли немедленно стала его поклонницей, а Ордоньес преподнес ей ухо быка.
Фиеста кончилась, и все разъехались в разные стороны. Гарольд Леб и Билл Смит наняли машину и увезли Дафф и Пата в Байонну, Дон Стюарт уехал на Французскую Ривьеру, а Эрнест с Хэдли отправились в Мадрид, чтобы там посмотреть корриду с Каэтано Ордоньесом. Потом из Мадрида они перекочевали вслед за Ордоньесом в Валенсию.
Здесь, в Валенсии, в день своего рождения, 21 июля 1925 года, Хемингуэй начал писать новый роман. Следующая коррида должна была состояться только 24-го, у него были свободные дни, и вот он, сидя в номере гостиницы, начал писать. «Все в моем возрасте уже написали по роману, — объяснил он впоследствии, — а я все еще испытывал трудности, чтобы написать абзац».
Поначалу он хотел назвать роман «Фиеста» и начал со сцены в темной спальне гостиницы Монтойя в Памплоне, где одевается к бою молодой матадор Педро Ромеро. Хозяин гостиницы представляет ему двух молодых американцев — Джейкоба Барнса и Уильяма Гортона. Потом Джейк и Билл выходят на площадь, видят там машину американского посла, который приехал в сопровождении племянницы и некой миссис Карлтон, происходит разговор, затем друзья направляются в кафе «Ирунья», где их ждет компания, в том числе и леди Бретт Эшли.
Потом он почувствовал, что такого начала ему мало для экспозиции романа, и решил начинать с Парижа, где можно было показать своих героев в обычной для них обстановке, раскрыть их генезис, рассказать их биографию.
Из Валенсии они с Хэдли вернулись в Мадрид, здесь не было ферии и можно было достать приличную комнату. В комнате был даже стол, так что, как вспоминал Хемингуэй, «я писал в роскошной обстановке за столом». Кроме того, за углом гостиницы, на площади Альварес, был уютный пивной бар, где было прохладно и хорошо работалось.
Августовская жара выгнала их из Мадрида, и они перебрались в Андай. Там на большом прекрасном пляже был маленький дешевый отель, и работать там было тоже очень хорошо. Вскоре Хэдли уехала в Париж, чтобы подготовить квартиру к возвращению Бэмби, а Эрнест провел в Андае еще неделю. Он работал с таким напряжением, как никогда в жизни, зачастую до трех-четырех часов утра. Впоследствии Хемингуэй вспоминал об этой работе над первым своим романом: «Когда я за него принимался, я совершенно не знал, как нужно работать над романом: я писал слишком быстро и каждый день кончал только тогда, когда мне уже нечего было больше сказать. Поэтому первый вариант был очень плох».
В Париже он продолжал работать с таким же напряжением. 21 сентября он поставил на рукописи слово «конец». Вся работа над этим первым вариантом заняла шесть недель.
Написать роман в столь короткий срок можно было, только обладая невероятной работоспособностью Хемингуэя. Но было и другое обстоятельство, еще более значительное, — он писал роман о своем поколении, о людях, которых он знал до последней черточки их характера, которых наблюдал в течение нескольких лет, живя рядом с ними, выпивая с ними, споря, развлекаясь, бывая вместе на корриде в Испании. Он писал и о себе, вложив в образ Джейка Барнса свой личный опыт, многое пережитое им самим.
На обоих главных героях романа — Джейке Барнсе и Бретт Эшли — лежит проклятье прошедшей войны, которую Хемингуэй не раз называл «самой колоссальной, убийственной, плохо организованной бойней, какая только была на земле». У Джейка это ранение, вследствие которого он, оставшись мужчиной со всеми его влечениями, не может осуществлять их из-за эмоциональной травмы. У Бретт это погибший на фронте жених и исковерканная в результате жизнь.
Но зловещий отсвет войны лежит не только на них, он лежит на всем поколении, на тех, кто остался жив после войны, и, поняв, что в мире ничего не изменилось, что все красивые лозунги, призывавшие их умирать за «демократию», «родину», были ложью, что они обмануты, — растерялись, потеряли веру во что бы то ни было, утратили старые иллюзии и не обрели новых, и, опустошенные, стали прожигать свою жизнь, разменивать ее на беспробудное пьянство, разврат, поиски все новых и новых острых ощущений.
Хемингуэй вскоре решил отказаться от названия романа «Фиеста», потому что не хотел использовать иностранное слово. Уехав в Шартр, чтобы хоть немного отдохнуть от нервного напряжения, в котором он писал роман, он много думал над названием и решил назвать его «Потерянное поколение» и даже написал предисловие, объясняющее происхождение этого термина. Однажды Гертруда Стайн рассказала ему, как у ее старого «форда» что-то случилось с зажиганием, и молодой механик, который пробыл на фронте последний год войны, не сумел его исправить, и хозяин гаража после жалобы Стайн сделал ему строгий выговор, бросив, между прочим, такие обидные слова: «Все вы — потерянное поколение». Гертруда подхватила это выражение и в разговоре с Хемингуэем раздраженно уверяла его, что «все вы такие. Вся молодежь, побывавшая на войне. Вы — потерянное поколение. У вас ни к чему нет уважения. Вы все сопьетесь…».
«В тот вечер, возвращаясь домой, — вспоминал Хемингуэй в книге «Праздник, который всегда с тобой», — я думал об этом юноше из гаража и о том, что, возможно, его везли в таком же вот «форде», переоборудованном в санитарную машину. Я помню, как у них горели тормоза, когда они, набитые ранеными, спускались по горным дорогам на первой скорости… Я думал о мисс Стайн, о Шервуде Андерсоне, и об эгоизме, и о том, что лучше — духовная лень или дисциплина. Интересно, подумал я, кто же из нас потерянное поколение?.. К черту ее разговоры о потерянном поколении и все эти грязные, дешевые ярлыки».
Позднее, в ноябре 1926 года, Хемингуэй в письме Перкинсу упомянул об этой реплике Гертруды как о проявлении ее «великолепной напыщенности» и очень скептически отозвался о «претензиях Гертруды на роль пророка».
И тем не менее в его романе были запечатлены характерные черты известной части этого поколения, той его части, которая действительно была нравственно разрушена войной. Но себя самого, да и многих близких ему по духу людей, Хемингуэй не хотел причислять к «потерянному поколению».
И роман свой Хемингуэй написал отнюдь не как апологию этих нравственно опустошенных людей. Он написал о них правду, показал их такими, как они есть, и это никак нельзя назвать апологией. Но он противопоставил всей этой нищей духом, пьяной компании своего героя Джейка Барнса, который, подобно ему самому, жил среди этих людей, был среди них наблюдателем, но исповедовал иные взгляды. Джейк Барнс — человек работающий, он журналист и никогда не забывает о своем деле. Таков же и его друг, писатель Билл Гортон. Таков чистый и целомудренный парень матадор Педро Ромеро. Таковы крестьяне, с которыми они сталкиваются на фиесте в Памплоне. И наконец, есть земля, природа, которая вечна и которая тем самым противостоит всяческой человеческой накипи. В письме Перкинсу Хемингуэй писал, что «любит землю и восторгается ею, но ни в грош не ставит свое поколение и его суету сует». Эта книга, писал он, должна быть не «пустой или горькой сатирой, а проклятой трагедией, где земля остается вечной, как герой». Скотту он писал летом 1926 года, что роман этот «чертовски грустная история», показывающая, «как люди разрушают себя».
Поэтому в Шартре, раздумывая над названием романа, Хемингуэй решил поставить слова о «потерянном поколении» эпиграфом, а рядом с ним поставить другой — цитату из Екклезиаста о земле, которая пребывает вовеки. И назвать роман он решил словами из этого эпиграфа — «И восходит солнце».
Работая над романом, Хемингуэй не шел от заранее продуманной концепции, от схемы. Он не собирался кого-то судить или возвеличивать. Он шел от жизни, от живых характеров. И поэтому герои его романа не одноплановы, не мазаны одной краской — розовой или черной. Поэтому и Бретт Эшли, махнувшая на себя рукой, спившаяся, утерявшая смысл жизни, вызывает симпатию и жалость. В ней много хороших черт, она добрый товарищ, в ней нет высокомерия — как естественно и органично ведет она себя с пьяными крестьянами в кабачке в Памплоне. Она находит в себе нравственную силу уйти от матадора Ромеро, понимая, что, если останется с ним, она его погубит. Бретт так и говорит Джейку: «Не хочу я быть такой дрянью, которая занимается тем, что губит мальчишек».
Вызывает некоторые симпатии даже бездельник и пьяница, ничтожество Майкл Кэмбелл, жених Бретт. Вызывает симпатии, потому что он добрый человек. Единственный герой романа, вызывающий активную антипатию, — это Роберт Кон, богатый выпускник Принстонского университета, мнящий себя писателем, поскольку ему удалось выпустить одну книгу, самый благопристойный человек во всем романе.
За прообразами для романа Хемингуэй далеко не ходил — они жили рядом с ним, они вместе с ним только что были на ферии в Памплоне. Он, собственно говоря, и взял сюжетной основой для романа историю отношений Дафф Твисден и Гарольда Леба, только что закончившуюся поездку в Памплону. Только все это преобразовалось в его творческом сознании, герои романа вобрали в себя черты многих знакомых ему людей, в романе возник многоликий и прекрасный образ земли, образ Испании, которую он знал и любил.
5 октября 1925 года в Нью-Йорке в издательстве «Бони и Ливрайт» вышла книга Хемингуэя «В наше время». Тираж ее был 1335 экземпляров.
Слабый читательский успех книги «В наше время» объяснялся несколькими причинами. Издательство «Бони и Ливрайт» не располагало большими средствами на рекламу, и книга Хемингуэя рекламировалась весьма скромно. Сказалось и предубеждение читающей публики к писателю, живущему не в Америке, а в Париже, так сказать, «дезертировавшему».
Тем не менее серьезные американские критики заметили книгу и дружно оценили ее как заметное явление. Друг Шервуда Андерсона Пол Розенфелд в рецензии, опубликованной в «Индепендент», отмечая в книге следы влияния Андерсона и Стайн, утверждал, однако, что это новый оригинальный голос. Аллен Тейт в журнале «Нейшн» восхищался описаниями природы и особенно рассказом «На Биг-Ривер», считая его «самым лучшим описанием природы в нашем веке». Луи Кроненберг в «Сатердей ревью оф литерачюр» отрицал влияние Шервуда Андерсона и Гертруды Стайн и утверждал, что это совершенно самобытный талант. Эрнст Уолш тоже написал рецензию на книгу Хемингуэя и напечатал ее во втором номере своего журнала «Куотер». Рассказы Хемингуэя, писал Уолш, создают впечатление, что они «произросли столь же естественно, как произрастает растение». Главное достоинство молодого писателя Уолш видел в «ясности сердца». «В наши дни, — писал он, — когда мало кто знает, куда он движется, мы видим человека, который ощущает все достаточно ясно, чтобы руководствоваться в жизни своей уверенностью, и заставляет вспомнить о классической мужественности нашей эпохи». Уолш подчеркивал принципиальность и честность автора.
Единственным исключением была рецензия критика Бриккелла, который утверждал, что эту книгу вообще нельзя называть рассказами в общепринятом смысле слова. Во всей книге этому критику понравился только один рассказ — «Мой старик», о котором он сказал, что сам Андерсон не мог бы написать его лучше.
Естественно, что Хемингуэй был весьма раздражен, что его постоянно сравнивают с Андерсоном. Однажды в ноябре у него с Дос Пассосом возник разговор о книге Андерсона «Темный смех». Оба сошлись на том, что книга отмечена дурным вкусом, что она глупая и надуманная.
Возбужденный этим разговором, Хемингуэй вернулся домой и начал писать пародийную повесть «Вешние воды», высмеивающую претенциозную манеру последних романов Андерсона. Написал он ее за неделю.
Эта небольшая задорная книга послужила для Хемингуэя некоторой разрядкой между напряженнейшей работой над первым вариантом романа «И восходит солнце» и предстоявшей работой по переписыванию и переделке его. «Вешние воды» были для него своеобразным эстетическим манифестом — он заявлял, что освободился от всяких влияний тех, кого могли называть его учителями.
Написана книга была на открытом приеме, с авторскими обращениями к читателю, ясно дававшими понять, что автор не принимает свою книгу всерьез и не предлагает читателю принимать ее как-то иначе. В разгар повествования, например, врывалось такое авторское отступление: «Как раз на этом месте повествования, читатель, однажды днем к нам в дом явился мистер Ф. Скотт Фицджеральд и, пробыв довольно длительное время, неожиданно сел в камин и не захотел (а может быть, не смог?) встать, и пришлось разжигать огонь в другом месте, чтобы обогревать комнату».
Досталось в «Вешних водах» не только Шервуду Андерсону, но и Гертруде Стайн. Достаточно было уже того, что одна из глав называлась «Возвышение и падение американцев», пародируя название романа Стайн «Возвышение американцев». Пародировал он и манеру письма Гертруды Стайн, не забыв при этом упомянуть и ее имя.
Один из героев романа рассуждает так:
«Идти куда-то. Гюисманс писал так. Интересно было бы почитать по-французски. Когда-нибудь он должен попробовать. В Париже есть улица Гюисманса. Сразу за углом, где живет Гертруда Стайн. Ах, что это была за женщина! Куда вели ее эксперименты со словами? Что было за всем этим? Все это в Париже. Ах, Париж! Как далек от него сейчас Париж. Париж утром. Париж вечером. Париж ночью. Париж опять утром. Париж днем, быть может. Почему нет? Иоги Джонсон шагал дальше. Его мозг никогда не переставал работать».
Но особенно едко высмеивал Хемингуэй писательскую манеру Андерсона в его последних романах, в частности его увлечение вопросительными монологами.
«Скриппс шагал по улицам Питоски к закусочной. Он хотел бы пригласить Йоги Джонсона поужинать вместе, но не решился. Пока не решился. Это придет в свое время. Не нужно торопить события с такими людьми, как Йоги. Кто такой Йоги, в конце концов? Действительно ли он был на войне? И что значила война для него? Действительно ли он был первым человеком, который ушел на войну с заводов в Кадиллаке? И где в конце концов этот Кадиллак? Время покажет».
Всласть поиздевался Хемингуэй и над сентиментальной наивностью любовных сцен у Шервуда Андерсона:
«Скриппс потянулся вперед, чтобы взять руку старшей официантки, и она со спокойным достоинством положила свою руку в его. «Ты моя женщина», — сказал он. Слезы показались у него на глазах. «Еще раз говорю: ты моя женщина». Скриппс произносил слова торжественно. Что-то опять сломалось у него внутри. Он чувствовал, что не может удержаться от слез. «Пусть это будет наша свадебная церемония», — сказала старшая официантка. Скриппс сжал ее руку. «Ты моя женщина», — сказал он просто. «Ты мой мужчина и даже больше, чем мой мужчина. — Она смотрела в его глаза. — Ты для меня вся Америка». — «Уйдем», — сказал Скриппс».
Чтобы проверить себя, Хемингуэй прочитал роман вслух Дос Пассосу. Тот согласился, что «Темный смех» Андерсона — глупая и сентиментальная книга, но считал, что Эрнест не должен публиковать эту пародию. Хэдли соглашалась с Дос Пассосом, но переубедить Хемингуэя было невозможно. Единственным защитником «Вешних вод» оказалась Полина Пфейфер, которая к тому времени стала близкой подругой Хэдли. Она от души смеялась при чтении, выкрикивала, что это прекрасно, и убеждала Эрнеста отослать рукопись в издательство.
Хемингуэй понимал, что вряд ли издательство «Бони и Ливрайт» захочет опубликовать «Вешние воды». Несколько позднее, в декабре, он писал по этому поводу Скотту: «Я все время был уверен, что они не смогут и не захотят издавать эту книгу, поскольку она бьет под зад их теперешнего лучшего писателя, бестселлера Андерсона. У него теперь 10-е издание. Однако я ни в коей мере не думал об этом, когда писал ее».
Несмотря на все сомнения, Хемингуэй 7 декабря отправил рукопись «Вешних вод» в издательство «Бони и Ливрайт». А через несколько дней он забрал Хэдли и сына и увез их в Шрунс, чтобы там засесть за переработку романа «И восходит солнце».
«В Шрунсе работалось замечательно, — вспоминал Хемингуэй. — Я знаю это потому, что именно там мне пришлось проделать самую трудную работу в моей жизни, когда зимой 1925/26 года я превратил в роман первый вариант «И восходит солнце», набросанный за полтора месяца».
В тот год шли снежные обвалы и погибло много людей. Ходить на лыжах было нельзя. Хемингуэй много работал, а по вечерам они играли в карты с хозяином отеля герром Нельсом, директором школы горнолыжного спорта герром Лентом, городским банкиром, прокурором и капитаном жандармерии. В то время азартные игры в Австрии были запрещены, и, когда у двери останавливались два жандарма, совершавшие обход, капитан жандармерии подносил палец к уху, и все замолкали до тех пор, пока они не уходили.
Чтобы защитить лицо от солнца, которое обжигало на снегу в горах, Хемингуэй отпустил бороду, и крестьяне, встречавшие его на дорогах под Шрунсом, называли его «Черный Христос». А те, кто ходил в местный кабачок, называли его «Черный Христос, Пьющий Кирш».
На рождество в Шрунс приехала Полина Пфейфер. Уже в конце своей жизни Хемингуэй в книге «Праздник, который всегда с тобой» следующим образом описал, как к ним проникли богачи, применив способ, старый как мир.
«Он заключается в том, что молодая незамужняя женщина временно становится лучшей подругой молодой замужней женщины, приезжает погостить к мужу и жене, а потом незаметно, невинно и неумолимо делает все, чтобы женить мужа на себе. Когда муж — писатель и занят трудной работой, так что он почти все время занят и большую часть дня не может быть ни собеседником, ни спутником своей жены, появление такой подруги имеет свои преимущества, пока не выясняется, к чему оно ведет. Когда муж кончает работу, рядом с ним оказываются две привлекательные женщины. Одна — непривычная и загадочная, и, если ему не повезет, он будет любить обеих.
И тогда вместо них двоих и их ребенка их становится трое. Сначала это бодрит и радует, и некоторое время все так и идет. Все по-настоящему плохое начинается с самого невинного. И ты живешь настоящим днем, наслаждаешься тем, что имеешь, и ни о чем не думаешь. Ты лжешь, и тебе это отвратительно, и каждый день грозит все большей опасностью, но ты живешь лишь настоящим днем, как на войне».
В канун нового, 1926 года в Шрунс пришла телеграмма от Ливрайта: «Отклоняя Вешние воды терпеливо жду законченную рукопись «И восходит солнце». Надо было решать, что делать. По условиям контракта, отклоняя вторую книгу Хемингуэя, Ливрайт терял право на третью. Заинтересовались Хемингуэем и другие издательства. Луис Бромфилд сообщил Эрнесту о словах издателя Харкорта, который высказал предположение, что первый роман Хемингуэя может потрясти страну, и предлагал любую разумную сумму в качестве аванса, если Хемингуэй решит переменить издателя. Билл Брадли из издательства Нопфа тоже прислал ему запрос. Однако Хемингуэй помнил, что в свое время, отвечая Перкинсу на его письмо по поводу сборника «В наше время», он обещал Перкинсу, что тот будет первым читателем его новой книги, если ему удастся освободиться от Ливрайта. Кроме того, ему много хорошего о Перкинсе рассказывал Скотт Фицджеральд. И он решил передать рукопись «Вешних вод» издательству Скрибнера для ознакомления.
К концу января Хемингуэй закончил переработку первой части романа «И восходит солнце» и решил, что ему нужно съездить в Нью-Йорк, чтобы на месте решить все дела с издательствами. Там он встретился с Перкинсом, который сказал ему, что «Вешние воды» хорошая книга и они издадут ее, и предложил Хемингуэю аванс в полторы тысячи долларов за «Вешние воды» и роман, который был еще в работе.
На обратном пути в Шрунс, где его ждали Хэдли и Бэмби, он проезжал через Париж.
«Мне следовало сесть в первый же поезд, который отправлялся в Австрию с Восточного вокзала. Но женщина, в которую я был влюблен, была тогда в Париже, и я не сел ни в первый, ни во второй, ни в третий поезд.
Когда поезд замедлил ход у штабеля дров на станции и я снова увидел свою жену у самых путей, я подумал, что лучше мне было умереть, чем любить кого-то другого, кроме нее. Она улыбалась, а солнце освещало ее милое, загоревшее от солнца и снега лицо и красивую фигуру и превращало ее волосы в червонное золото, а около нее стоял мистер Бэмби, пухленький, светловолосый, со щеками, разрумяненными морозом…
Я любил только ее, и никого больше, и пока мы оставались вдвоем, жизнь была снова волшебной. Я хорошо работал, мы уходили в дальние прогулки, и я думал, что мы неуязвимы, — и только когда поздней весной мы покинули горы и вернулись в Париж, то, другое, началось снова».
В марте к ним в Шрунс приехали Джон Дос Пассос и Джеральд Мэрфи с женой. Мэрфи были люди весьма состоятельные, они жили в свое удовольствие и при этом любили общаться с писателями, художниками. Вспоминая об их приезде в книге «Праздник, который всегда с тобой», Хемингуэй писал о рыбе-лоцмане, которая наводит богачей на удачливых художников, писателей. Об этом человеке, которого он назвал рыбой-лоцманом, Хемингуэй написал уничтожающие слова: «Он обладает незаменимой закалкой сукиного сына и томится любовью к деньгам, которая долго остается безответной. Затем он становится богачом и передвигается вправо на ширину доллара с каждым добытым долларом». Судя по обстоятельствам приезда Мэрфи в Шрунс, Хемингуэй под рыбой-лоцманом подразумевал Дос Пассоса. Следует иметь в виду, что писались эти строки уже в конце жизни, когда Хемингуэй совершенно разошелся с Дос Пассосом после войны в Испании. А в те годы, когда Дос Пассос привез в Шрунс богачей, они еще были друзьями. О самих же Мэрфи Хемингуэй вспоминал следующим образом:
«Поддавшись обаянию этих богачей, я стал доверчивым и глупым, как пойнтер, который готов идти за любым человеком с ружьем, или как дрессированная цирковая свинья, которая наконец нашла кого-то, кто ее любит и ценит ради ее самой. То, что каждый день нужно превращать в фиесту, показалось мне чудесным открытием. Я даже прочел вслух отрывок из романа, над которым работал, а ниже этого никакой писатель пасть не может…
Когда они говорили: «Это гениально, Эрнест. Правда, гениально. Вы просто не понимаете, что это такое», — я радостно вилял хвостом и нырял в представление о жизни как о непрерывной фиесте, рассчитывая вынести на берег какую-нибудь прелестную палку вместо того, чтобы подумать: «Этим сукиным детям роман нравится — что же в нем плохо?»
После отъезда Мэрфи и Дос Пассоса Хемингуэй опять сел за переработку романа. К концу марта он ее закончил, и они вернулись в Париж.
Здесь произошла первая ссора по поводу Полины. Хэдли сказала ему, что у нее есть основания думать, что он влюблен в Полину. Эрнест вспыхнул и наговорил ей резкостей, утверждая, что она не должна касаться этого вопроса, что тем самым она рвет цепь, которая может связывать их обоих. Он считал, что вина ложится на Хэдли, потому что она заговорила об этом.
В середине мая он уехал в Мадрид. В Мадриде он опоздал на ферию, а следующая коррида была отложена. Проснувшись воскресным утром в пансионе Агвилар, он увидел в окно, что город засыпан снегом. Тогда он залез обратно в постель и начал писать. За один этот день он написал три рассказа: «Десять индейцев», «Убийцы» и «Сегодня пятница».
Из Мадрида Хемингуэй послал письмо Шервуду Андерсону, объясняя мотивы, побудившие его написать «Вешние воды», которые должны были выйти в конце мая. Он рассказал, как они в прошлом ноябре вместе с Дос Пассосом обсуждали «Темный смех» и как, вернувшись домой, он сел писать «Вешние воды». Он объяснял Андерсону, что это шутка, но шутка искренняя. Андерсон создал прекрасные произведения, но он, Хемингуэй, считает своим долгом критиковать любую плохую книгу, которую напишет Андерсон. Хемингуэй впоследствии вспоминал об этом документе как о «правильном письме» по очень трудному поводу, которое Андерсон не понял.
Тем временем Хэдли с сыном уехала в Антибы к Мэрфи, которые снимали там роскошную виллу. Неподалеку жили Мак-Лиш с женой и Скотт Фицджеральд с Зельдой. После трех недель в Испании Хемингуэй присоединился к ним. Работать здесь он не мог — кругом было слишком много людей, но одно дело он сделал: сократил начало романа «И восходит солнце», выкинув первые 15 страниц, где излагалась биография Бретт и Майкла Кэмбелла и автобиография Джейка Барнса. Об этом сокращении он тут же известил Перкинса. Тот ответил в письме, что согласен с сокращением, и написал приятные Эрнесту слова, что он считает роман «безукоризненным по выполнению. Невозможно представить себе, — писал Перкинс, — более жизненную книгу. Все эпизоды, особенно когда герои пересекают Пиренеи и приезжают в Испанию, и когда они ловят рыбу в этой холодной воде, и когда быков выпускают на волов, и когда они сражаются на арене, написаны так, что ощущение такое, словно это происходило с тобой».
28 мая 1926 года вышла книга «Вешние воды». Критика приняла со вполне доброжелательно.
В Антибы к ним приехала погостить Полина. Потом Эрнест, Хэдли и Полина уехали вместе в Памплону на июльскую фиесту. Когда они вернулись в начале августа в Антибы, все друзья были потрясены, узнав, что Хэдли и Эрнест разводятся.
Друг Хемингуэя Малкольм Каули говорил о нем: «Он романтик по натуре, и он влюбляется подобно тому, как рушится огромная сосна, сокрушающая окружающий мелкий лес. Кроме того, в нем есть пуританская жилка, которая удерживает его от флирта за коктейлем. Когда он влюбляется, он хочет жениться и жить в браке, и конец брака он воспринимает как личное поражение».
В этой ситуации с Хэдли и Полиной Эрнест далеко не был уверен, что ему следует уходить от Хэдли. Сама Хэдли вспоминала об этом так: «Эрнест не хотел разрыва, он просто не хотел поступаться своей дружбой. Но я сама шла на разрыв, я не поспевала идти с ним в ногу. И к тому же я была на восемь лет старше. Я все время ощущала усталость и думаю, что именно это и было главной причиной… Все это развивалось медленно, и Эрнест переживал это трудно. Он относился ко всему очень глубоко. Он чувствовал — что-то не так, но я настаивала. Мы и потом продолжали хорошо и дружески относиться друг к другу».
Вернувшись в Париж, они поселились отдельно, Хэдли нашла комнату в отеле «Бевуар», а Эрнест переехал в маленькую комнатку на пятом этаже позади Монпарнасского кладбища, где стояли только кровать и стол.
Здесь он засел за работу над гранками романа «И восходит солнце». Он работал целыми днями напролет, поддерживая силы черным кофе. 27 августа он отослал гранки Перкинсу. В письме он просил поставить на романе посвящение: «Эта книга посвящается Хэдли и Джону Хэдли Никанору».
Вспоминая об этом этапе своей жизни и о его завершении, Хемингуэй писал:
«Так кончился первый период моей жизни в Париже. Париж уже никогда не станет таким, каким был прежде, хотя он всегда оставался Парижем и ты менялся вместе с ним… таким был Париж в те далекие дни, когда мы были очень бедны и очень счастливы».
ГЛАВА 15 «МУЖЧИНЫ БЕЗ ЖЕНЩИН»
Ужасно легко быть бесчувственным днем, а вот ночью — это совсем другое дело.
Э. Xемингуэй, Прощай, оружие!Это было очень тяжелое для Хемингуэя время. Он болезненно переживал разрыв с Хэдли, винил во всем себя. Рассказывая Скотту о разводе, он говорил, что вся их жизнь пошла к дьяволу, как и должно быть со всякой хорошей жизнью, объяснял, какая Хэдли замечательная женщина. Встретившись с Биллом Бердом, он на вопрос, почему они разводятся, ответил кратко и безапелляционно: «Потому что я сукин сын».
Хэдли прислала ему письмо, в котором писала, что она рассматривала их брак как клятву быть с ним и в радости и в горе. Но раз он хочет развода, он должен заняться всеми правовыми вопросами, связанными с этим. Она просила решать все вопросы в письмах, чтобы не возникали ссоры и не травмировать ребенка.
Эрнест ответил ей, что она всегда была храброй, самоотверженной и великодушной. Он сообщал, что уже распорядился, чтобы весь гонорар за роман «И восходит солнце» был перечислен ей. В конце концов, писал он, она поддерживала его, когда он писал свои первые книги, и без ее постоянной, самоотверженной и любовной поддержки он ничего бы не добился. Счастье Бэмби, писал он, в том, что у него есть такая мать, как она, с ее прямодушием, замечательной головой и сердцем и любящими руками. Она была самым лучшим, самым честным, самым любимым человеком, которого он встречал в своей жизни,
Полина в это время уехала на три месяца в Штаты. Эрнест писал ей отчаянные письма, говорил о своем тяжелом моральном состоянии, признавался, что думает о самоубийстве.
С деньгами у него совсем плохо. Питался он в основном сухим картофелем, луком и вином, разбавленным водой. Тем не менее он по-прежнему, а может быть, и сильнее, чем раньше, был убежден в своем призвании и категорически отвергал всякие предложения газетной работы. Джон Бишоп в своих воспоминаниях о Хемингуэе писал о его абсолютной честности и неподкупности: «Я употребляю слово «абсолютная честность» потому, что я знал других людей, неподкупных только потому, что никто из них не имел той возможности продаться, которая угрожала Хемингуэю. Его нельзя было купить. Мне случилось быть с ним в тот день, когда он отверг предложение одного из редакторов мистера Херста, причем, если бы он принял это предложение, оно прекрасно обеспечило бы его на годы. А он в то время… питался за пять су в день, покупая у уличных торговок сушеный картофель».
Он много работал, а от одиночества бежал в толпу, главным образом на матчи бокса. Иногда они ходили на бокс вместе с Джимми Чартерсом, знаменитым барменом и бывшим боксером. Этот Джимми был своего рода достопримечательностью Парижа. Веселый и щедрый, он постоянно оказывался банкротом, но никогда не унывал и вскоре открывал свое заведение где-нибудь в новом месте, куда из любви к Джимми и ради бесплатной выпивки на «Большое Открытие» собирался весь Латинский квартал.
Впоследствии Джимми выпустил книгу воспоминаний. Хемингуэй, будучи тогда уже известным писателем, написал к этой книге предисловие.
Когда Эрнест бывал на матче один, он обычно после этого заходил в бар к Джимми, чтобы рассказать ему о матче.
Однажды в каком-то кабачке Хемингуэя встретил Джед Кайли, с которым он когда-то во время войны познакомился в Милане. В Париже Кайли издавал маленький журнальчик «Бульвардье». Кайли писал в своих воспоминаниях о Хемингуэе: «Он был крупный парень. Ему было около 25 лет, я думаю. Ему не мешало бы побриться и постричься. Его спортивный пиджак выглядел так, словно он в нем спал. Рукава были коротки, и можно было видеть густые черные волосы на широких запястьях».
Кайли помнил Хемингуэя главным образом как боксера-любителя, которому в армии предрекали будущее чемпиона в тяжелом весе. Поэтому он и спросил Хемингуэя:
— Все еще собираетесь стать чемпионом?
— Да, — ответил Хемингуэй, — но не в боксе.
— В борьбе?
— Нет… В литературе.
Вскоре после этого Кайли с двумя американскими девушками был на матче бокса и опять встретил там Хемингуэя. Во время матча Кайли поругался с одним из секундантов. Тот ударил Кайли полотенцем по лицу, Кайли собирался ответить ему, как сзади его схватили двое боксеров, и он понял, что ему сейчас придется плохо. В этот момент рядом появился Хемингуэй. Он улыбался от уха до уха, но он не шутил. Он схватил обоих боксеров за руки и отшвырнул в стороны, как маленьких детей.
Когда появились полицейские, Хемингуэя уже не было. После матча Кайли заметил, что противники поджидают его, и заторопился со своими девицами к выходу. И тут он увидел, что Хемингуэй прикрывает его отход сзади. Кайли пригласил Эрнеста в машину и тут же понял, что совершил ошибку. Девицы слышали о Хемингуэе, и все их внимание было уже обращено на него. Впрочем, сам Эрнест не проявил к девицам никакого интереса и попросил отвезти его домой.
На другом матче с Хемингуэем произошел случай, слух о котором облетел весь Париж и немало способствовал творимой о нем легенде. Матч должен был состояться между чемпионом в полусреднем весе Траве и чемпионом среднего веса Френсисом Шарлем. Хемингуэй присутствовал при том, как боксеры перед матчем взвешивались, и убедился в том, что Шарль весит намного больше Траве. Тем не менее менажер Траве решил, что бой все равно должен состояться. Хемингуэй понял, что это грязная сделка между держателями пари и менажерами.
Траве великолепно сражался 9 раундов, но на десятом раунде разница в весе дала себя знать. Шарль, известный как нечестный боксер, зажал Траве в угол и начал его зверски избивать. Зрителям стало ясно, что если матч не будет остановлен, Шарль убьет Траве. А судья между тем не останавливал схватки, и секундант Траве не выбрасывал полотенце — знак того, что боксер отказывается от продолжения боя. Публика была возмущена, стоял страшный крик, но Шарль продолжал избивать Траве. Тогда Хемингуэй выскочил на ринг и принялся колотить Шарля. Потребовалось четыре полицейских, чтобы оттащить разъяренного Хемингуэя. На следующий день весь Париж говорил о том, как писатель Хемингуэй спас жизнь боксеру Траве.
Но все эти мимолетные развлечения не могли рассеять мрачного настроения Хемингуэя. И конечно, не могли отвлечь его от работы. Сидя в своей комнатке позади кладбища, он писал новые рассказы. Здесь он написал рассказ «Канарейку в подарок», в котором нашли отражение его переживания, вызванные расставанием с Хэдли. В поезде, идущем с юга в Париж, пожилая американка рассказывает, как она предотвратила брак своей дочери со швейцарцем только потому, что, по ее мнению, из американцев получаются лучшие мужья. Чтобы утешить дочь, которая стала ко всему равнодушна, она везет ей в подарок канарейку. Рассказ кончался грустной фразой: «Мы возвращались в Париж, чтобы начать процесс о разводе».
22 октября 1926 года вышел в свет роман «И восходит солнце». Книга имела огромный успех. Уже к середине ноября было распродано 7 тысяч экземпляров. Критика приняла роман, высоко оценив мастерство молодого писателя. Правда, многим не понравились герои романа. Один критик даже писал, что их «чрезмерная моральная нечистоплотность разрушает художественные цели автора».
Многие приняли роман как апологию «потерянного поколения», не умея заглянуть поглубже и понять главную мысль писателя, выраженную им во втором эпиграфе о земле, пребывающей вечно. Эрнст Бойд, например, утверждал в «Индепендент», что Хемингуэй победоносно добавил новую главу к истории поколения, начатую романом Фицджеральда «По эту сторону рая». Хемингуэй по этому поводу с горечью писал Перкинсу: «Написать такую трагическую книгу, как эта, и чтобы они воспринимали ее как поверхностную джазовую историю».
В Париже роман вызвал особенно яростные толки. В его героях узнавали известных всему Парижу живых людей, послуживших прототипами романа. Билл Берд с удивлением обнаружил у Джейка Барнса свой излюбленный прием спроваживать друзей, мешающих работе, в бар, чтобы потом сбежать от них. Дон Стюарт нашел у Билла Гортона многие свои любимые словечки.
Гарольд Леб был сильно уязвлен, узнав себя — что было совсем не трудно — в Роберте Коне. Его любовница была настолько взбешена, прочитав, как блестяще Хемингуэй использовал ее манеру разговаривать, что на три дня слегла в постель. Дафф Твисден тоже рассердилась, но потом быстро успокоилась и, встретившись как-то с Эрнестом, сказала ему, что совершенно не задета. Она только сказала ему, что на самом доле не спала с этим проклятым матадором.
В Париже шутили, перефразируя названия популярной пьесы Пиранделло «Шесть героев в поисках автора», что роман следовало бы назвать «Шесть героев в поисках автора — каждый с ружьем». Однако, как заметил Хемингуэй в письме к Скотту Фицджеральду, «ни одна пуля не просвистела».
Для Хемингуэя важнее всего было мнение людей, литературному вкусу которых он доверял. А они приняли книгу с восторгом. Скотт написал ему из Вашингтона, что он радуется тому, как хорошо встретили роман в Америке. «Я не могу передать тебе, — писал он, — как много значила для меня твоя дружба в эти полтора года, — для меня это лучшее в моей поездке в Европу». Джон Бишоп показал Эрнесту письмо критика Эдмунда Уилсона, который писал, что «И восходит солнце» — лучший роман, написанный поколением Хемингуэя.
Малкольм Каули обнаружил в эту зиму, что в Нью-Йорке только и говорили о новом литературном таланте. Он вспоминал впоследствии, как, сидя в задней комнате салуна на 10-й Вест-стрит в Нью-Йорке, где собирались молодые писатели и интеллектуалы, он увидел, что «все они говорят в манере, которую я потом определил как хемингуэевскую, — жестко, сухо и доверительно. В середине вечера один из них встал, снял пиджак и стал показывать, как он стал бы управляться с быком». «Молодые люди старались напиваться так же невозмутимо, как герой романа, а молодые девушки из хороших семей проповедовали нимфоманию героини».
Характерный отклик пришел из дома, из Оук-Парка. Как свидетельствовал брат Эрнеста Лестер, когда там прочитали книгу, в доме воцарилась тягостная атмосфера, родители не знали, как им реагировать. О романе с ужасом говорили: «Эта книга». Лестер писал, что они были шокированы, как монахини, попавшие в публичный дом. Наконец мать написала Эрнесту письмо. Она сообщала, что рада тому, что книга так хорошо продается, но ей представляется «сомнительной честью» создать «самую грязную книгу года». Неужели ее сына не интересуют такие качества, как верность, благородство, честь? Он ведь должен знать и другие слова, кроме слов «проклятый» и «шлюха».
Зимой, после трехмесячного отсутствия, вернулась во Францию Полина. Эрнест встретил ее в Шербуре и отвез в горы, где проводил зимние каникулы вместе с Мак-Лишами.
К этому времени несколько стало поправляться и его материальное положение. Журнал «Скрибнерс мэгезин» купил у него три рассказа: «В другой стране», «Убийцы» и «Канарейку в подарок». Рассказ «Альпийская идиллия» взяли для антологии «Америкэн караван», а журнал «Атлантик мансли» наконец-то купил у него рассказ «Пятьдесят тысяч».
Здесь, в горах, Хемингуэй получил письмо от Перкинса, который предлагал ему составить сборник рассказов, который издательство могло бы выпустить осенью этого года.
Это предложение весьма обрадовало Хемингуэя. Он тут же ответил согласием и сообщил, что у него есть название для нового сборника — «Мужчины без женщин». Он объяснял это название тем, что во всех рассказах отсутствует «смягчающее женское влияние» в результате «спортивной тренировки, дисциплины, смерти или по другим причинам».
Сборник открывался уже упоминавшимся рассказом «Непобежденный». Хемингуэй хотел включить сюда и рассказ «У нас в Мичигане», отвергнутый в свое время Ливрайтом для книги «В наше время», но Перкинс воспротивился.
Несколько рассказов представляли собой продолжение и развитие биографии Ника Адамса. В «Десяти индейцах» Ник возвращался вечером из города с праздника 4 июля в фургоне вместе с Джо Гарнером и его семьей. По дороге им попалось девять пьяных индейцев. Друзья дразнят Ника тем, что он ухаживает за индейской девочкой Пруденс Митчел. А дома отец невзначай рассказывает ему, что видел его Пруди в лесу вместе с другим парнем. «Они недурно проводили время», — замечает отец. Ник уходит к себе в комнату и лежит там, чувствуя, что сердце разбито.
«Когда он проснулся ночью, он услышал шум ветра в кустах болиголова около дома и прибой волн о берег озера и опять уснул. Утром, когда он проснулся, дул сильный ветер, и волны набегали на берег, и он долго лежал, прежде чем вспомнил, что сердце его разбито».
Очень важную для Хемингуэя тему развивал рассказ «В чужой стране». Повествование в нем шло от первого лица, и имя Ника Адамса не упоминалось, но это кусочек все той же биографии. Дело происходит в Милане, где герой лечится в госпитале. «Осенью война все еще продолжалась, но для нас она была кончена» — так начинался рассказ. Героя и трех его товарищей-офицеров лечат массажем. Одной фразой Хемингуэй дает ощущение того политического настроения, которое наблюдалось в Италии накануне конца войны, и прямо называет носителей этого революционного духа недовольства.
«Когда нас было четверо, мы шли кратчайшим путем, через рабочий квартал. Нас ненавидели за то, что мы офицеры, и часто, когда мы проходили мимо, нам кричали из кабачков: «Abasso gli ufficiali!»3
Но главная тема рассказа была не в этом. Она раскрывалась в диалоге между героем и итальянским майором. Майор говорит ему, что человек не должен жениться.
«— Но почему человек не должен жениться?
— Нельзя ему жениться, нельзя! — сказал он сердито. — Если уж человеку суждено все терять, он не должен еще и это ставить на карту. Он должен найти то, чего нельзя потерять».
Потом герой узнает, что у майора неожиданно от воспаления легких умерла жена, на которой он женился только после того, как был окончательно признан негодным для военной службы.
Вот главная мысль рассказа, мысль, весьма занимавшая Хемингуэя, — человек «должен найти то, чего нельзя потерять».
Воспоминаниям детства был посвящен рассказ «На сон грядущий». Рассказ этот характерен тем, что в нем Хемингуэй прямо отождествляет себя с Ником Адамсом — повествование ведется от первого лица, в нем возникают прямые воспоминания Хемингуэя о его детстве, о его родителях, но в рассказе герой именуется Ником.
С биографией Ника Адамса связан и один из самых сильных, самых пронзительных рассказов Хемингуэя, «Убийцы». В закусочной маленького городка Ник с приятелем оказываются свидетелями появления двух мужчин в котелках и наглухо застегнутых пальто. Они едят, не снимая перчаток. Ник, понимая, что готовится, спрашивает их:
«— За что вы хотите убить Оле Андерсона? Что он вам сделал?
— Пока что ничего не сделал. Он нас в глаза не видал.
— И увидит только раз в жизни, — добавил Эл из кухни.
— Так за что же вы хотите убить его? — спросил Джордж.
— Нас попросил один знакомый. Просто дружеская услуга, понимаешь».
Потрясенный Ник решает пойти к Андерсону и предупредить его. Но там он наталкивается на полное безразличие этого человека, который смирился со своей участью.
«— Беда в том, — сказал он, глядя в стену, — что я никак не могу собраться с духом и выйти. Целый день лежу вот так.
— Вы бы уехали из города.
— Нет, — сказал Оле Андерсон. — Мне надоело бегать от них. — Он все глядел в стену. — Теперь уже ничего не поделаешь».
Хемингуэй, верный своему принципу опускать то, что и так понятно, не объясняя причин, по которым гангстеры должны убить Оле Андерсона. Он бросил в рассказе только один намек — Оле был боксером. Читатель, знакомый с нравами американского профессионального бокса, легко мог догадаться, что, видимо, Оле нарушил какую-то сделку держателей пари и теперь должен расплачиваться за это.
Неким сюжетным дополнением к рассказу «Убийцы», восполняющим пробел в истории Оле Андерсона, оказался рассказ «Пятьдесят тысяч». В нем Хемингуэй воссоздал атмосферу грязных сделок, обмана и предательства, существующую в Америке вокруг бокса.
Поездки Хемингуэя зимой в Австрию для катания на лыжах дали ему материал для другого рассказа — «Альпийская идиллия». В нем изложена история крестьянина, живущего высоко в горах. В декабре у него умерла жена, спуститься вниз, в долину, чтобы похоронить ее, он мог только, когда стает снег. Он убрал ее в сарай на сложенные дрова, где труп закоченел. И когда по вечерам он приходил в сарай пилить дрова, он вешал фонарь на ее отвисшую челюсть. А ведь он любил ее, как сказал он пастору, очень любил.
Близким по духу к уже упоминавшемуся рассказу «Канарейку в подарок» оказался рассказ «Белые слоны». Это тоже трагедия кончившейся любви, трагедия близких людей, которые перестают понимать друг друга. Впоследствии Хемингуэй в интервью Джорджу Плимптону рассказал, как возник замысел этого рассказа: «Я встретил девушку у Прюнье, куда я заходил поесть устриц перед ленчем. Я знал, что она сделала аборт. Я подошел, и мы разговаривали, не об этом, конечно, но по дороге домой я придумал эту историю и всю вторую половину дня писал этот рассказ».
Включил Хемингуэй в сборник и очерк «О чем говорит тебе родина?», написанный им после поездки вместе с Гаем Хикоком в марте 1927 года на машине Хикока по Италии. В очерке Хемингуэй воздерживался от прямых политических оценок, но его отвращение к фашистскому режиму Муссолини сквозит в каждой строчке этого очерка.
Тем временем развод с Хэдли был оформлен, и 10 мая 1927 года Хемингуэй обвенчался с Полиной в парижской церкви Пасси. Так как Полина была ревностной католичкой, то и ему пришлось перейти в католичество.
14 октября 1927 года вышел в свет сборник «Мужчины без женщин».
Критика встретила его новый сборник довольно сурово. Критики писали о «грубом, ограниченном мирке мистера Хемингуэя», упрекали его за то, что он занят «матадорами, боксерами, убийцами, профессиональными солдатами, проститутками, горькими пьяницами, наркоманами», утверждали, что его «вульгарные герои» попадают в «жалкие маленькие катастрофы», и сходились во мнении, что беда Хемингуэя в том, что у него нет ясной философии.
Тем не менее книга имела успех, и за три месяца было распродано 15 тысяч экземпляров.
Этой осенью Хемингуэй задумал новый роман. Максу Перкинсу он сообщил, что это будет нечто вроде современного «Тома Джонса», что он экспериментирует, пытаясь писать в третьем лице, поскольку устал от манеры изложения от первого лица, которая очень ограничивает возможности писателя.
Конец этого 1927 года прошел под несчастливой звездой. Хемингуэй простудил горло и довольно долго лежал в постели, уверенный, что это перейдет в воспаление легких или еще что-нибудь похуже. Едва он оправился от простуды, как в Монтре с ним случилась другая неприятность. Он встал ночью, чтобы посадить Бэмби на горшок, и сонный ребенок нечаянно ткнул его пальцем в глаз, повредив зрачок. Мнительный Эрнест смертельно боялся остаться слепым.
Весна 1928 года принесла новую травму. Ночью Эрнест зашел в ванную в своей квартире, стал закрывать оконную фрамугу, и она упала на него, повредив ему лоб над правым глазом.
Самым печальным было то, что все эти болезни и несчастные случаи совершенно выбивали его из рабочей колеи и он не мог писать. К начатому роману он остыл, хотя было написано уже 22 главы. Он жаловался Перкинсу, что его способность придумывать явно пострадала в результате болезни и удара по голове. Если желание писать этот роман не вспыхнет с новой силой, сообщал Хемингуэй Перкинсу, он думает оставить его и начать что-нибудь другое.
Это другое где-то смутно вырисовывалось еще в марте, до несчастья с фрамугой. Поначалу он думал написать рассказ, нечто вроде «В другой стране». Уже много лет он мысленно возвращался ко всему пережитому им в первую мировую войну и обдумывал, как использовать этот опыт. Ему хотелось написать историю о любви и о войне, взяв в качестве эпиграфа циничную строчку из Марлоу «…но это было в другой стране, и, кроме того, потаскушка умерла». И вдруг он начал понимать, что это может быть не рассказ, а настоящий роман. Роман о войне и о любви.
Так в Париже он начал работу над романом, получившим название «Прощай, оружие!».
Однако с Парижем предстояло расставание. Полина была беременна и хотела, как когда-то Хэдли, рожать только в Америке. Да и сам Эрнест чувствовал, что слишком долго живет в Париже. У него ведь было правило — не делать ничего слишком долго. В конце марта Хемингуэй с Полиной выехали в Соединенные Штаты.
ГЛАВА 16 ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
Америка была хорошая страна, а мы превратили ее черт знает во что.
Э. Хемингуэй, Зеленые холмы АфрикиМестом своего жительства в Америке Хемингуэй выбрал самый неамериканский уголок, какой можно только было найти в этой стране, — южную оконечность Флориды, Ки-Уэст, городок, куда можно было добраться только машиной или морем. Население его состояло в большинстве из кубинцев и испанцев, работавших на местных табачных фабриках или занимавшихся рыбной ловлей. Об этом местечке, представлявшем, по существу, остров, рассказал Хемингуэю Дос Пассос. Отдаленность этого городка от центров американской цивилизации, возможность заняться охотой на большую морскую рыбу и привлекли Хемингуэя.
Им здесь действительно понравилось, и они сняли себе квартиру. Эрнест по утрам писал свой новый роман, а с середины дня гулял по городу, по его окрестностям, знакомился с местными жителями. Он быстро с ними подружился; благодаря его доброжелательности, неизменному юмору, простоте в общении и, главное, может быть, его подлинному, а не наигранному интересу к людям, его приняли и признали за своего.
Одним из его друзей стал Бра Сандерс, профессиональный охотник за рыбой, знавший каждый риф, каждую отмель между Хоумстедом и Драй Тортугас. Подружился он и с Джози Расселом, хозяином местного бара. Его постоянным компаньоном по рыбной ловле стал местный житель Чарльз Томпсон, владелец сигарной фабрики, холодильника и магазина скобяных товаров. Томпсону было примерно столько же лет, как и Хемингуэю, и он был не меньшим любителем охоты и рыбной ловли, чем Эрнест.
Однажды Эрнест получил с почтой, которую переслали ему из Парижа, письмо от родителей. Они писали, что едут во Флориду, где доктор Хемингуэй вложил довольно значительный для него капитал в земельные участки. Эрнест немедленно дал им телеграмму, приглашая приехать в Ки-Уэст. При встрече с родителями он был поражен тем, как плохо выглядит отец. Кларенс Хемингуэй сильно похудел, волосы его и борода стали совсем седыми, он жаловался на диабет. Мать рядом с ним выглядела цветущей. Родители пробыли у Эрнеста несколько дней и уехали к себе в Оук-Парк.
Блаженствуя в своем райском уголке, Эрнест хотел, чтобы эту радость разделили с ним и друзья. Он писал им, приглашал приехать. Примчался Дос Пассос, приехал недавно приобретенный друг художник Уолдо Пирс, появился неизменный Билл Смит. Они вместе развлекались, удили рыбу, плавали. Потом они наняли у Бра Сандерса его рыболовную лодку «Анита» и под руководством Сандерса отправились в плаванье до Драй Тортугас. Здесь они впервые попробовали охотиться на крупную морскую рыбу. Эрнест поймал одну крупную рыбу, но она оборвала леску и ушла. Уолдо Пирс поймал семь тарпунов, которые все ушли. Наконец он сумел вытащить восьмого тарпуна, огромную рыбину в шесть футов длиной.
Бра Сандерс рассказал им тогда, как в 1919 году во время урагана в этом районе погибло испанское пассажирское судно «Вал Банера» с пятьюстами пассажиров на борту. Сандерс был первым, кто обнаружил затонувший пароход, и едва сам не погиб, пытаясь проникнуть внутрь. Эрнест слушал внимательно, его интересовали такие истории. Впоследствии этот сюжет пригодился ему для рассказа «После шторма».
В конце мая Эрнест с Полиной отправились в Пиготт в Арканзасе, где жили родители Полины. Ему понравилась мать Полины, и он с ней всегда оставался в хороших отношениях, но жизнь в чужом доме тяготила его. Он думал увезти Полину рожать в Северный Мичиган, но из этого ничего не вышло, и решено было ехать в Канзас-Сити.
И в Пиготте и в Канзас-Сити он продолжал напряженно работать над романом.
Роды у Полины были очень трудные, она промучилась восемнадцать часов, и в конце концов ей пришлось делать кесарево сечение. Она родила сына, которого назвали Патриком. Как только Полина несколько оправилась, Эрнест привез ее с ребенком в Пиготт. В былые времена, когда родился его первенец, Бэмби, Эрнест был самым заботливым отцом, теперь же новый ребенок раздражал его своим криком. При первой возможности Хемингуэй сбежал из дома родителей Полины, вернулся в Канзас-Сити, встретился там со своим старым другом Биллом Хорном, и они на машине отправились охотиться в Вайоминг.
В эти дни он довел свою суточную норму работы до семнадцати страниц. Роман близился к концу.
В Канзас-Сити и в Шеридане (штат Вайоминг) он был свидетелем предвыборной кампании, когда в президенты от республиканской партии баллотировался Гувер, и с отвращением наблюдал за грязными политическими махинациями, сопровождавшими выдвижение кандидатов.
К концу августа Хемингуэй закончил первый вариант романа «Прощай, оружие!». Он был уже достаточно опытен, чтобы понимать, что этот первый вариант потребует еще титанического труда, что придется еще переписывать, отшлифовывать, добиваясь совершенства и ясности.
Потом ему пришлось вернуться в Пиготт и провести там месяц. Он скучал, ему хотелось сесть за переработку романа, но он чувствовал, что рукопись должна еще отлежаться, он должен отдохнуть от нее и браться за переписывание со свежей головой. Из Пиготта он писал друзьям письма, исполненные тоски, ему хотелось быть сейчас где угодно — в Париже, в Испании, в Вайоминге.
Наконец было решено, что они вернутся в Ки-Уэст и там обоснуются, а в апреле к ним приедет из Франции Бэмби. Пока что они с Полиной, оставив Патрика на попечение бабушки, поехали в Чикаго, побывали в Оук-Парке у родителей Эрнеста — это был его первый визит в родной дом за пять лет, — заехали в Массачусетс, где встретили Мак-Лишей, потом остановились в Нью-Йорке. Здесь Хемингуэй познакомил Перкинса со своим новым романом, побывал на нескольких матчах бокса, повидался с Майком Стрэйтером и Уолдо Пирсом, встретился со Скоттом Фицджеральдом.
В ноябре Эрнест с Полиной, взяв с собой Патрика, приехали в Ки-Уэст, но Эрнест тут же должен был вернуться в Нью-Йорк, чтобы встретить Бэмби. На обратном пути ему в поезде вручили телеграмму от сестры Кэрол из Оук-Парка. Она сообщала о смерти отца. Эрнест поручил Бэмби попечению проводника вагона и пересел в поезд, идущий в Чикаго.
Здесь, в Оук-Парке, он узнал, как умер его отец. Доктор Кларенс Хемингуэй последнее время все сильнее страдал от диабета. Кроме того, он очень нервничал из-за своих финансовых дел. В то утро доктор Хемингуэй поднялся в свой кабинет, сжег кое-какие личные бумаги и застрелился из старого смит-вессона своего отца.
На Эрнеста самоубийство отца произвело самое тяжкое впечатление и породило в нем глубокие раздумья о моральном праве человека на самоубийство. Эти воспоминания об отце нашли свое отражение впоследствии в рассказе «Отцы и дети» и в романе «По ком звонит колокол».
Все эти события отразились в какой-то степени в романе «Прощай, оружие!». Не случайно через двадцать лет в предисловии к новому изданию «Прощай, оружие!» Хемингуэй вспоминал: «Когда я писал первый вариант, в Канзас-Сити с помощью кесарева сечения родился мой сын Патрик, а когда я работал над окончательной редакцией, в Оук-Парке, Иллинойс, застрелился мой отец… Мне всегда казалось, что отец поторопился, но, может быть, он уже больше не мог терпеть. Я очень любил отца и потому не хочу высказывать никаких суждений».
Но никакие личные переживания и беды не могли омрачить радость творчества, это было при нем, что бы ни случилось, это было то, чего нельзя потерять. В том же предисловии к изданию романа «Прощай, оружие!» 1948 года он писал:
«Я помню все эти события и все места, где мы жили, и что у нас было в тот год хорошего и что было плохого. Но еще лучше я помню ту жизнь, которой я жил в книге и которую я сам сочинял изо дня в день. Никогда еще я не был так счастлив, как сочиняя все это — страну, и людей, и то, что с ними происходило. Каждый день я перечитывал все с самого начала и потом писал дальше и каждый день останавливался, когда еще писалось хорошо и когда мне было ясно, что произойдет дальше.
Меня не огорчало, что книга получается трагической, так как я считал, что жизнь — это вообще трагедия, исход которой предрешен. Но убедиться, что можешь сочинять, и притом настолько правдиво, что самому приятно читать написанное, и начинать с этого каждый свой рабочий день, — было радостью, какой я никогда не знал раньше. Все прочее пустяки по сравнению с этим».
Книга действительно получилась трагической. Она и не могла быть иной, ибо война была трагедией и для целых народов, и для отдельной личности, втянутой в войну. Трагической оказалась и судьба американца, архитектора Фредерика Генри. Хемингуэй не рассказывал в романе предшествующей биографии своего героя, желая сделать его образ обобщенным, при всей индивидуальности, раскрывающейся в сюжете романа. Действительно, какое значение могла иметь предшествующая биография, да и была ли она у миллионов юношей, втянутых злой волей правителей в эту чудовищную бойню?
Хемингуэй слишком хорошо помнил тот «патриотический» угар призывов, лозунгов, заклинаний, который заставил и его, восемнадцатилетнего юношу, уехать добровольно на войну. В романе есть намек на это — когда знакомый бармен спрашивает у лейтенанта Генри про войну: «Зачем вы пошли?», тот отвечает: «Не знаю. По глупости». Но разговор этот происходит уже после того, как Фредерик Генри понял бессмысленность и бесчеловечность этой войны и дезертировал с фронта. А в начале романа, когда Генри служит офицером в санитарных частях итальянской армии, он еще мало что понимает. И Хемингуэй как будто ненароком показывает, что шоферы, рабочие по профессии, понимают все это гораздо лучше, чем лейтенант Генри. Один из них, Пассини, говорит ему: «Страшнее войны ничего нет. Мы тут в санитарных частях даже не можем понять, какая это страшная штука — война. А те, кто поймет, как это страшно, те уже не могут помешать этому, потому что сходят с ума. Есть люди, которым никогда не понять. Есть люди, которые боятся своих офицеров. Вот такими и делают войну». На что Генри отвечает: «Я знаю, что война — страшная вещь, но мы должны довести ее до конца».
Но шоферы знают больше, чем он, образованный и интеллигентный человек. Они говорят ему:
«— Мы думаем. Мы читаем. Мы не крестьяне. Мы механики. Но даже крестьяне не такие дураки, чтобы верить в войну. Все ненавидят эту войну.
— Страной правит класс, который глуп и ничего не понимает и не поймет никогда. Вот почему мы воюем.
— Эти люди еще наживаются на войне».
Лейтенанту Генри нужно еще было пройти через тяжелые испытания, чтобы понять все и принять решение. А пока что он утешает себя другим: «Я знал, что не погибну. В эту войну нет. Она ко мне не имела никакого отношения. Для меня она казалась не более опасной, чем война в кино. Все-таки я от души желал, чтобы она кончилась».
Фредерику Генри нужно было еще пережить любовь к медицинской сестре Кэтрин Баркли, с которой он поначалу думал завести легкую фронтовую интрижку. Фредерик Генри так и говорит: «Видит бог, я не хотел влюбляться в нее. Я ни в кого не хотел влюбляться. Но, видит бог, я влюбился».
Эта любовь в атмосфере войны, страданий, крови и смерти пронизана ощущением трагизма. Кэтрин признается своему возлюбленному: «Мне кажется, с нами случится все самое ужасное». Их только двое в этом чудовищном мире, и этот мир против них. Кэтрин так и говорит: «Ведь мы с тобой только вдвоем против всех остальных в мире. Если что-нибудь встанет между нами, мы пропали, они нас схватят».
Ощущение трагедии испытывают и другие герои романа. Фронтовой друг Генри, военный врач итальянец Ринальди, человек, обороняющийся от этого мира цинизмом, говорит о войне: «Так нельзя. Говорят вам: так нельзя. Мрак и пустота, и больше ничего нет. Больше ничего нет, слышите?»
Ими всеми владеет сознание безумия, охватившего мир. Ринальди высказывает эту мысль наиболее ярко — имея в виду сифилис, он говорит: «Это у всего мира».
Когда Хемингуэй в предисловии 1948 года писал о жизни, которую сочинял в этой книге изо дня в день, он был прав. Это было, пожалуй, первое его произведение, где он, опираясь на личный опыт, создавал в романе придуманную им жизнь, которая была правдивее в своей художественной правде, чем любая подлинная история. Он не был свидетелем разгрома итальянской армии под Капоретто, он знал подробности только от одного своего друга и из разговоров в госпитале, где лежал после ранения. Но он сумел воссоздать картину отступления армии с той силой правдивости, которая дается только большому таланту. Возможно, ему помогли воспоминания об отступлении греческой армии в Анатолии, свидетелем которого он был.
Кульминационной точкой в описании этого отступления после Капоретто в романе стал эпизод, когда толпу отступающих встречают карабинеры и, наугад выхватывая офицеров из массы солдат, тут же расстреливают их.
«Мы стояли под дождем, и нас по одному выводили на допрос и на расстрел. Ни один из допрошенных до сих пор не избежал расстрела. Они вели допрос с неподражаемым бесстрастием и законоблюстительским рвением людей, распоряжающихся чужой жизнью, в то время как их собственной ничто не угрожает».
Естественное чувство самосохранения толкает Фредерика Генри на бегство. Он не хочет оказаться жертвой этого бессмысленного, ничем не оправданного убийства. Он не знает за собой вины и не хочет отвечать своей жизнью за глупость других:
«Теперь ты с этим разделался. У тебя больше нет никаких обязательств. Если после пожара в магазине расстреливают приказчиков за то, что они говорят с акцентом, который у них всегда был, никто, конечно, не вправе ожидать, что служащие вернутся, как только торговля откроется снова. Гнев смыла река вместе с чувством долга. Впрочем, это чувство прошло еще тогда, когда рука карабинера ухватила меня за ворот. Мне хотелось снять с себя мундир, хоть я не придавал особого значения внешней стороне дела. Я сорвал звездочки, но это было просто ради удобства. Это не было вопросом чести. Я ни к кому не питал злобы. Просто я с этим покончил».
У Фредерика Генри нет никаких политических идей, он не становится убежденным противником войны, человеком действия, готовым бороться за свои новые убеждения. Нет, он индивидуалист и думает только о себе, о своей любимой женщине: «Я создан не для того, чтобы думать. Я создан для того, чтобы есть. Да, черт возьми. Есть, и пить, и спать с Кэтрин».
Мишура громких, но фальшивых слов облетела. Фредерик Генри говорит:
«Меня всегда приводят в смущение слова «священный», «славный», «жертва» и выражение «совершилось», Мы слышали их иногда, стоя под дождем, на таком расстоянии, что только отдельные выкрики долетали до нас, и читали их на плакатах, которые расклейщики, бывало, нашлепывали поверх других плакатов, но ничего священного я не видел, и то, что считалось славным, не заслуживало славы, и жертвы очень напоминали чикагские бойни, только мясо здесь просто зарывали в землю. Было много таких слов, которые уже противно было слушать, и в конце концов только названия мест сохранили достоинство».
Лейтенанта Генри не интересует остальной мир, все человечество. Он один. Он и Кэтрин. И он заключает «сепаратный мир». Он решает бежать в нейтральную Швейцарию вместе с Кэтрин.
Но оказывается, что убежать от жестокости мира нельзя, даже в нейтральную тихую Швейцарию.
Они живут там в горах, наслаждаясь тишиной, прогулками по снежным тропинкам. Кэтрин ждет ребенка. Но ведь еще раньше в романе было сказано:
«Когда люди столько мужества приносят в этот мир, мир должен убить их, чтобы сломить, и поэтому он их и убивает. Мир ломает каждого, и многие потом только крепче на изломе. Но тех, кто не хочет сломиться, он убивает. Он убивает столько добрых, и самых нежных, и самых храбрых без разбора. А если ты ни то, ни другое, ни третье, можешь быть уверен, что и тебя убьют, только без особой спешки».
И чем полнее их счастье, чем оно безмятежнее, тем острее становится ощущение хрупкости этого счастья, ибо любимый человек — это то, что можно потерять. И развязка надвигающейся трагедии не заставляет себя ждать — Кэтрин не может родить, ей делают кесарево сечение, и она умирает.
«Вот чем все кончается. Смертью. Не знаешь даже, к чему все это. Не успеваешь узнать. Тебя просто швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют. Или убьют ни за что, как Аймо. Или заразят сифилисом, как Ринальди. Но рано или поздно тебя убьют. В этом можешь быть уверен. Сиди и жди, и тебя убьют».
На этой трагической ноте заканчивался роман.
В Ки-Уэсте 22 января 1929 года Хемингуэй закончил переписывать «Прощай, оружие!». В предвидении завершения работы он попросил Максуэлла Перкинса приехать к нему в Ки-Уэст и познакомиться с рукописью. Перкинс прочитал роман и нашел его превосходным. Его только смущали некоторые словечки солдатского лексикона, которые Хемингуэй смело ввел в диалог своих героев. Перкинс выразил опасение, что Бриджес, редактор журнала «Скрибнерс мэгезин», не захочет печатать роман в своем журнале. Однако, вернувшись в Нью-Йорк, он сообщил Хемингуэю, что Бриджес разделяет его восхищение романом и предлагает сумму в 16 тысяч долларов за право опубликовать роман с продолжением. Это был самый высокий гонорар за публикацию романа в журнале, какую выплачивал «Скрибнерс мэгезин».
И все-таки Хемингуэй нервничал — он все еще не был уверен, что роман удался. Поэтому он просил приезжавших к нему друзей, вкусу которых доверял, прочитать роман и высказать свое откровенное мнение.
Он давал рукопись Стрэйтеру, Уолдо Пирсу, Дос Пассосу, которого считал очень суровым критиком. Каждый из них подтвердил, что роман ему не просто удался, что это событие.
В апреле Хемингуэй со всей семьей, включая Бэмби и свою сестру Санни, отправился в Париж. Здесь он засел за работу над журнальными гранками «Прощай, оружие!» и продолжал отшлифовывать текст романа. Особенно волновал его самый конец романа, где Фредерик узнает в больнице о смерти Кэтрин. Эту последнюю страницу он переписал 39 раз.
5 июня из Нью-Йорка пришли гранки книги, и Хемингуэй опять принялся переписывать. Он старался задержать гранки как можно дольше, чтобы иметь еще день-два на работу. И только 24 июня он наконец был удовлетворен и написал Перкинсу, что теперь ему удалось написать «новый и гораздо лучший конец».
С майского номера роман начал печататься с продолжением в «Скрибнерс мэгезин». Интерес к роману оказался подогрет появившимся в печати сообщением, что начальник полиции Бостона запретил продажу в этом городе июньского и июльского номеров журнала, считая это произведение слишком безнравственным для такого пуританского города, как Бостон.
Теперь, когда все, что можно было сделать, было сделано, Хемингуэй начал отдыхать и развлекаться в своем любимом Париже. Он ежедневно по утрам занимался боксом в спортивном зале Американского клуба, посещал велосипедные гонки, выпивал в своих излюбленных кафе и барах.
В это лето в Париже появился старый знакомый Хемингуэя по Торонто канадец Морли Каллаган, который, как и предсказывал ему Эрнест, действительно стал писателем. Каллаган пытался найти Хемингуэя в Париже, но не знал адреса. Однако Эрнест услышал о его приезде и сам явился к нему в гостиницу. Они в это лето часто встречались, вместе боксировали, разговаривали о литературе. Каллаган потом написал книгу воспоминаний, названную им «То лето в Париже», и зафиксировал в ней некоторые любопытные разговоры, которые они вели с Эрнестом.
Хемингуэй дал Каллагану прочитать гранки романа «Прощай, оружие!». Тот выразил свое восхищение и сказал, что эта книга гораздо значительнее, чем «И восходит солнце». Эрнест засмеялся: «И восходит солнце» была из тех книг, которые пишутся за шесть недель». Но ведь это редкий случай, настаивал Каллаган, когда рецензенты так тепло принимают книгу, и редко когда они оказываются настолько правы. Хемингуэй при этих словах сразу посерьезнел и стал говорить с убежденностью, которая заставила Каллагана, как он пишет, ощутить, сколько у Хемингуэя еще не раскрытых мыслей о писательском ремесле: «Помни всегда одно. Если ты добился успеха, ты добился его по неправильным причинам. Если ты становишься популярным, это всегда из-за худших сторон твоей работы. Они всегда восхваляют тебя за худшие стороны. Это всегда так».
В этих словах Хемингуэя чувствуется горький осадок, оставшийся от того в общем неправильного понимания, которым был встречен критикой роман «И восходит солнце». Есть в этой позиции Хемингуэя и противоречие, столь свойственное не только ему, но и многим писателям во всякие времена. Он искренне говорил о том, что если критика тебя хвалит, то за худшие стороны твоей работы. И в то же время на протяжении всей жизни всегда с нетерпением ждал отзывов критики на новое свое произведение, волновался, возмущался, иногда готов был даже физически расправиться с тем или иным критиком, плохо отозвавшимся о его работе. Правда, надо отдать ему должное — американская критика зачастую была к нему весьма несправедлива. А в нем жило писательское честолюбие — он хотел быть в американской литературе чемпионом.
В другом разговоре с Каллаганом Хемингуэй высказал свое отношение к воплощению философских идей в художественном произведении. Писатель, говорил он, всегда попадает в неприятности, когда начинает думать на страницах своей рукописи. Он позволяет читателю видеть, как героя заставляют высказывать авторские мысли. Каллаган спорил с ним. Не отвергает ли он таким образом обобщенный взгляд на жизнь? Ведь он соглашается с тем, что метафизические проблемы являются неотъемлемой частью жизни человека? Может быть, отвечал Хемингуэй, но он не доверяет метафизике, всяким абстрактным идеям. Дело писателя описывать то, что конкретно, то, что его персонаж может чувствовать, пробовать, ощущать, и его мысли должны вытекать из конкретных ощущений.
Хемингуэй, конечно, не отрицал роли философских концепций в духовной жизни человека, но он был глубоко убежден, что мысли героя произведения должны органично вытекать из его конкретных ощущений.
Каллагана интересовала еще одна сторона индивидуальности Хемингуэя. К этому времени Хемингуэй поссорился со многими своими старыми друзьями. Более того, он стал казаться заносчивым, чрезмерно обидчивым, готов был вспыхнуть из-за какого-нибудь пустяка, чуть ли не подраться.
Все это было так. И каждый такой случай подхватывался желтой прессой, раздувался, создавалась легенда о «грубияне» Хемингуэе, «драчуне» Хемингуэе. Но, во-первых, старые друзья не всегда вели себя достойно и порой заслуживали, чтобы им действительно дали по физиономии. Так, например, Роберт Мак-Элмон, старый приятель, издавший когда-то первую книжечку Хемингуэя, несостоявшийся писатель, снедаемый завистью к успеху Хемингуэя, стал распускать о нем самые грязные сплетни, уверяя, что Эрнест избивал Хэдли, что он гомосексуалист и тому подобное. А Хемингуэй тем временем уговорил Перкинса издать книгу Мак-Элмона. Когда Каллаган встретился в Нью-Йорке с Перкинсом и за завтраком упомянул имя Мак-Элмона, Перкинс рассказал ему, что только из уважения к Хемингуэю издательство решило опубликовать роман Мак-Элмона. Но Мак-Элмон приехал в Нью-Йорк и, завтракая с Перкинсом, стал выкладывать ему все свои грязные сплетни о Хемингуэе, не зная, что именно Эрнест просил издательство издать его книгу. Перкинс сказал Каллагану: «Я рассказываю вам об этом потому, что Мак-Элмон ваш друг. Вы, вероятно, тоже удивлялись, что Хемингуэй забыл его. Так вот, он его не забыл. Меня не волнует, если вы расскажете Мак-Элмону, почему мы отказались печатать его книгу. Я даже надеюсь, что вы расскажете ему это».
Были и другие случаи. Так, Хемингуэй резко изменил свое отношение к Форду Мэдоксу Форду, с которым его когда-то связывали дружеские отношения и который в самом начале писательской карьеры Эрнеста написал, что Хемингуэй «лучший писатель Америки». Этот окончательный разрыв с Фордом был, несомненно, вызван открытым переходом Форда в лагерь реакции. По тем или иным причинам Хемингуэй отвергал многих своих старых друзей. А ведь он был мягким, любящим человеком. Раздумывая над этим вопросом, Каллаган высказывал весьма вероятное предположение, что, может быть, у Хемингуэя была тайная потребность защитить свое «я» от всех, кто мог в чем-то претендовать на влияние, оказанное на его творчество.
В это же лето Хемингуэй познакомился в Париже с литератором и переводчиком Самуэлем Путнамом, который впоследствии написал книгу воспоминаний «Париж был нашей любовницей». В ней Путнам рассказал о своих встречах с Хемингуэем. На Путнама самое большое впечатление произвела убежденность Хемингуэя, что главное в писательском деле — труд. «Когда легко пишется — плохо читается» — эту формулу Хемингуэй много раз повторял Путнаму. И еще он придавал огромное значение работе над языком. «Первое и самое важное, во всяком случае для писателя сегодня, — говорил он, — это обнажить язык и сделать его чистым, очистить его до костей, а это требует работы».
В июле Хемингуэй вновь был в своей любимой Памплоне на фиесте, о которой он так тосковал в прошлый год, когда был прикован к Америке. Ему хотелось опять полюбоваться мастерством своего любимца Каэтано Ордоньеса, выступавшего под именем Ниньо де ла Пальма. В этот год Ниньо де ла Пальма состязался с Бельмонте, считавшимся величайшим матадором Испании. Но с Ниньо де ла Пальма на этот раз что-то случилось, его выступления были «серией поражений». «Было больно смотреть, — писал Хемингуэй, — на его страх, когда он шел убивать быка. Весь сезон он убивал быков так, чтобы опасность была минимальной». Таков был конец прекрасного мальчика-матадора, выведенного Хемингуэем в романе «И восходит солнце» под именем Педро Ромеро.
Как и в былые времена, Хемингуэю, мечтавшему еще с 1925 года написать книгу о бое быков, хотелось быть как можно ближе к этому смертельному поединку, понять и ощутить, что чувствует матадор, что руководит его действиями. Иногда, когда выпускали молодых быков и любители демонстрировали на них свою смелость и умение, Хемингуэй сам выбегал на арену. Но он был для этого плохо приспособлен. «Моя фигура, — говорил он, — неподходящих размеров, я слишком толст в тех местах, где нужна гибкость, и на арене я оказывался не чем другим, как манекеном или мишенью для быка». Его спасало то, что быки, с которыми разрешалось забавляться любителям, были со сточенными рогами. Иначе, говорил Хемингуэй, его бы «распороли, как бумажный пакет».
Счастливый случай помог Хемингуэю оказаться в непосредственной близости к бою быков. В тот год сенсацией стали выступления нового молодого матадора — Сиднея Франклина. Сенсацией было уже то, что в Испании выступает матадор-неиспанец. Настоящая фамилия Франклина была Фрумкин, родители его были евреи из России, сам он вырос в Бруклине, искусству боя быков выучился в Мексике и теперь начал выступать в Испании.
Впоследствии Франклин написал книгу воспоминаний, в которой рассказал историю своего знакомства с Хемингуэем. Он сидел со своими поклонниками в кафе на Гран Виа, когда официант передал ему, что какой-то американец хочет поговорить с ним. Франклин привык, что многие американцы, попав в трудное положение, обращаются к нему за помощью. По всей видимости, это был именно такой случай — человек, который подошел к их столику, был сильно небрит, ему не мешало постричься, на нем был потрепанный костюм, выглядевший так, словно в последний раз его гладили во время мировой войны. Сидней уже полез в карман за деньгами, когда выяснилось, что человек хочет с ним поговорить. Он назвал свою фамилию, но Франклину она ничего не сказала, ибо, как большинство матадоров, он читал только то, что касалось боя быков.
Оказалось, что этого человека по фамилии Хемингуэй тоже интересует бой быков. К удивлению Сиднея, новый знакомый очень много знал об этом предмете. Он к тому же удивительно точно подбирал английские выражения для специфических терминов, которые, как казалось Сиднею, невозможно перевести на английский.
Хемингуэй пригласил Франклина позавтракать вместе с ним, но матадор, решив, что у его потрепанного приятеля нет денег, пригласил его к себе. Здесь этот странный человек опять удивил Сиднея — он знал о блюдах и винах, которые подавали в этом испанском доме, больше, чем матадор. За завтраком Хемингуэй рассказал Сиднею свою мечту — он хотел бы поездить по стране вместе с ним. Франклин намекнул, что эти поездки будут стоить немалых денег. Хемингуэй ответил, что надеется выдержать такие расходы.
На следующий день Франклин сообщил ему, что посоветовался со своими товарищами по куадрилье и они решили, что могут взять с собой еще одного человека в свой караван из двадцати с лишним машин. Хемингуэй был растроган. «Я не знаю, чем это было вызвано, — вспоминал Франклин, — но я видел, как повлажнели его глаза». Другая проблема заключалась в том, что все билеты на бои быков с участием Франклина были заранее распроданы. Тогда Сидней сказал, что если его новый знакомый не возражает посмотреть бой быков вблизи, находясь на арене, то он сможет это устроить. Хемингуэй радостно согласился.
Так началось их совместное путешествие по корридам. Вечерами они подолгу разговаривали. Хемингуэй расспрашивал Франклина о бое быков в самых разных аспектах. Но и, в свою очередь, рассказывал Франклину о некоторых старинных приемах матадоров прошлого. Однажды он посоветовал Сиднею попробовать продемонстрировать на арене кое-что из таких приемов, которых не видели в Испании лет пятьдесят. Сидней попробовал — эффект был поразительный, началась целая дискуссия на страницах газет, журналисты допытывались у Франклина, откуда он мог узнать эти приемы.
В дальнейшем они разработали систему сигналов — Хемингуэй давал понять матадору, как выглядят его действия с точки зрения зрителей и что он должен делать дальше. Это был их секрет. Франклин признавал, что эта помощь помогла ему стать кумиром испанской публики. Сидней в течение долгого времени не знал, кто такой его приятель. «Я не считал нужным рассказывать ему, что я писатель, — писал Хемингуэй, — и так мы провели несколько недель вместе в поездках по Испании. Наконец кто-то сказал ему, что я писатель, но он с трудом в это поверил. Я это принял как комплимент».
После этой поездки по Испании Хемингуэй, как и в былые годы, отдохнул в Андае и 20 сентября вернулся в Париж. 22 сентября 1929 года роман «Прощай, оружие!» вышел в свет. 28-го Перкинс прислал ему телеграмму: «Первые отзывы отличные. Перспективы хорошие». Критики действительно встретили новый роман шумным одобрением. Больше других Хемингуэю пришелся по душе отзыв Хатчинсона в «Нью-Йорк таймс», который писал: «История любви между англичанкой медицинской сестрой и американским офицером Санитарного корпуса, любви несчастной, как у Ромео и Джульетты, является высшим достижением в литературном направлении, которое можно определить как новый романтизм». Хемингуэй и сам часто говорил о своем романе, что это современная повесть о Ромео и Джульетте.
В Париже, в лавке у Сильвии Бич, Хемингуэй познакомился с критиком Алленом Тейтом, чьи отзывы на его произведения давно обратили внимание писателя. Правда, они тут же сцепились в споре, потому что Хемингуэю не нравилось, что Аллен Тейт утверждал, что в его произведениях чувствуется влияние Дефо и Марриэта. Однако споры спорами, а Хемингуэю очень хотелось знать мнение этого острого критика о новом своем романе. Он принес книгу в гостиницу Аллену, когда тот лежал больной. На следующее утро Эрнест опять явился и, услышав слова Тейта, что это шедевр, помчался вниз по лестнице, обрадованный как ребенок.
Книга имела в Америке небывалый успех — к середине октября было продано уже 28 тысяч экземпляров. Распродаже книги не повредил даже разразившийся в октябре страшный биржевой крах, потрясший всю Америку и на многие годы определивший кризис всей экономики Соединенных Штатов.
Между тем подошло время возвращаться на родину.
ГЛАВА 17 ВОДЫ ГОЛЬФСТРИМА И ЛЕСА ВАЙОМИНГА
…и теперь, в тридцать восемь лет, Ник любил охоту и рыбную ловлю не меньше, чем в тот день, когда отец впервые взял его с собой. Эта страсть никогда не теряла силы…
Э. Хемингуэй, Отцы и детиВ начале февраля 1930 года они вернулись в Ки-Уэст. Их приятельница Лорин, жена Чарльза Томпсона, сняла им хороший большой дом на Перл-стрит, около казино. По дороге в Ки-Уэст они заезжали в Нью-Йорк, и Эрнест пригласил некоторых своих близких друзей приехать к нему во Флориду на зимний сезон половить рыбу. Он нанял большой катер, в котором могли достаточно комфортабельно разместиться четыре человека. Он уже договорился с другом Бра Сандерса, профессиональным рыбаком Бурже, что тот будет их лоцманом. Хемингуэй мечтал осуществить дальний рейс на Маркизовы острова и Драй Тортугас.
Компаньонами его в этой экспедиции стали художник Майк Стрэйтер и Макс Перкинс. На степенного редактора издательства Скрибнера, редко когда выезжавшего из Нью-Йорка, эти морские просторы, запах Гольфстрима, кипучая жизнь моря произвели ошеломляющее впечатление. Перед ним открылся иной мир, где Хемингуэй чувствовал себя в родной стихии.
Однажды во время рейса Перкинс спросил Хемингуэя: «Почему ты не пишешь обо всем этом?» «Может, когда-нибудь напишу, — ответил Эрнест. — Я еще недостаточно знаю об этом». Мимо их лодки пролетел пеликан. «Вот погляди на него, — сказал Эрнест. — Я даже не знаю, какое место он занимает в соотношении вещей здесь». Он знает, подумал Перкинс, но не станет писать об этом, пока все это не отстоится в его подсознании.
Ловля рыбы шла удачно. Максу Перкинсу даже удалось выловить рыбу весом в 58 фунтов, на один фунт больше мирового рекорда. На Тортугас они попали в шторм и семнадцать дней не могли выбраться с острова. Они отрастили за это время пиратские бороды, съели все продовольствие, какое у них с собой было, и выпили весь запас спиртных напитков. Питаться приходилось одной рыбой. Эрнест был в самом прекрасном настроении, он уверял своих друзей, что рыба очень полезна для мозговой деятельности, клялся, что никогда в жизни не питался так хорошо, и убеждал их остаться здесь навсегда. Перкинс иногда ворчал, что ему надо возвращаться на работу, но всем было ясно, что он больше всех наслаждается этой необычной для него дикой жизнью.
Во время этой экспедиции Хемингуэй признался Перкинсу, что следующую свою книгу хочет написать о бое быков.
В начале апреля к ним приехал Дос Пассос со своей женой Кэт, сестрой Билла Смита. Перед этим они были в Мадриде и привезли Эрнесту весть о том, что Сидней Франклин в начале сезона был тяжело ранен быком. Эрнеста это сообщение очень огорчило.
В перерывах между рыболовными экспедициями Хемингуэй писал. Когда Перкинс предложил ему дать что-нибудь для августовского номера «Скрибнерс мэгезин», он выслал ему уже готовый рассказ «Вино Вайоминга», в котором описал одну супружескую чету, с которой познакомился в прошлом году в Шеридане.
Летняя жара выгнала Хемингуэя из Ки-Уэста, и он вместе с Полиной и Бэмби отправился на запад. Там в Вайоминге ему приглянулось ранчо шведа Нордквиста, и они сняли у него двухкомнатный бревенчатый домик. Больше всего привлекла здесь Хемингуэя речка, быстрая, богатая форелью. Впоследствии он говорил, что там лучшая в мире ловля рыбы.
К нему туда приехал погостить старый друг Билл Хорн со своей невестой. Они вместе охотились. Здесь в горах Эрнест убил великолепного бурого медведя.
Работа над книгой о бое быков продвигалась медленно. К 28 сентября в рукописи насчитывалось 200 страниц. Но зато охота доставляла подлинную радость, будоражила кровь, приносила остроту ощущений и удовлетворенность удачным выстрелом. Верхом на лошадях Эрнест со своим приятелем, местным охотником, уезжал в горы. Там он подстрелил своего первого оленя.
В октябре к нему приехал Дос Пассос, и опять они охотились в горах, хотя близорукий Дос Пассос был очень неважным стрелком. Дос Пассоса поражало отношение местных жителей к Хемингуэю: «Они считали его самым удивительным парнем, какого они только встречали». Дос Пассос подумал, что из Эрнеста мог бы получиться партизанский вожак. Что-то в нем было такое, что естественно делало его вожаком в любом деле.
31 октября Хемингуэй с Дос Пассосом и еще одним приятелем отправились на машине в обратный путь. Дороги уже чуть подмерзли. Ночью 1 ноября, когда Эрнест сидел за рулем, его ослепили фары встречной машины, он неудачно свернул в кювет, и машина перевернулась. Хемингуэя придавило рулем и сломало руку. Его тут же отправили в больницу в городок Биллингс. Врачи опасались, что ему, может быть, никогда уже не придется работать правой рукой. Она бессильно висела после перелома. В книге «Зеленые холмы Африки» Хемингуэй вспоминал об этом:
«…открытый перелом между плечом и локтем, кисть вывернута, бицепсы пропороты насквозь, и обрывки мяса гниют, пухнут, лопаются и, наконец, истекают гноем. Один на один с болью, пятую неделю без сна, я вдруг подумал однажды ночью: каково же бывает лосю, когда попадаешь ему в лопатку и он уходит подранком; и в ту ночь я испытал все за него — все, начиная с удара пули и до самого конца, и, будучи в легком бреду, я подумал, что, может, так воздается по заслугам всем охотникам. Потом, выздоровев, я решил: если это было возмездием, то я претерпел его и, по крайней мере, отныне отдаю себе отчет в том, что делаю».
При этом он вспомнил о своем ранении в первую мировую войну:
«Я поступал так, как поступили со мной. Меня подстрелили, меня искалечили, и я ушел подранком. Я всегда ждал, что меня что-нибудь убьет, не одно, так другое, и теперь, честное слово, уже не сетовал на это. Но так как отказываться от своего любимого занятия мне не хотелось, я решил, что буду охотиться до тех пор, пока смогу убивать наповал, а как только утеряю эту способность, тогда и охоте конец».
Только перед рождеством его выписали из больницы, и после недолгого пребывания у родных Полины в Пиготте они вернулись в Ки-Уэст. Еще всю весну 1931 года он мучился от последствий этой катастрофы, писать не мог — рука не работала.
В апреле Полина объявила, что вновь забеременела. Тогда Эрнест решил, что они успеют съездить во Францию и в Испанию, он поработает над книгой о бое быков и привезет Полину обратно в Штаты ко времени родов. На этот раз они должны были вернуться в Ки-Уэст, в свой собственный дом, который они наконец купили. Это был первый его собственный дом в Америке.
В Мадриде Хемингуэй познакомился с художником Луисом Кинтанильей. Впоследствии во время гражданской войны в Испании Хемингуэй писал в предисловии к альбому рисунков Кинтанильи о том, какой это замечательный художник и большой человек, и вспоминал «то лето, когда я писал книгу, а Кинтанилья делал свои замечательные рисунки, и мы с ним здорово работали весь день и встречались по вечерам выпить пива в сервесерии на Пасаж-Альварес, и Кинтанилья просто и спокойно объяснял мне, почему необходима революция».
Все это лето Хемингуэй упорно работал над книгой о бое быков и собирал для нее фотографии крупнейших матадоров. Он решил в качестве фронтисписа использовать рисунок испанского художника Хуана Гриса, типичную экспрессионистскую работу.
По возвращении в Штаты они завезли Патрика к родителям Полины в Пиготт, а сами выехали в Канзас-Сити, где 12 ноября Полина опять с помощью кесарева сечения родила второго своего сына, которого они назвали Грегори.
В декабре они все уже были в Ки-Уэсте, в своем новом доме. Здесь Хемингуэй закончил наконец столь затянувшуюся работу над книгой о бое быков, которую он решил назвать «Смерть после полудня». С той поры, как он задумал ее в 1925 году, прошло семь лет. Он подсчитал, что за эти годы посмотрел 1500 боев быков.
Это был с самого начала смелый замысел — написать книгу-исследование о бое быков. Он понимал заранее, что этот предмет не может заинтересовать американских читателей. Он знал, что, может быть, обрекает себя на провал у читателей. Но его это интересовало, боем быков он увлекался много лет, и новая книга стала не только первоклассным описанием всех аспектов боя быков, но и сводом всего, что он знал об Испании.
В этой книге есть аромат Испании, ее городов, каждого в отдельности, ее неба, ее земли, ее обычаев, нравов, ее живописи. В этой книге он припомнил многое — и поездку с Хэдли из Памплоны в Мадрид, когда они напились и потеряли билеты, и бычье ухо, которое Ниньо де ла Пальма подарил Хэдли, и купанье в Ирати в чистой, как свет, воде, и печальную историю о том, как они приехали в Бургете и выяснили, что лесорубы испортили реку, откуда ушла форель, и поездку к художнику Миро, и прошлое лето, когда они с Сиднеем Франклином устраивали пикники вместе с матадорами и их подругами на берегу Мансанареса.
Он описал холодное уродство Бильбао, крикливую дешевку Сантандера, зеленый оазис Аранхуэса, картинность Ронды, жару в Кордове, купанье ночью на берегу Грау, высокое безоблачное небо над Мадридом.
Вот как писал он, например, про Аранхуэс:
«После знойного солнца открытой пустынной местности вы неожиданно оказываетесь под тенью деревьев, и видите девушек с загорелыми руками, с корзинами свежей клубники, расставленными прямо на гладкой, голой и прохладной земле, клубники, которую вы не можете ухватить большим и указательным пальцем, влажную и прохладную, уложенную среди зеленых листьев в плетеных корзинах… Вы можете поесть в деревянных павильонах, где они жарят мясо и цыплят на древесном угле, и выпить весь вальдепеньяс, который вы можете купить за пять песет».
Пожалуй, особенно примечательно в этой книге описание Валенсии, потому что оно наглядно показывает, что без «Смерти после полудня» трудно было бы потом написать «По ком звонит колокол».
«В Валенсии, когда там самая жара, вы можете на берегу за одну или две песеты поесть в любом из павильонов, где вам подадут пиво, креветки, блюдо из помидоров, сладкого перца, шафрана и прекрасных продуктов моря — улиток, лангустов, мелких рыбок, маленьких угрей, — все это приготовлено вместе. Вы можете получить все это с бутылкой местного вина за две песеты, и босые дети будут проходить по берегу, и там есть соломенная крыша над павильоном, прохладный песок под ногами, море с рыбаками, сидящими в прохладе вечера в черных лодках, и вы можете увидеть, если придете на следующее утро купаться, как их вытаскивают на берег упряжкой из шести волов».
Но главным в книге было, конечно, описание боя быков. Хемингуэй еще в 1926 году писал Перкинсу, что эта книга должна быть не просто учебником истории или восхвалением боя быков, а, если удастся, «самим боем быков». Он утверждал, что, не считая церковного ритуала, бой быков — это единственное, что осталось нетронутым от старой Испании, это церемония и обряд глубокого значения. Бой быков, писал он тогда, представляет собой огромный трагический интерес, являясь поистине вопросом жизни и смерти. Мало кто за пределами Испании знает что-либо о подлинном искусстве торреро. И наконец, бой быков — это профессия, в которой молодой крестьянин или чистильщик сапог в возрасте до 23 лет может зарабатывать восемь тысяч в год. Такое сочетание интересов, по мнению Хемингуэя, обязательно должно «что-то сказать людям».
Хемингуэй рассматривал бой быков как высокое искусство. «Некогда, — писал он в «Смерти после полудня», — самым главным в зрелище боя быков считался момент убийства быка; с развитием и вырождением этого искусства все больший вес приобретали втыкание бандерилий и умение действовать мулетой. Плащ, бандерильи и мулета постепенно становились самоцелью». А раньше, утверждал он, «целью боя был заключительный удар шпагой, смертельная схватка человека с быком, «момент истины», как его называют испанцы».
Исследуя современное искусство боя быков, Хемингуэй приходил к выводу, что «это, безусловно, вырождающееся искусство, и, как всякое явление декаданса, оно именно теперь, в период сильнейшего вырождения, расцвело особенно пышно».
В книгу «Смерть после полудня» Хемингуэй ввел любопытный персонаж — Старую леди, с которой автор вступал на страницах книги в разговоры и споры. И когда речь шла о декадансе, Старая леди вцеплялась в автора, заявляя, что его очень трудно понять, и автор вынужден был объяснять ей, что «не так-то легко пользоваться термином «декаданс», потому что теперь это просто-напросто бранное слово, которым критики обзывают все то, чего они еще не успели понять или что, как им кажется, противоречит их нравственным понятиям».
Параллельно с исследованием искусства боя быков Хемингуэй вложил в свою книгу множество весьма интересных мыслей о литературе, формулируя тем самым свои эстетические и творческие писательские принципы. Прежде всего он выступал за ясность. «Заметьте, — утверждал он, — если писатель пишет ясно, каждый может увидеть, когда он фальшивит. Если же он напускает туман, чтобы уклониться от прямого утверждения… то его фальшь обнаруживается не так легко, и другие писатели, которым туман нужен для той же цели, из чувства самосохранения будут превозносить его».
Свое писательское кредо Хемингуэй высказал в следующих словах:
«Когда писатель пишет роман, он должен создавать живых людей, а не литературные персонажи. Персонаж — это карикатура… Если людям, которых писатель создает, свойственно говорить о старых мастерах, о музыке, о современной живописи, о литературе или науке, пусть они говорят об этом и в романе. Если же не свойственно, но писатель заставляет их говорить, он обманщик, а если он сам говорит об этом, чтобы показать, как много он знает, — он хвастун. Как бы удачен ни был оборот или метафора, писатель должен применять их только там, где они, безусловно, нужны и незаменимы, иначе, из тщеславия, он портит свою работу. Художественная проза — это архитектура, а не искусство декоратора, и времена барокко миновали… Люди, действующие в романе (люди, а не вылепленные искусно персонажи), должны возникать из накопленного и усвоенного писателем опыта, из его знания, из его ума, сердца, из всего, что в нем есть. Если он не пожалеет усилий и вдобавок ему посчастливится, он донесет их до бумаги в целости, и тогда у них будет больше двух измерений и жить они будут долго… Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды… И заметьте: не следует путать серьезного писателя с торжественным писателем. Серьезный писатель может быть соколом, или коршуном, или даже попугаем, но торжественный писатель всегда — сыч».
Интересные и характерные для Хемингуэя мысли высказаны в этой книге и о проблеме новаторства в литературе и искусстве, о неизбежной борьбе старого с новым, об этом процессе вечного обновления.
«Любое искусство, — писал он, — создается только великими мастерами. Вне их творчества нет ничего, и все направления в искусстве служат лишь для классификации бесталанных последователей. Когда появляется истинный художник, великий мастер, он берет все то, что было постигнуто и открыто в его искусстве до него и с такой быстротой принимает нужное ему и отвергает ненужное, словно он родился во всеоружии знания, ибо трудно представить себе, чтобы человек мог мгновенно овладеть премудростью, на которую обыкновенный смертный потратил бы целую жизнь; а затем великий художник идет дальше того, что было открыто и сделано ранее, и создает свое, новое. Но иногда проходит много времени, прежде чем опять явится великий художник, и те, кто знал старых мастеров, редко сразу признают нового. Они отстаивают старое, хотят, чтобы все было так, как хранит их память. Но другие, младшие современники, признают новых мастеров, наделенных даром молниеносного постижения, и в конце концов и приверженцы старины сдаются. Их нежелание сразу признать новое простительно, ибо, ожидая его, они видели так много лжемастеров, что стали придирчивы и перестали доверять собственным впечатлениям; надежной казалась только память. А память, как известно, всегда подводит».
Образцом великого мастера в живописи для Хемингуэя был Гойя. Говоря о нем, Хемингуэй невольно употреблял те же слова, которыми он не раз характеризовал собственный творческий метод:
«Гойя не признавал костюма, он верил в черные и серые тона, в пыль и свет, в нагорья, встающие из равнин, в холмы вокруг Мадрида, в движение, в свою мужскую силу, в живопись, в гравюру и в то, что он видел, чувствовал, осязал, держал в руках, обонял, ел, пил, подчинял, терпел, выблевывал, брал, угадывал, подмечал, любил, ненавидел, обходил, желал, отвергал, принимал, проклинал и губил. Конечно, ни один художник не может все это написать, но он пытался».
Хемингуэю было грустно заканчивать эту книгу, для написания которой потребовался опыт стольких лет, книгу, которая как бы подводила черту под большим периодом его жизни. И, заканчивая эту книгу, он писал о том, что многое там, в Испании, уже изменилось, но его это не огорчает, ибо и люди меняются и он уже не тот. И все мы уйдем из этого мира прежде, чем он изменится слишком сильно, но и после нас будут идти на севере дожди, и соколы будут вить гнезда под куполом собора в Сантьяго де Кампостела… «Но мы уже больше не будем возвращаться из Толедо в темноте, глотая дорожную пыль и запивая ее фундадором, и не повторится та неделя в Мадриде и все, что произошло той июльской ночью».
В последних строчках «Смерти после полудня» Хемингуэй затронул очень кратко чрезвычайно важную и больную для него тему — о «спасении мира».
Великий кризис, разразившийся в Америке в 1929 году и затянувшийся на годы, с яркостью вспышки при взрыве осветил чудовищные противоречия капиталистического строя в этой самой богатой и вроде бы процветающей стране. Социальные вопросы оказались в центру внимания. И вся передовая творческая интеллигенция Америки ясно осознала, что не имеет права уклоняться от художественного исследования этих проблем. В этой среде произошел резкий сдвиг влево. Однако, как это всегда бывает, рядом с серьезными писателями, обратившимися к социальным проблемам, оказалось множество конъюнктурщиков, уловивших своими чуткими носами, что на этой модной социальной теме можно хорошо заработать. Хемингуэю это повальное увлечение «рабочей» темой было отвратительно. Он мог писать только о том, что хорошо знал, пережил сам, перечувствовал, пропустил сквозь себя. И браться писать о том, чего он практически совсем не знал, было противно его убеждениям. Претила и модность темы. В результате он оказался в стороне от главных проблем общественного движения. И на него за это резко нападали, в том числе и некоторые друзья, обвиняя в аполитичности, в увлечении темами, далекими и чуждыми обществу.
Хемингуэй, который привык в боксе и литературной полемике всегда отвечать ударом на удар, в глубине души, видимо, ощущал некоторую ущербность своей позиции. И, вероятно, поэтому в последних строчках книги постарался объяснить ее.
«Самое главное, — писал он, — жить и работать на совесть; смотреть, слушать, учиться и понимать; и писать о том, что изучил как следует, не раньше этого, но и не слишком долго спустя. Пусть те, кто хочет, спасают мир, — если они видят его ясно и как единое целое. Тогда в любой части его, если она показана правдиво, будет отражен весь мир. Самое важное — работать и научиться этому».
Этими словами Хемингуэй давал понять, что он еще не видит мир как единое целое, что он еще не готов к тому, чтобы писать о том, чего не понял, что не изучил. Но он понимал, что «Смерть после полудня» — это еще не настоящая книга, однако, как он писал, «кое-что нужно было сказать. Нужно было сказать о некоторых насущных и простых вещах».
В середине января 1932 года рукопись «Смерти после полудня» была закончена и отослана Перкинсу. Теперь Хемингуэй с энтузиазмом вновь занялся рыбной ловлей. В феврале и в марте он дважды отправлялся в экспедиции на Драй Тортугас. А в апреле он впервые отправился вместе с Джо Расселом на его яхте «Анита» в дальнее плавание на Кубу. Поездка была рассчитана на две недели, но Эрнесту так понравилась Куба, что он провел там два месяца. Комната в гаванском отеле «Амбос Мундос» показалась ему идеальным местом для работы. Из окон ее были видны старый собор, крыши домов, вход в гавань и простор залива до полуострова Касабланка. Здесь Хемингуэй работал над гранками «Смерти после полудня».
Джо Рассел отлично знал эти воды, он первым из жителей Ки-Уэста на своей «Аните» стал перевозить с Кубы контрабандный ром. Хемингуэй писал, что Рассел знает о меч-рыбе больше, чем большинство жителей Ки-Уэста о поросятах. Вторым человеком на «Аните» был Карлос Гутьерес, лучший ловец меч-рыбы и марлина на Кубе, который зимой служил капитаном на рыболовных судах, а летом ловил марлинов для продажи. Хемингуэй познакомился с ним на Драй Тортугас и от него впервые услышал о марлинах, попадающихся у берегов Кубы.
Здесь, в отеле «Амбос Мундос», Хемингуэй написал еще один рассказ о Нике Адамсе — «Какими вы не будете», — который вобрал в себя впечатления Хемингуэя о последнем этапе его пребывания на фронте. Рассказ страшный, исполненный кошмаров, которые мучают Ника со времени его ранения.
Накануне возвращения в Ки-Уэст Хемингуэй поймал большого марлина, более двух часов мучился, пытаясь подвести его к «Аните», весь вспотел, и, когда наконец собирался ударить его гарпуном, марлин оборвал лесу и ушел. Хемингуэй добрых полчаса сидел и чертыхался, не обращая внимания на начавшийся холодный дождь. В результате он простудился.
Во время болезни он работал над гранками «Смерти после полудня» и заметил, что в верху каждого листа корректуры наборщик поставил сокращенно «Смерть Хемингуэя». Эрнест пришел в такую ярость, что немедленно послал Перкинсу телеграмму: «Неужели это кажется таким смешным печатать на каждом листе корректуры смерть Хемингуэя или это то, чего вы хотите?»
В июле, едва оправившись после болезни, Хемингуэй вместе с Полиной отправился опять в Вайоминг, на ранчо Нордквиста. Вновь он мог по утрам наблюдать восход солнца из-за гребня гор, верхом на лошади уезжать в дальние прогулки, удить форель в своем любимом ручье. Но в этих местах начали строить дорогу, и Хемингуэй был уверен, что охоты здесь больше не будет — потревоженные звери уйдут в Йеллоустонский заповедник.
Сюда к нему приехал его приятель по Ки-Уэсту Чарльз Томпсон, и они вместе охотились на лосей, медведей. По вечерам они сидели у огня, пили виски и болтали. В одном из этих разговоров, когда речь зашла о самоубийстве одного их знакомого, Эрнест спокойно и уверенно сказал, что не задумается убить себя, если почувствует, что безнадежно болен.
23 сентября вышла в свет книга «Смерть после полудня», и Хемингуэй поспешил вернуться на ранчо, чтобы прочитать первые отзывы, которые Перкинс, как всегда, должен был переслать ему. Отзывы были неблагоприятные, Хемингуэй отшвырнул их и отправился в новую поездку верхом, тем более что никак не мог пережить, что Томпсон уже подстрелил медведя, а ему до сих пор это не удалось. В горах уже лежал снег. Наконец ему повезло, и он подстрелил медведя, но тот ушел раненый. Эрнест преследовал его по кровавым следам на снегу и в конце концов добил. Медведь был огромный, он весил 500 фунтов, и охотничье честолюбие Хемингуэя было удовлетворено. В середине октября они отправились в обратный путь в Ки-Уэст.
Здесь его ожидал Бэмби, приехавший в очередной раз из Парижа. Мальчику было уже девять лет, он был высокий и сильный не по годам. Полина в это время уехала в Пиготт к матери, где заболели и Патрик и Грегори. Впервые Эрнест остался наедине со старшим сыном. Потом они вдвоем отправились на машине в Пиготт. Эта поездка натолкнула Хемингуэя на тему отцов и детей, которую он потом воплотил в рассказе «Отцы и дети». Он описал поездку уже немолодого Ника Адамса с сыном, воспоминания Ника о его отце, который научил его охотиться и удить рыбу, о детстве Ника в лесах Северного Мичигана, о дружбе с индейской девочкой Труди. В этом рассказе Хемингуэй впервые коснулся самоубийства своего отца.
Как раз в это время вышел на экраны первый фильм по его произведению — «Прощай, оружие!». Ничего, кроме огорчения, фильм ему не принес. Он с ужасом обнаружил, что, следуя голливудским «добрым традициям», которые не допускали трагического конца в фильме, режиссер и сценаристы приделали к его роману «счастливый» конец. Кроме того, голливудские специалисты по рекламе стали использовать факты его биографии для рекламы фильма. Хемингуэю пришлось переслать Перкинсу заявление для печати, в котором он просил кинематографистов оставить в покое его личную жизнь.
В Пиготте Бэмби заболел и повел себя весьма странно. Только на следующий день отцу удалось выяснить, что мальчик, узнав, что у него температура 102 градуса, решил, что он умрет, потому что в школе товарищ сказал ему, что человек не может выжить при температуре выше 44 градусов. Отец объяснил ему разницу между градусником Фаренгейта и Цельсия. Эта история послужила толчком для рассказа «Ожидание».
В начале 1933 года они вернулись в Ки-Уэст, и Хемингуэй продолжил работу над новыми рассказами. Работалось ему хорошо.
За это время он написал несколько рассказов, которые объединил с уже написанными раньше в сборник, названный им «Победитель не получает ничего».
Среди новых рассказов выделялся своей силой и точностью рассказ «Там, где чисто, светло». Это, пожалуй, один из самых трагических рассказов Хемингуэя. Двое официантов, один постарше, другой помоложе, говорят о старике, который приходит сюда каждый вечер, пьет коньяк и не хочет уходить. «Старику нравилось сидеть допоздна, потому что он был глух, а по ночам было тихо, и он это ясно чувствовал». Из разговора официантов выясняется, что на прошлой неделе старик покушался на самоубийство, но племянница вынула его из петли. Официант помоложе торопится домой к жене и выпроваживает старика. А тот, что постарше, говорит ему:
«— А я вот люблю засиживаться в кафе. Я из тех, кто не спешит в постель. Из тех, кому ночью нужен свет».
И он объясняет своему молодому напарнику: «Каждую ночь мне не хочется закрывать кафе, потому что кому-нибудь оно очень нужно». Молодой отвечает ему, что кабачки открыты всю ночь, но тот, что постарше, пытается ему объяснить: «Не понимаешь ты ничего. Здесь чисто, опрятно, в кафе. Свет яркий. Свет — это большое дело, а тут вот еще и тень от дерева». Пожилой официант отправляется домой и размышляет о том, что не в страхе дело. «Ничто — и оно ему так знакомо. Все — ничто, да и сам человек — ничто. Вот в чем дело, и ничего, кроме света, не надо, да еще чистоты и порядка».
Воспоминаниями о пребывании в больнице в Биллингсе навеян был рассказ «Дайте рецепт, доктор». В нем Хемингуэй описал и сестру Цецилию, ревностную католичку, которая истово молилась за победу своей любимой футбольной команды, вспомнил, как он бессонными ночами слушал радио, переключая с одной станции на другую по мере того, как они переставали работать.
В этом рассказе нашли свое отражение горькие раздумья Хемингуэя об американской демократии:
«Религия — опиум для народа. Он в это верил — этот угрюмый маленький кабатчик. Да и музыка — опиум для народа. Тощий не подумал об этом. А теперь экономика — опиум для народа; так же как патриотизм — опиум для народа в Италии и Германии. А как с половыми сношениями? Это тоже опиум для народа? Для части народа. Для некоторых из лучшей части народа. Но пьянство — высший опиум для народа, о, изумительный опиум! Хотя некоторые предпочитают радио, тоже опиум для народа; самый дешевый; он сам сейчас им пользуется. Наряду с этим идет игра в карты, тоже опиум для народа, и самый древний. Честолюбие тоже опиум для народа, наравне с верой в любую новую форму правления. Вы хотите одного — минимума правления, как можно меньше правления. Liberty, Свобода, в которую мы верили, стала теперь названием журнала Макфэддена».
Эти два рассказа и третий — «Посвящается Швейцарии» — купил журнал «Скрибнерс мэгезин». От четвертого рассказа — «Свет мира» — новый редактор Дашиэл отказался. В этом рассказе двое подростков, в одном из которых можно угадать Ника Адамса, на станции, где-то неподалеку от Манселоны в Северном Мичигане, сидят в обществе пяти шлюх, нескольких белых мужчин и трех индейцев, и две шлюхи спорят между собой, кто из них действительно любил известного боксера.
В это время журнал «Атлантик» начал публиковать с продолжением книгу мемуаров Гертруды Стайн, стилизованную ею под записи ее компаньонки Алисы Токлас. Хемингуэй знал, что Гертруда была очень обижена на него за «Вешние воды», но он никак не ожидал, что она будет так мстить ему в своих мемуарах. Стайн, например, утверждала, что она и Шервуд Андерсон создали Хемингуэя и что они потом «немного гордились и немного стыдились результатов своей деятельности». Затем Стайн заявляла, что Хемингуэй в значительной мере научился писательскому мастерству, когда он в 1924 году читал корректуру ее книги «Возвышение американцев».
Много лет спустя, уже в 1958 году, когда его интервьюировал журналист Джордж Плимптон, задавший вопрос, каково было влияние на него Гертруды Стайн, Хемингуэй ответил: «Извините, но я не специалист по вскрытию мертвецов. Для этого есть литературные и нелитературные следователи, которые занимаются этими делами. Мисс Стайн написала довольно длинно и довольно неточно о своем влиянии на мою работу. Ей это было необходимо сделать после того, как она научилась писать диалог по книге, названной «И восходит солнце». Я к ней очень хорошо относился и считал, что это прекрасно, раз она научилась писать диалог. Для меня это была не новость — учиться у каждого, у кого я мог, — живых и мертвых, — я не представлял себе, что это так сильно подействует на Гертруду».
Ему предстояло перенести еще один удар. В июне в журнале «Нью рипаблик» появилась критическая статья о нем, издевательски озаглавленная «Бык после полудня». Автором ее был старый знакомый Хемингуэя Макс Истмен. Истмен к этому времени уже давно сбросил либеральные одежды, в которые когда-то рядился, и стал отъявленным реакционером. Как все ренегаты, он ненавидел людей принципиальных и стойких, и Хемингуэй оказался в их числе. Статья была подленькая. В ней Истмен утверждал, что Хемингуэй обладает весьма чувствительной душой, что он сам рассказывал, как был «до смерти перепуган», попав на фронте под обстрел, и поэтому с тех пор занят тем, чтобы улучшить свой облик, пытаясь изобразить себя «неистовым буяном, требующим побольше убийств и в значительной мере озабоченным тем, чтобы продемонстрировать свою способность воспринимать убийства в любых количествах». Далее Истмен утверждал: «Это, безусловно, общеизвестно, что Хемингуэй не уверен в себе, в своей мужественности». Эта черта, продолжал Истмен, породила новый стиль в литературе — «литературный стиль, если так можно сказать, фальшивых волос на груди».
Хемингуэй, возможно, и не узнал бы об этой статье, но на нее обратил внимание Арчибальд Мак-Лиш, возмутился, справедливо увидев в ней намек на то, что Хемингуэй якобы импотент, послал в редакцию журнала возмущенное письмо и отправил Хемингуэю в Ки-Уэст статью Истмена с копией своего письма.
Хемингуэй пришел в ярость. Он тут же отправил в редакцию журнала письмо. В разговорах с друзьями он обзывал Истмена свиньей и предателем в политике, утверждал, что Истмен и его приятели не могут простить ему того, что он полноценный мужчина и что он умеет писать. Через месяц Хемингуэй сообщил Перкинсу, что Истмен прислал ему письмо с извинениями, в котором отрицал какой-нибудь злой умысел со своей стороны и уверял, что никаких намеков в его статье не было. Хемингуэй при этом заверял Перкинса, что Истмену это не поможет и что когда-нибудь он рассчитается с ним.
От всех этих литературных дрязг у него было верное лекарство — в июле он ушел на «Аните» к берегам Кубы и около ста дней провел в водах Гольфстрима, охотясь на гигантских марлинов. За это время он поймал около пятидесяти марлинов. Однажды напротив замка Морро Хемингуэй поймал на крючок марлина весом в 750 фунтов. В течение полутора часов гигантская рыба вела борьбу, утащив «Аниту» на восемь миль в океан, и в конце концов оборвала леску. Вот такую жизнь он любил.
В Гаване в это время было неспокойно, народное недовольство диктаторским режимом Мачадо вело к революции. На улицах то и дело раздавалась стрельба. Полина вспоминала, что однажды ей пришлось залезть под мраморный столик в кафе, чтобы укрыться от пуль.
Хемингуэй не скрывал своих симпатий к кубинской революции, он говорил своим друзьям, что надеется на свержение «этого отвратительного тирана» Мачадо.
Вернувшись в Ки-Уэст, Хемингуэй написал свой первый очерк для нового журнала «Эсквайр». Редактором этого журнала был его знакомый Арнольд Грингрич, который предложил Хемингуэю писать очерки о чем угодно — об охоте, о рыбной ловле, — обещая платить по 250 долларов за очерк. Хемингуэю название журнала показалось несколько снобистским, но его привлекала возможность систематически высказывать свои мысли на страницах этого массового журнала. Да и деньги тоже были нужны. Таким образом, впервые после десяти лет он вернулся к журналистике. Первый очерк был посвящен охоте на марлина и назывался «Письмо с Кубы».
Давняя мечта Хемингуэя об охотничьей экспедиции в Африку на этот раз стала обретать реальные формы. Богатый дядюшка Полины Гас Пфейфер, полюбивший Эрнеста с первой же встречи еще в Париже, когда он по просьбе родителей Полины решил познакомиться с человеком, за которого она решила выйти замуж, согласился финансировать это дорогостоящее предприятие. Чарльз Томпсон тоже решил принять участие в сафари, и они с Эрнестом договорились, что Чарльз осенью нагонит его в Париже.
Пока что Хемингуэй решил отправиться в Испанию. В первых числах августа он отплыл вместе с Полиной и Бэмби в Европу. Полина должна была отвезти Бэмби к Хэдли, а Хемингуэй сошел с парохода в Сантандере и с наслаждением окунулся в сладостную для него жизнь Мадрида с его кафе, боем быков, встречами с друзьями.
Со времени его последнего приезда в Испанию здесь многое изменилось. В 1931 году здесь произошла революция, монархия была свергнута и установлена республика. Впоследствии Хемингуэй говорил: «Я видел, как рождалась Республика. Я был в Испании, когда король Альфонс бежал, и при мне народ создавал свою конституцию. Это была последняя по времени Республика, родившаяся в Европе, и я верил в нее».
Теперь он с интересом вглядывался в жизнь страны, желая узнать, какие же изменения принесла республика народу. Мадрид стал богаче, в нем строились новые, современные дома. На месте старого кафе «Торнос» выросло большое административное здание, на берегу Мансанареса, где еще не так давно Хемингуэй с Сиднеем Франклином и Бэмби купались и готовили еду на костре, выстроили большой павильон для купанья.
Но главное было, конечно, не в этом. Глазом опытного журналиста Хемингуэй рассмотрел, что крестьяне при республике бедствуют, как и раньше, а те, кто оказался у власти, заняты набиванием собственных карманов. Он понимал, что цели республики справедливы, но не мог не видеть, что «новая сильная бюрократия», как писал он в статье для «Эсквайра», не так уж бескорыстно предана идеям процветания Испании. «Политика, — писал он, — по-прежнему является прибыльной профессией». Один испанский журналист в статье о Хемингуэе назвал его «другом Испании», и Хемингуэй в этой статье в обычном для его публицистики ироническом тоне писал, что «Испания слишком большая страна и она сейчас населена слишком большим количеством политиков, чтобы человек мог быть другом всех безнаказанно для своей безопасности».
Он видел, какой силой обладает реакция в Испании, и понимал, что этой стране предстоят еще тяжелые испытания. Его не оставляло чувство надвигающейся трагедии, и он с горечью писал: «Спектакль с управлением этой страной в настоящее время скорее комический, чем трагический, но трагедия очень близка».
В перерывах между боем быков и охотой он ездил в горы Эстремадуры со своим другом художником и революционером Луисом Кинтанильей охотиться на диких кабанов — Хемингуэй продолжал работать над большим рассказом, который он задумал еще весной. Это должен был быть рассказ о Гарри Моргане, рыбаке из Ки-Уэста, в котором угадывались кое-какие черты Джо Рассела, о его поездке на Кубу с богатым американцем для ловли рыбы. Рассказ начинался сценой перестрелки на улицах Гаваны.
Осенью Эрнест приехал в Париж. Город был, как всегда, прекрасен, но былой радости Хемингуэй не испытывал. Эти свои ощущения он попытался проанализировать в «Письме из Парижа», написанном им для «Эсквайра».
Конечно, было грустно приехать в город своей молодости, где так многое изменилось, где не было уже многих старых друзей. «Один старый друг застрелился, — писал Хемингуэй. — Другой старый друг вернулся в Нью-Йорк и выпрыгнул или скорее выпал из окна. Еще один старый друг написал мемуары. Все старые друзья потеряли свои деньги. Все старые друзья в унынии». Но главное, почему он себя чувствовал плохо в этот приезд в Париж, заключалось в другом. «От людей, которые теряют свои деньги, — писал он, — можно ожидать, я полагаю, что они могут покончить с собой. И что у пьяниц болит печень, и что легендарные люди обычно кончают тем, что пишут мемуары. Но вот что заставляет вас действительно чувствовать себя плохо, так это то, как абсолютно спокойно здесь все говорят о будущей войне. С этим смирились и принимают это как должное».
Вот что было главным в умонастроениях французов в 1933 году, и Хемингуэй уловил это. Все понимали, что Гитлер, пришедший к власти в Германии, будет воевать. Но при этом европейские политики, и французские в особенности, вели свою грязную игру, надеясь толкнуть Гитлера на восток, заключали тайные сделки с ним и с Муссолини. Хемингуэй слишком хорошо знал по прошлой своей журналистской работе всю беспринципность политиканов, возглавляющих правительства европейских «демократических государств», и он в своей статье высказывал убежденность, что если Европа будет воевать, то Соединенные Штаты «должны держаться в стороне».
«Письмо из Парижа» он заканчивал признанием в любви Парижу, любви сложной, обращенной уже в прошлое:
«Париж прекрасен этой осенью. Это был замечательный город, в котором хорошо жить, когда ты совсем молод и это необходимо для образования человека. Мы все были влюблены в него однажды, и мы лжем, если отрицаем это. Но он похож на любовницу, которая не стареет и у которой сейчас новые возлюбленные. Она была стара и тогда, но мы тогда этого не знали. Мы думали, что она просто старше нас, и это нас привлекало. А теперь, когда мы не любим ее больше, мы упрекаем ее в этом. Но это неправильно, потому что она всегда одного возраста и у нее всегда новые любовники. Что касается меня, то теперь я люблю кого-то другого. И если я сражаюсь, я сражаюсь за кого-то другого».
Приближался срок их отъезда в Африку. Чарльз Томпсон уже прибыл в Париж, чтобы присоединиться к Эрнесту и Полине. Рассказ о Гарри Моргане «Один рейс» был закончен и отправлен в журнал «Космополитен». В последний вечер они поужинали с Джойсом и выехали в Марсель, чтобы следовать дальше в неизведанную страну Африку, которая так притягивала Хемингуэя.
ГЛАВА 18 «ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ АФРИКИ»
Я еще приеду в Африку… Я вернусь сюда потому, что мне нравится жить здесь — жить по-настоящему, а не влачить существование.
Э. Хемингуэй, Зеленые холмы Африки22 ноября 1933 года Хемингуэй с Полиной и Чарльзом Томпсоном отплыли из Марселя на пароходе «Генерал Метцингер». Их путь лежал через Порт-Саид, по Суэцкому каналу в Красное море и Индийский океан до порта Момбасы. Отсюда поездом они выехали в Найроби, где должны были встретиться с Филипом Персивалем, белым охотником, который согласился руководить их охотничьей экспедицией.
Дальше они двинулись на двух грузовиках и легковом автомобиле, специально приспособленном для дальнего путешествия по Африке, на юг, в Танганьику. Неподалеку от кратера Нгоронгоро они разбили свой первый лагерь.
Началась охотничья страда. Здесь они убили первого льва. Дело не обошлось без недоразумений. Заранее было условлено, что первый выстрел сделает Полина. Все они охотились на льва впервые, уже темнело, и если бы раненый лев ушел в чащу, то с ним потом было бы много хлопот, поэтому договорились, что после первого попадания каждый имел право стрелять сколько угодно. Хемингуэй потом вспоминал, каким желтым, большеголовым и огромным показался ему лев рядом с низкорослым деревцем, похожим на садовый куст. Полина выстрелила, и зверь побежал, легко и неслышно, как огромная кошка. Тогда Эрнест выстрелил из своего спрингфилда, зверь завертелся и упал.
«Я был так удивлен тем, — писал Хемингуэй, — что лев просто-напросто свалился мертвым от выстрела, тогда как мы ожидали нападения, геройской борьбы и трагической развязки, что чувствовал скорее разочарование, чем радость. Это был наш первый лев, мы не имели никакого опыта и ожидали совсем иного».
Все стали убеждать Полину, что лев был убит ее выстрелом. Когда они возвращались в лагерь, ружьеносец М'Кола закричал: «Мама! (Так они все называли Полину.) Мама убила льва!»
Все носильщики, повар, слуги выбежали навстречу, начали приплясывать, отбивая такт ладонями, и гортанно выкрикивали что-то. Они подхватили Полину на руки и обошли с ней вокруг костра, приплясывая и напевая: «Ай да Мама! Ха! Ха! Ха! Ай да Мама! Ха! Ха! Ха!» Они исполнили песню и танец о льве, подражая его глухому, одышливому рыку.
Когда вечером все сидели у костра и пили, Филип Персиваль сказал Полине:
— Этого льва застрелили вы. М'Кола убьет всякого, кто вздумает утверждать, будто это не так.
И Полина ответила:
— Знаете, у меня такое настроение, словно и вправду его застрелила я. А случись это на самом деле, я бы возгордилась невероятно. Ну до чего же приятно чувствовать себя победительницей!
Потом был лев, которого на этот раз засчитали Хемингуэю.
Радость охоты портила болезнь — видимо, на пароходе Эрнест заразился амебной дизентерией, и она страшно мучила его. Он решил не поддаваться болезни и продолжал охотиться, пытаясь перебороть себя. Однако в середине января он настолько плохо себя почувствовал, что пришлось вызывать самолет, который бы вывез его отсюда. Это был маленький двухместный биплан, пилот которого Пирсон оказался старым другом Филипа Персиваля. Остановившись для заправки в Аруше, они полетели дальше, мимо громады Килиманджаро, укутанной облаками, с вершиной, покрытой вечным снегом, казавшейся неправдоподобно белой в лучах солнца.
В Найроби Хемингуэя поместили в больницу и принялись лечить. Отсюда он послал маленький очерк в «Эсквайр», озаглавленный «Амебная дизентерия в Африке». В почте, ожидавшей его, он нашел месячной давности письмо от Перкинса, который сообщал, что книга «Победитель не получает ничего» за неделю до рождества разошлась уже в количестве 12 500 экземпляров. Там же было и письмо от редактора «Космополитена», выражавшего свое полное удовлетворение рассказом «Один рейс» и предлагавшего купить этот рассказ за пять с половиной тысяч долларов — самый высокий гонорар, который Хемингуэй до сих пор получал за рассказ.
К 23 января он оправился от болезни и поторопился догнать своих компаньонов уже в холмистой местности к югу от вулкана Нгоронгоро. Опять начались походы ранними утрами в поисках носорогов и антилоп куду, треволнения охоты, зависть к удачному трофею товарища.
«Вот такая охота была мне по душе! — писал Хемингуэй. — Пешеходные прогулки вместо поездок в автомобиле, неровная, труднопроходимая местность вместо гладких равнин — что может быть чудеснее. Я гордился меткостью своей стрельбы, верил в себя, и мне было так хорошо и легко, — право же, переживать все это самому куда приятнее, чем знать об этом только понаслышке».
Прекрасными были вечера, когда, усталые, возбужденные охотой, они все собирались у огня в лагере, пили виски с содовой и обсуждали события дня или слушали воспоминания Филипа Персиваля. Хемингуэю особенно интересно было слушать рассказы старого охотника о мужестве и трусости, с которыми приходится сталкиваться во время охоты на крупного зверя, а Персивалю за долгую жизнь профессионального охотника привелось сопровождать множество людей и наблюдать за их поведением. Он рассказывал, как бывает, когда человек преодолевает свою трусость и становится храбрым. Эта проблема всегда волновала Хемингуэя, на войне он видел всякое — и мужество и трусость, сам знал, как трудно одолеть страх перед смертью и какой душевный подъем ощущаешь, одержав победу над самим собой.
Среди историй Филипа Персиваля запомнился Хемингуэю рассказ о том, как в 1926 году альпинист Рейш поднялся на Килиманджаро и обнаружил там в снегах замерзший труп леопарда.
Здесь, в Африке, Хемингуэй жил полной жизнью, наслаждаясь всем — природой, не тронутой рукой человека, азартом охоты, наконец, просто физической активностью. Но при этом он впитывал в себя все ощущения, запахи, волнение, испытываемое при виде зверя, за которым охотился не один день, радость удачного выстрела.
«Настоящий охотник, — писал он, — бродит с ружьем, пока он жив и пока на земле не перевелись звери, так же как настоящий художник рисует, пока он жив и на земле есть краски и холст, а настоящий писатель пишет, пока он может писать, пока есть карандаши, бумага, чернила и пока у него есть о чем писать».
У них с собой были книги, чтобы читать во время отдыха. Хемингуэй взял с собой в это путешествие томик Льва Толстого и потом, вспоминая Африку, не раз обращался к Толстому.
«Я читал повесть «Казаки» — очень хорошую повесть. Там был летний зной, комары, лес — такой разный в разные времена года — и река, через которую переправлялись в набеге татары, и я снова жил в тогдашней России.
Я думал о том, как реальна для меня Россия времен нашей Гражданской войны, реальна, как любое другое место, как Мичиган или прерии к северу от нашего города и леса вокруг птичьего питомника Эванса, и я думал, что благодаря Тургеневу я сам жил в России так же, как жил у Будденброков, и в «Красном и черном» лазил к ней в окно… И я продолжал читать о реке, через которую переправлялись в набеге татары, о пьяном старике охотнике, о девушке и о том, как по-разному там бывает в разные времена года».
Они двинулись дальше, в ущелье Рифт. Они ехали по красноватой песчаной дороге через высокое плато, затем вверх и вниз через холмы, поросшие кустарником, и по лесистому склону, у их ног расстилалась равнина, дремучий лес и длинное, обмелевшее у берегов озеро Маньяра, в дальнем конце своем усеянное сотнями тысяч розовых точечек — это сидели на воде фламинго.
Здесь, на равнине, они охотились на зебр и сернобыков. Охота на зебр, шкуры которых они обещали друзьям в Америке, оказалась скучным делом; теперь, когда трава выгорела, равнина после холмов казалась однообразной. Потом они двинулись дальше, натолкнулись на болото, где были утки. Нужно было торопиться, пока не начались дожди, идущие из Родезии, и они отправились еще за двести миль в сторону, где можно было надеяться подстрелить антилоп куду.
Хемингуэю очень хотелось подстрелить хорошего самца куду, но, к его великому огорчению, первому удалось добыть куду не ему, а Томпсону. Эрнест упорно сидел у солончака, куда приходили куду. Один раз они увидели небольшого самца — серого красавца с могучей шеей, с витками рогов, поблескивающими на солнце. Хемингуэй прицелился, но не выстрелил, боясь спугнуть более крупных куду, которые, он надеялся, придут сюда в сумерки. Но где-то вдали загрохотал грузовик, и этот шум спугнул животных.
Возвращаясь в лагерь, они натолкнулись на сломавшийся грузовик, около которого стояло несколько туземцев и среди них невысокий кривоногий человек, смахивавший на карикатуру, в тирольской шляпе и в коротких кожаных штанах. Дальше все походило на чистейшую фантастику — человек в тирольской шляпе оказался австрийцем по фамилии Корицшонер, который помнил фамилию Хемингуэя по стихам, которые тот когда-то печатал в немецком журнале «Квершнитт». Хемингуэй пригласил его в лагерь, и австриец забросал его вопросами о литературе, о писателях, о литературных сплетнях. Он сообщил Хемингуэю, что раньше выписывал «Квершнитт». «Это давало нам чувство причастности, — говорил он, — принадлежности к блистательной плеяде людей, сплотившихся вокруг «Квершнитта», людей, с которыми мы хотели бы общаться, если бы такая возможность зависела бы только от нашего желания».
Хемингуэй нехотя принимал участие в этих разговорах — он вообще никогда не любил окололитературных разговоров, а сейчас все его мысли были сосредоточены на куду.
По предложению Персиваля они отправились в новые места. «Мы ехали по уступам скал, — вспоминал Хемингуэй, — узкой тропой, исхоженной караванами и скотом, и бездорожье каменной осыпи подымалось между двумя рядами деревьев, уходя в горы… Машина спустилась к песчаной реке шириной в полмили, окаймленной зеленью деревьев. По золотистому песку были разбросаны лесные островки; вода в этой реке текла под песком, животные приходили на водопой по ночам и выкапывали острыми копытами лунки, которые быстро наполнялись водой. Когда мы перебрались через эту реку, день уже клонился к вечеру; навстречу нам то и дело попадались люди, которые покидали голодный край, лежавший впереди…»
Потом, уже на новом месте, Хемингуэю повезло, и он в течение получаса застрелил двух великолепных самцов куду.
Наступал сезон дождей, и экспедицию надо было заканчивать. Грустно было уезжать из этой прекрасной страны. «Я хотел только одного, — писал Хемингуэй, — вернуться в Африку. Мы еще не уехали отсюда, но, просыпаясь по ночам, я лежал, прислушивался и уже тосковал по ней… Сейчас, живя в Африке, я с жадностью старался взять от нее как можно больше — смену времен года, дожди, когда не надо переезжать с места на место, неудобства, которыми платишь, чтобы ощутить ее во всей полноте, названия деревьев, мелких животных и птиц; знать язык, иметь достаточно времени, чтобы во все это вникнуть и не торопиться. Всю жизнь я любил страны: страна всегда лучше, чем люди».
Оставалось две недели до того дня, когда они должны были в Момбасе сесть на пароход, чтобы плыть в Европу. Хемингуэй решил показать Персивалю, что такое ловля крупной рыбы в море, и они остановились в Малинди на берегу Индийского океана. Катер, который они заказали телеграммой, оказался дырявым, один мотор постоянно портился. Однако, несмотря на это, ловля рыбы прошла удачно, и Хемингуэй клялся, что приедет сюда еще не раз и будет ловить рыбу в Красном море, в Аденском заливе и на побережье Занзибара.
В марте Хемингуэй с Полиной были уже в Париже. Здесь он нанес визит Сильвии Бич в ее книжную лавку, и Сильвия показала ему статью критика Уиндхема Льюиса, с которым он когда-то занимался боксом в былые парижские времена. С тех пор Уиндхем Льюис стал крайним реакционером. Статья называлась «Тупой бык» и была в высшей степени оскорбительной для Хемингуэя.
Эрнест пришел в такое бешенство, что разбил вазу с тюльпанами на столике у Сильвии. Его собирались учить, как и о чем он должен писать, а он выше всего на свете ценил свою писательскую независимость, свое право выбирать из жизни тот материал, который он знал, который что-то говорил его сердцу и уму, и он верил, что если напишет правду, и напишет ее хорошо, то это скажет что-то и сердцу и уму читателя.
Он не мог уважать продажных писателей буржуазной Америки, связывающих свою писательскую работу с политическими веяниями. Этой точки зрения он придерживался всегда.
На борту океанского лайнера «Иль де Франс» Хемингуэй и Полина отплыли в Америку. Во время этого путешествия он познакомился со знаменитой актрисой Марлей Дитрих, которая на многие годы стала его хорошим другом. Знакомство это, как он потом рассказывал, произошло при довольно необычных обстоятельствах. Хемингуэй сидел в салоне парохода с одним из своих приятелей, неподалеку ужинала большая компания кинематографистов. И вдруг он увидел, как на верху лестницы появилось «это чудо в белом». Длинное узкое белоснежное платье на этой фигуре. В искусстве драматической паузы, говорил Эрнест, ей не было равных. Так вот, она устроила драматическую паузу на верху лестницы и затем стала медленно скользить вниз и подошла к столу, где ее ждали. Естественно, что все, кто был в салоне, не проглотили ни куска с момента ее появления. Все мужчины за столом вскочили, начали придвигать ей стул, но она стояла и считала. Оказалось, за столом сидит уже двенадцать человек. Тогда она извинилась и сказала, что не может сесть тринадцатой. Тут Хемингуэй встал из-за своего столика и предложил спасти компанию, сев к ним четырнадцатым.
В начале апреля они были в Нью-Йорке. Репортерам в порту он сказал, что собирается вернуться в Ки-Уэст и засесть писать. Но до отъезда в Ки-Уэст ему удалось осуществить еще одну давнюю свою мечту.
Он давно хотел обзавестись собственным рыболовным катером, с сильным мотором, способным выдерживать дальние морские переходы. Еще до поездки в Африку ему рассказали об острове Бимини, расположенном в 45 милях на восток от Майами, заверяя, что это подлинный рай для охотников на крупную рыбу. Ему захотелось поехать туда, но для этого нужен был свой катер.
В один из дней своего пребывания в Нью-Йорке Хемингуэй вместе с Полиной поехал на судостроительные верфи в Бруклин и там подобрал себе как раз такой катер, какой был ему нужен. Он его приобрел, заказал некоторые приспособления для ловли крупной морской рыбы и договорился, что катер доставят в Майами. Он решил назвать его испанским женским именем «Пилар».
В Ки-Уэсте Хемингуэй сел писать новую книгу о своем путешествии по Африке. На этот раз он решил создать чисто документальное произведение, изменив только имена участников этого сафари. В предисловии к книге, которую он поначалу хотел назвать «Африканские предгорья», он писал: «В отличие от большинства книг здесь нет ни одного вымышленного героя или события… Автор стремился создать абсолютно правдивую книгу, чтобы выяснить, может ли такое правдивое изображение событий одного месяца, а также страны, в которой они происходили, соперничать с творческим вымыслом».
Он стал описывать все, что произошло с ними в Африке, волнения, удачи и неудачи охоты, пейзажи этой страны, туземцев, с которыми ему пришлось сталкиваться. Рассказывал он не последовательно, а слегка меняя чередование событий. Начал он со встречи с австрийцем Корицшонером, которому дал фамилию Кандиский. Беседы с этим странным человечком, задававшим ему кучу вопросов о литературе, дали ему возможность изложить в книге кое-какие свои соображения о литературе, правда, в несколько ироническом тоне, поскольку высказывал он эти мысли Кандискому. Но за этой иронической интонацией скрывались порой очень серьезные вещи. Так, он очень серьезно высказал свое суждение о месте Марка Твена в американской литературе, заявив, что вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна»: «Лучшей книги у нас нет… И ничего равноценного с тех пор тоже не появлялось».
Немало мыслей в этой новой книге Хемингуэй высказал о месте писателя в обществе. Он утверждал, что писателям следует работать в одиночку. Писатели должны встречаться друг с другом только тогда, когда работа закончена.
«Иначе они становятся такими же, как те их собратья, которые живут в Нью-Йорке. Это черви для наживки, набитые в бутылку и старающиеся урвать знания и корм от общения друг с другом и с бутылкой. Роль бутылки может играть либо изобразительное искусство, либо экономика, а то экономика, возведенная в степень религии. Но те, кто попал в бутылку, остаются там на всю жизнь. Вне ее они чувствуют себя одинокими. А одиночество им не по душе».
С горечью писал Хемингуэй о том, как американское общество губит своих писателей, потому что они начинают сколачивать деньгу, жить на широкую ногу, и потом им уже приходится писать, чтобы поддерживать такой образ жизни, содержать своих жен и прочая, а в результате получается макулатура. Быть может, когда Хемингуэй писал эти строки, он видел перед собой своего друга Скотта Фицджеральда, губившего свой талант ради денег. Писателей, утверждал Хемингуэй, «губят первые деньги, первая похвала, первые нападки, первая мысль о том, что они не могут больше писать, первая мысль, что ничего другого они делать не умеют, или же, поддавшись панике, они вступают в организации, которые будут думать за них».
О себе Хемингуэй писал: «У меня много других интересов. Жизнью своей я очень доволен, но писать мне необходимо, потому что, если я не напишу какого-то количества слов, вся остальная жизнь теряет для меня свою прелесть… Мне нужно писать — и как можно лучше, и учиться в процессе работы. И еще я живу жизнью, которая дает мне радость. Жизнь у меня просто замечательная». Но когда Кандиский спрашивает его: «Значит, вы счастливы?», следует очень важный ответ, весьма характерный для Хемингуэя: «Да, пока не думаю о других людях». И вот здесь, говоря о том, что нужно писателю, Хемингуэй перечисляет: большой талант, как у Киплинга, самодисциплина Флобера и совесть — «такая же абсолютно неизменная, как метр-эталон в Париже», интеллект и бескорыстие, и умение выжить.
Не тронутая человеком великолепная природа Африки наводила Хемингуэя на тяжкие раздумья о том, как безжалостно капитализм разрушает девственную природу. «С нашим появлением континенты быстро дряхлеют. Местный народ живет в ладу с ними. А чужеземцы разрушают все вокруг, рубят деревья, истощают водные источники…» Хемингуэй говорит о том, что Америка была хорошей страной, но ее превратили черт знает во что. «Наши предки, — писал он, — увидели эту страну в лучшую ее пору, и они сражались за нее, когда она стоила того, чтобы за нее сражаться. А я поеду теперь в другое место. Так мы делали в прежние времена, а хорошие места и сейчас еще есть».
В этой книге Хемингуэя то и дело проступала горечь большого художника, видящего, что критика, формирующая общественное мнение, не хочет понять его, сознательно искажает смысл его творчества. Все это вызывало чувство одиночества, но и утверждало его в собственных убеждениях. Утешала еще давняя мысль о непреходящем — таком, как земля в «И восходит солнце», как Гольфстрим, который он теперь узнал и полюбил.
«Если ты совсем молодым отбыл повинность обществу, демократии и прочему и, не давая себя больше вербовать, признаешь ответственность только перед самим собой, на смену приятному, ударяющему в нос запаху товарищества к тебе приходит нечто другое, ощутимое, лишь когда человек бывает один. Я еще не могу дать этому точное определение, но такое чувство возникает после того, как ты честно и хорошо написал о чем-нибудь и беспристрастно оцениваешь написанное, а тем, кому платят за чтение и рецензии, не нравится твоя тема, и они говорят, что все это высосано из пальца, и тем не менее ты непоколебимо уверен в настоящей ценности своей работы; или когда ты занят чем-нибудь, что обычно считается несерьезным, а ты все же знаешь, что это так же важно и всегда было не менее важно, чем все общепринятое, и когда ты на море один на один с ним и видишь, что Гольфстрим, с которым ты сжился, который ты знаешь и вновь познаешь, и всегда любишь, течет, как и тек он с тех пор, когда еще не было человека, и омывает этот длинный, прекрасный и злополучный остров с незапамятных времен, до того, как Колумб увидел его берега, и все, что ты можешь узнать о Гольфстриме и о том, что живет в его глубинах, все это непреходяще и ценно…»
Работа над книгой шла очень медленно. К тому же она прерывалась частыми поездками на Кубу, теперь на собственном катере «Пилар». В это лето в дом на Уайтхед-стрит явился высокий молодой человек, очень серьезного вида, с огромными ручищами и ножищами, и заявил, что он добрался сюда на попутных машинах из Миннесоты, чтобы задать Хемингуэю несколько вопросов о том, как научиться писать.
Выяснилось, что всю свою жизнь этот парень мечтал стать писателем. Он вырос на ферме, окончил школу, университет, работал газетчиком, плотником, батраком, поденщиком, бродяжничал по Америке. Кроме сочинительства, у него была еще одна навязчивая идея — побывать в море. Хемингуэй нанял его ночным сторожем на «Пилар». Он был отличный ночной сторож, но в море оказался сущим бедствием — медлительный там, где нужно было проворство, нервничал, когда нужна была решимость, проявлял непреоборимую склонность к морской болезни и по-крестьянски неохотно слушался приказаний. К тому же он еще играл на скрипке, благодаря чему его прозвали «Маэстро», сократив потом это прозвище до «Майса».
Во время рыболовных экспедиций Майс при каждом удобном случае засыпал Хемингуэя вопросами о писательском мастерстве. Впоследствии Хемингуэй написал для «Эсквайра» очерк «Маэстро задает вопросы», в котором воспроизвел некоторые свои ответы.
На вопрос Майса, какие книги должен прочитать писатель, Хемингуэй привел ему большой список, в котором на первом месте стояли «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого, книги капитана Марриэта, «Мадам Бовари» и «Воспитание чувств» Флобера, «Будденброки» Томаса Манна, три романа Джойса, Филдинг, Стендаль, Достоевский, все лучшее из Мопассана, все лучшее из Киплинга, весь Тургенев и так далее.
В связи с этим перечислением Хемингуэй сформулировал и свое отношение к классической литературе:
«Какой толк писать о том, о чем уже было написано, если не надеешься написать лучше? В наше время писателю надо либо писать о том, о чем еще не писали, или обскакать писателей прошлого в их же области. И единственный способ понять, на что ты способен, — это соревнование с писателями прошлого. Большинство живых писателей просто не существует. Их слава создана критиками, которым нужен очередной гений, писатель, им всецело понятный, хвалить которого можно безошибочно. Но когда эти дутые гении умирают, от них не остается ничего. Для серьезного автора единственными соперниками являются те писатели прошлого, которых он признает. Все равно как бегун, который пытается побить собственный рекорд, а не просто соревнуется со своими соперниками в данном забеге. Иначе никогда не узнаешь, на что ты в самом деле способен».
Продолжая работать над книгой о своем путешествии по Африке, Хемингуэй каждый месяц посылал статью в «Эсквайр». Относился он к этой работе не очень серьезно. «Между делом, — свидетельствовал он в письме И. А. Кашкину, — пишу всякую всячину в «Эсквайр», чтобы прокормить себя и свою семью. Они там вперед не знают, что я им напишу, и получают рукопись накануне сдачи номера в набор. Бывает лучше, бывает и хуже. Я затрачиваю на это каждый раз не больше одного дня и стараюсь, чтобы это было интересно и правдиво. Во всяком случае, без каких-либо претензий».
Однако среди очерков об охоте в Африке и о ловле рыбы попадались и более серьезные, в которых Хемингуэй формулировал свою позицию по весьма важным вопросам. Видимо, его все-таки очень волновали упреки критиков и некоторых друзей, обвинявших его в аполитичности, в том, что в его книгах не отражаются социальные проблемы, волнующие сегодня общество. Ему хотелось оправдаться и объяснить свою позицию. Так появилась в «Эсквайре» в декабре 1934 года статья «Старый газетчик пишет», в которой Хемингуэй пытался обосновать свой взгляд на то, как писатель должен участвовать своим творчеством в общественной жизни. Ему претила продажность писателей в буржуазном обществе, и он писал по этому поводу:
«Писатель может сделать недурную карьеру, примкнув к какой-нибудь политической партии, работая на нее, сделав это своей профессией и даже уверовав в нее. Если это дело победит, карьера такого писателя обеспечена. Но все это будет не впрок ему как писателю, если он не внесет своими книгами чего-то нового в человеческие знания.
Нет на свете ничего труднее, чем писать простую честную прозу о человеке. Сначала надо изучить то, о чем пишешь, затем надо научиться писать. На то и другое уходит вся жизнь. И обманывают себя те, кто думает отыграться на политике. Это слишком легко, все эти поиски выхода слишком легки, а само наше дело неимоверно трудно. Но делать его нужно…
Книги нужно писать о людях, которых знаешь, которых любишь или ненавидишь, а не о тех, которых только изучаешь. И если писать правдиво, все социально-экономические выводы будут напрашиваться сами собой».
Вот его символ веры, который вырабатывался долгие годы. Он старался объяснить читателям и критикам, что дело не в аполитичности, в которой он якобы виновен. Просто он был убежден, что если писатель пишет правдиво, «все социально-экономические выводы будут напрашиваться сами собой».
В конце ноября к нему в Ки-Уэст приехал Дос Пассос со своей женой Кэт. Дос Пассос провел все лето в Голливуде, где он писал сценарий «Дьявол — это женщина». Хемингуэй с усмешкой сказал, что «бедный Дос стал благодаря этому богат», он считал, что, идя на такие поделки, писатель утрачивает свою независимость. Об этой проблеме он писал в своей книге об Африке, а в голове у него зрел замысел большого рассказа о писателе, предавшем свое искусство ради денег.
В конце этого 1934 года Хемингуэй принял самое активное участие в устройстве в Нью-Йорке выставки гравюр своего друга Луиса Кинтанильи, который в это время сидел в мадридской тюрьме за участие в астурийском восстании. Вместе с другими общественными деятелями Хемингуэй подписал петицию с требованием освобождения Кинтанильи. Вскоре Хемингуэй написал статью о выставке Кинтанильи и о нем самом, в которой воздал должное подлинным революционерам, выразил свое восхищение их мужеством и самоотверженностью:
«Пусть не говорят о революции те, кто пишет это слово, но сам никогда не стрелял и не был под пулями; кто никогда не хранил запрещенного оружия и не начинял бомб; не отбирал оружия и не видел, как бомбы взрываются; кто никогда не голодал ради всеобщей стачки и не водил трамваи по заведомо минированным путям; кто никогда не пытался укрыться на улице, пряча голову за водосточную трубу; кто никогда не видел, как пуля попадает женщине в голову, или в грудь, или в спину; кто никогда не видел старика, у которого выстрелом снесло половину головы; кто не вздрагивал от окрика «Руки вверх!»; кто никогда не стрелял в лошадь и не видел, как копыта пробивают голову человека; кто никогда верхом не попадал под град пуль или камней; кто никогда не испытал удара дубинкой по голове и сам не швырял кирпичей; кто никогда не видел, как штрейкбрехеру перешибают руки ломом; или как вкачивают в агитатора кишкой сжатый воздух; кто никогда — это уже серьезней, то есть карается строже, — не перевозил оружие ночью в большом городе; кто не бывал свидетелем этого, но знал, в чем дело, и молчал из страха, что позднее поплатится за это жизнью; кто никогда (пожалуй, хватит, ведь продолжать можно до бесконечности) не стоял на крыше, пытаясь отмыть собственной мочой черное пятно между большим и указательным пальцем — след автомата, когда сам он закинут в колодец, а по лестнице поднимаются солдаты; по рукам вас будут судить, других доказательств, кроме рук, им не надо; впрочем, если руки чисты, вас все равно не отпустят, если знают точно, с какой крыши вы стреляли».
Таков был его ответ всяческим «розовым», спекулировавшим на революции.
В это время к нему в Ки-Уэст приехал писатель Ирвинг Стоун и привез в подарок Хемингуэю свою книгу — биографию Ван Гога. Стоун потом вспоминал, как они вдвоем пили виски, сидя на перевернутой лодке, и обсуждали проблемы жанров. Стоун уверял Хемингуэя, что из них двоих его задача как биографа сложнее: «Я должен копаться месяцами и годами в исторических документах, и я связан тем, что я нашел в них». На это Хемингуэй ответил, что выдуманной литературы вообще не бывает, он стал говорить о своих «автобиографических рассказах» и о «сочетании характеров», которое он использует, чтобы создать образ в книге. «Он подчеркивал, — вспоминал Стоун, — и весьма настойчиво, что в литературе нет такой вещи, как чистое воображение, что мы не просто высасываем идеи и характеры из пальца. Он признался, что его собственные романы могут быть названы биографическими скорее, чем вымышленными, потому что возникли на «жизненном опыте». Когда Стоун спросил его, почему он никогда не брался за роман о жизни в Америке, Хемингуэй ответил, что американская жизнь слишком скучна. Ничего чрезвычайного не случается. Стоун напомнил ему о социальных и экономических реформах Рузвельта, но Хемингуэй пожал плечами и сказал, что это не его материал.
Его материалом в эти дни была Африка. Он писал свою книгу с удовольствием и говорил, что она более любого другого его произведения напоминает «На Биг-Ривер».
Когда в середине января 1935 года Макс Перкинс приехал в Ки-Уэст, Эрнест с гордостью показал ему законченную рукопись книги, которую он окончательно решил назвать «Зеленые холмы Африки». Первую половину он уже успел трижды переписать и сократить.
В апреле Эрнест вышел на «Пилар» в свой первый рейс на остров Бимини. С ним отправились Майк Стрэйтер, Дос Пассос с женой и двое помощников из местных жителей Ки-Уэста. В пути они охотились на рыб, и случилось так, что Эрнест поймал на крючок акулу, подтянул ее к катеру и принялся стрелять в нее из револьвера, в это время его острога сломалась, и пули из револьвера попали ему в ногу. Пришлось вернуться в Ки-Уэст и улечься в постель.
Однако через неделю они опять вышли в море, направляясь на Бимини. Это действительно оказался остров, почти не тронутый цивилизацией. Здесь стояло несколько хижин туземцев под кокосовыми пальмами, лавка, причал, нечто вроде бара, в котором они выпивали по вечерам, великолепный широкий пляж.
У берегов Бимини Хемингуэй выловил свою первую гигантскую туну. Она попалась на крючок местному сторожу ранним утром и, видимо, была крупной рыбой — ушла на всю длину лесы. Ладони у сторожа были ободраны в клочья, когда он передал лесу Хемингуэю. Борьба с рыбой продолжалась весь день, и только к вечеру рыба начала ослабевать. Эрнест уже подвел ее к «Пилар», как вдруг появились акулы и набросились на обессилевшую туну. От гигантской рыбы остались только голова, позвоночник и хвост.
Хемингуэй давно мечтал приобрести для борьбы с акулами ручной пулемет, но их продажа была запрещена. Здесь, на Бимини, он увидел такой пулемет у богатого рыболова-спортсмена Лидса и уговорил владельца уступить пулемет ему. Теперь он ловил рыбу, держа рядом заряженный ручной пулемет на случай появления акул.
Местные рыбаки относились к богатым спортсменам, приезжавшим на Бимини, враждебно, считая, что те лишают их добычи. Тогда Хемингуэй объявил, что заплатит 250 долларов тому, кто выстоит против него три раунда по три минуты. Желающих нашлось немало, но никто из них не смог продержаться три раунда против Хемингуэя, который находился в это время в отличной спортивной форме. Тогда островитяне пригласили приехавшего на остров профессионального боксера, чемпиона Британской империи в тяжелом весе, Тома Хини, выступить против этого чужака. Хини согласился, и матч состоялся в присутствии целой толпы островитян и приезжих. Боксеры сражались на песке босиком. Они дрались раунд за раундом, но ни один не мог победить. Тогда Хини предложил: «Давайте кончим с этим. Мы деремся просто так, в то время как нам должны платить за это». Хемингуэй был несказанно доволен этим боем.
С этой поездки Бимини стал излюбленным местом его рыболовных экспедиций.
Казалось бы, он увлечен только рыбной ловлей, боксом, выпивкой. А на самом деле он продолжал следить за всем, что происходит в мире, и думать о проблемах, представляющих действительно серьезный общественный интерес. Находясь на Бимини, Хемингуэй написал для «Эсквайра» очень важную статью «Заметки о будущей войне». Он предсказывал, что в 1937 или 1938 году начнется вторая мировая война, которую развяжут гитлеровская Германия и Италия Муссолини, и напоминал людям, что такое мировая война.
«Минувшую войну выиграли союзники, — писал он, — но в маршировавших на парадах полках были не те солдаты, что воевали. Те солдаты мертвы. Было убито более семи миллионов, и убить значительно больше, чем семь миллионов, сегодня истерично мечтает бывший ефрейтор германской армии и бывший летчик и морфинист, сжигаемый личным и военным честолюбием в дурмане мрачного, кровавого, мистического патриотизма. Гитлеру не терпится развязать в Европе войну. Он бывший ефрейтор, и в этой войне он не будет воевать, только произносить речи. Ему самому нечего терять. Зато он может получить все».
Вскоре после возвращения в Ки-Уэст Хемингуэю переслали вышедший в Москве в переводе на русский язык сборник рассказов под названием «Смерть после полудня» и статью о его творчестве советского литературоведа Ивана Александровича Кашкина. Для Хемингуэя это был очень приятный сюрприз. Радостно было узнать, что его произведения стали известны читателям в далекой России, и еще радостнее было обнаружить критика, который понял его и постарался объяснить.
«Приятно, — писал Хемингуэй в письме Кашкину, — когда есть человек, который понимает, о чем ты пишешь. Только этого мне и надо». Это письмо Кашкину, быть может, одно из самых серьезных писем о самом себе, написанное Хемингуэем.
Хемингуэй в этом письме отстаивал свое убеждение, что писатель в буржуазном обществе не должен зависеть от правительства:
«Почему бы писателю ожидать награды или признания от какой-нибудь социальной группы или какого-либо правительства? Единственная награда писателя в том, чтобы хорошо делать свое дело, и это достаточная награда для каждого. Нет для меня зрелища недостойнее того, как человек пыжится, стараясь попасть во Французскую академию или в любую академию».
Заканчивал свое письмо Кашкину Хемингуэй словами искренней признательности: «Я пишу Вам это потому, что Вы так заботливо и тщательно изучили то, что я написал, и затем, чтобы Вы знали кое-что из того, о чем я думаю. Пусть даже, прочитав это, Вы окажетесь обо мне дурного мнения. Мне наплевать, знают ли наши американские критики, о чем я думаю, потому что я не уважаю их. Но Вас я уважаю и ценю, потому что Вы желали мне добра».
Тем временем начиная с мая этого 1935 года «Зеленые холмы Африки» печатались с продолжением в журнале «Скрибнерс мэгезин», и в октябре должна была выйти книга. А у него уже зрели новые замыслы.
ГЛАВА 19 ПОВОРОТ ТЕМЫ
Я не знаю, кто выдумывает законы, но я знаю, что нет такого закона, чтобы человек голодал…
Э. Хемингуэя, Иметь и не иметьОблик Ки-Уэста в значительной мере определяли ветераны войны, неприкаянные люди, которым родина отплатила за то, что они проливали кровь, умирали, гнили на полях первой мировой войны, тем, что оставила их без работы, без куска хлеба. Правительство Рузвельта согнало их сюда, на южную оконечность Флоридского полуострова, в дощатые бараки на островах Матекумбе, чтобы они строили здесь дорогу и не тревожили покой американских городов.
В дни получки ветераны заполняли кабачок Джо Рассела, пили там, дрались, вспоминали войну, проклинали свою постылую жизнь. Хемингуэй знал их, выпивал с ними, выслушивал их грустные истории. Среди них были разные люди: «одни бывали вдребезги пьяны, а другие держались молодцом; одни стали бродягами чуть ли не с самой Аргонны, а другие только в прошлое рождество остались без работы; одни были женаты, а другие не помнили родства; одни были хорошие ребята, а другие относили свои деньги в сберегательную кассу, а сами шли выклянчивать стаканчик у добрых людей, уже успевших напиться; одни любили драться, а другим нравилось разгуливать по городу, и во всех в них было то, что оставляет нам война». Так писал о них Хемингуэй, для которого эти люди были братьями по войне.
31 августа 1935 года в местной газете появилось предупреждение о надвигающемся на Флориду урагане — тропический вихрь возник на Багамах и двигался примерно в сторону Ки-Уэста. Это была суббота, и, значит, ураган мог дойти сюда не раньше середины дня в понедельник. Все воскресенье Хемингуэй был занят тем, чтобы укрыть «Пилар». Он хотел вытащить ее на мол, но там уже не было места. Тогда он купил новый толстый канат и привязал «Пилар» в бывшем затоне подводных лодок.
А город уже был в тревоге, большие красные флаги с черными четырехугольниками посредине — сигнал урагана — трепетали под сильным ветром, жители заколачивали окна и двери.
В понедельник, 2 сентября, к полуночи ураган обрушился на Ки-Уэст. Ко вторнику ураган ушел дальше, огибая Мексиканский залив, но дул такой сильный ветер, что ни одна лодка не могла выйти из Ки-Уэста и всякое сообщение с островами и с материком было прервано. Никто не знал, что произошло на островах. Только в конце следующего дня первая лодка отправилась из Ки-Уэста на остров Матекумбе. И тогда стало известно, что, хотя власти знали о надвигающемся урагане, не было сделано даже попытки эвакуировать рабочие лагеря. Поезд, предназначенный для эвакуации ветеранов, вышел только во второй половине дня в понедельник, и его сорвало ветром с рельсов, прежде чем он дошел до места назначения.
Хемингуэй был одним из первых, кто бросился на спасение людей. «Когда мы добрались до Нижнего Матекумбе, — писал он, — на поверхности воды у самого парома плавали трупы… В верхней части острова на два фута высился нанесенный морем песок, а на стройке моста тяжелые машины лежали на боку. Там, где море прошло по острову, он стал похож на дно высохшей реки. Железнодорожная насыпь исчезла, и вместе с ней исчезли люди, которые укрывались за ней и цеплялись за рельсы, когда подступила вода. Ничком или навзничь они лежали теперь среди манглий. Больше всего трупов было в спутанных ветвях вечнозеленых, а теперь побуревших манглий, за цистернами и водокачкой». Это было страшное зрелище. Он писал Перкинсу, что в этот день увидел столько мертвых, сколько не видел с лета 1918 года. В лагерях на островах Матекумбе погибло около тысячи ветеранов войны.
Когда редактор коммунистического журнала «Нью мэссис» Джозеф Норт телеграммой предложил Хемингуэю написать об этой катастрофе, он немедленно откликнулся гневной статьей «Кто убил ветеранов войны». Это было обвинение, беспощадное и бескомпромиссное, обвинение, которое он бросил в лицо правительству Соединенных Штатов, его чиновникам, проявившим преступное равнодушие к судьбе людей, обреченных в своих рабочих лагерях в эту пору ураганов на верную гибель. В своей статье Хемингуэй вопрошал:
«Кому они помешали и для кого их присутствие могло быть политической угрозой?
Кто послал их на Флоридские острова и бросил там в период ураганов?
Кто виновен в их гибели?»
Он припоминал кровавую расправу над ветеранами войны, пришедшими с просьбой к правительству улучшить их положение, которую учинил генерал Макартур на равнине Анакостия, и писал, что «то, что произошло на равнине Анакостия, покажется актом милосердия в сравнении с тем, что случилось на Верхнем и Нижнем Матекумбе».
С какой неистовой яростью обрушился он в этой статье на писателей, для которых это несчастье было только поводом для сочинительства:
«…а вы, вы, которые опубликовали в отделе литературных новостей, что отправляетесь в Майами посмотреть на ураган, потому что он понадобится вам для вашего нового романа, и теперь испугались, что вам не удастся его увидеть, — вы можете продолжать читать газеты, и там вы найдете все, что нужно для вашего романа, но мне хочется ухватить вас за ваши брюки, которые вы просидели, сочиняя сообщения для отдела литературных новостей, и отвести вас в ту манглиевую рощу, где вверх ногами лежит женщина, раздувшаяся, как шар, и рядом с ней — другая, лицом в кустарник, и рассказать вам, что это были две прехорошенькие девушки, содержательницы заправочной станции и закусочной при ней, и что туда, где они сейчас лежат, их привело их «счастье». И это вы можете записать для вашего нового романа, а кстати: как подвигается ваш новый роман, дорогой коллега, собрат по перу?»
Заканчивал он статью горестными, гневными и недоуменными словами: «Ты мертв, брат мой!.. Кто бросил тебя там? И как теперь карается человекоубийство?»
От гонорара за эту статью Хемингуэй отказался, ибо, как он писал Перкинсу, не считал, что можно делать деньги из убийства.
25 октября 1935 года вышла в свет книга «Зеленые холмы Африки».
Опять критики упрекали Хемингуэя в том, что он пишет об охоте на зверей вместо того, чтобы заниматься социально-политическими проблемами. А он тем временем работал уже над новым произведением. Это был второй рассказ о Гарри Моргане.
Если в первом рассказе о Гарри Моргане обстоятельства в лице богатого американца, потерявшего дорогую рыболовную снасть Гарри и уехавшего, не заплатив ему заработанных денег, толкнули Моргана на авантюру с вывозом китайцев с Кубы и на убийство, то в новом рассказе Хемингуэй показал, как Гарри вынужден, чтобы прокормить семью, заниматься контрабандным вывозом виски с Кубы в Ки-Уэст. В перестрелке с таможенной охраной Гарри ранят в руку. Тяжело ранен и его помощник-негр.
Уже по дороге к дому Гарри встречает лодку Уилли Адамса, который везет на рыбную ловлю двух приезжих американцев. Один из них догадывается, что лодка Гарри перевозит контрабанду, и требует, чтобы Уилли подошел к ней. Тот отказывается. Тогда этот человек начинает угрожать ему. «К вашему сведению, — говорит он, — я один из трех самых влиятельных людей в Соединенных Штатах». Он обещает Уилли, что тот о нем еще услышит, — «и не только вы, но и весь этот вонючий, гнилой городишко, хоть бы мне пришлось срыть его до основания». Но Уилли живет по другим законам, он объясняет этой «важной птице», что подъезжать ближе к Гарри им нет никакой надобности: «Если б мы были ему нужны, он бы подал нам знак. Если мы ему не нужны, зачем нам соваться не в свое дело? У нас тут принято, что каждый делает свое дело».
В конце концов Уилли приближается к лодке Гарри, но только для того, чтобы прокричать ему: «Слушай. Иди прямо в город и будь спокоен. О лодке не думай. Лодку заберут. Спускай груз на дно и иди прямо в город. Тут у меня на лодке какой-то шпик из Вашингтона. Он хочет тебя сцапать. Он думает, что ты бутлегер. Он записал номер твоей лодки. Я тебя в глаза не видал и не знаю, кто ты такой. Я не смогу установить твою личность, если…»
Такова оказывается солидарность простых людей, зарабатывающих себе на жизнь своим трудом. Уилли обещает Гарри, что прокатает своих пассажиров до вечера. А возмущенным чиновникам он начинает рассказывать о ценах на рыбу: «Я думал, может, вам, как правительственному чиновнику, это будет интересно. Разве не вы ведаете ценами на продукты или как там? Разве нет? Чтобы они стоили подороже или как там? Чтобы хлеб был подороже, а рыба подешевле?»
А Гарри Морган направляет свою лодку к городу. «Может быть, все-таки вылечат руку, — думал он. — Мне бы она еще очень пригодилась, эта рука».
Так Хемингуэй показал столкновение людей труда, которых проклятая система в этой стране заставляет идти на нарушение законов, чтобы прокормить семью, с бездушной чиновничьей машиной, предназначенной для подавления людей.
Этот второй рассказ о Гарри Моргане, названный Хемингуэем «Возвращение контрабандиста», был закончен в ноябре 1935 года и появился в журнале «Эсквайр» в феврале 1936 года. Но еще до публикации «Возвращения контрабандиста» в том же «Эсквайре» в январе 1936 года появилась статья Хемингуэя «Крылья над Африкой».
Она была посвящена нападению фашистской Италии на Абиссинию. Вновь Хемингуэй выступал как страстный противник войны и фашизма. Он много раньше, чем большинство из тех, кто упрекал его в аполитичности, сумел распознать, что такое фашизм и кто такой Муссолини. Он писал об этом еще в своих корреспонденциях в торонтскую «Дейли стар» из Европы в 20-х годах.
В статье «Крылья над Африкой» Хемингуэй вновь напоминал своим читателям о прошлой мировой войне: «Долго любить войну могут только спекулянты, генералы, штабные и проститутки. Им в военное время жилось как никогда, и нажиться они тоже сумели как никогда». Он показывал механику власти фашистских диктаторов: «Немало людей в Италии помнят прошлую войну такой, как она была, а не такой, как ее им изображали после. Но те из них, кто пробовал раскрыть рот, жестоко поплатились за это: одних убили, другие томятся в тюрьме на Липарских островах, а третьим пришлось покинуть родину. Во время диктатуры опасно иметь хорошую память. Нужно приучить себя жить великими свершениями текущего дня. Пока диктатор контролирует прессу, всегда найдутся очередные великие свершения, которыми и следует жить».
Хемингуэй продемонстрировал в этой статье и свою прозорливость международного обозревателя. Он предсказывал, что Италия «постарается путем тайного сговора с державами обеспечить себе свободу и добиться отмены санкций, ссылаясь на то, что ее военное поражение неминуемо приведет к победе «большевизма» в стране». Эту механику игры он знал прекрасно. «Стоит такому диктатору, — писал он, — завопить о большевистской угрозе как о неизбежном следствии его поражения — и сочувствие немедленно окажется на его стороне. Ведь стал же Муссолини героем всей ротермировской прессы в Англии благодаря утвердившемуся там мифу, что он, Муссолини, спас Италию от опасности стать красной».
Хемингуэй сожалел о тех простых парнях, рабочих и крестьянах Италии, которых послали сражаться в Абиссинию, и желал им, чтобы они поняли, кто их враг и почему.
Тогда же Хемингуэй написал для «Эсквайра» очерк «На голубой воде» — о ловле марлинов в водах Гольфстрима, появившийся в апреле 1936 года. В этом очерке он старался передать все удовольствие ловить рыбу с катера. Это удовольствие, писал он, «получаешь от того, что рыба — существо удивительное и дикое — обладает невероятной скоростью и силой, а когда она плывет в воде или взвивается в четких прыжках, это — красота, которая не поддается никаким описаниям и чего бы ты не увидел, если бы не охотился в море. Вдруг ты оказываешься привязанным к рыбе, ощущаешь ее скорость, ее мощь и свирепую силу, как будто ты едешь на лошади, встающей на дыбы. Полчаса, час, пять часов ты прикреплен к рыбе так же, как и она к тебе, и ты усмиряешь, выезжаешь ее, точно дикую лошадь, и в конце концов подводишь к лодке. Из гордости и потому, что рыба стоит много денег на гаванском рынке, ты багришь ее и берешь на борт, но в том, что она в лодке, уже нет ничего увлекательного; борьба с ней — вот что приносит наслаждение».
Этот очерк интересен еще и тем, что в нем Хемингуэй рассказал случай, послуживший впоследствии сюжетной основой для повести «Старик и море».
«В другой раз у Кабаньяса старик поймал огромного марлина, который утащил его лодку в море. Через два дня старика подобрали рыбаки в шестидесяти милях в восточном направлении. Голова и передняя часть рыбы были привязаны к лодке. То, что осталось от рыбы, было меньше половины и весило восемьсот фунтов. Старик не расставался с рыбой день и ночь и еще день и еще ночь, и все это время рыба плыла на большой глубине и тащила за собой лодку. Когда она всплыла, старик подтянул к ней лодку и ударил ее гарпуном. Привязанную к лодке, ее атаковали акулы, и старик боролся с ними совсем один в Гольфстриме на маленькой лодке. Он бил их багром, колол гарпуном, отбивал веслом, пока не выдохся, и тогда акулы съели все, что могли. Он рыдал, когда рыбаки подобрали его, полуобезумевшего от своей потери, а акулы все еще продолжали кружить вокруг лодки».
Весна 1936 года оказалась очень плодотворной для Хемингуэя. Он почти без перерыва написал три больших рассказа, которые принесли ему новую громкую славу первого писателя в американской литературе.
Первый из этих рассказов, названный им «Рог быка», был опять посвящен Испании. Дело происходило в Мадриде, в пансионе «Луарка», где останавливаются обычно второразрядные матадоры. Хемингуэй в этом рассказе подверг исследованию всегда волновавшую его проблему страха. Один из матадоров, живущих в пансионе, до страшной раны, полученной им в живот, был на редкость смелым и ловким, но теперь он стал трусом. У себя в номере он пытается соблазнить горничную, но она, смеясь, обзывает его трусом, и он сидит один, вспоминая ту корриду и рог быка, вонзившийся в него: «И теперь, когда он готовится убить, а это бывает редко, он не может смотреть на рога, и где какой-то шлюхе понять, что он испытывает, выходя на бой?» В мимолетных, как будто случайных и обыденных, разговорах вставала в этом рассказе Испания, неповторимая страна, где все сплелось так причудливо — революция, церковь, бой быков… Один из официантов, который торопится на собрание, заявляет, что два бича Испании — это быки и священники. «Только борясь против каждого в отдельности, можно побороть весь класс, — заявляет этот, видимо, анархист. — Нужно уничтожить всех быков и всех священников. Всех до одного перебить. Тогда мы от них избавимся». А рядом за столом сидят два священника из провинции, один из которых утверждает: «В Мадриде многое начинаешь понимать: Мадрид — погибель Испании». А внизу, на кухне, мальчик Пако, мечтающий стать матадором, и мойщик посуды Энрико имитируют бой быков, в котором роль быка играет стул с привязанными к нему двумя кухонными ножами. Пако делает неверный шаг, и нож вонзается ему в живот.
В конце марта в Ки-Уэст приехал редактор журнала «Космополитен» Гарри Бартон, предложивший Хемингуэю 40 тысяч долларов за право печатать в журнале новый роман и от 3 до 7,5 тысячи долларов за рассказ. Хемингуэй показал ему рассказ «Рог быка», но Бартона он не заинтересовал, и Хемингуэй послал рассказ Грингричу в «Эсквайр» вместо очередного фельетона или очерка, где «Рог быка» и был опубликован в июне 1936 года.
Два других рассказа, написанные этой весной, были навеяны впечатлениями от поездки в Африку. В интервью Джорджу Плимптону Хемингуэй говорил: «Зеленые холмы Африки» не роман, эта книга была написана как попытка создать абсолютно правдивую книгу, чтобы убедиться, может ли правдивое описание страны и событий за месяц соревноваться с работой воображения. После того как я написал ее, я написал два рассказа, «Снега Килиманджаро» и «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера». Эти рассказы я придумал на основании опыта и знаний, приобретенных в течение той же охотничьей экспедиции, один месяц которой я пытался описать в «Зеленых холмах».
В рассказе «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера», который Хемингуэй поначалу хотел назвать «Счастливая концовка», он вновь пытался исследовать механику страха и его преодоления. Богатый американец Фрэнсис Макомбер охотится в Африке вместе со своей женой и белым охотником на львов Робертом Уилсоном. Когда раненый лев бросается навстречу Макомберу, тот до смерти пугается и бросается бежать. Это происходит на глазах у его жены и Уилсона. Макомбер очень переживает свой позор. «Это стояло у него перед глазами точно так, как произошло, только некоторые подробности выступили особенно ярко, и ему было нестерпимо стыдно. Но сильнее, чем стыд, он ощущал в себе холодный, сосущий страх. Страх был в нем как холодный, скользкий провал в той пустоте, которую некогда заполняла его уверенность, и ему было очень скверно. Страх был в нем и не покидал его».
Хемингуэй впоследствии рассказывал, что прообразом Макомбера был один молодой спортсмен международного класса, которого он хорошо знал. «Он точно такой, каким он был на самом деле, — говорил Хемингуэй о Макомбере, — но только придуманный».
Хемингуэй не пожалел сарказма для изображения этой супружеской пары. Макомбер «очень богат и должен был стать еще богаче». Хемингуэй в нескольких словах показывал круг интересов этих людей — Макомбер знал «автомобиль; и охоту на уток; и рыбную ловлю — форель, лососи и крупная морская рыба; и вопросы пола — по книгам, много книг, слишком много; и теннис; и собаки; и немножко о лошадях; и цену деньгам».
Прообразом жены Макомбера послужили жены многих богатых приятелей Хемингуэя. Он описал очень красивую, очень холеную женщину с безукоризненным овалом лица. Устами белого охотника Уилсона, которому Хемингуэй придал многие черты своего друга Филипа Персиваля, он охарактеризовал этот тип американских женщин: «Самые черствые, самые жестокие, самые хищные и самые обольстительные; они такие черствые, что их мужчины стали слишком мягкими или просто неврастениками».
Эти двое стоят друг друга, «их союз, — писал Хемингуэй, — покоился на прочном основании. Красота Марго была залогом того, что Макомбер никогда с ней не разведется; а богатство Макомбера было залогом того, что Марго никогда его не бросит».
После того как Макомбер струсил и вел себя так постыдно, жена издевается над ним и вдобавок ночью уходит спать с Уилсоном. «Он, Уилсон, всегда возил с собой на охоту койку пошире — мало ли какой подвернется случай. Он презирал их, когда они были далеко, но, пока он был с ними, многие из них ему очень нравились».
Но на следующий день Макомбер во время охоты на буйволов сумел преодолеть свой страх. «Знаете, — говорит он Уилсону, — теперь я, наверно, никогда больше ничего не испугаюсь. Что-то во мне произошло, когда мы увидели буйволов и погнались за ними. Точно плотина прорвалась». Жена наблюдает за ним, забившись в угол машины, и понимает, что Макомбер изменился.
Больше ничего не сказано, но в атмосфере начинает ощущаться приближение трагической развязки. И действительно, когда из зарослей неожиданно появляется буйвол и мчится на Макомбера, Марго стреляет с автомобиля, но вместо буйвола попадает своему мужу в череп.
Толчком к созданию другого рассказа — «Снега Килиманджаро», как рассказывал Хемингуэй, послужил случай, имевший место в Нью-Йорке в 1934 году, когда он вернулся после экспедиции в Африку. Он тогда сказал репортерам, что надеется собрать деньги и еще раз поехать туда. Вскоре его пригласила на чай одна богатая дама и предложила оплатить такую поездку, если он возьмет ее с собой. Он, естественно, отказался, но потом задумался: а что могло бы произойти, если бы он согласился?
Сюжет рассказа «Снега Килиманджаро» весьма несложен. Писатель Гарри охотится в Африке со своей богатой женой, от царапины у него начинается гангрена, и он понимает, что умирает. При этом он вспоминает свою жизнь и анализирует ее. Здесь Хемингуэй обратился к давно волновавшей его теме — как деньги портят писателя, как писатель ради жизненных благ изменяет себе, своим верованиям, губит свой талант.
Таких примеров Хемингуэй за свою жизнь видел немало. Достаточно было вспомнить Скотта Фицджеральда. И Хемингуэй вспомнил его в этом рассказе. Писатель Гарри думает о богатых: «скучный народ, все они слишком много пьют или слишком много играют в трик-трак. Скучные и все на один лад. Он вспомнил беднягу Скотта Фицджеральда и его восторженное благоговение перед ними, и как он написал однажды рассказ, который начинался так: «Богатые не похожи на нас с вами». И кто-то сказал Фицджеральду: «Правильно, у них денег больше». Но Фицджеральд не понял шутки. Он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности, и когда он убедился, что они совсем не такие, это согнуло его не меньше, чем что-либо другое».
Писатель Гарри в рассказе — сложный образ. Хемингуэй наделил его своими собственными воспоминаниями — о дедушкином охотничьем домике, о Париже, каким он знал этот город в первые годы жизни там, о поездке на Ближний Восток во время греко-турецкой войны, о поездке в Шварцвальд, и о зиме в Шрунсе, и о ранчо Нордквиста в Вайоминге. Но в главном Хемингуэй дал писателю Гарри другую биографию, если можно так сказать, свою антибиографию, — он воссоздал свою жизнь такой, какой она могла оказаться, если бы он продал свой талант, изменил ему.
«Самому себе ты говорил, — думает писатель Гарри, — что когда-нибудь напишешь про этих людей; про самых богатых; что ты не их племени — ты соглядатай в их стане; ты покинешь его и напишешь о нем, и первый раз в жизни это будет написано человеком, который знает то, о чем пишет. Но он так и не заставил себя приняться за это, потому что каждый день, полный праздности, комфорта, презрения к самому себе, притуплял его способности и ослаблял его тягу к работе, так что в конце концов он совсем бросил писать. Людям, с которыми он знался, было удобнее, чтобы он не работал».
Писатель Гарри обвиняет свою жену, «эту добрую суку, у которой щедрые руки, эту ласковую опекуншу и губительницу его таланта», которая любила его как свою собственность, которая готова была купить ему все, что он пожелает, исполнить любое его желание. И в этих обвинениях невольно чувствуется некая тень отношения самого Хемингуэя к его жене Полине, которая была достаточно богата и которая старалась создать ему жизнь, полную комфорта, развлечений и покоя.
Впрочем, писатель Гарри хочет быть справедливым.
«Зачем сваливать все на женщину, которая виновата только в том, что обставила его жизнь удобствами. Он сам загубил свой талант, не давая ему никакого применения, загубил изменой самому себе и своим верованиям, загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия, ленью, сибаритством и снобизмом, честолюбием и чванством, всеми правдами и неправдами».
В предсмертном бреду Гарри представляется, что прилетел самолет и его, как когда-то больного Хемингуэя, грузят в кабину и они летят в Арушу. Но летчик меняет курс, и они сворачивают на восток.
«И там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь».
Рассказ «Снега Килиманджаро» Хемингуэй отдал в «Эсквайр», где он и был напечатан в августе 1936 года, а «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» переслал Бартону для «Космополитена», где рассказ был опубликован в сентябре того же года.
В июне Хемингуэй отправился на рыбную ловлю на остров Бимини. Здесь он застал веселящуюся компанию богатых спортсменов, прибывших сюда на роскошных белоснежных яхтах. Он общался с ними, но про себя-то он знал, что он не с ними, что он независим от них и что он написал о них два рассказа, которые останутся в литературе.
В один из дней на Бимини ему удалось выловить туну весом в 514 фунтов. Борьба с ней продолжалась семь часов, и он за это время потерял около семи фунтов собственного веса. Незадолго перед этим сюда приехал богатый старик с молодой невестой на великолепной яхте, который надменно заявил, что ловить туну совсем не трудно. Когда «Пилар» вечером входила в гавань, все население собралось посмотреть на добычу Хемингуэя — рыба была длиной в одиннадцать с половиной футов. На палубе «Пилар» рядом с рыбой стоял Хемингуэй, веселый, пьяный, который загремел своим басом на всю гавань: «Где тот сукин сын, сказавший, что это легко?»
Сюда на Бимини к нему прилетел Грингрич, и Хемингуэй показал ему начало нового рассказа — третьей новеллы о Гарри Моргане. Он сказал Грингричу, что у него есть идея объединить все три новеллы и создать из них роман. На этот раз это должен был быть роман на материале американской действительности, роман о бедных и богатых, об экономической депрессии, о ветеранах войны, которых он так хорошо знал по Ки-Уэсту, о человеке, который в одиночку, по законам, им самим для себя установленным, борется с обществом, обрекающим его на нищету, на гибель. Третья новелла должна была быть самой большой и самой значительной в романе, в ней будет завершение истории Гарри Моргана — его гибель. Он уже представлял, как допишет эту трагическую историю, как переплетет ее с линией писателя Ричарда Гордона, как нарисует галерею богачей, приезжающих в Ки-Уэст на своих роскошных яхтах.
На конец лета и осень Хемингуэй собирался уехать вместе с семьей в Вайоминг, на ранчо Нордквиста, и там писать свой роман.
18 июля пришло известие о фашистском мятеже в Испании. Он предвидел такую возможность, когда еще в 1933 году писал, что реакционные силы в Испании готовятся к наступлению и что трагедия очень близка. Уже через несколько дней Дос Пассос сообщил ему в письме, что их друг художник Луис Кинтанильи стал офицером испанской республиканской армии и что 20 июля он принимал участие в штурме казарм Монтана в Мадриде, где укрепились мятежники.
Эти новости взволновали Хемингуэя. В первые же дни после начала мятежа он писал одному своему другу, что «мы должны были бы быть в Испании всю эту неделю». Однако на первых порах трудно было предположить, как будут развиваться события в Испании, у всех была уверенность, вызванная первыми успехами испанского народа, подавившего силой оружия мятеж в главных городах страны, что республика без особого труда справится с мятежными генералами. И Хемингуэй решил не менять своих планов и ехать в Вайоминг, тем более что, начав думать над новым романом, он не хотел и не мог прерывать работу.
В машине они проехали через Луизиану, Техас, Колорадо и оказались наконец на ранчо Нордквиста.
Здесь Хемингуэй углубился в работу над новым романом.
Итак, на этот раз местом действия был Ки-Уэст, где Хемингуэй прожил к этому времени десять лет, где он знал каждый камень, каждую извилину бухты, знал местных рыбаков, контрабандистов, знал ветеранов войны, нашедших последнее пристанище в рабочих лагерях, знал богачей, приезжавших сюда на собственных яхтах.
В романе, развивающемся на американской почве, и главный герой должен был быть типично американским характером. В фигуре Гарри Моргана Хемингуэй воплотил многие черты былых американцев, дерзких и смелых людей, признававших единственным законом закон силы, индивидуалистов, готовых с оружием в руках постоять за себя, которые в свое время покоряли Дикий Запад, занимались контрабандой оружия на американо-мексиканской границе. Но действовал его герой в современной обстановке, сталкиваясь с новыми законами экономики капиталистической Америки.
Хемингуэй решил показать трагическую судьбу такого сильного человека, индивидуалиста, полагающегося только на свои собственные силы, которого обстоятельства Америки 30-х годов толкают на конфликт с законом, ибо иначе он не может прокормить себя и свою семью.
В первой новелле богатый мерзавец, арендовавший лодку Гарри Моргана, упустил рыболовную снасть Гарри и исчез, не заплатив ему ни гроша. Во второй новелле Гарри Морган, потерявший возможность заниматься рыбной ловлей после потери снасти, поскольку купить новую он не может, стал заниматься контрабандной перевозкой виски с Кубы в Ки-Уэст. При перестрелке с таможенной охраной его ранили в руку, а на пути домой ему попался высокопоставленный негодяй, который донес на него. В результате Гарри потерял правую руку и лодку, которую у него конфисковали. Круг сужался, обстоятельства толкали Гарри все дальше, к новому, еще более серьезному конфликту с законом. Ему не остается ничего другого, как согласиться, похитив свою арестованную лодку, тайно переправить на Кубу четырех революционеров, которые собираются ограбить местный банк.
Накануне этой рискованной операции, всю опасность которой Гарри прекрасно понимает, он высказывает свое убеждение: «Одно могу тебе сказать: я не допущу, чтобы у моих детей подводило животы от голода, и я не стану рыть канавы для правительства за гроши, которых не хватит, чтобы их прокормить. Да я и не могу теперь рыть землю. Я не знаю, кто выдумывает законы, но я знаю, что нет такого закона, чтобы человек голодал…»
Но автор романа знал: в капиталистической Америке такие законы существуют и действуют, и этот звериный закон толкает Гарри Моргана к гибели.
Когда критики из левого лагеря упрекали Хемингуэя в отсутствии интереса к социально-экономическим проблемам, в том, что в то время, когда Америку сотрясают социальные катаклизмы, вызванные кризисом, который обострил и обнажил вопиющие противоречия буржуазного общества, он пишет о бое быков и охоте на крупного зверя в Африке, — в этом была доля справедливости. Но такова уж была творческая натура Хемингуэя, что он мог писать только о том, что знал досконально, на личном опыте, что пережил и перечувствовал, пропустил через собственное сердце. Кроме того, ему претило отдавать дань моде, а социальная тема стала в те годы модной, и наряду с серьезными и крупными произведениями, созданными тогда о борьбе американского рабочего класса и разоряемого фермерства, на книжном рынке появилось множество спекулятивных романов, авторы которых плохо знали жизнь тех, о ком писали, и сдабривали эти сюжеты изрядной долей порнографии.
На сей раз Хемингуэй взялся действительно за социальную тему. Решал он ее по-своему, в рамках своего жизненного опыта, верный своему правилу писать только о тех людях, которых он любил или ненавидел. Писать о безразличных ему людях он не мог никогда. Поэтому он решил описать людей, населяющих маленький уголок этой большой страны Америки, крайнюю южную точку Флориды.
Однако локальность места действия не помешала Хемингуэю показать в своем новом романе огромный клубок противоречий, типичный для Соединенных Штатов в 30-е годы. Особое место в этом многолюдном романе занимали ветераны войны, обездоленные, не имеющие заработка, обеспечивающего им человеческое существование, изгнанные обществом, за которое они воевали. Их судьба не могла не волновать ветерана той же войны Хемингуэя. В небольшой по объему, но необыкновенно емкой сцене в кабачке у Фредди, прообразом которого был Джо Рассел, Хемингуэй создал целую галерею, групповой портрет этих людей, глушащих свою боль алкоголем, дерущихся друг с другом, порой теряющих человеческий облик, единственная гордость которых — уменье все вытерпеть.
Характерно, что в этой массе Хемингуэй рассмотрел и здоровое начало — коммунистов. Он не мог писать о них подробно, потому что плохо знал этих людей, но в уста одного из ветеранов он вложил реплику, исполненную уважения: «Чтобы быть коммунистом, нужны дисциплина и воздержание; пьянчуга не может быть коммунистом». Этот же безымянный ветеран, которого окружающие называют «красным», роняет слова, скупые, как всегда у Хемингуэя, но бросающие некий отсвет на многое, случившееся за последние годы в США, он упоминает об Анакостии, где в президентство Гувера правительственные войска под командой генерала Макартура устроили кровавую баню ветеранам войны, собравшимся, чтобы сказать во всеуслышание правду о своем положении. «А мистер Рузвельт сплавил нас сюда, чтобы избавиться от нас. В лагере все устроено для того, чтобы вызвать эпидемию, но бедняги, как назло, не хотят умирать… Что они теперь придумают? Надо же им как-нибудь от нас избавиться… Нам нечего терять. Мы дошли до точки. Мы хуже той голытьбы, с которой имел дело Спартак». Упоминание Спартака здесь звучит многозначительно, косвенным намеком на возможность взрыва накопившегося гнева.
Многое в романе «Иметь и не иметь» свидетельствует о том, что в те годы Хемингуэй серьезно задумывался над политическими и этическими проблемами революции. Бывая часто на Кубе, он был невольным свидетелем борьбы разнохарактерных революционных групп с правительством Мачадо и друг с другом. Отзвук этих впечатлений есть и в романе, когда в самом его начале Гарри Морган попадает в перестрелку, затеянную двумя враждующими революционными группировками. А в одном из центральных эпизодов романа, когда Гарри Морган переправляет на своей лодке четырех кубинских революционеров, ограбивших банк, а потом убивших помощника Гарри, Хемингуэй подчеркивает, что они не коммунисты. Один из кубинцев, молодой и еще чистый парень, говорит Гарри о своем товарище очень существенные для Хемингуэя слова: «Этот Роберто — дурной человек. Хороший революционер, но дурной человек. Он столько убивал во времена Мачадо, что привык к этому. Ему теперь даже нравится убивать. Правда, ведь он убивает ради дела. Ради нашего дела». И далее он поясняет: «Вот мы сейчас добываем деньги, нужные для борьбы. Ради этого приходится пользоваться такими методами, которыми мы потом никогда пользоваться не будем. И прибегать к помощи таких людей, к которым мы потом не станем обращаться. Но цель оправдывает средства. В царской России тоже приходилось так поступать… Но при том, как сейчас обстоит дело с движением, мы не можем доверять людям. Нынешний этап вызван необходимостью, но я об этом очень сожалею. Я ненавижу террор. И мне очень не по душе вот такие методы добывания денег. Да только выбирать не приходится».
Так Хемингуэй, поставив устами молодого революционера этическую проблему — действительно ли цель может оправдывать средства, в том числе и террор, и вроде бы не высказывая прямо своего собственного к ней отношения, отвечает на нее всем ходом мысли своего романа. Мысль эта складывается постепенно и не навязывается читателю автором, а естественно вытекает из логики развития характеров и событий — мысль о неизбежном крахе индивидуализма, о необходимости объединения угнетенных. Потом, уже работая над гранками романа, Хемингуэй найдет ей точное выражение.
Хемингуэй, по всей видимости, чувствовал, что избранные им узкие рамки места действия сковывают его, мешают дать более широкую картину современного американского общества. Отсюда, вероятно, и из стремления нарисовать резко контрастную, без полутонов, картину появилось чрезвычайно важное для правильного прочтения романа, сюжетно как будто и выпадающее из романа описание стоящих у причалов богатых яхт и их обитателей. Эта беглая панорама, отчасти напоминающая прием кинематографа, исполнена желчи и ненависти. Скупыми и точными красками показывает Хемингуэй мир богачей, противостоящий миру рыбаков, ветеранов войны, контрабандистов. На одной яхте спят ее владелец, хозяин шелкопрядильных фабрик, гомосексуалист, и его приживал, о котором говорили, что если его без парашюта сбросить с высоты пяти тысяч пятисот футов, он благополучно приземлится за столом какого-нибудь богача. В каюте другой яхты ворочается без сна шестидесятилетний хлебный маклер, встревоженный полученным сообщением об обследовании, назначенном Бюро внутренних доходов. Это человек, который мыслил не абстрактными категориями, а сделками, балансами, векселями и чеками, акциями, кипами, тысячами бушелей, человек, который многих разорил и довел до самоубийства, одинокий старик с впалой грудью, вздутым животиком, дряблыми ножками и тем, ныне бесполезным, чем он так когда-то гордился.
Еще у одного причала стоит яхта «Иридия», где спит ее хозяин, по профессии зять богатого тестя, и его любовница Дороти, жена высокооплачиваемого голливудского режиссера, который еще надеется, что его мозг переживет печень, и готовится под конец объявить себя коммунистом во спасение своей души, так как остальные органы уже настолько прогнили, что спасти их невозможно. (Нетрудно заметить разницу в упоминании коммунистов, когда речь шла о ветеранах, работающих на рытье канав, и в этом случае, когда автор издевается над снобами, играющими ради моды в приверженцев коммунизма.) Женщина не спит и думает о том, какой она стала сукой.
Хемингуэй был не самым добрым человеком в том смысле, что никогда не прощал врагам обид. И в этом действительно социальном романе он решил свести счеты с теми, кто нападал на него все последние годы, обвиняя его в отсутствии интереса к социальным вопросам, в то время как для них самих социальные проблемы были только спекулятивной ценностью, которая в те годы хорошо сбывалась на книжном рынке. С этой целью он ввел в роман образ писателя Ричарда Гордона. Тут Хемингуэй был беспощаден — он не пожалел сарказма и иронии, он точными и безошибочными ударами, как в матче бокса, открыл уязвимые места своих противников — внутреннюю нищету, опустошенность, спекулятивное желание использовать подлинную боль страны в своих мелких целях. Ричард Гордон предстает перед читателем обнаженным, автор последовательно срывает с него все одежды, и даже более того — в дело вступает скальпель патологоанатома.
Ричард Гордон не видит и не понимает реальной жизни окружающих его простых людей, она его не интересует, в своих писаниях он исходит из удобных, заранее придуманных схем, которые ничего общего не имеют с реальной действительностью. Когда он встречает на улице немолодую, показавшуюся ему некрасивой женщину с заплаканными глазами (это была жена Гарри Моргана, возвращавшаяся от шерифа, который сообщил ей о страшной гибели ее мужа), он начинает представлять себе, о чем может думать такая женщина; интересно, какая она в постели; что должен чувствовать муж к жене, которая так безобразий расплылась. Вернувшись домой, Ричард Гордон садится за письменный стол.
«Он писал роман о забастовке на текстильной фабрике. В сегодняшней главе он собирался вывести толстую женщину с заплаканными глазами, которую встретил по дороге домой. Муж, возвращаясь по вечерам домой, ненавидит ее за то, что она так расплылась и обрюзгла, ему противны ее крашеные волосы, слишком большие груди, отсутствие интереса к его профсоюзной работе. Глядя на нее, он думает о молодой еврейке с крепкими грудями и полными губами, которая выступала сегодня на митинге. Это будет здорово. Это будет просто потрясающе, и притом это будет правдиво. В минутной вспышке откровения он увидел всю внутреннюю жизнь женщины подобного типа».
В отличие от своей обычной творческой манеры Хемингуэй в романе «Иметь и не иметь» пошел на откровенные параллели. С величайшей нежностью он описал любовь Гарри Моргана и его постаревшей, некрасивой жены, счастье, которым они обладают. И рядом, через несколько страниц, показал всю ложь и фарисейство той жизни, которую ведет писатель Ричард Гордон. Жену, которая его когда-то беззаветно любила, он застает в постели с другим мужчиной. В ответ на его упреки она говорит ему страшные, обнаженные слова:
«Любовь — это просто гнусная ложь. Любовь — это пилюли эргоапиола, потому что ты боялся иметь ребенка. Любовь — это хинин, и хинин, и хинин до звона в ушах. Любовь — это гнусность абортов, на которые ты меня посылал. Любовь — это мои искромсанные внутренности. Это катетеры вперемежку со спринцеваниями. Я знаю, что такое любовь. Любовь всегда висит в ванной за дверью».
Но Хемингуэю и этого было мало. Устами жены Гордона он хотел пригвоздить этого «писателя» и ему подобных к позорному столбу. Эллен Гордон говорит мужу:
«— Если бы ты еще был хорошим писателем, я, может быть, стерпела бы остальное. Но я насмотрелась на то, как ты злишься, завидуешь, меняешь свои политические убеждения в угоду моде, в глаза льстишь, а за глаза сплетничаешь. Я столько насмотрелась, что с меня довольно».
И последнюю точку в приговоре Ричарду Гордону ставит в баре тот высокий ветеран, которого называют «красным»:
«— Я написал три книги, — сказал Ричард Гордон. — Сейчас пишу четвертую, о Гастонской стачке.
— Это хорошо, — сказал высокий. — Отлично. Как, вы сказали, ваша фамилия?
— Ричард Гордон.
— А! — сказал высокий.
— Что это значит «а»?
— Ничего, — сказал высокий.
— Вы читали мои книги? — спросил Ричард Гордон.
— Да.
— Они вам не понравились?
— Нет, — сказал высокий.
— Почему?
— Не хочется говорить.
— Скажите.
— По-моему, все они — дерьмо, — сказал высокий и отвернулся».
Работа над романом шла трудно, особенно над последней его частью. Органически соединить трагическую историю Гарри Моргана с почти фарсовым изображением писателя Ричарда Гордона и всей этой компании богачей было трудно, почти невозможно. Это мучило и нервировало Хемингуэя. Он все чаще думал об отъезде в Испанию, но считал, что имеет право уехать только после того, как закончит роман.
В конце октября они вернулись в Ки-Уэст. Здесь он продолжал работать. Предстояло написать сцену, являющуюся высшей точкой романа, сцену, когда лодку с умирающим Гарри Морганом на палубе приводят в гавань.
В это время состоялась случайная встреча, сыгравшая немалую роль в жизни Хемингуэя. Как-то раз в декабре он сидел в баре Джо Рассела, когда туда вошли трое туристов — пожилая дама с сыном и дочерью. Дочь не могла не привлечь внимания мужчин — красивая, стройная женщина с белокурыми волосами до плеч. Вряд ли она обратила бы внимание на крупного, не очень опрятного мужчину в шортах и грязной рубашке. Но он сам представился им и завязал разговор. Туристы оказались из Сент-Луиса, сразу нашлась тема для разговора — обе его жены были родом из Сент-Луиса.
Молодую женщину звали Марта Гельхорн, она была журналисткой, составившей уже себе имя. Она много ездила по Европе, появлялась всюду, где пахло международной сенсацией. В 1932 году она оказалась в Германии, чтобы описать политический взлет нацистской партии и избрание Гинденбурга, в 1933 году присутствовала на конференции по разоружению. В последнее время она работала с Гарри Гопкинсом, обследовавшим по заданию президента Рузвельта положение безработных в Соединенных Штатах. В результате она написала книгу «Горе, которое я видела». Эту книгу очень высоко оценил Герберт Уэллс, написавший, что это «одна из самых душераздирающих книг, которые были когда-либо написаны о положении людей, лишенных привилегий».
Между Хемингуэем и Мартой быстро возникла дружба. Он показывал ей окрестности Ки-Уэста, пригласил к себе. Когда мать и брат уехали, Марта осталась гостьей Хемингуэев. Полина, как женщина светская, старалась не замечать растущей симпатии своего мужа к Марте. В январе Марта уехала в Майами. Вскоре и Хемингуэй решил, что ему нужно наведаться по делам в Нью-Йорк. В Майами он встретился с Мартой, и они пообедали вместе с приятелем Эрнеста боксером Томом Хини. Из Сент-Луиса Марта написала Полине милое письмо, рассказывая, как хорошо они провели время в Майами. Это письмо могло бы напомнить Полине некоторые ее письма, которые она весной 1926 года писала Хэдли.
В Испании военное положение республики становилось все более тяжелым. Фашистские войска вели бои на окраинах Мадрида.
ГЛАВА 20 ИСПАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Время, когда мы в Испании верили в победу, было самым счастливым временем в моей жизни.
Э. Хемингуэй, Из письмаЧем бы ни был занят осенью и зимой 1936/37 года Хемингуэй — своей книгой, начавшимися отношениями с Мартой Гельхорн, — Испания постоянно стояла у него за спиной, напоминая о себе газетными сообщениями, болью в сердце, ночными угрызениями, что он не там, где сражаются его друзья. Еще в конце сентября он писал Максуэллу Перкинсу, что ни о чем в жизни так не жалеет, как о том, что эта «испанская история» происходит без его участия.
Кое-что он делал — он занял полторы тысячи долларов и передал их Медицинскому бюро Общества американских друзей испанской демократии, чтобы на эти деньги были куплены санитарные машины для республиканской армии, он оплатил проезд в Европу двум американским добровольцам, мечтавшим сражаться с фашизмом в Испании. Но это все были полумеры. Он хотел сам побывать там, увидеть все своими глазами, помочь Испании, помочь своим друзьям.
Уехать было не так просто. Полина резко возражала против этой поездки. Как ревностная католичка, она была целиком на стороне генерала Франко, и это служило поводом для частых споров и ссор в семье. Кроме того, она понимала, что война есть война и муж может там и погибнуть. Впрочем, это понимал и сам Хемингуэй, почему и считал, что его долг закончить до отъезда роман.
Между тем обстоятельства подталкивали Хемингуэя. В одной из газет появилось сообщение, что известный писатель Хемингуэй собирается вскоре ехать в Испанию. Сразу после этого он получил письмо от Джона Уиллера, генерального директора НАНА (Объединения североамериканских газет), в котором тот предлагал ему контракт на репортажи из Испании. Он дал согласие.
В эту поездку он решил втянуть и своего старого друга Сиднея Франклина. До этого они вместе собирались начать кампанию за разрешение боя быков на Кубе. Богатый дядюшка Полины Гас Прейфер дал на это деньги, им удалось уже купить согласие трех кубинских сенаторов, что те будут голосовать за такое разрешение. И вдруг, к удивлению Франклина, когда они встретились в январе в Нью-Йорке, Хемингуэй сообщил ему, что надо ехать в Испанию и что он уже оформил Франклина в НАНА своим помощником со ставкой 50 центов за слово. При этом Эрнест объяснил Сиднею, что Полина легче согласится на его отъезд, если будет знать, что Сидней едет вместе с ним.
К январю роман «Иметь и не иметь» был как будто закончен, но Хемингуэй был тем не менее недоволен им и считал, что он еще требует работы, но дальше откладывать поездку в Испанию он не мог и решил, что доработает роман в гранках, когда вернется в Штаты.
Теперь уже он начал действовать со свойственной ему энергией. Под личные расписки он занял 40 тысяч долларов, чтобы купить на них санитарные машины и медицинское оборудование. Приехав в Нью-Йорк в феврале, он узнал, что Дос Пассос занят собиранием денег для финансирования съемок документального фильма о войне в Испании, который должен был снимать молодой голландский режиссер-коммунист Йорис Ивенс. Хемингуэй немедленно включился в это предприятие, и для финансирования будущего фильма была создана группа в составе Хемингуэя, Дос Пассоса, Арчибальда Мак-Лиша и Лилиан Хелман; группу назвали «Современные историки».
27 февраля 1937 года пароход «Париж» отплыл в Европу. На его борту был Хемингуэй. С ним вместе ехали Сидней Франклин и поэт Ивен Шимпен. На пароходе были и другие американцы, ехавшие, чтобы вступить в батальон Линкольна, сражавшийся в составе Интернациональных бригад.
В Париже Хемингуэй встретил своего старого друга художника Луиса Кинтанилью. Республиканское правительство отозвало Кинтанилью с фронта и направило работать в Париж в посольство.
Через год, в 1938 году, когда Хемингуэй писал предисловие к сборнику рисунков Кинтанильи, он вспомнил разговор, который произошел тогда в Париже.
«Я спросил Луиса, как его студия и целы ли его картины.
— Все погибли, — сказал он без горечи и объяснил, что бомбой разворотило здание.
— А большие фрески в Университетском городке и Каса дель-Пуэбло?
— Пропали, — сказал он. — Все — вдребезги…
— Ну, а фрески для памятника Пабло Иглесиаса?
— Уничтожены, — сказал он. — Нет, Эрнесто, давай лучше не говорить об этом. Когда у человека гибнет вся работа его жизни, все, что он сделал за свою жизнь, — лучше об этом не говорить.
Картины, уничтоженные бомбой, и фрески, разбитые артиллерийскими снарядами, искромсанные пулеметным огнем, были великими произведениями испанского искусства».
Были в Париже и другие встречи — с Пикассо, с Дос Пассосом, который тоже собирался ехать в Испанию, с Мартой Гельхорн…
У Франклина возникли трудности с визой, но Хемингуэй не мог ждать. Он оставил Сиднею все инструкции, попросил его помочь Марте выехать в Испанию и уехал в Тулузу, чтобы оттуда частным самолетом вылететь в Барселону.
Улицы Барселоны были пусты. Выяснилось, что за полчаса до их прилета здесь побывал трехмоторный немецкий бомбардировщик и сбросил на город бомбы, — семь человек было убито, тридцать четыре ранено. Рассказывая об этом в своем первом репортаже, Хемингуэй писал, что республиканские истребители дали отпор врагу и что он не жалеет, что опоздал: «У нас тоже трехмоторный самолет, и могла произойти легкая путаница».
Из Барселоны он вылетел в Аликанте. Здесь он попал в самый разгар торжеств — великолепная, обсаженная финиковыми пальмами набережная была забита народом.
«Шел призыв молодых людей от двадцати одного до двадцати шести лет, и рекруты со своими девушками и семьями праздновали вступление в армию и победу над итальянскими регулярными частями при Гвадалахаре. Взявшись за руки, по четыре в ряд, они кричали и пели, играли на аккордеонах и на гитарах. Прогулочные лодки в Аликантском порту были заняты парочками, которые, держась за руки, совершали прощальную прогулку, а на берегу, где перед призывными пунктами стояли длинные очереди, царило неистовое веселье.
По всему побережью, пока мы ехали в Валенсию, ликующие толпы заставляли думать больше о ferias и fiestas прежних дней, нежели о войне. И только вышедшие из госпиталя солдаты, ковыляющие по дороге в мешковато сидящей на них форме Народной милиции, напоминали, что идет война…»
Следующим пунктом был Мадрид. Хемингуэй остановился в отеле «Флорида», зарегистрировался в цензуре, помещавшейся в высоком белом здании Международной телефонной и телеграфной компании, именуемом просто Телефоника. Его познакомили с Гансом Кале, немецким коммунистом, который когда-то воевал в кайзеровской армии, бежал из нацистской Германии, стал здесь генералом испанской армии и сыграл немалую роль в защите Мадрида зимой 1936 года.
Вместе с генералом Гансом Кале Хемингуэй выехал на Гвадалахарский фронт, ему не терпелось увидеть поле битвы, где войска Муссолини потерпели сокрушительное поражение от республиканской армии.
«Под дождем пополам со снегом я пересек поле Гвадалахарского сражения и проехал дальше за наступающими республиканскими частями… На бриуэгских высотах по всему полю сражения белели письма и бумаги, лежали вещевые мешки, шанцевый инструмент и повсюду трупы…»
В течение четырех дней Хемингуэй изучал поле боя под Бриуэгой, обходя его вместе с командирами, которые руководили сражением, и с офицерами, которые вели бой, и пришел к выводу, что Бриуэга займет место в военной истории рядом с другими решающими мировыми сражениями.
Тем временем Сидней Франклин сумел в конце концов отправить из Парижа Марту Гельхорн, которую невзлюбил с первого взгляда, быть может, потому, что она рассматривала его как лакея Эрнеста, и с большим трудом сам добрался до Валенсии. Там он получил инструкции от Хемингуэя, который сообщал, что обосновался в Мадриде в отеле «Флорида», и просил привезти продукты, так как в столице было очень плохо с едой.
Сидней набил машину продуктами и уже собирался выехать в Мадрид, когда в отделе цензуры ему сообщили, что он должен взять с собой попутчицу — ею оказалась опять Марта Гельхорн. С нею был еще корреспондент «Дейли уоркер». Пришлось выгрузить из машины часть продовольствия.
В Мадриде, в отеле «Флорида», имя Хемингуэя действовало лучше всякого пропуска. Самого Хемингуэя они не застали, он выехал на фронт, но передал, что к вечеру вернется и они вместе пообедают в ресторане на Гран-Виа. Ресторан этот был устроен в подземном складе — город постоянно подвергался артиллерийскому обстрелу и бомбардировке с воздуха. Кормили в ресторане плохо.
Вскоре Сидней наладил быт в их номерах во «Флориде», он раздобыл где-то электрическую плитку и готовил завтраки из яиц, бекона и кофе. Кроме того, они постарались скупить чуть ли не все запасы виски в городе.
Большинство корреспондентов не выезжало из Мадрида, довольствуясь рассказами очевидцев и ежедневными бюллетенями, выпускаемыми отделом цензуры, а иногда и просто сплетнями. Хемингуэя это искренне возмущало.
Уже после окончания испанской войны Хемингуэй с огорчением и известной долей презрения писал И. А. Кашкину о том, что Дос Пассос, «такой добрый малый в прежние годы, тут у нас вел себя очень плохо». В первый же день приезда в Мадрид Дос Пассос попросил Сиднея Франклина отправить жене телеграмму, которая гласила: «Милая зверушка скоро возвратимся домой». Цензор вызвал Хемингуэя и поинтересовался, не шифр ли это и что бы это могло означать. Эрнест ответил, что это означает только то, что Дос Пассос струсил. «Он твердо решил, — писал Хемингуэй, — что с ним ничего не должно случиться, и все воспринимал только по мерке им виденного. Он всерьез уверял нас, что дорога из Валенсии в Мадрид гораздо опаснее, чем фронт. И сам себя в этом твердо уверил. Вы понимаете — Он, с его великой анархической идеей о Себе Единственном, проехал по этой дороге, где бывали, конечно, несчастные случаи».
Этот эгоцентризм Дос Пассоса и то легковерие, с которым он относился к россказням о политическом терроре республиканского правительства, надолго рассорили Эрнеста с его бывшим другом.
Сам Хемингуэй приехал сюда, чтобы увидеть войну воочию, чтобы быть среди людей, каждый день встречающихся со смертью. Поэтому почти все время он проводил в поездках на фронт.
Особенно его интересовали Интернациональные бригады, само возникновение которых поразило весь мир — люди со всех концов земли добровольно приехали сюда, чтобы сражаться за свободу чужой им страны. Бывая в частях Интернациональных бригад, Хемингуэй ощутил столь дорогую и близкую его сердцу атмосферу фронтового братства, усиливающуюся тем, что этих людей разных национальностей объединяла общая цель — борьба против фашизма.
Интернациональным бригадам он посвятил впоследствии в романе «По ком звонит колокол» самые высокие, самые просветленные слова, отдав их своему герою, молодому американцу Роберту Джордану, сражавшемуся в их рядах. Вспоминая о штабе Интернациональных бригад на улице Веласкеса, 63 и о штабе 5-го полка, созданного и руководимого коммунистами, Роберт Джордан думал:
«В тех обоих штабах ты чувствовал себя участником крестового похода. Это единственное подходящее слово, хотя оно до того истаскано и затрепано, что истинный смысл его уже давно стерся… Это было чувство долга, принятого на себя перед всеми угнетенными мира, чувство, о котором так же неловко и трудно говорить, как о религиозном экстазе, и вместе с тем такое же подлинное, как то, которое испытываешь, когда слушаешь Баха, или когда стоишь посреди Шартрского или Лионского собора и смотришь, как падает свет сквозь огромные витражи, или когда глядишь на полотна Мантеньи и Греко, и Брейгеля в Прадо. Оно определило твое место в чем-то, во что ты верил безоговорочно и безоглядно и чему ты обязан был ощущением братской близости со всеми теми, кто участвовал в нем так же, как и ты».
Это чувство испытывал и сам Хемингуэй, приезжая к бойцам Интернациональных бригад. В тяжелые дни после поражения под Харамой он приехал в Интербригаду, и его провели в итальянский батальон, защищавший мост в Арганде, — итальянцам хотелось доказать ему, что их нельзя упрекнуть в трусости. Там он познакомился с командиром батальона Паччарди, о котором много лет спустя он вспомнил в романе «За рекой, в тени деревьев». В здании муниципалитета, где отдыхали раненые и деморализованные бойцы, Хемингуэя попросили поговорить с ними. Он начал с того, что стал угощать всех подряд коньяком из своей неизменной фляги. Бойцы встретили его как своего, охотно рассказывали ему подробности боя, потом кто-то спросил его, пойдет ли он с ними к мосту. Хемингуэй немедленно согласился, и бойцы пошли обратно к мосту через простреливаемый участок, прозванный ими Аллеей Смерти. Только они не разрешили ему идти впереди. На третий день комиссар бригады застал Хемингуэя лежащим в грязи рядом с молодым испанским рекрутом, которого он обучал стрелять из винтовки.
В штате 12-й Интербригады Хемингуэй познакомился с ее командиром генералом Лукачем — венгерским писателем Матэ Залкой, который нашел свою вторую родину в Советском Союзе. В первую мировую войну Залка воевал в австрийской армии на итальянском фронте примерно в тех же местах, где был ранен тененте Эрнесто Хемингуэй. Теперь у них был общий враг — фашизм.
Лукач сердечно приветствовал каждый приезд Хемингуэя, он глубоко почитал его как писателя и не раз говорил своему адъютанту Алексею Эйснеру, что именно Хемингуэй напишет о войне в Испании такую книгу, что все ахнут. Там же, в штабе Лукача, Хемингуэй познакомился и подружился с главным врачом бригады Вернером Хейльбруном и с комиссаром бригады немецким писателем Густавом Реглером. Навсегда запомнил Хемингуэй первомайский вечер в штабе 12-й бригады в Моралехе, когда Лукач наигрывал песенку на карандаше, приставленном к губам, — «звук, ясный и нежный, походил на звук флейты». С нежностью будет он вспоминать лукавую улыбку, фуражку набекрень и медленный, забавный берлинско-еврейский говор Хейльбруна.
В Мадриде Хемингуэй часто бывал в отеле «Гэйлорд», где жили советские военные советники. Впоследствии в романе «По ком звонит колокол» его герой Роберт Джордан скажет, что «без «Гэйлорда» нельзя было бы считать свое образование законченным. Именно там человек узнавал, как все происходит на самом деле, а не как оно должно бы происходить… Все, что удалось узнать у «Гэйлорда», было разумно и полезно, и это было как раз то, в чем он нуждался. Правда, в самом начале, когда он еще верил во всякий вздор, это ошеломило его. Но теперь он уже достаточно разбирался во многом, чтобы признать необходимость скрывать правду, и все, о чем он узнавал у «Гэйлорда», только укрепляло его веру в правоту дела, которое он делал».
Эти слова были справедливы и для самого Хемингуэя. В «Гэйлорде» он всегда узнавал правду о подлинном положении дел на фронтах. Здесь он познакомился с Михаилом Кольцовым, корреспондентом «Правды», который одновременно был политическим советником республиканского правительства. Кольцов понравился Хемингуэю своим острым, несколько циничным умом. В романе «По ком звонит колокол» Хемингуэй вывел его под прозрачным псевдонимом Каркова и вложил в уста Роберта Джордана свою собственную характеристику Кольцова: «Карков — самый умный из всех людей, которых ему приходилось встречать. Сначала он ему показался смешным — тщедушный человечек в сером кителе, серых бриджах и черных кавалерийских сапогах, с крошечными руками и ногами, и говорит так, точно сплевывает слова сквозь зубы. Но Роберт Джордан не встречал еще человека, у которого была бы такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости и такое остроумие».
Кольцов, в свою очередь, проявил интерес к Хемингуэю. Он понимал, насколько далек Хемингуэй от коммунизма, но высоко ценил его писательский талант, его честность и авторитет во всем мире и сознавал, как важно для дела республики объективное суждение такого человека. Он старался знакомить Хемингуэя с интересными людьми, деятелями международного рабочего движения, сражавшимися в рядах Интернациональных бригад. Среди этих людей оказался поляк Кароль Сверчевский, воевавший в Испании под именем генерала Вальтера, человек огромного военного опыта, сражавшийся в гражданскую войну в России. В Испании он командовал 14-й бригадой во время декабрьских и январских боев на Корунском шоссе, а потом принимал участие в обороне Мадрида. Генерал Вальтер произвел на Хемингуэя очень сильное впечатление своими знаниями.
Познакомил Кольцов Хемингуэя еще с одним интересным человеком, рассказы которого очень пригодились писателю впоследствии, когда он писал роман «По ком звонит колокол». Это был Ксанти, подполковник республиканской армии, главный советник штаба, руководившего диверсионными группами в тылу фашистов. Он выдавал себя за македонца, на самом же деле это был советский человек Хаджи Мамсуров, участник гражданской войны в России. Ксанти был всегда очень озабочен конспирацией и неохотно согласился на просьбу Кольцова встретиться с американским писателем. Однако Кольцов настоял, объяснив ему, как важно, чтобы Хемингуэй написал правду об Испании. Они встречались несколько раз, подолгу беседовали. Генерал-полковник Хаджи Мамсуров незадолго до своей смерти рассказал об этих беседах корреспонденту журнала «Журналист». Хемингуэй настойчиво расспрашивал его о подробностях подрывного дела, записывал все, что рассказывал ему Ксанти. Мамсуров вспоминал, как мельком сказал Хемингуэю, что у каждой диверсии есть свое точное время, как объяснял ему, что люди, которые действуют в тылу противника, не должны знать планов, их память не должна быть отягчена ничем, о чем, может случиться, придется молчать под пытками фашистов.
«Впрочем, — говорил Мамсуров корреспонденту, — все это штрихи. Еще радостнее — узнавать людей, которые действуют в романе… Вот здесь, — показывал на карте Мамсуров. — проходила дорога с юга на север. Наши группы должны были перерезать этот путь. Их проводил старик испанец. Было ему лет семьдесят, звали Баутиста, добрейшей души человек. Я рассказывал Хемингуэю, что он был убежденным противником убийства людей… Я рассказал ему об испанке Марии, о расправе фашистов над ее родителями и над ней самой. Отец Марии, мэр деревни, был нашим лучшим проводником. Когда фашисты поставили его к стенке, он крикнул: «Да здравствует республика!» Фашисты изнасиловали мать Марии и вывели ее на расстрел. Последнее, что произнесла она перед смертью, было: «Да здравствует мой муж, мэр этой деревни!»
Многое узнал Хемингуэй из рассказов сдержанного и неразговорчивого «македонца» Ксанти.
Так испанская война ежедневно сталкивала Хемингуэя с коммунистами. Это были люди разных национальностей, разного социального происхождения, разного уровня образования. Но во всех них было одно общее — несгибаемая вера в торжество своих идей, мужество, дисциплина, готовность пожертвовать собой ради дела. Хемингуэя тянуло к этим не очень понятным ему людям, он не мог не испытывать уважения к ним, но предвзятость его позиции по отношению к политическим доктринам мешала ему. В этом отношении весьма характерна реплика, которую он бросил во время ожесточенного политического спора с американским коммунистом и писателем Джозефом Нортом: «Все дело в том, что вы, коммунисты, хороши тогда, когда вы солдаты, но упаси меня боже от вас, когда вы беретесь за роль проповедников».
Наиболее точно свою политическую позицию во время борьбы в Испании Хемингуэй сформулировал в романе «По ком звонит колокол», приписав ее своему герою:
«Он участвует в этой войне потому, что она вспыхнула в стране, которую он всегда любил, и потому, что он верит в Республику и знает, что, если Республика будет разбита, жизнь станет нестерпимой для тех, кто верил в нее. На время войны он подчинил себя коммунистической дисциплине. Здесь, в Испании, коммунисты показали самую лучшую дисциплину и самый здравый и разумный подход к ведению войны. Он признал их дисциплину на это время, потому что там, где дело касалось войны, это была единственная партия, чью программу и дисциплину он мог уважать».
Однако, признавая руководящую роль коммунистической партии в этой народной войне и отдавая этой партии дань своего уважения, Хемингуэй всячески старался оговорить и оградить свое право иметь независимый писательский взгляд на события и на людей. Ему казалось, что приверженность определенным политическим доктринам приведет в творчестве к потере писательской независимости, сузит его возможности как художника говорить то, что он считает правдой. И не случайно поэтому его герой Роберт Джордан, о котором в романе не раз говорится, что он писатель, думает о себе следующими словами:
«Самое главное было выиграть войну. Если мы не выиграем войну — кончено дело. Но он замечал все, и ко всему прислушивался, и все запоминал. Он принимал участие в этой войне, и покуда она шла, отдавал ей все свои силы, храня непоколебимую верность долгу. Но разума своего и своей способности видеть и слышать он не отдавал никому; что же до выводов из виденного и слышанного, то этим, если потребуется, он займется позже».
При этом Хемингуэй выше всего ценил профессиональную честность писателя, журналиста, объективность в изложении событий и был непримирим к тем, кто изменял правде, искажал истину. В конце апреля он встретил в Мадриде одного американского корреспондента, который только накануне ночью приехал сюда из Валенсии. Этот человек с водянистыми глазами и прилизанными волосами на лысой голове весь день, не выходя из номера, писал статью.
— Ну, как вам Мадрид? — спросил его Хемингуэй.
— Здесь свирепствует террор, — сказал этот журналист. — Свидетельства на каждом шагу. Обнаружены тысячи трупов.
Хемингуэй быстро припер его к стенке.
— Послушайте, — сказал Эрнест, — вы приехали сюда прошлой ночью. Вы даже не выходили из гостиницы и рассказываете тем, кто живет и работает здесь, что в городе террор.
Вдобавок ко всему выяснилось, что этот журналист обманул одну американскую корреспондентку, подсунув ей свою фальшивку для вывоза за границу, хотя прекрасно понимал, что по законам военного времени ее могут расстрелять. Хемингуэю удалось предотвратить неприятности.
«В тот вечер, — писал он впоследствии в корреспонденции в «Кен», — я рассказал эту историю нескольким журналистам, серьезно и много работающим, не тенденциозно настроенным, а честно и правдиво пишущим корреспондентам, которые, находясь в Мадриде, рискуют жизнью каждый день и которые отрицали, что в городе с тех пор, как правительство взяло его под контроль, имеет место террор.
Они были возмущены тем, что какой-то посторонний человек приехал в Мадрид, оклеветал их и чуть было не подвергнул одного из уважаемых корреспондентов обвинению в шпионаже из-за его фальшивки».
Сам Хемингуэй отнюдь не считал, в отличие от большинства иностранных корреспондентов, что его функции сводятся только к наблюдению за событиями и писанию репортажей. Он был старый и опытный солдат, его активная натура требовала прямого участия в событиях, атмосфера опасности возбуждала и радовала его. Тогдашний командир американского батальона имени Вашингтона Мирко Маркович вспоминает, как Хемингуэй приехал к ним на Хараму и утром во время очередной атаки фашистов Маркович увидел его в окопе: «Крупная фигура Хемингуэя, согласно всем уставным требованиям, лежала возле одного из наших «максимов», его волосатые руки крепко держали ручки, а большие пальцы строго ритмично через долю секунды нажимали на гашетку. Он, как опытный пулеметчик, вел стрельбу короткими очередями — берег боеприпасы, в которых мы ощущали недостаток. Когда мы отбили атаку, Хемингуэй оставил пулемет и направился в укрытие. Он был в отличном настроении. И как будто только что меня заметил.
— Доброе утро, Майк… Пулемет у тебя плохо поставлен. Слева мертвое пространство…»
Так же активно вел себя Хемингуэй и при съемках фильма «Испанская земля». Он держался совсем не как автор сценария — каждое утро вместе с Йорисом Ивенсом и оператором Джоном Ферно он взваливал на себя киноаппаратуру и отправлялся на передовые позиции. Снимать фильм приходилось в тяжелейших и весьма опасных условиях. В одной из своих корреспонденций Хемингуэй писал:
«Сегодня с шести утра я слежу за крупной операцией республиканцев, конечная цель которой в том, чтобы соединить войска на высотах Корунского шоссе с частями, наступающими из Карабанчеля и Каса-дель-Кампо, срезать позиционный выступ мятежников, нацеленный на Университетский городок, и тем ослабить напряжение на Мадридском фронте.
Это вторая атака за последние четыре дня, которую я наблюдаю так близко. Первая проходила в серых, с торчащими оливковыми деревьями, изрытых холмах, в секторе Мората-да-Тахуна, куда я отправился с Йорисом Ивенсом снимать пехоту и наступающие танки в момент, когда они, точно наземные корабли, взбирались со скрежетом по крутому склону и вступали в бой.
Резкий, холодный ветер гнал поднятую снарядами пыль в нос, в рот и в глаза, и когда я плюхался на землю при близком разрыве и лежал, слушая, как поют осколки, разлетаясь по каменистому нагорью, рот у меня был полон земли. Ваш корреспондент известен тем, что всегда не прочь выпить, но никогда еще меня так не мучила жажда, как в этой атаке. Хотелось, правда, воды».
И так продолжалось изо дня в день. Утром, когда они уходили из отеля, швейцар показал им разбитое стекло, пулеметная пуля на излете угодила во входную дверь. До позиции, откуда можно было вести съемку, они добирались под артиллерийским огнем. Вечером, когда они возвращались в отель, над ними повис огромный трехмоторный «юнкерс». В послесловии к фильму Хемингуэй написал: «Оттого, что в молодости пришлось повидать войну, ты знал, что Ивенс и Ферио будут убиты, если они и дальше будут так рисковать». О себе он не упомянул, а ведь он делил с ними все опасности.
В Мадриде было ничуть не менее опасно, чем на фронте. Весь апрель фашисты яростно бомбили и обстреливали город. В отель «Флорида» не раз попадали снаряды.
В апреле Хемингуэй с Мартой Гельхорн и шофером Ипполито в течение десяти дней объездил четыре центральных фронта. Верхом на лошадях взбирались они на горы Сьерра-Гвадаррама, чтобы увидеть позиции республиканских войск. Однажды на шоссе их машину обстреляли фашистские пулеметы.
К маю съемки фильма «Испанская земля» были закончены, предстояло возвращаться в Штаты и готовить фильм к выпуску. Кроме того, Хемингуэю предстояло прочитать гранки романа «Иметь и не иметь» и закончить работу над ним. Одним из последних приятных воспоминаний, которые он увозил с собой, было воспоминание о первомайском вечере в Моралехе в штабе 12-й Интербригады в обществе Лукача, Хейльбруна и других друзей.
18 мая он уже был в Нью-Йорке. Оттуда он заехал в Ки-Уэст, чтобы забрать Полину и сыновей и отправиться на Бимини, где он собирался поработать над романом. 4 июня Хемингуэй должен был вылететь в Нью-Йорк, чтобы выступать с речью на II конгрессе американских писателей. Для него дать согласие на такое выступление было не простым делом — он никогда не выступал с речами перед большими аудиториями, да еще на острополитическую тему. Но испанская война во многом изменила его взгляды, и он не мог отказаться от этого выступления.
Зал Карнеги-холл был переполнен — в оркестре, в ложах, всюду были люди, зал вмещал 3500 человек, и еще по крайней мере тысяча толпилась у дверей. Было жарко и накурено. Хемингуэй был одет слишком тепло, он все время хватался за галстук, словно тот душил его. До него выступал Йорис Ивенс, показавший еще не озвученный фильм «Испанская земля».
Когда председательствовавший Арчибальд Мак-Лиш объявил имя Хемингуэя, зал разразился овацией. Обливаясь потом, он подошел к трибуне и начал говорить:
«Задача писателя неизменна. Сам он меняется, но задача его остается та же. Она всегда в том, чтобы писать правдиво и, поняв, в чем правда, выразить ее так, чтобы она вошла в сознание читателя частью его собственного опыта».
Зал затих, впитывая каждое слово. Хемингуэй справился с волнением, и голос его разносился по залу.
«Есть только одна политическая система, которая не может дать хороших писателей, и система эта — фашизм. Потому что фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами».
Потом он перешел непосредственно к испанской войне.
«Когда люди борются за освобождение своей родины от иностранных захватчиков и когда эти люди — твои друзья, и новые друзья и давнишние, и ты знаешь, как на них напали и как они боролись, вначале почти без оружия, то, глядя на их жизнь, и борьбу, и смерть, начинаешь понимать, что есть вещи и хуже войны. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже».
Он говорил о том, что такое тотальная война, которую ведут фашисты, об убийстве женщин, стариков и детей. Говорил о поражениях, которые терпели фашистские войска уже не раз за эту войну. И наконец, говорил о месте писателя в войне с фашизмом.
«Когда человек едет на фронт искать правду, он может вместо нее найти смерть… Разумеется, много спокойнее проводить время в ученых диспутах на теоретические темы… Но всякому писателю, захотевшему изучать войну, есть, и долго еще будет, куда поехать. Впереди у нас, по-видимому, много лет необъявленных войн».
Сам факт выступления Хемингуэя на конгрессе и его короткая, продолжавшаяся всего семь минут, речь были с воодушевлением приняты американской и мировой прогрессивной общественностью.
Возвращаясь на Бимини, Хемингуэй мучительно продолжал думать о романе «Иметь и не иметь». Чувство неудовлетворенности не покидало его. Ему даже пришла мысль издавать роман не отдельно, а в большом сборнике, в который, помимо романа, он хотел включить рассказы «Снега Килиманджаро» и «Рог быка», выдержки из испанских корреспонденций, статью «Кто убил ветеранов войны» и речь на конгрессе американских писателей. Ему думалось, что такой сборник в этот сложный момент убедительно продемонстрирует его социальные идеи.
Отдохнуть и поработать на Бимини ему не удалось. День за днем приходили тяжелые вести — он терял друзей. 16 июня он узнал о гибели Лукача и тяжелом ранении Реглера на дороге около Уэски в Арагоне. На следующий день погиб доктор Хейльбрун.
19 июня пришла телеграмма от Ивенса, который сообщал, что монтаж фильма закончен и надо записывать дикторский текст, сочиненный Хемингуэем. Пришлось опять вылетать в Нью-Йорк. Читать текст Ивенс пригласил известного голливудского актера Орсона Уэллеса. Его манера чтения Хемингуэю не понравилась. Он стал читать сам, чтобы показать, как следует произносить этот текст, и всем стало ясно, что мужественный голос Хемингуэя как нельзя лучше передает идею фильма. Так был записан его голос.
На Бимини ему опять удалось провести всего несколько дней — новая телеграмма Ивенса сообщала, что 8 июля фильм будет смотреть президент Рузвельт. Этот просмотр организовала Марта Гельхорн, которая была дружна с Элеонорой Рузвельт. А 10 июля они уже были в Голливуде, где показали фильм актерам кино. Перед демонстрацией фильма Хемингуэй выступил с речью. Просмотр фильма и его выступление принесли реальные результаты — денежных пожертвований хватило на 20 санитарных машин для республиканской армии.
К этому времени были готовы гранки романа «Иметь и не иметь», и Хемингуэй с ними отправился в Ки-Уэст. Здесь он продолжал работать над текстом романа. Он ощущал потребность вынести приговор анархическому индивидуализму Гарри Моргана — к этому толкал его весь опыт последних месяцев, воспоминания об Испании, о бойцах Интернациональных бригад и многое другое, что трудно поддается определению. Вот тогда он и вписал в гранки романа фразу, поставившую логическую точку в судьбе Гарри Моргана и в авторском отношении Хемингуэя к этой проблеме. Умирающий от ран Гарри Морган говорит знаменательные слова:
«Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один, — он остановился. — Все равно человек один не может ни черта.
Он закрыл глаза. Потребовалось немало времени, чтобы он выговорил это, и потребовалась вся его жизнь, чтобы он понял это».
Теперь Хемингуэй мог возвращаться в Испанию. Сидней Франклин на этот раз отказался ехать с ним. Семья Хемингуэя протестовала против новой поездки. Мать Полины написала ему умоляющее письмо. Он ответил ей, что, когда мир в таком тяжелом положении, было бы просто эгоистичным думать о личном благополучии.
В начале августа он уже был в Нью-Йорке. В один из дней перед отъездом он зашел к Перкинсу, чтобы договориться о последних поправках в романе, и неожиданно в его кабинете встретил Макса Истмена. Они столкнулись впервые с тех пор, как Истмен опубликовал гнусную, оскорбительную для Хемингуэя статью.
— Хелло, великий сукин сын, — приветствовал Истмена Хемингуэй.
— Что ты здесь делаешь? — осторожно спросил Истмен. — Куда ты собираешься?
— Обратно в Испанию, посмотреть, что делают твои ПОУМ, — вызывающе ответил Хемингуэй, намекая на троцкистскую организацию в Испании, с которой был связан троцкист Истмен. — Это ведь твоя компания ПОУМ?
— У меня нет никакой компании, Эрнест. Я только стараюсь говорить правду.
Неожиданно Хемингуэй стал расстегивать ворот своей рубашки, обнажив свою волосатую грудь.
— Так это фальшивые волосы? — спросил он зловеще. Потом рванул ворот рубашки Истмена и закричал: — У тебя нет никаких волос, ни фальшивых, ни настоящих! Почему ты писал, что я импотент?
Истмен принялся оправдываться, уверяя, что никогда ничего подобного не писал. В кабинете Перкинса нашлась книга Истмена с той самой статьей, и Хемингуэй попросил Максуэла прочесть абзац, где Истмен писал: «Похоже, что некоторые обстоятельства вызывают у Хемингуэя постоянную потребность представлять доказательства своей мужественности».
— Что это значит — некоторые обстоятельства? — взревел Хемингуэй.
Спор кончился тем, что, к ужасу Перкинса, который не переносил подобных ситуаций, Хемингуэй ткнул раскрытой книгой в нос Истмену. Перкинс разнял их. История эта стала известна журналистам, и сведения о ней немедленно появились во многих газетах.
Через три дня Хемингуэй отплывал в Европу. На борту парохода его интервьюировали репортеры, и он, смеясь, показал им книгу Истмена с большим пятном на злополучной странице. «Это, — сказал он, — отпечаток носа Истмена».
В Испании его ожидали тяжелые вести — все попытки республиканцев снять осаду с Мадрида и предотвратить захват фашистами северных провинций потерпели неудачу. Бильбао был взят, началось наступление фашистских войск на Сантандер. Две трети Испании было захвачено генералом Франко.
В начале сентября Хемингуэй, Марта Гельхорн и корреспондент «Нью-Йорк таймс» Герберт Мэттьюз выехали на Арагонский фронт, где республиканским частям, в числе которых были и американские добровольцы, удалось взять город Бельчите. В первой же корреспонденции Хемингуэй подробно описал взятие города. Он с удовлетворением отметил, что с тех пор, как видел американских добровольцев прошлой весной, они стали настоящими фронтовиками. С восхищением рассказывал он о начальнике штаба 15-й бригады Роберте Мерриаме, в прошлом профессоре Калифорнийского университета, который руководил атакой на укрепленный фашистами собор. «Давно не бритый, с черным от дыма лицом, он пробивал себе путь гранатами и, хотя был шесть раз ранен осколками в обе руки и лицо, не ушел на перевязку, пока не взял собор».
Верхом на лошадях, иногда пешком взбирались они по скалистым склонам гор, на грузовиках пробирались по только что проложенной фронтовой дороге. С питанием было плохо. В горах уже выпал снег. Ночевать приходилось в кузове грузовика, прикрываясь солдатскими одеялами. Марта Гельхорн переносила все эти лишения стоически.
В Мадриде в этот период жизнь шла спокойно, город почти не обстреливали, на фронте было затишье. «Погода стоит отличная, — сообщал Хемингуэй, — и на улицах много гуляющих». В такой обстановке можно было позволить себе в корреспонденции и шутку: «В витринах выставлены испанские подделки ликеров, виски и вермута. Для внутреннего потребления они не годятся, но я купил одну бутылку с этикеткой «Милорд», чтобы обтирать щеки после бритья. Немножко щиплет, зато убивает бациллы. Я думаю, это виски годится и для прижигания мозолей, но нужно соблюдать осторожность: капнешь на костюм — будет дырка».
Однако, помимо шуток, его корреспонденции отличались глубоким и профессиональным анализом военных действий обеих воюющих сторон, обнаруживавшим у автора незаурядные знания военной стратегии.
Номер Хемингуэя в отеле «Флорида» был широко открыт для многочисленных друзей, приезжавших с фронта, особенно для бойцов Интернациональных бригад. Здесь они могли принять ванну, сносно поесть, выпить, узнать у хозяина последние новости. Эта несколько безалаберная жизнь прифронтового города с его опасностями вполне устраивала Хемингуэя, он чувствовал себя здесь как рыба в воде. Часто бывал он и в баре «Чикоте», в котором любил сиживать в свои приезды в Мадрид до войны.
Встречался он с огромным количеством людей, среди его знакомых были руководящие офицеры республиканской армии, контрразведчики, советские военные консультанты и журналисты, официанты различных баров и ресторанов. Еще в прошлый приезд сюда он познакомился с корреспондентом «Известий» Ильей Эренбургом, и они немало часов провели в интересных для них обоих разговорах. Во время одной из встреч, как вспоминал Эренбург, Хемингуэй сказал ему: «Я не очень-то разбираюсь в политике, да и не люблю ее. Но что такое фашизм, я знаю. Здесь люди сражаются за чистое дело».
Не раз их разговор обращался к проблемам писательского мастерства, и Хемингуэй высказывал любопытные и характерные для него суждения, которые записал Эренбург. Однажды в ходе такой беседы Хемингуэй задумчиво сказал: «Формы, конечно, меняются. А вот темы… Ну о чем писали и пишут все писатели мира? Можно сосчитать по пальцам — любовь, смерть, труд, борьба. Все остальное сюда входит. Даже море…» В другой раз он попробовал сформулировать некоторые свои творческие принципы: «Мне кажется, — говорил он, — писатель не может описать все. Есть, следовательно, два выхода — описывать бегло все дни, все мысли, все чувства или постараться передать общее в частном — в одной встрече, в одном коротком разговоре. Я пишу только о деталях, но стараюсь говорить о деталях детально».
Хемингуэй был еще в Мадриде, когда 15 октября в Штатах вышел в свет роман «Иметь и не иметь». Его очень волновало, как будет распродаваться эта книга, завоюет ли она успех у читателей. Несколько раз он телеграфировал Перкинсу, запрашивал его, как идет продажа книги. В начале ноября Перкинс сообщил ему, что продано уже около 25 тысяч экземпляров. Критика же отнеслась к роману более чем прохладно. Луис Кроненберг, например, признавая удачу автора с образом Гарри Моргана и ряд превосходно написанных сцен, считал роман путаным и обвинял автора в вопиющих провалах в смысле мастерства. Дональд Адамс утверждал, что книга не может идти в сравнение с «Прощай, оружие!» и для репутации Хемингуэя было бы лучше, если бы он не писал ее.
А Хемингуэй в это время сидел в обстреливаемом артиллерийскими снарядами отеле «Флорида» и писал пьесу «Пятая колонна». Если не считать крохотной пьесы, по существу рассказа в диалоге, «Сегодня пятница», написанного когда-то, это была его первая и последняя пьеса. Драматургом он себя никогда не ощущал. Но на этот раз найденная им тема и жизненный материал вынудили его обратиться к драматургической форме.
В предисловии к «Пятой колонне» Хемингуэй писал:
«Эта пьеса была написана осенью и в начале зимы 1937 года, когда мы ждали наступления… Мы так и не дождались его; но за это время я написал свою пьесу.
Каждый день нас обстреливали орудия, установленные за Леганес и по склонам горы Гарабитас, и пока я писал свою пьесу, в отель «Флорида», где мы жили и работали, попало больше тридцати снарядов. Так что, если пьеса плохая, то, может быть, именно поэтому. А если пьеса хорошая, то, может быть, эти тридцать снарядов помогли мне написать ее.
Каждый раз, выезжая на фронт — ближайший пункт фронта находился на расстоянии полутора тысяч ярдов от отеля, — я прятал пьесу в скатанный матрац. Каждый раз, вернувшись и найдя комнату и пьесу в сохранности, я радовался. Пьеса была закончена, переписана и отослана перед самым падением Теруэля».
Сам Хемингуэй так сформулировал тему «Пятой колонны»: «Это всего только пьеса о работе контрразведки в Мадриде. Недостатки ее объясняются тем, что она написана во время войны, а если в ней есть мораль, то она заключается в том, что у людей, которые работают в определенных организациях, остается очень мало времени для личной жизни».
Хемингуэй действительно сюжетом пьесы избрал работу контрразведчиков в Мадриде, их борьбу против агентов «пятой колонны». Он интересовался деятельностью контрразведки и был хорошо знаком с одним из ее руководителей, Пепе Куинтанилья. Но главным в пьесе был совсем не ее сюжет.
Главным в ней оказался ее герой, американец Филип Ролингс — новый герой в творчестве Хемингуэя. Или, правильнее сказать, не новый герой, а все тот же старый герой его рассказов и романов, но выросший вместе с автором и вместе с ним перешагнувший в некое новое качество. Хемингуэй сознательно, даже в большей мере, чем в прошлых произведениях, придал герою черты своего собственного характера, свои привычки, манеру поведения и даже описал свой номер в отеле «Флорида», где происходит действие пьесы. Более того, он вложил в уста своему герою в несколько измененном виде свои слова, произнесенные совсем недавно на конгрессе американских писателей. Филип Ролингс, американец, работающий в контрразведке республиканской Испании, говорит о себе: «Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок. Не помню, когда именно, но я подписал». Вот какой долгий и далекий путь проделал герой Хемингуэя от позиции Фредерика Генри в «Прощай, оружие!», который проклял войну и заключил свой собственный «сепаратный мир». Филип же считает своим долгом сражаться с фашизмом.
Иногда, правда, этот долг тяготит его, в нем живучи еще привычки прошлой жизни, стремление к покою и благоустроенности, и порой его тянет обратно. Он признается своему начальнику:
«Я устал, и я вконец измучен. Знаете, чего бы мне хотелось? Мне бы хотелось никогда, во всю свою жизнь, не убивать больше ни одного человека, все равно кого и за что. Мне бы хотелось никогда не лгать. Мне бы хотелось знать, кто лежит рядом, когда я просыпаюсь утром. Мне бы хотелось целую неделю подряд просыпаться в одном и том же месте. Мне бы хотелось жениться на девушке по фамилии Бриджес».
В своем предисловии Хемингуэй писал: «В пьесе есть девушка, зовут ее Дороти, но ее можно было бы назвать и Ностальгией». Да, Дороти Бриджес олицетворяет собой все то, о чем тоскует Филип Ролингс. Она любит его и зовет к этой привычной, богатой и благоустроенной жизни, от которой он ушел, чтобы выполнять свой долг — сражаться с фашизмом. Характерно, что образ Дороти воплотил в себе черты двух реальных женщин. Внешний облик Дороти совпадает с обликом Марты Гельхорн. Дороти тоже высокая красивая блондинка с длинными ногами. Она, как и Марта, журналистка, она, как и Марта, любит чистоту, умеет всякой комнате придать домашний уют. Но когда Дороти уговаривает Филипа уехать и жить вместе с ней, разъезжая по фешенебельным курортам мира, то Хемингуэй называет как раз те места, где они побывали с Полиной. И за образом Дороти встает фигура Полины, упорно стремившейся приучить его к спокойной жизни, не понимавшей его порыва ехать в Испанию помогать республике в войне.
Есть в пьесе и другой полюс, противоположный Дороти. Это немец Макс, изуродованный в гестапо, человек, отказавшийся ради борьбы от всего личного. Филип восхищается им, но стать таким, как Макс, он не может. Однако, когда Филип говорит Дороти: «Ты можешь ехать. А я уже был во всех этих местах, и все это уже осталось позади. Туда, куда я поеду теперь, я поеду один или с теми, кто едет туда за тем же, за чем и я», — он имеет в виду Макса, своих товарищей по борьбе.
Отослав пьесу в Нью-Йорк, Хемингуэй вместе с Мартой выехал на Теруэльский фронт, где началось неожиданно зимнее наступление республиканцев. Стояли сильные морозы, яростный ветер поднимал снежную бурю. В корреспонденции он описывал, как они весь день до самого вечера шли за продвигающимися республиканскими частями. Вверх по нагорью, через железную дорогу, с боем через туннель, еще выше, в обход Мансуэто, потом вниз и снова в гору, чтобы выйти на подступы к городу, геометрические очертания которого и семь церковных башен резко вырисовывались на фоне заходящего солнца. Там они увидели, как подкатили два грузовика и из них высыпали мальчишки, которые вели себя так, точно их привезли на футбольный матч. Это оказались динамитчики.
«И вот в последних лучах потухающего заката и в свете окруживших город орудийных вспышек, более желтых, чем искры в троллейбусных проводах, но столь же мгновенных, мы увидели, как эти мальчики развернулись в ста метрах от нас и под завесой ураганного пулеметно-автоматного огня скользнули вверх по последнему склону прямо к городу. Короткая заминка у стены, потом черно-красное пламя, грохот рвущихся бомб, и, перемахнув через стену, они бросились в город».
Так 21 ноября был взят республиканцами Теруэль.
Перед рождеством Хемингуэй с Мартой оказались в Барселоне. Как раз в эти дни Полина приехала в Париж. Она хлопотала о визе в Испанию, заявив, что она хочет понять, что это за война и почему она так много значит для ее мужа. Однако, прежде чем ее виза была готова, Хемингуэй сам приехал в Париж. Встреча была тяжелой, Эрнест плохо себя чувствовал из-за болей в печени, Полина ссорилась с ним из-за Марты. 12 января 1938 года они выехали пароходом в Нью-Йорк, а оттуда в Ки-Уэст.
За время его пребывания в Испании Арнольд Грингрич создал новый левый журнал «Кен» и просил Эрнеста сотрудничать в нем. Хемингуэй дал согласие и вскоре послал в редакцию статью, озаглавленную «Время — сейчас, место — Испания». В этой статье он доказывал, что если Соединенные Штаты откажутся от нейтралитета и начнут продавать республиканскому правительству Испании необходимые ему военные материалы, фашизм можно будет разбить на испанской земле. В противном случае Соединенным Штатам в ближайшем будущем придется иметь дело с противником куда более сильным, чем легионы Муссолини или армия генерала Франко. Вот как далеко он ушел с тех пор, как в 1935 году отстаивал идею невмешательства США в европейские дела.
В Ки-Уэсте все было по-прежнему. Эрнест ловил рыбу, выпивал с друзьями в баре Джо Рассела, но все его мысли были в Испании, где сражались его друзья. Какую-то роль в его стремлении вернуться в Испанию играла и его любовь к Марте Гельхорн. 15 марта он написал Перкинсу, что не может спать, потому что знает, что принадлежит Испании. 19 марта он был уже на борту парохода «Иль де Франс», отплывавшего в Европу. С борта парохода он написал Перкинсу, объясняя, что последние военные неудачи республиканцев не оставляют ему другого выбора, как только вернуться в Испанию. Он вез с собой портфель с рассказами, которые Скрибнер намеревался осенью издать большим сборником. Хемингуэй обещал Перкинсу просмотреть их и продумать расположение, пока будет в Париже.
1 апреля он приехал в Барселону. Точными сведениями о положении на фронте никто не располагал. Единственное, что было известно, это, что 22 марта фашисты начали наступление в Арагоне с целью выйти к побережью между Барселоной и Валенсией и разрезать территорию республиканцев.
3 апреля он вместе с Гербертом Мэттьюзом выехал на фронт. Навстречу тянулся поток беженцев из занятых фашистами деревень. На мосту через Эбро они увидели 76-летнего старика и разговорились с ним. В ту же ночь Хемингуэй написал рассказ «Старик у моста».
В очередной корреспонденции он писал: «Два дня ваш корреспондент занимался опаснейшим делом в этой войне. Мы следовали вдоль неустановившейся линии обороны, которую противник атакует механизированными силами. Опасно это дело потому, что перед вами сразу вырастает танк, а танки не берут в плен и не кричат «Стой!». И стреляют по вашей машине зажигательными пулями». Они объезжали фронт, стараясь найти американский батальон Линкольна, о котором ничего не было известно уже два дня, с момента падения Гандесы. Американский и английский батальоны отбивали весь день атаки фашистов и потом были взяты в кольцо, и никто не знал, что с ними потом случилось.
Впоследствии один из бойцов батальона Линкольна вспоминал, как он и еще двое бойцов решили спасаться вплавь через Эбро. Переплыв реку, дрожащие от холода, раздетые, они бросились через поле, заросшее репейником, который рвал и резал их босые замерзшие ноги. Голые, измученные, потрясенные гибелью своих товарищей, беглецы были в полном отчаянии. «Мы лежали на краю дороги, совершенно не зная, кто может здесь проехать, слишком измученные, чтобы волноваться. Неожиданно показался автомобиль, остановился, и из него выскочили два человека. Никто в моей жизни не казался мне прекраснее. Это были Эрнест Хемингуэй и корреспондент «Нью-Йорк таймс» Герберт Мэттьюз. Мы обнялись и пожали друг другу руки. Они рассказали нам все, что знали. Хемингуэй, высокий и сильный, весь кипел от негодования… Повернувшись к тому берегу реки, Хемингуэй потряс своим большим кулаком: «Вы, фашистские выродки, вы нас еще не победили, мы еще вам покажем!»
Когда обстановка несколько стабилизировалась, Хемингуэй вылетел в Марсель, чтобы получить свою почту. Там его ожидало письмо от Перкинса. Макс сообщал, что он прочитал «Пятую колонну» и считает, что это «необыкновенно хорошо». «На меня эта вещь, — писал Перкинс, — произвела очень сильное впечатление и растрогала. Она знаменует очень многое и подтверждает продемонстрированное в «Иметь и не иметь» — что ты идешь к новым и очень значительным горизонтам». Хемингуэй написал ему, что это первый день с его приезда в Европу, когда он отдыхает, и что ему хотелось бы отдохнуть так недельку. Вместо этого он на следующий день встал на рассвете и вылетел на юг, на фронт у Кастеллона.
В середине мая Хемингуэй и Марта Гельхорн выехали в Париж и затем на борту «Нормандии» отплыли в Нью-Йорк. Репортерам в порту он сказал, что собирается вернуться в Ки-Уэст и работать там над новыми рассказами и романом. Когда его спросили о войне, он ответил, что, возможно, вернется в Испанию, если там опять станет жарко. Он заявил, что правительственные войска хорошо организованы и у них хорошие шансы на победу.
В Ки-Уэсте Хемингуэй начал работать над рассказами об осажденном Мадриде. В основном эти рассказы были связаны с баром «Чикоте». Кроме того, он написал несколько статей для журнала «Кен». В одной из них он обвинял профашистски настроенных чиновников государственного департамента в том, что они способствуют победе Франко, «отказывая испанскому правительству в праве покупать оружие, чтобы защищать свою страну от немецкой и итальянской агрессии». В другой статье он нападал на Невиля Чемберлена и французских министров, которые предают Испанию и одновременно Англию и Францию. Он призывал Рузвельта поддержать Испанскую республику, пока еще есть время. Он предсказывал начало большой войны в Европе не позднее лета 1939 года.
Одновременно он продолжал работать над сборником своих рассказов, который он назвал «Пятая колонна» и первые сорок девять рассказов», написал к нему предисловие и на титульном листе сборника написал от руки посвящение: «Марте и Герберту с любовью».
Заканчивал эту работу он уже в Вайоминге, но даже Вайоминг не мог его удержать. 30 августа он позавтракал с Перкинсом в Нью-Йорке, а на следующий день отплыл в Европу. В Париже его ждала Марта.
В этом городе, где ему всегда хорошо работалось, Хемингуэй вновь сел за рассказы, которые были начаты им еще в Ки-Уэсте. 22 октября он сообщал в письме, что закончил два рассказа и написал две главы романа.
Тем временем в Штатах вышла его книга «Пятая колонна» и первые сорок девять рассказов» — самый большой сборник, который когда-либо у него издавался. Перкинс сообщил, что за первые две недели было продано 6 тысяч экземпляров. Хемингуэй мог бы быть доволен, но Полина переслала ему из Нью-Йорка пачку первых рецензий на книгу, и многие из них опять огорчили писателя. Эдмунд Уилсон высоко отозвался о рассказах, но пьесу обошел молчанием. Вообще «Пятая колонна» была встречена критиками более чем прохладно.
В последний раз Хемингуэй приехал в Испанию в ноябре 1938 года. В Барселоне он узнал все военные новости — Интернациональные бригады были еще в конце сентября отведены с фронта. 15-я бригада генерала Листера по-прежнему удерживала мост на реке Эбро.
5 ноября Хемингуэй вместе с генералом Гансом Кале, Мэттьюзом, фотокорреспондентом Бобом Капа и еще несколькими журналистами выехал на фронт к Таррагону. Ганс Кале достал лодку, и они переправились через бурную реку в Мора-де-Эбро, где нашли Листера. Однако Листер готовился отступать и попросил Кале увезти корреспондентов из этого опасного места. Они нашли маленькую лодку, чтобы переправиться на другой берег, но на середине реки течение подхватило их и понесло на разрушенные остатки моста. Тогда Эрнест схватил весло и начал яростно выгребать, только его сила и умение помогли им добраться до берега.
На следующий день Хемингуэй с Мэттьюзом были уже в городке Риполл, в пятидесяти километрах от французской границы, где остатки американского батальона Линкольна ожидали эвакуации во Францию.
В один из последних вечеров в Барселоне кое-кто из корреспондентов собрался в номере у советской журналистки Болеславской. Был там и Андре Мальро, на которого Хемингуэй слегка дулся за то, что тот поторопился написать роман об испанской войне и уже издать его.
На исходе ночи, когда все собирались расходиться, шофер Болеславской, молчаливый и суровый человек, предложил почтить минутой молчания память тех, кто погиб, сражаясь за Мадрид. Хемингуэй стоял, низко опустив голову. Быть может, в эту минуту скорбного молчания у него зародилась мысль написать надгробное слово-реквием к память погибших за свободу Испании.
Впоследствии в письме И. А. Кашкину он признавался: «Ту страничку о наших мертвых в Испании, которую Вы перевели, написать мне было очень трудно, потому что надо было найти нечто, что можно бы честно сказать о мертвых. О мертвых мало что можно сказать, кроме того, что они мертвы. Хотелось бы мне с полным пониманием суметь написать и о дезертирах и о героях, трусах и храбрецах, предателях и тех, кто не способен на предательство. Мы многое узнали о всех этих людях».
Эту страничку он назвал «Американцам, павшим за Испанию».
«…Этой ночью мертвые спят в холодной земле в Испании и проспят всю холодную зиму, пока с ними вместе спит земля. Но весной пройдут дожди, и земля станет рыхлой и теплой. Ветер с юга овеет холмы. Черные деревья опять оживут, покроются зелеными листьями, и яблони зацветут над Харамой. Весной мертвые почувствуют, что земля оживает.
Потому что наши мертвые стали частицей испанской земли, а испанская земля никогда не умрет… Наши мертвые с ней всегда будут живы.
Как земля никогда не умрет, так и тот, кто был однажды свободен, никогда не вернется к рабству…
Наши мертвые живы в памяти и в сердцах испанских крестьян, испанских рабочих, всех честных, простых, хороших людей, которые верили в Испанскую республику и сражались за нее. И пока наши мертвые живут как частица испанской земли, — а они будут жить, доколе живет земля, — никаким тиранам не одолеть Испании…
Мертвым не надо вставать. Теперь они частица земли, а землю нельзя обратить в рабство. Ибо земля пребудет вовеки. Она переживет всех тиранов…»
Вновь, как и в первом своем романе «И восходит солнце», Хемингуэй обратился к образу земли, которая пребудет вовеки. Но на этот раз древняя формула Екклезиаста наполнилась новым содержанием — образ вечной земли слился с памятью о героях, погибших за свободу.
ГЛАВА 21 ИНТЕРМЕДИЯ МЕЖДУ ВОЙНАМИ
После испанской войны я должен был писать немедленно, потому что я знал, что следующая война надвигается быстро, и чувствовал, что времени остается мало.
Э. Хемингуэй, Из письмаСтоял конец ноября 1938 года. Вновь за окнами отеля шумел Нью-Йорк.
Дни Испанской республики были сочтены. В последних числах января 1939 года фашисты взяли Барселону, а еще через два месяца пал Мадрид.
Хемингуэй не захотел присутствовать при агонии республики, но все его творческие помыслы были связаны с увиденным и пережитым в Испании.
Статью «Американцам, павшим за Испанию» он послал для опубликования в коммунистический журнал «Нью мэссиз». И не только потому, что в другом журнале ее вряд ли напечатали бы, — он отдавал дань уважения коммунистам, которые составляли большинство бойцов батальона имени Линкольна и многие из которых остались спать вечным сном в земле Испании.
Другой его заботой была постановка пьесы «Пятая колонна». Театр, задумавший поставить пьесу, привлек для ее сценической редакции сценариста из Голливуда Бенджамина Глейзера. Хемингуэй поставил условие, чтобы сценическая редакция не содержала никаких враждебных выпадов по адресу правительства Испанской республики или коммунистической партии.
Еще до приезда Хемингуэя в Нью-Йорк в ноябрьском номере «Эсквайра» появился рассказ «Разоблачение», действие которого происходило в мадридском баре «Чикоте», где герой повествования опознавал своего старого знакомого по встречам в этом баре, а ныне фашистского шпиона, и передавал его в руки контрразведки. Грингричу очень понравился и второй рассказ, основанный на подлинном происшествии в том же баре «Чикоте» осенью 1937 года, когда один шутник стал пугать присутствовавших ружьем, которое на самом деле было игрушечным и стреляло одеколоном. Шутника пристрелили. Рассказ назывался «Мотылек и танк».
В февральском номере «Эсквайра» за 1939 год был напечатан еще один испанский рассказ Хемингуэя — «Ночь перед боем» — об американском добровольце, танкисте, который проводит ночь перед боем в номере у рассказчика, выпивает, играет в кости с летчиками и со спокойной усталостью говорит, что, видимо, живым он из боя не вернется.
Все это были довольно грустные рассказы, в них ощущалась горечь поражения. В письме И. А. Кашкину Хемингуэй так объяснял противоречивость этих рассказов: «В рассказах о войне я стараюсь показать все стороны ее, подходя к ней честно и неторопливо и исследуя ее с разных точек зрения. Поэтому не считайте, что какой-нибудь рассказ выражает полностью мою точку зрения; это все гораздо сложнее».
В конце ноября Эрнест уехал в Ки-Уэст. Туда же выехала и Полина — они оба делали вид, что в их семейной жизни ничего не произошло. Здесь он написал еще один рассказ, тематически тоже связанный с Испанией, — «Никто никогда не умирает» — о кубинце, сражавшемся в Испании и вернувшемся на Кубу, чтобы продолжать там борьбу за свободу. За ним и за его возлюбленной охотится тайная полиция, его убивают, а девушку арестовывают. Рассказ трагический, но есть в нем высокий пафос утверждения идеалов, за которые борются и погибают эти смелые люди, — он слышится в заключительном аккорде рассказа, когда девушку везут в полицейской машине:
«Она сидела спокойно, откинувшись на спинку сиденья. Казалось, она обрела теперь странную уверенность. Такую же уверенность почувствовала чуть больше пятисот лет назад другая девушка ее возраста на базарной площади города, называемого Руаном. Мария об этом не думала. И никто в машине не думал об этом. У этих двух девушек, Жанны и Марии, не было ничего общего, кроме странной уверенности, которая внезапно пришла к ним в нужную минуту. Но всем полицейским было не по себе при виде лица Марии, очень прямо сидевшей в луче фонаря, который озарял ее лицо».
Хемингуэя волновала судьба американских добровольцев, вернувшихся из Испании на родину. Консервативная Америка встретила их отнюдь не гостеприимно. Многие из добровольцев лишились своей работы и не могли найти новой. Реакционная пресса травила их.
С горечью писал Хемингуэй И. А. Кашкину в апреле 1939 года об этой травле, указывая, в частности, на Дос Пассоса: «…люди, подобные Досу, пальцем не шевельнувшие в защиту Испанской республики, теперь испытывают особую потребность нападать на нас, пытавшихся хоть что-нибудь сделать, чтобы выставить нас дураками и оправдать собственное себялюбие и трусость. А про нас, которые, не жалея, себя, дрались сколько хватало сил и проиграли, теперь говорят, что вообще глупо было сражаться».
Чтобы хоть как-то помочь ветеранам батальона Линкольна, Хемингуэй пожертвовал правленную им машинописную копию статьи «Американцам, павшим за Испанию» и рукопись сценария «Испанская земля» для аукциона в фонд помощи ветеранам.
14 февраля Хемингуэй уехал на месяц в Гавану. Как и в прошлые годы, он поселился в отеле «Амбос мундос», по утрам работал, потом играл в теннис, ловил рыбу, купался. Но самым важным событием за это краткое пребывание на Кубе было то, что здесь он начал работать над романом об испанской войне.
Он отлично понимал, за какую ответственную тему берется. Менее чем за год до того, как он начал работать над романом, Хемингуэй писал из Испании в предисловии к сборнику рисунков Луиса Кинтанильи: «Мне хотелось бы верить, что, если я теперь буду писать о войне, я сделаю это так же четко и правдиво, как рисует и пишет Луис Кинтанилья. Война — ненавистное дело. Она оправданна только как самозащита. Описывая войну, писатель должен быть абсолютно правдив, потому что о ней писали меньше правды, чем о чем бы то ни было…
Чтобы писать о войне правдиво, надо многое знать о трусости и героизме. Потому что много и того и другого, и простого человеческого терпения, а эти вещи никем еще не уравновешены по-настоящему».
Хемингуэй всегда серьезно задумывался над тем, как следует писать о войне. Лучшими книгами о войне он считал «Севастопольские рассказы» и «Войну и мир» Толстого, и еще описание битвы при Ватерлоо у Стендаля. Через два года после выхода романа «По ком звонит колокол» в предисловии к антологии «Люди на войне» он постарается сформулировать свои мысли о том, как надо писать о войне: «Писатель должен быть неподкупен и честен, как служитель бога. Либо он честен, либо нет, так же как женщина либо целомудренна, либо нет, и после того, как он однажды написал неправду, он никогда уже не будет прежним.
Дело писателя говорить правду. Его преданность правде должна быть столь высокой, что придуманное им на основании его опыта должно выглядеть более правдивым, чем может быть что-либо в действительности. Факты могут быть плохо подмечены, но, когда хороший писатель создает что-то, у него есть время и свобода создать абсолютную правду».
С такими мыслями приступал Хемингуэй к работе над романом об испанской войне. Хемингуэй начал писать его 1 марта 1939 года. 23 марта, как сообщал он в письме, было написано уже 15 тысяч слов. После месяца пребывания на Кубе он вернулся в Ки-Уэст, главным образом ради того, чтобы повидать Бэмби, приехавшего туда на весенние каникулы. Работать там ему было очень трудно. Ки-Уэст стал фешенебельным местом, куда в это время года стали съезжаться богатые бездельники. Среди них было немало друзей Полины. Даже в маленьком домике, где Эрнест обычно работал, не было покоя.
10 апреля он опять улетел в Гавану. Но на этот раз не один — к нему туда приехала Марта Гельхорн с тем, чтобы обосноваться там. Она присмотрела старый дом в деревушке Сан-Франсиско-де-Паула, называемый Финка-Вихия; они сняли этот дом, и Марта привела его в порядок.
Летом Хемингуэй уехал в Вайоминг на ранчо Нордквиста, чтобы продолжать там работать над романом. Вскоре туда приехала Полина, все еще надеявшаяся удержать мужа, но ничего сделать было уже нельзя — Эрнест через несколько дней телеграфировал Марте, чтобы она встретила его, и они вместе уехали в Айдахо, в местечко Сан-Вэлли около городка Кетчум.
К концу октября у него было написано уже 18 глав нового романа. Марта улетела в Финляндию писать о советско-финской войне, он остался один, продолжая напряженно работать. На рождество он хотел приехать в Ки-Уэст, чтобы повидать сыновей, но Полина ответила, что если он собирается приехать и потом опять уехать к Марте, то ему лучше не приезжать. Он вернулся на Кубу.
1 июля 1940 года Эрнест отправил Перкинсу телеграмму: «Мост взорван кончаю последнюю главу». В конце июля он выехал в Нью-Йорк. Накал работы был настолько велик, что он продолжает работать даже в поезде, хотя там было нестерпимо жарко и душно. В Нью-Йорке в отеле «Беркли» Хемингуэй еще раз прошелся по всей рукописи, отправляя каждый день с посыльным в издательство по 200 страниц текста. Тут же в номере у него сидел Густаво Дюран, бывший командующий дивизией республиканских войск, с которым он советовался по некоторым военным аспектам романа, проверял на нем, правдиво ли он все написал.
Сдав всю рукопись в издательство, Хемингуэй улетел на Кубу. 13 августа он получил гранки романа и опять принялся переписывать, править, сокращать. 10 сентября он отправил авиапочтой уже из Сан-Вэлли последнюю партию гранок. Весь процесс работы над романом занял 18 месяцев.
Верный своим творческим принципам, о которых он говорил в Мадриде Эренбургу, — пытаться передать общее в частном, но говорить о деталях детально, — Хемингуэй не стал задумывать большое эпическое полотно, в котором воплотилась бы вся история испанской войны. К эпосу он вообще относился скептически. Еще в книге «Смерть после полудня» он писал, что «ходульная журналистика не становится литературой, если впрыснуть ей дозу ложноэпического тона. Заметьте еще: все плохие писатели обожают эпос».
Хемингуэй избрал сюжетной основой романа как будто бы частный, очень локальный эпизод войны — операцию по взрыву моста в тылу у фашистов в горах Гвадаррамы небольшой группой партизан. Действие всего романа укладывалось в 64 часа — между серединой дня в субботу и полуднем во вторник в последней неделе мая 1937 года. Но на войне, где характеры людей раскрываются с неожиданной остротой и яркостью, этого небольшого отрезка времени оказалось достаточно, чтобы рассказать об этих людях все. И не только об этих конкретных людях, но и коснуться многих нравственных и политических сторон гражданской войны.
Сюжет романа несложен. Американец Роберт Джордан, сражавшийся ранее в Интернациональной бригаде, а потом перешедший на диверсионную работу в тылу противника, получает от советского генерала Гольца, командующего готовящимся наступлением в районе Сеговии, задание взорвать мост в тот момент, когда начнется наступление. Взрыв моста должен помешать фашистам подбросить подкрепления в район наступления республиканцев. Гольцу Хемингуэй придал внешний облик генерала Вальтера (Кароля Сверчевского) — странное белое лицо, которое не брал загар, ястребиные глаза, большой нос, тонкие губы и бритая голова, изборожденная морщинами и шрамами. То, как дают подобные задания, Хемингуэй знал от Ксанти (Хаджи Мамсурова). Перейдя линию фронта с проводником, стариком Ансельмо, Джордан попадает в небольшой партизанский отряд, который должен помочь ему при взрыве моста. Здесь ему приходится столкнуться с вожаком отряда Пабло, с женщиной Пилар, с другими партизанами этого отряда, с девушкой Марией, с предводителем соседнего партизанского отряда Эль Сордо. Взрыв моста сопряжен с большой опасностью для всех участников, и в отряде возникают разногласия. В конце концов Джордан взрывает мост и, раненный, остается прикрывать отступление своих товарищей обрекая себя на смерть.
Казалось бы, сюжет слишком прост и незамысловат для большого романа, но ведь это только канва событий, в романе живут люди, которые раскрываются самыми разными гранями своего характера, и писатель достигает такой достоверности изображаемых событий и людей, что у читателя возникает ощущение, что это произошло с ним самим.
Как и все, что писал в своей жизни Хемингуэй, роман «По ком звонит колокол» при этом глубоко личная книга.
Своему герою Роберту Джордану Хемингуэй отдал так много неповторимых черт собственной биографии, что кое-кто склонен был считать роман вообще автобиографическим. Дед Роберта, как и дедушка Эрнеста, Ансон Хемингуэй, в течение четырех лет сражался на стороне северян в Гражданской войне в Америке. Роберт вспоминает дедушкину саблю в погнутых ножнах, блестящую и хорошо смазанную маслом, вспоминает дедушкин смит-вессон — 32-калиберный револьвер офицерского образца, который всегда был хорошо смазан, и канал ствола у него был чистый, и хранился он в ящике шкафа. Отец Роберта Джордана застрелился, и обстоятельства этой смерти слишком напоминают самоубийство доктора Кларенса Хемингуэя, как и раздумья Джордана близки переживаниям самого Хемингуэя.
«Каждый имеет право поступать так, думал он. Но ничего хорошего в этом нет. Я понимаю это, но одобрить не могу… Я никогда не забуду, как мне было гадко первое время… Он был просто трус, а это самое большое несчастье, какое может выпасть на долю человека. Потому что, не будь он трусом, он не сдал бы перед женщиной и не позволил бы ей заклевать себя. Интересно, какой бы я был, если бы он женился на иной женщине?»
В отличие от Хемингуэя Роберт Джордан по профессии преподаватель испанского языка в университете в Монтане, но, помимо этого, он и писатель — в результате десятилетнего знакомства с Испанией, которую он изъездил вдоль и поперек, Джордан написал книгу об этой стране. Как и Хемингуэй, Джордан мечтает о том, что, когда все это кончится, он напишет правдивую книгу о войне в Испании.
Роберт Джордан, как и автор, создавший его, любит выпить и даже поэтизирует это занятие.
«Одна такая кружка заменяла собой все вечерние газеты, все вечера в парижских кафе, все каштаны, которые, наверно, уже сейчас цветут, больших медлительных битюгов на внешних бульварах, книжные лавки, киоски и картинные галереи, парк Монсури, стадион Буффало и Бют-Шомон, «Гаранти траст компани», остров Ситэ, издавна знакомый отель «Фойо» и возможность почитать и отдохнуть вечером, — заменяла все то, что он любил когда-то и мало-помалу забыл, все то, что возвращалось к нему, когда он потягивал это мутноватое, горькое, леденящее язык, согревающее мозг, согревающее желудок, изменяющее взгляды на жизнь колдовское зелье».
Политические убеждения Роберта Джордана тоже весьма близки к политическим взглядам Хемингуэя. Джордан говорит самому себе:
«Ты не настоящий марксист, и ты это знаешь. Ты просто веришь в Свободу, Равенство и Братство. Ты веришь в Жизнь, Свободу и Право на Счастье».
Роберт Джордан — убежденный антифашист. Он ненавидит убийство, но понимает, что на войне это приходится делать во имя тех идеалов, которые ты исповедуешь.
«Ведь ты знаешь, что убивать нехорошо? — говорит он себе. — Да. И делаешь это? Да. И ты все еще абсолютно убежден, что стоишь за правое дело? Да.
Так нужно, сказал он себе, и не в утешение, а с гордостью. Я стою за народ и за его право выбирать тот образ правления, который ему годен. Но ты не должен стоять за убийства. Ты должен убивать, но стоять за убийства ты не должен. Если ты стоишь за это, тогда все с самого начала неправильно».
В этих словах нашел свое выражение высокий гуманизм Хемингуэя, который понимал, что война с фашизмом влечет за собой человеческие жертвы, но это необходимо, чтобы остановить фашизм, эту коричневую чуму, несущую человечеству смерть, рабство, унижение, уничтожение нравственных ценностей. Ради этого нужно воевать, ради этого можно и нужно убивать противника.
Хемингуэй писал свой роман, когда республика в Испании потерпела поражение, но в уста своего героя он вложил те мысли, которые владели им во время войны и которые он не раз высказывал в своих статьях, мысли о значении этой войны для Европы, для всего человечества, надежду, вдохновлявшую его и многих людей, отправившихся в Испанию сражаться с фашизмом, что, может быть, здесь, на испанской земле, фашизм удастся остановить и это предотвратит страшные испытания и несчастья для народов. Хемингуэй еще в ходе испанской войны заклеймил «демократические» правительства Англии, Франции и Соединенных Штатов, способствовавших своей политикой «невмешательства» победе генерала Франко, но и в романе он не упустил случая напомнить об их позорной роли.
Роберт Джордан человек долга, и, когда он задумывается над тем, что выполнение приказа Гольца может кончиться для него и для старика Ансельмо гибелью, он утешает себя тем, что каждый должен выполнять свой долг и от этого выполнения долга зависит многое — судьба войны, а может быть, и больше.
«Стыдно так думать, сказал он себе, разве ты какой-нибудь особенный, разве есть вообще особенные люди, с которыми ничего не должно случаться? И ты ничто, и старик ничто. Вы только орудия, которые должны делать свое дело. Дан приказ, приказ необходимый, и не тобой он выдуман, и есть мост, и этот мост может оказаться стержнем, вокруг которого повернется судьба человечества. И все, что происходит в эту войну, может оказаться таким стержнем. У тебя есть одна задача, и ее ты должен выполнить».
Эта идея выполнения долга проходит через весь роман. В другом случае Джордан обращается к себе:
«Помни одно: пока мы удерживаем фашистов здесь, у них связаны руки. Они не могут напасть на другую страну, не покончив прежде с нами, а с нами они никогда не покончат. Если французы захотят помочь, если только они не закроют границы и если Америка даст нам самолеты, они с нами никогда не покончат. Никогда, если нам хоть что-нибудь дадут. Этот народ будет драться вечно, дайте ему только хорошее оружие».
Антифашизм Роберта Джордана, как и самого Хемингуэя, проявляется и в трезвой оценке опасности фашизма в их родной стране, в Соединенных Штатах. Когда партизанка Пилар рассказывает о кровавой расправе фашистов в маленьком городке в начале мятежа против республики, Джордан вспоминает, как он, когда ему было семь лет, видел в штате Огайо, как повесили негра на фонарном столбе. «С тех пор, — говорит Джордан, — мне часто приходилось убеждаться в том, что и в моей стране пьяные люди не лучше, чем в вашей. Они страшны и жестоки». И в другом случае, когда партизаны расспрашивают его об Америке, один из них задает ему вопрос:
«— А много в вашей стране фашистов?
— Много таких, которые еще сами не знают, что они фашисты, но придет время, и им станет это ясно.
— А разве нельзя расправиться с ними, пока они еще не подняли мятеж?
— Нет, — сказал Роберт Джордан. — Расправиться с ними нельзя. Но можно воспитывать людей так, чтобы они боялись фашизма и сумели распознать его, когда он проявится, и выступить на борьбу с ним».
Читая роман «По ком звонит колокол», невольно вспоминаешь слова Хемингуэя, сказанные им Эренбургу, о вечных темах литературы — любви, смерти, труде, борьбе. Война и смерть соседствуют с любовью, о которой Хемингуэй в этой книге написал с необыкновенной силой и нежностью.
Любовь Роберта Джордана к испанской девушке Марии, у которой фашисты расстреляли отца и мать, а ее саму изнасиловали, коротка по времени, но накал ее так велик, что Джордан понимает, что это равноценно целой жизни.
«Может быть, это и есть моя жизнь, — думает Джордан, — и, вместо того чтобы длиться семьдесят лет, она будет длиться только сорок восемь часов или семьдесят часов… Вероятно, за семьдесят часов можно прожить такую же полную жизнь, как и за семьдесят лет».
Близость смерти обостряет чувство любви, делает его необыкновенно емким, всеобъемлющим. Для Джордана это чувство не только физическое, в нем есть элемент духовного экстаза. Мария становится для него олицетворением всего святого в жизни. И это находит выражение в прекрасных по простоте словах, которые он ей говорит: «Я люблю тебя так, как я люблю все то, за что мы боремся. Я люблю тебя так, как я люблю свободу и человеческое достоинство и право каждого работать и не голодать. Я люблю тебя, как я люблю Мадрид, который мы защищали, и как я люблю всех моих товарищей, которые погибли в этой войне. А их много погибло. Много. Ты даже не знаешь, как много. Но я люблю тебя так, как я люблю то, что я больше всего люблю на свете, и даже сильнее. Я тебя очень сильно люблю, зайчонок. Сильнее, чем можно рассказать».
Писателю всегда чрезвычайно трудно писать о чужой стране. Это редко приводит к успеху — слишком сложен национальный характер другой страны, чтобы иностранец смог до конца проникнуть в него и описать. Вероятно, это была одна из причин, почему Хемингуэй сделал главного героя романа американцем. Но знание Испании, ее людей, которых он повидал за многие годы поездок по стране, помогло ему создать в романе великолепную галерею самобытных национальных испанских характеров. В немногочисленной группе партизан, с которой имеет дело Джордан, нашлось место для самых разных людей, каждый из которых обладает своей собственной ярко выраженной индивидуальностью.
В романе фигурируют и многие люди, с которыми Хемингуэй дружил в Мадриде, — советские журналисты, советские военные специалисты, интербригадовцы, прославленные командиры испанских дивизий — Листер, Кампесино, Модесто, рассказывается о погибшем советском подрывнике Кашкине. О всех них Хемингуэй пишет с большой симпатией, отдавая должное их мужеству, стойкости, умению воевать. Пишет, конечно, бегло, потому что знал их недостаточно, чтобы углубляться в их психологию, в особенности их характеров. В романе фигурирует только один человек, вызвавший активную неприязнь у Хемингуэя, — это Андре Марти, оказавшийся впоследствии политическим ренегатом. В нем Хемингуэй, стоявший очень далеко от внутренних дел коммунистических партий, острым глазом художника сумел рассмотреть страшную накипь фанатизма, подозрительности, бездушной готовности убивать людей. И простой испанский капрал говорит о Марти уничтожающие слова: «Он сумасшедший. У него мания расстреливать людей… Этот старик столько народу убил, больше, чем бубонная чума».
«По ком звонит колокол» оказался первым романом Хемингуэя с четко организованным сюжетом, который на протяжении всего повествования держит читателя в постоянном напряжении. Хемингуэй впоследствии вспоминал: «По ком звонит колокол» был для меня задачей, которую я решал изо дня в день. Я знал, что должно произойти, в общих чертах. Но все то, что происходит в романе, я придумывал день за днем во время работы».
Роман получился трагическим. Это ощущение трагедии пронизывает повествование, по существу, с первых страниц. С ощущением неминуемой гибели живет на протяжении всего романа его герой Роберт Джордан. Угроза смерти витает над всем партизанским отрядом то в виде фашистских самолетов, то в облике фашистских патрулей, появляющихся в расположении отряда. Но угроза смерти не останавливает никого, даже заколебавшегося в определенный момент вожака отряда Пабло. Достойно встречает смерть другой партизанский вожак, Эль Сордо. Эпизод неравного боя, принятого Эль Сордо на вершине холма, — один из лучших, самых впечатляющих в романе.
Мост взорван, задание выполнено, но вражеский снаряд тяжело ранит Роберта Джордана, и он остается на верную смерть, решая прикрыть отступление своих товарищей. И вновь возникает тема долга каждого отдельного человека. Джордан говорит себе: «Каждый делает, что может. Ты ничего уже не можешь сделать для себя, но, может быть, ты сможешь что-нибудь сделать для других».
Глядя в глаза смерти, Роберт Джордан подводит итог прожитого. И итог этот оказывается жизнеутверждающим:
«Почти год я дрался за то, во что верил. Если мы победим здесь, мы победим везде. Мир — хорошее место, и за него стоит драться, и мне очень не хочется его покидать. И тебе повезло, сказал он себе, у тебя была очень хорошая жизнь. Такая же хорошая, как и у дедушки, хоть и короче. У тебя была жизнь лучше, чем у всех, потому что в ней были вот эти последние дни. Не тебе жаловаться».
Таким светлым аккордом Хемингуэй заканчивал роман. Эпиграфом к роману он взял строки из английского поэта XVII века Джона Донна, очень точно выражающие гуманистическую направленность романа, строки, говорящие о непреходящей ценности каждой человеческой жизни:
«Нет человека, который был бы, как Остров, сам но себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши… смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».
Из этого же эпиграфа Хемингуэй взял и название романа.
«По ком звонит колокол» вышел в свет 10 октября 1940 года. Хемингуэй в это время находился вместе с Мартой Гельхорн в Сан-Вэлли. Он так волновался, как примет критика его произведение, что не мог дождаться, пока Перкинс пришлет ему почтой рецензии, и позвонил в Нью-Йорк своему другу журналисту Джею Аллену, попросив его прочитать ему рецензии по телефону. Аллен запротестовал, считая, что такой телефонный разговор слишком дорого стоит. Но для Хемингуэя это не имело значения — он хотел поскорее услышать отзывы на его новое детище.
Объективные критики приняли новый роман как большое событие в литературе. Критик Дональд Адамс писал, что это «самый совершенный, самый глубокий, самый правдивый роман» из всех написанных Хемингуэем. Он утверждал, что любовные сцены между Джорданом и Марией лучшие в американской литературе.
Боб Шервуд в журнале «Атлантик» назвал роман «превосходным». Клифтон Фадиман в «Нью-йоркере» выражал радость по поводу проявившейся в романе зрелости писателя. Маргарет Маршалл в «Нейшн» писала, что неприятное ощущение, оставшееся у читателей после «Пятой колонны», теперь исчезло и что Хемингуэй утвердил себя на новом уровне.
Реакционная американская критика увидела в романе «По ком звонит колокол» резко антифашистское произведение и обрушилась на Хемингуэя, упрекая его в симпатиях к коммунистам. Эти нападки Хемингуэй воспринял как должное.
Тяжелым ударом для Хемингуэя оказалось неприятие нового романа некоторыми ветеранами испанской войны. В то время как многие его друзья по испанской войне, в частности Ганс Кале, бывший командир 15-й бригады и потом 45-й дивизии, Дюран, участвовавший вместе с генералом Вальтером в той самой операции под Сеговией, о которой писал Хемингуэй в романе, Мирно Маркович, бывший командир батальона имени Вашингтона, Стив Нельсон, политкомиссар этого батальона, считали роман хорошим и правдивым, группа руководителей организации ветеранов испанской войны выступила против романа, обвиняя Хемингуэя в том, что он исказил действительность, не во всех случаях правильно показал борьбу испанского народа. Его обвиняли даже в том, что он якобы приехал в Испанию из каких-то своих корыстных соображений.
Хемингуэй пришел в ярость, он никак не ожидал, что эти люди, воевавшие сами в Испании, проявят такое непонимание его романа. В одном из писем по этому поводу он приводил свой разговор с Андре Мальро, который однажды в Испании спросил его, когда Хемингуэй думает написать об испанской войне. Хемингуэй тогда ответил ему, что подождет, пока можно будет написать правду о Марти, не нанося ущерба делу республики.
Несмотря на эти нападки, роман имел огромный успех. К концу года было распродано 189 тысяч экземпляров. Голливудская фирма «Парамаунт» купила право экранизации, заплатив за него 136 тысяч долларов — самую высокую цену за экранизацию литературного произведения.
В начале ноября он получил сообщение, что Полина развелась с ним. На этот раз расставание с женой, с которой он прожил тринадцать лет и которая родила ему двух сыновей, было довольно безболезненным в отличие от расставания с Хэдли, о которой он часто вспоминал и сожалел.
Сразу же после получения этого известия Хемингуэй оформил свой брак с Мартой Гельхорн. В качестве свадебного подарка ей он купил приглянувшийся им дом — Финка-Вихия — на Кубе, чтобы там поселиться.
В самом конце 1940 года умер Скотт Фицджеральд. Незадолго до смерти он написал Эрнесту письмо, в котором благодарил за присланный с дарственной надписью экземпляр «По ком звонит колокол» и отзывался об этом романе как о самом лучшем из всех, какие он знает. «Я чертовски завидую тебе, — писал Скотт, — и без всякой иронии. Я завидую тебе, что издание этого романа даст тебе возможность делать то, что ты захочешь».
Хемингуэю очень хотелось отдохнуть от напряженнейшей работы над романом, от воспоминаний о крови и грязи войны, но Марта не желала сидеть дома. Как вспоминал впоследствии Хемингуэй, «Марта была самой честолюбивой женщиной, какие только жили на свете. Она вечно куда-то ехала, чтобы описывать чужие войны для «Колльерса».
На этот раз она хотела поехать на Дальний Восток — ситуация там интересовала американскую печать в связи с возможной войной Японии против Соединенных Штатов. Она, как всегда, поехала от журнала «Колльерс», а Хемингуэй заключил контракт с недолго просуществовавшей либеральной нью-йоркской газетой «Пост меридиен» («ПМ»).
В январе 1941 года они вылетели самолетом в Гонконг. Там они провели месяц. Гонконг тогда был весьма любопытным местом, где можно было встретить кого угодно — китайцев, представлявших правительство Чан Кай-ши; японцев; представителей китайских коммунистов; китайцев, сотрудничавших с японцами; английских, американских и прочих разведчиков. Хемингуэй писал, что опасность так давно висит над этим городом, что это уже стало привычным и люди там веселятся вовсю. «В Гонконге, — писал он, — по крайней мере 500 китайских миллионеров — в стране слишком много воюют, а в Шанхае слишком развит террор, чтобы это устраивало миллионеров. Наличие 500 миллионеров привело к концентрации другого сорта — здесь собрались прелестные девицы со всего Китая. 500 миллионеров обладают ими. У менее прелестных девиц положение гораздо хуже. Около 50 тысяч проституток толпятся по ночам на улицах Гонконга».
В коммунистических китайских войсках уже побывало немало корреспондентов, среди них были и такие известные, как Эдгар Сноу, Агнес Смедли. Поэтому Хемингуэй и Марта решили изучить положение дел в гоминдановских войсках. Из Гонконга они вылетели самолетом китайской авиакомпании. Потолок взлета у этих самолетов был пятьсот футов, а взлетное поле окаймляли горы высотой в три тысячи футов — условия, при которых ни одна разумная авиакомпания не разрешит полеты. Лететь им предстояло 75 миль ночью через японские позиции, минуя горную цепь, вершины которой достигали девяти тысяч футов. Вдобавок ко всему над линией фронта они попали в бурю. «Град колотил по крыльям и фюзеляжу с таким шумом, словно работала молотилка, — писала Марта. — Молнии бросали неясный отсвет на тучи. Лед оседал на крыльях и пропеллерах, и самолет карабкался вверх, пока не поднялся выше туч».
В Куньмин они попали сразу после налета японских самолетов. В этом городе с полумиллионным населением не было ни бомбоубежищ, ни зенитной артиллерии, чтобы отгонять японские самолеты. Когда начинали завывать сирены, люди просто бежали из города в поля. Газопровод был разбит, и запах газа мешался с людским зловонием. «Дышать было совершенно нечем, — писала Марта, — и в любую минуту все эти покосившиеся дома могли обрушиться на переполненную людьми улицу, как лавина».
В Кантоне их принимал генерал, похожий на статую Будды, любимым развлечением которого было после обеда, состоявшего из 12 блюд, куда входил суп из плавников акулы, весьма понравившийся Хемингуэю, напаивать гостей до того, что они валились под стол. В данном случае генерал не знал способностей своих гостей. Состязание продолжалось всю ночь, и в конце концов генерал капитулировал.
На следующий день в сопровождении четырех человек охраны, вооруженных винтовками, ручными гранатами и револьверами маузер, они в старом грузовике отправились на фронт. По «хорошей» части дороги они проехали за три часа 35 миль. После этого дорога стала хуже. Затем их погрузили на старый сампан, из которого приходилось каждые два часа откачивать воду, и они поплыли по реке. Далее им пришлось передвигаться верхом и наконец пешим порядком. В течение 12 дней шли дожди, и негде было даже высушить одежду.
На фронте они ничего интересного не увидели. Позиции противников располагались по склонам гор, никаких военных действий не было. В честь их приезда китайский генерал устроил военную демонстрацию, приказав открыть артиллерийский и пулеметный огонь по предполагаемым позициям врага.
На фронте их сопровождал переводчик, отличавшийся тем, что, не задумываясь, отвечал на любой вопрос. «Мистер Ма, — спросила его Марта, — почему выжгли весь склон горы?» Переводчик посмотрел на гору в свой огромный бинокль и храбро ответил: «Чтобы покончить с тиграми. Понимаете, тигры едят нежные корни растений и траву. Когда все сожжено, они начинают голодать и уходят из этих мест».
В Чунцин они добирались на грузовом «Дугласе», который вез в столицу мешки с бумажными деньгами. Здесь они встречались с Чан Кай-ши, с его супругой, с министрами и генералами. Вся эта камарилья произвела на Хемингуэя самое тяжелое впечатление. Он пришел к убеждению, что в чанкайшистском Китае царит продажная и жестокая диктатура. В своих корреспонденциях он выражал уверенность в том, что японцы должны быть разбиты, но симпатий Чан Кай-ши у него не вызвал.
После восьмидневного пребывания в Чунцине Хемингуэй и Марта вылетели на юг. Маршрут их пролегал вдоль Бирманской дороги. Затем машиной они проехали в Мандалей и оттуда поездом в Рангун. Как опытный военный обозреватель, Хемингуэй понимал, какое значение приобретет Бирманская дорога в случае большой войны на Дальнем Востоке.
Шесть корреспонденций, отправленных Хемингуэем в газету «ПМ», отличались сухостью, в них не было никаких личных впечатлений, он рассматривал в них исключительно вопросы военной стратегии, военной экономики, транспорта, международных отношений на Дальнем Востоке.
Вернувшись в Соединенные Штаты, Хемингуэй и Марта первым делом направились в Вашингтон. Старый друг полковник Чарльз Суини устроил им свидание с полковником Томасоном из морской разведки, который хотел услышать их впечатления о военном положении в Китае и вообще на Дальнем Востоке. Разговор был деловой, речь шла, в частности, о явной слабости английской обороны в Сингапуре. И Томасон и Суини были настроены весьма оптимистично и не верили в возможность нападения японцев на Соединенные Штаты. Хемингуэй придерживался другого мнения.
Из Вашингтона Эрнест вылетел в Ки-Уэст, чтобы повидать своих младших сыновей перед тем, как они уедут на лето к матери в Калифорнию.
Лето 1941 года Хемингуэй и Марта провели на Кубе. Здесь их застала весть о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Хемингуэй отреагировал на это событие единственным возможным для него образом — 27 июня он послал в Москву телеграмму: «На все 100 процентов солидаризируюсь с Советским Союзом в его военном отпоре фашистской агрессии. Народ Советского Союза своей борьбой защищает все народы, сопротивляющиеся фашистскому порабощению».
Обстановка на Кубе располагала к работе, к спокойной жизни, отдыху. «Пилар» стояла у причала, готовая в любую минуту выйти в голубые воды Гольфстрима. Шкипером на «Пилар» Эрнест взял своего старого приятеля Грегорио Фуэнтеса. Они уходили в далекие рейсы на ловлю рыбы.
И все-таки, несмотря на эту мирную жизнь, семейное счастье не налаживалось. Когда не стало войны, опасностей, лишений, разлук и встреч, выяснилось, что они с Мартой очень разные люди. Семейная жизнь иногда оказывается более тяжким испытанием для человеческих отношений, чем война.
Хемингуэй, как всегда, несколько юмористически объяснял возникшие у них противоречия с Мартой. «Она любила все гигиеническое. Ее отец был врачом, и она сделала все, чтобы наш дом как можно больше был похож на больницу. Никаких звериных голов, как бы прекрасны они ни были, потому что это антигигиенично. Ее друзья из журнала «Тайм» приезжали в Финку, одетые в отглаженные спортивные костюмы, чтобы играть в безупречный элегантный теннис. Мои друзья тоже играли в пелоту, но они играли грубо. Они могли прыгнуть в бассейн потными, не помывшись предварительно в душе, потому что они считали, что только феи принимают душ. Они иногда неожиданно появлялись с фургоном, груженным льдом, выбрасывали его в бассейн и потом играли там в водное поло. Так начались противоречия между мисс Мартой и мной — мои друзья по пелоте пачкали ее друзей из «Тайма».
В этих шутливых словах была, вероятно, какая-то доля истины.
В конце сентября Эрнест и Марта перебрались в Сан-Вэлли. Сюда съехались и все трое сыновей Хемингуэя.
Эрнест мечтал поохотиться на антилоп. Его местные друзья полковник Тейлор Уильямс, Арнольд и Аткинсон предложили отправиться в горы. Мальчики были в восторге от этой экспедиции. Три дня вся компания верхом на лошадях пыталась приблизиться к антилопам на расстояние ружейного выстрела, но быстроногие животные молниеносно исчезали. Только к вечеру третьего дня охотникам повезло, и они оказались неподалеку от стада антилоп, мирно щипавших траву. Опытнейший охотник полковник Уильямс был поражен. «Я видел, — рассказывал он, — как Эрнест соскочил с лошади, пробежал ярдов сто и попал в бегущего самца с расстояния в двести семьдесят пять ярдов с первого выстрела. Вот это стрелок!»
В гости к Хемингуэю в Сан-Вэлли приехал его старый приятель актер Гарри Купер с женой. Купер в прошлом был ковбоем, он отлично стрелял, ездил верхом, любил удить рыбу и был в этом смысле желанным партнером для Эрнеста. Купер мечтал сыграть роль Роберта Джордана в фильме и уверял Эрнеста, что такой фильм внесет свой вклад в войну против фашизма.
К этому времени тираж романа «По ком звонит колокол» достиг более полумиллиона экземпляров.
Они прекрасно провели время в Сан-Вэлли, много пели, шутили, дурачились, выпивали.
Когда охотничий сезон в горах кончился, Эрнест решил выполнить свое обещание поехать с Мартой в Мексику.
Они выехали из Сан-Вэлли 3 декабря. Когда они пересекали мексиканскую границу, Эрнест по радио поймал сообщение о нападении японцев на Пирл-Харбор. Соединенные Штаты вступили во вторую мировую войну.
ГЛАВА 22 ВТОРАЯ МИРОВАЯ
Войну надо выиграть… Мы должны выиграть ее любой ценой и как можно скорее. Мы должны выиграть ее, не забывая, за что мы сражаемся, чтобы, пока мы сражаемся с фашизмом, самим не соскользнуть к идеям и идеалам фашизма.
Э. Хемингуэй, Из предисловия к антологии «Люди на войне»Еще в 1940 году, когда Хемингуэя обвиняли в политической безответственности в связи с выходом романа «По ком звонит колокол», он с полным правом заявил: «Я сражался с фашизмом всюду, где можно было реально воевать с ним». И теперь он не мыслил себя вне этой решающей схватки с фашизмом. Как старый солдат, он торопился занять свое место в строю. Всю жизнь он был человеком действия и в войнах привык участвовать не как сторонний наблюдатель.
Сразу же после возвращения на Кубу Хемингуэй обратился к Джону Уиллеру, директору НАНА (Объединения североамериканских газет), с предложением выехать в качестве военного корреспондента в любой район боевых действий. Однако Уиллер ответил, что на настоящем этапе войны командование американской армии не хочет пускать корреспондентов на фронт.
Тем не менее сидеть без дела Хемингуэй не мог. И он придумал себе дело. Он обратился в американское посольство в Гаване с предложением создать сеть контрразведки для борьбы с просачиванием на Кубу нацистских агентов. Идея была не лишена смысла. Фашистская агентура с помощью симпатизирующих генералу Франко испанцев, проживающих на Кубе, стала успешно обосновываться на острове, с тем чтобы снабжать информацией, в частности, немецкие подводные лодки, крейсировавшие у северного побережья Кубы и нападавшие на танкеры союзников, которые перевозили нефть из портов Венесуэлы в Соединенные Штаты и Англию. Считалось, что в Гаване живет не менее трех тысяч людей, помогающих или готовых помочь фашистам. Среди этих людей были и такие влиятельные персоны, как, например, владелец самой крупной кубинской газеты «Диарио де ла Марина», который открыто высказывал свои профашистские взгляды.
Сотрудники американского посольства заинтересовались предложением Хемингуэя, и в начале мая его пригласил к себе новый американский посол на Кубе Браден. Хемингуэй изложил ему свой план, добавим, что в 1937 году в осажденном Мадриде помогал создавать сеть контрразведки. Он готов был предоставить небольшой дом для гостей в Финка-Вихия под штаб этой организации. От американского правительства он просил только снабдить будущих агентов оружием. Браден согласовал это предложение с премьер-министром кубинского правительства и благословил Хемингуэя.
Хемингуэй назвал свою организацию «Плутовская фабрика» и немедленно начал вербовать себе агентов. Среди них оказались самые различные люди — светские друзья Хемингуэев и испанский католический священник Дон Андрес, прославившийся тем, что в начале фашистского мятежа в Испании призвал своих прихожан не тратить время на молитвы, а вступать в ряды республиканской армии и сам ушел на фронт пулеметчиком. После поражения республики Дон Андрес бежал на Кубу и получил там бедный приход в провинции. На контрразведку Хемингуэя работали официанты бара «Флоридита» и других ресторанов Гаваны, кубинские рыбаки, испанские аристократы, проживавшие на Кубе, портовые грузчики, бродяги.
Сведения от всех этих агентов доставлялись в Финка-Вихия, Хемингуэй разбирался в них, систематизировал и раз в неделю отправлялся в Гавану, где передавал их сотруднику американского посольства Бобу Джойсу.
Однако этой деятельности Хемингуэю было недостаточно. Он хотел участвовать в войне как писатель. Но при этом он не допускал мысли поставить свое перо на службу пропагандистским целям американского правительства, как это сделал, например, Джон Стейнбек, уже успевший выпустить книгу о военно-воздушных силах США. Хемингуэй твердо сказал, что скорее отрубит себе три пальца на правой руке, чем станет писать подобную книгу. Он говорил, что готов сам отправиться на войну, послать на фронт своих сыновей, когда они достигнут должного возраста, готов отдать на военные нужды все свои деньги, но не станет писать ничего официозного, если это не будет «абсолютной правдой», — что невозможно в условиях военного времени.
Литературная деятельность Хемингуэя в эту весну 1942 года была незначительной. Он познакомился со сценарием Дадли Никольса — экранизацией романа «По ком звонит колокол» — и высказал по этому поводу серьезные критические замечания. Он написал, что в сценарии совершенно не передана сила политических убеждений Пилар, благодаря которым ей удается сплотить партизанский отряд, что сценарист не объясняет причин готовности Джордана отдать жизнь за дело республики. Любовные сцены в сценарии показались Хемингуэю беспомощными. А кроме того, все представления сценариста об Испании были почерпнуты из третьестепенных постановок оперы Бизе «Кармен». Вместо ярких одеяний, которые предлагал сценарист, Хемингуэй требовал, чтобы партизаны были одеты в серое и черное и чтобы главный упор был сделан на демонстрацию их внутреннего достоинства. Хемингуэй предупредил продюсера, что, если все эти изменения не будут внесены в сценарий, он выступит с публичным протестом. Единственное, что его обрадовало, — это утверждение Ингрид Бергман на роль Марии.
Другим его литературным занятием в это время была работа над антологией произведений мировой литературы о войне, которую собиралось издать издательство «Кроун паблишерс». Составитель этой антологии Уортелс предполагал включить в нее сцену отступления из-под Капоретто из романа «Прощай, оружие!» и эпизод боя Эль Сордо из романа «По ком звонит колокол». Кроме того, он просил Хемингуэя написать предисловие. Хемингуэй согласился, но внес множество изменений в намеченный состав антологии.
Он решил воспользоваться этой возможностью и высказать в предисловии ряд принципиальных мыслей о войне против фашизма и о литературе о войне.
Хемингуэй точно и недвусмысленно определил свое отношение к политикам, способствовавшим развязыванию второй мировой войны. Он писал: «Составитель этой книги, принимавший участие и раненный в прошлой войне, которая должна была покончить с войнами, ненавидит войну и ненавидит политиков, чье плохое управление, доверчивость, алчность, себялюбие и честолюбие вызвали эту войну и сделали ее неизбежной. Но раз мы уже воюем, нам остается только одно. Войну надо выиграть. Даже вне зависимости от того, что демократические государства, желая предотвратить эту войну, предали те страны, которые воевали или готовы были воевать. Мы должны выиграть эту войну».
Вновь обращался он к вопросу о честности писателя, пишущего о войне. «Последняя война, — утверждал он, — была самой колоссальной, убийственной, плохо организованной бойней, какая только была на земле. Любой писатель, утверждающий иное, лжет… Но после войны в конце концов стали выходить хорошие и правдивые книги. Почти все они были написаны писателями, которые ничего не писали и не публиковали до войны. Писатели, завоевавшие положение до войны, почти все продались и писали пропагандистские произведения, и большинство из них уже никогда не могли вернуть себе честное имя». Хемингуэй высказывал убеждение, что если писатель напишет неправду о войне, он кончится. «После войны люди отвернутся от него, потому что он, чья обязанность говорить правду, солгал им. И он никогда не обретет покоя, потому что он предал свой долг».
Единственной хорошей книгой, написанной во время первой мировой войны, Хемингуэй считал роман Анри Барбюса «Огонь». Он утверждал, что это была смелая книга, протестующая против войны. «Он был первым, кто показал нам, мальчишкам, попавшим со школьной или студенческой скамьи на ту войну, что можно протестовать против этого гигантского бесполезного убийства». Правда, Хемингуэй считал, что «Огонь» Барбюса не выдержал испытания временем.
Однако ни эти скромные литературные занятия, ни деятельность «Плутовской фабрики» не могли удовлетворить Хемингуэя, рвавшегося к активному личному участию в войне. Уже в конце мая 1942 года Хемингуэй явился в американское посольство с новым дерзким планом.
Он предлагал переоборудовать «Пилар» для охоты за вражескими подводными лодками. Расчет его строился на том, что немецкие подводные лодки, крейсировавшие неподалеку от кубинского побережья, сплошь и рядом, обнаружив рыбацкие суда, всплывали, останавливали рыбаков и забирали у них свежую рыбу, овощи, фрукты. Замаскированная под рыбацкое судно, «Пилар» могла рассчитывать, что ее остановят и прикажут подойти к подводной лодке. «Если бы подводная лодка не была в состоянии боевой готовности, — рассказывал впоследствии Хемингуэй, — наш план нападения мог увенчаться успехом».
Американскому послу Брадену этот план показался заманчивым, и он добился того, что военно-морское ведомство снабдило Хемингуэя радиооборудованием, звукопеленгаторной аппаратурой и вооружением, включавшим пулеметы, базуки и глубинные бомбы.
В письме по поводу боевой службы Хемингуэя на Кубе Браден писал: «Операция была чрезвычайно опасная, так как, естественно, при нормальных обстоятельствах катер, приспособленный для рыбной ловли, не может состязаться с тяжело вооруженной подводной лодкой. Однако Эрнест очень умно разработал план операции и, я полагал, мог бы выиграть сражение, если бы вступил в соприкосновение с подводной лодкой. Он в конце концов нашел бы случай вступить в бой, если бы мой военно-морской атташе не вызвал его однажды в Гавану, когда Хемингуэй находился в избранном им районе, где через 24 часа после этого была обнаружена немецкая подлодка. Но даже при этих обстоятельствах он в ряде случаев предоставлял ценную информацию о местонахождении немецких подлодок. Вклад Эрнеста был настолько серьезным, что я настоятельно рекомендовал наградить его орденом».
Команда «Пилар» состояла из девяти человек, среди них были испанцы, кубинцы и американцы. Как вспоминал впоследствии Хемингуэй, «все были мастера своего дела, храбрецы, и я думаю, что наш план мог осуществиться… Морская разведка по нашим донесениям обнаружила несколько нацистских подлодок, которые были закиданы глубинными бомбами и считались потопленными. Был награжден за это».
Так в течение двух лет — 1942-1943 годов — он вел на море свою «личную» войну с нацистской Германией. Но при этом он не забывал и о том, что он писатель, к чьему голосу прислушиваются миллионы людей, и он сражался и оружием слова.
Он горячо приветствовал воинский подвиг советского народа, призывал оказывать Советскому Союзу возможно большую военную помощь. В 1942 году он опубликовал следующее заявление: «24 года дисциплины и труда во имя победы создали вечную славу, имя которой — Красная Армия. Каждый, кто любит свободу, находится в таком долгу у Красной Армии, который он никогда не сможет оплатить. Но мы можем заявить, что Советский Союз получит оружие, деньги и продовольствие, в котором он нуждается. Всякий, кто разгромит Гитлера, должен считать Красную Армию героическим образцом, которому необходимо подражать».
В письме К. М. Симонову в 1946 году он писал: «Всю эту войну я надеялся повоевать вместе с войсками Советского Союза и посмотреть, как здорово вы деретесь, но я не считал себя вправе быть военным корреспондентом в ваших рядах, во-первых, потому, что я не говорю по-русски, во-вторых, потому, что я считал, что буду полезнее в уничтожении «кочерыжек» (так мы прозвали немцев) на другой работе. Почти два года я провел в море на тяжелых заданиях».
Если Хемингуэя до поры до времени удовлетворяла его «личная война» в кубинских водах, то Марта к этой затее относилась довольно отрицательно. Ее раздражали частые и длительные отлучки Эрнеста в море, веселые и шумные попойки, которые устраивались регулярно после возвращения команды «Пилар» на берег. Кроме того, Марте, считавшей себя прирожденной военной корреспонденткой, не сиделось дома. В июле 1942 года она согласилась поехать от журнала «Колльерс» в шестинедельную поездку по Карибскому морю, потом она отправилась в джунгли Голландской Гвианы, где шли бои с японцами. Но каждый раз, когда она возвращалась в Финка-Вихия, опять между ней и Эрнестом возникали конфликты и ссоры.
Марта рвалась в Европу, где должна была произойти главная битва с гитлеровской Германией, и убеждала Эрнеста, что и его место там.
В конце концов в октябре 1943 года Марта приняла предложение «Колльерса» отправиться военным корреспондентом в Европу. Хемингуэй тоже стал ощущать, что его деятельность на Кубе теряет всякий смысл. Немецкие подводные лодки перестали появляться у берегов Кубы, «Плутовская фабрика» закончила свое существование, так как по приказу президента Рузвельта вся контрразведывательная работа была передана в ведение Федерального бюро расследований.
Весной 1944 года Хемингуэй согласился вылететь в Лондон военным корреспондентом того же журнала «Колльерс». Решающим было то соображение, что в этом году союзники наконец откроют второй фронт и он сможет участвовать в освобождении своей любимой Франции.
В Нью-Йорке в ожидании самолета в Лондон Эрнест встречался со старыми друзьями, посещал свои излюбленные бары и рестораны. В один из дней он встретил корреспондента Квентина Рейнольдса, вернувшегося из Лондона, где он был свидетелем воздушной битвы за Англию. Хемингуэй зажал его в угол и стал уговаривать: «Вы были там уже три раза, и с вами ничего не случилось. Сделайте человеку добро и отдайте мне ваши петлицы и пуговицы для моей формы. А еще лучше отдайте мне вашу форму». Он свято верил в силу талисманов. Рейнольдс отдал ему свои пуговицы.
13 мая 1944 года Марта отплыла в Англию на судне, шедшем с грузом динамита, где она была единственным пассажиром, а 17 мая вылетел в Лондон и Хемингуэй.
В Лондоне он поселился в отеле «Дорчестер». И сразу же его номер стал притягательным центром, куда тянулись писатели, военные корреспонденты. Здесь оказалось множество старых знакомых и друзей Хемингуэя. Появился у него Фред Шпигель, с которым они вместе служили в Италии в транспортных частях Красного Креста, зашел Грегори Кларк, старый приятель по Торонто, однажды утром с визитом явился Льюис Галантье, первый человек, с которым он познакомился в Париже в 1921 году, часто захаживал к Эрнесту фотокорреспондент Боб Капа, приятель по испанской войне. Был здесь и младший брат Эрнеста Лестер, служивший в военной кинохронике. Вместе с Лестером служил рядовой Уильям Сароян, он тоже оказался гостем в «Дорчестере».
Однажды в ресторанчике «Белая башня» в Сохо, излюбленном месте встреч военных корреспондентов, Хемингуэй увидел писателя Ирвина Шоу с маленькой блондинкой, журналисткой Мэри Уэлш. Она работала в лондонском бюро американских журналов «Тайм», «Лайф» и «Форчун» и почти всю войну провела в Лондоне. Ее муж Ноэль Монкс был корреспондентом газеты «Дейли мейл».
Эрнест с первого же взгляда был покорен этой женщиной.
Впоследствии Мэри Уэлш вспоминала, что Эрнест ей тоже сразу понравился, она нашла, что он очень забавен, «но не могу сказать, — говорила она, — что у меня это была любовь с первого взгляда. Вот у Эрнеста это было иначе».
Среди всех светских развлечений Хемингуэй не забывал и о цели своего приезда в Лондон. Он начал переговоры с командованием военно-воздушных сил Великобритании о разрешении ему участвовать в боевых вылетах бомбардировщиков на континент, чтобы он мог написать об английских летчиках.
Помешал этому несчастный случай. В ночь на 25 мая Эрнест был у Боба Капа, где собрались военные корреспонденты. Вечер был веселый, все много выпили. По дороге домой, когда они ехали по затемненным улицам Лондона, машина налетела на цистерну с водой. Хемингуэй головой ударился о ветровое стекло, которое разбилось и сильно поранило его. Кроме того, он повредил себе колени. Его тут же доставили в госпиталь святого Георга в Гайд-парке.
Как раз в эти дни пришел пароход, на котором плыла Марта. Путешествие было опасным, и она с облегчением вступила на берег. В Лондоне Марта принялась разыскивать Эрнеста и узнала, что он в госпитале. Появившись в больничной палате и увидев забинтованную голову Эрнеста, Марта принялась хохотать, чем страшно обидела мужа.
29 мая Хемингуэй выписался из госпиталя и, хотя очень страдал от головных болей, стал настаивать на том, чтобы ему разрешили участвовать в боевых вылетах. Ему было в этом отказано.
Тем временем приближался день высадки союзных войск в Нормандии. 2 июня вместе с сотнями других военных корреспондентов Хемингуэй вылетел на южное побережье Англии, где в боевой готовности стояла флотилия вторжения. В ночь на 6 июня он был на борту военного транспорта «Доротея М. Дикс».
«Дул свирепый норд-ост, — описывал Хемингуэй этот день в очерке «Рейс к победе». — Когда мы серым утром шли к берегу, крутые зеленые волны вставали вокруг длинных, похожих на стальные гробы десантных барж и обрушивались на каски солдат, сгрудившихся в тесном, напряженном, неловком молчаливом единении людей, идущих на бой… Впереди был виден берег Франции».
Хемингуэй достал маленький цейсовский бинокль, но стекла тут же залило водой. На берегу виднелась цепь невысоких скалистых гор, прерываемая долинами. Можно было рассмотреть деревню с торчащим над крышами церковным шпилем, одинокий домик у самой воды. Горели заросли дрока. Два больших линкора, «Тексас» и «Арканзас», обстреливали берег из четырнадцатидюймовых орудий.
«На берегу, слева, там, где не было каменистого обрыва, нависшего сверху естественным прикрытием, лежали люди из первого, второго, третьего, четвертого и пятого эшелонов, и казалось, что на устланной галькой полосе между морем и откосами разбросано множество туго набитых узлов… Правей, на высотке, горели два танка, дым над ними, густой и черно-желтый сразу после взрыва, успел уже стать серым. Когда мы входили в бухту, я заметил два пулеметных гнезда. Один пулемет бил из разрушенного дома справа от маленькой долины».
Продвижение к берегу было нелегким. «Приходилось лавировать между сваями, опущенными на дно в качестве заградительного сооружения и соединенных с ударными минами, похожими на большие круглые блюдца, сложенные попарно, дном наружу. Они были неопределенного безобразного серо-желтого цвета, как все почти вещи на войне.
Когда мы видели перед собой такую сваю, мы отталкивались от нее руками».
Несмотря на ожесточенный огонь немцев, десантные баржи подходили к берегу, высаживали там людей и выгружали снаряжение. Задача была выполнена. Хемингуэй кончал очерк «Рейс к победе» тем, что ему хотелось бы написать о дружной и слаженной работе людей, от которых зависит все. «Но тут уже потребуется целая книга, — писал он, — а это лишь простой рассказ о том, как все было на одной десантной барже в день, когда мы штурмовали Фокс-Грин».
Марта в день высадки была на борту госпитального судна, и в отличие от Эрнеста ей удалось сойти на французский берег. Хемингуэй никак не мог ей простить, что она опередила его. Сразу же после возвращения в Лондон Марта решила вылететь в Италию. «Я приехала сюда, чтобы увидеть войну, — сказала она не без ехидства, — а не для того, чтобы жить в «Дорчестере».
А Хемингуэй продолжал жить в комфортабельном «Дорчестере», принимать там гостей. Он был старый солдат и знал, что эта война продлится еще долго, чтобы успеть все увидеть и самому принять участие в боях. Пока что он сел писать свой первый очерк для «Колльерса» о высадке в Нормандии. В один из этих дней к нему в номер зашел приятель, и Эрнест дал ему прочитать свою корреспонденцию. Тот удивился. «Эрнест, — сказал он, — ты не включил сюда великолепную деталь, которую ты мне рассказывал, — о выражении лица человека, пытающегося вылезти из горящего танка». — «Бог мой, — ответил Хемингуэй, — неужели ты думаешь, что я отдам такую деталь «Колльерсу»!»
Он продолжал ухаживать за Мэри Уэлш. В одном из своих интервью, данных уже после гибели Хемингуэя, Мэри рассказывала: «На восьмой день нашего знакомства он предложил мне стать его женой. Он подошел ко мне и в присутствии всех сказал: «Я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж. Я хочу быть вашим мужем». Я попросила его не говорить глупостей, мы ведь едва знали друг друга, и я даже подумала, уж не хочет ли он меня разыграть. Но он говорил совершенно серьезно».
Во второй половине июня гитлеровцы начали обстреливать Лондон и его окрестности летающими бомбами ФАУ-1. Эти летающие бомбы проносились над Ла-Маншем со скоростью 400 миль в час и несли в себе каждая тонну взрывчатых веществ. Английские истребители начали с ними борьбу, сбивая их в воздухе до того, как они достигнут Лондона или других городов.
Хемингуэй тут же стал добиваться разрешения побывать на одном из аэродромов, где базировались эти истребители, чтобы написать очерк о летчиках. Об этом визите он рассказал в очерке «Лондон воюет с роботами».
Ему понравились машины, «упрямые и выносливые, как мул». Но сердце его покорили летчики, смелые, немногословные люди, изо дня в день, из ночи в ночь взлетающие в воздух, чтобы, рискуя своей жизнью, спасать жизни женщин, детей, стариков, на чьи дома должны были обрушиться эти страшные роботы, начиненные смертью.
«Командир эскадрильи, — писал Хемингуэй, — очень привлекательный человек, рослый, немногословный, как леопард, со светло-коричневыми подглазинами и лиловым от ожогов лицом, и историю своего подвига он рассказал мне очень спокойно и правдиво, стоя возле дощатого стола в столовой летного состава.
Он знал, что говорит правду, и я это знал, и он очень точно помнил, как все было, потому что это был один из первых самолетов-снарядов, которые он расстрелял, и он очень точно описал все подробности. О себе он говорил неохотно, но хвалить самолет ему не казалось зазорным».
Английская авиация боролась с летающими бомбами и другим способом — бомбардируя их стартовые площадки на территории Франции. Это были опасные операции, так как вокруг стартовых площадок была расположена сильная зенитная артиллерия. Уже 41 бомбардировщик «митчелл» был сбит во время этих налетов и более 400 повреждены.
Несмотря на свою раненую голову, Хемингуэй добился разрешения участвовать в таком вылете.
В это утро, рассказывал впоследствии Хемингуэй, собираясь ехать на аэродром, он обнаружил, что пропал его талисман — красный камешек, который дал ему Бэмби. Горничная в отеле отдавала его брюки в чистку, он забыл вынуть камешек, и тот потерялся. Машина уже ждала его у подъезда, а он при мысли, что ему предстоит лететь над Германией без талисмана, даже вспотел. И тогда он попросил горничную: «Дайте мне что-нибудь на счастье — все, что угодно, и пожелайте мне удачи, и все будет в порядке». А у нее в карманах ничего не оказалось, тогда она подняла пробку от бутылки из-под шампанского, выпитого накануне вечером, и дала ему. Он много лет потом носил эту пробку в кармане и считал ее отличным талисманом. Надо ведь еще, говорил он, чтобы талисман помещался в кармане. Чарльз Скрибнер однажды принес ему подкову, и Хемингуэй сказал: «Это очень хороший, аккуратный талисман, Чарли, но зачем ты разул лошадь?»
Он вылетел с аэродрома в Дансфорде на бомбардировщике «митчелл» с командиром звена Алланом Линном. Вскоре они оказались над целью. «Любой новичок, — писал Хемингуэй, — с легкостью определит местоположение этих баз по количеству валяющихся вокруг них «Митчеллов», а также по тому, что, когда к ним приближаешься, рядом с твоей машиной появляются большие черные кольца дыма. Эти черные кольца дыма называются флак, или зенитный огонь. И этот самый флак породил всем известную формулу умолчания — «два наших самолета на базу не вернулись».
Хемингуэй наблюдал за летевшим рядом «митчеллом» и видел, как, «пока рядом возникали кольца дыма, брюхо машины раскрылось, с силой оттолкнуло воздух — прямо как в кино, — и из нее косо выпали все бомбы, точно она в спешке разродилась восемью длинными металлическими котятами». После этого самолеты легли на обратный курс.
Эрнест был даже несколько разочарован тем, как быстро все произошло. «Вот это и есть бомбежка, — писал он. — В отличие от многих других случаев жизни приятнее всего бывает после. Пожалуй, это немного напоминает пребывание в университете. Главное не то, много или мало ты выучишь. Главное — каких чудесных людей узнаешь».
После этого полета хирург военно-воздушных сил запретил ему летать в течение десяти дней из-за состояния головы. В эти дни он сел в своем номере писать небольшую поэму для Мэри Уэлш. Шутя он говорил, что хочет доказать ей, что если из-за головных болей не может летать, то его голова достаточно работает, чтобы он мог писать стихи.
Потом Хемингуэй еще несколько раз участвовал в боевых вылетах. Он знал, что этот жизненный материал ему еще пригодится и что он обязательно напишет об этих смелых людях, летчиках, с которыми так подружился.
Между тем в Нормандии союзные войска перешли к активным действиям. Начиналось освобождение Франции. Хемингуэй понимал, что пришло его время. 17 июля он устроил прощальный обед Мэри Уэлш в ресторане «Белая башня», где они впервые встретились, и на следующий день вылетел в Нормандию.
Вначале он был официально прикомандирован к штабу 3-й американской армии, но существование при штабе его не устраивало, дисциплина в 3-й армии была слишком сурова для его свободолюбивой души, там, кроме того, ему не понравился командующий этой армией генерал Паттон, славившийся своей грубостью и жестокостью по отношению к солдатам. Главное же заключалось в том, что Хемингуэй хотел быть в передовых частях, с теми солдатами и офицерами, которые реально, а не на бумаге сражались с гитлеровцами, хотел делить с ними опасности и радости боевой жизни. Поэтому в Нормандии он прибился поначалу к американскому истребительному дивизиону, а потом прикомандировал сам себя к 4-й пехотной дивизии под командованием генерал-майора Бартона, о котором Хемингуэй как-то сказал: «Редкий генерал, он читает книги».
В дни тяжелых наступательных боев, которые вел 22-й пехотный полк, входивший в состав 4-й пехотной дивизии, на командном пункте полка появилось два военных корреспондента, выразивших желание поговорить с командиром полковником Ланхемом. Офицер, докладывавший Ланхему, все перепутал и сказал, что один из прибывших полковник Колльерс из Вашингтона. Ланхем не любил высокопоставленных гостей, тем более из Вашингтона, и к тому же ему вообще было не до разговоров — положение полка было довольно сложным, шли непрерывные бои. Так что встретил посетителей он не слишком радушно.
Когда в маленькой двери появилась огромная фигура гостя, Ланхем спросил его: «Полковник Колльерс?» «Я не полковник, — ответил посетитель, — я корреспондент журнала «Колльерс». Моя фамилия Хемингуэй».
Тут уже полковник Ланхем смягчился — он знал произведения Хемингуэя и любил их. К тому же он сам был немного писателем и поэтом. Он стал знакомить гостей с положением на своем участке и был приятно удивлен военными познаниями Хемингуэя и тем, как легко и точно тот разбирался в боевой ситуации. За обедом Ланхем тщетно пытался поговорить с Хемингуэем о литературе. На данном этапе Хемингуэя интересовала только война.
С этого дня он прикрепил себя к 22-му полку. Мэри Уэлш в Лондон Эрнест писал, что жизнь здесь оказалась на удивление веселой, полно стрельбы и стычек на пыльных дорогах, где горят вражеские танки, автомашины, валяются брошенные немецкие орудия и трупы.
«Главное, — говорил он впоследствии, — заключалось в том, что эта последняя война имела смысл, в то время как первая не имела для меня никакого смысла. К тому же у меня была очень хорошая компания. Я никогда не встречал столько замечательных людей, и впервые у меня была возможность воевать на родном языке».
В уже упоминавшемся письме к К. М. Симонову Хемингуэй писал: «В 4-й дивизии в составе 22-го пехотного полка я старался быть полезным, зная французский язык и страну, и имел возможность работать в авангардных частях маки. Хорошо было с ними, и Вам бы понравилось… Это лето наступления из Нормандии в Германию было лучшим летом в моей жизни, несмотря на войну… Освобождение Франции и особенно Парижа радовало меня, как никогда и ничто в прошлом».
В деревне Виллебадоне Хемингуэй завладел немецким мотоциклом с коляской и несколько поврежденной автомашиной «мерседес-бенц». Узнав об этом, генерал Бартон прикомандировал к Хемингуэю шофера Арчи Пелки, веселого рыжего парня с голубыми глазами. Пелки отремонтировал машину, и теперь Хемингуэй мог, загрузив машину или мотоцикл ручными гранатами и бутылками со спиртным, передвигаться самостоятельно, устремляясь туда, где дрались передовые части.
Около одной деревни Хемингуэй с фотокорреспондентом Бобом Кана и Пелки, который сидел за рулем мотоцикла, напоролся на немецкое противотанковое орудие, прикрывавшее отход немецких частей. Они едва успели выскочить и укрыться в канаве за изгородью. Немцы расстреляли из пулемета мотоцикл, трое незадачливых разведчиков два часа лежали в канаве, слыша, как рядом с ними переговариваются немецкие солдаты. Эрнест потом обвинял Боба Капа, что тот лежал с камерой наготове, чтобы сделать сенсационный снимок трупа писателя Хемингуэя.
По мере продвижения 4-й дивизии от берегов Нормандии на восток «джип» Хемингуэя, предоставленный ему Бартоном, появлялся в самых неожиданных местах далеко впереди наступающих войск. Хемингуэй налаживал контакты с французскими партизанами, собирал оперативную информацию о противнике. Встречавшие его в эти дни вспоминали, какую он представлял колоритную и внушительную фигуру — крупная голова, про которую он, смеясь, говорил, что для нее малы шлемы американской армии, большой шрам на голове, оставшийся после лондонской аварии, великолепная борода, которую он отрастил за годы войны. Французские партизаны были уверены, что он должен быть генералом, но Хемингуэй скромно говорил им, что он только капитан.
Однажды партизан спросил его: «Мой капитан, как случилось, что вы, в вашем возрасте, после, несомненно, долгих лет службы и при явных ранениях до сих пор всего лишь капитан?» Хемингуэй ответил: «Молодой человек, я не могу получить более высокого чина, потому что не обучен грамоте».
Командир 4-й дивизии генерал-майор Бартон говорил корреспондентам: «У меня на карте всегда воткнута булавка, означающая местопребывание старины Эрни Хемингуэя». Когда дивизия вышла к Сене выше Парижа, она попала в сложное положение — на обоих флангах у нее оказались немецкие войска. В этих обстоятельствах Бартон сообщил своему штабу: «Старина Эрни Хемингуэй находится в 60 милях впереди нас, опередив всю 1-ю армию. Он шлет нам оттуда информацию. И что бы вы думали, он передает? Он сообщает, что если нужно продержаться там, то ему понадобятся танки».
Так началась знаменитая эпопея Хемингуэя в Рамбуйе — городке в 30 милях от Парижа, куда Хемингуэй ворвался 19 августа вслед за американской моторазведкой. Эту историю он частично описал в очерках «Битва за Париж» и «Как мы пришли в Париж».
«Я хорошо знал местность и дороги в районе Эпериона, Рамбуйе, Транна и Версаля, — писал Хемингуэй, — потому что много лет путешествовал по этой части Франции пешком, на велосипеде и в машине. Лучше всего знакомиться с какой-нибудь местностью, путешествуя на велосипеде, потому что в гору пыхтишь, а под гору можно ехать на свободном ходу. Вот так и запоминаешь весь рельеф, а из машины успеваешь заметить только какую-нибудь высокую гору, и подробности ускользают — не то что на велосипеде».
Неожиданно части моторазведки получили приказ отойти, и Рамбуйе остался совершенно беззащитным перед угрозой немецких танков, которые все время совершали рейды в этом районе.
Городок притих — жители понимали, что после радостной встречи, которую они устроили американским войскам, немцы, вернувшись в Рамбуйе, расстреляют массу народа. «Всю ночь шел дождь, — писал Хемингуэй, — и часть этой ночи, между двумя и шестью часами, была, кажется, самой тоскливой в моей жизни. Не знаю, поймете ли вы, что это значит — только что впереди у вас были свои части, а потом их отвели, и у вас на руках остался город, большой, красивый город, совершенно непострадавший и полный хороших людей. В книжке, которую раздали корреспондентам в качестве руководства по военному делу, не было ничего применимого к такой ситуации; поэтому было решено по возможности прикрыть город, а если немцы, обнаружив отход американских частей, пожелают войти с ними в соприкосновение, в этом желании им не отказывать. В таком духе мы и действовали».
Полковник американской военной разведки Дэвид Брюс, находившийся в Рамбуйе в эти дни и деливший с Хемингуэем ответственность за город, в частном письме описывал следующую картину: «Спальня Эрнеста в отеле «Гран Венер» была нервным центром всех операций. Сидя там с засученными рукавами, он беседовал с разведчиками, приходившими со сведениями, с беженцами из Парижа, с дезертирами из немецкой армии, с местными деятелями и вообще со всеми, кто приходил к нему. Свирепого вида француз с автоматом стоял на страже у двери. А за нею Эрнест, похожий на веселого черноволосого Бахуса, творил высокое, среднее и малое правосудие на английском, французском и ломаном немецком языках».
К нему привели двух красоток, которых обвиняли в том, что они путались с немцами. Вместо того чтобы обрить им головы, как того требовали арестовавшие, он прочел им суровую лекцию о морали и отправил на кухню мыть посуду. Поляка-дезертира из немецкой армии Хемингуэй подробнейшим образом допросил и потом поставил чистить картошку. Пленный сержант-австриец мыл «джип».
Во время пребывания в Рамбуйе Хемингуэй считал своей главной задачей составить четкое представление о немецкой обороне южнее Парижа. Он выслал вооруженные патрули из числа французских партизан, которые прощупывали немецкие оборонительные линии, и добровольцев в штатском на велосипедах с заданием проникнуть за линию немецкой обороны. Некоторые из них добрались на своих велосипедах до самого Парижа и вернулись к Хемингуэю со схемами немецких укреплений. В этой деятельности Хемингуэю помогал один из крупных деятелей движения Сопротивления, Мутар.
Вскоре в районе Рамбуйе появился генерал Леклерк, командующий французской дивизией, избранной для освобождения Парижа. Хемингуэй вместе с полковником Брюсом и Мутаром поспешили явиться к генералу, чтобы доложить ему собранные ими разведывательные данные. Но Леклерк, как выяснилось, не любил американских корреспондентов и французских партизан.
«Вместе с одним из крупных командиров Сопротивления и с полковником Б., — писал Хемингуэй в очерке «Как мы пришли в Париж», — мы не без торжественности приблизились к генералу. Его приветствие — абсолютно непечатное — будет звучать у меня в ушах, пока я жив.
— Катитесь отсюда, такие-растакие, — вот что произнес доблестный генерал тихо, почти шепотом, после чего полковник Б., король Сопротивления и ваш референт по бронетанковым операциям удалились.
Позже начальник разведки дивизии пригласил нас на обед, и уже на следующий день они действовали, опираясь на данные, которые собрал для них полковник Б. Но для вашего корреспондента описанная встреча была кульминационной точкой наступления на Париж». О своей роли в сборе этих разведывательных данных Хемингуэй в очерке скромно умолчал. Полковник же Брюс говорил впоследствии: «Я считаю, что эта информация имела решающее значение для успешного завершения марша Леклерка на Париж».
Пока дивизия генерала Леклерка преодолевала немецкую оборону около Версаля, Хемингуэй со своим отрядом, насчитывавшим уже около 200 французских партизан, окольными дорогами приблизился к Парижу.
Он ехал на «джипе» со своим шофером Арчи Пелки, который болтал без умолку, расхваливая французских партизан.
«— Они хорошие ребята, — говорил Арчи. — В такой хорошей части я никогда еще не служил. Дисциплины никакой. Это точно. Пьют без передыху. Это точно. Но ребята боевые. Убьют, не убьют — им наплевать.
— Да, — сказал я. Больше я в ту минуту ничего не мог сказать: в горле у меня запершило, и пришлось протереть очки, потому что впереди нас, жемчужно-серый и, как всегда, прекрасный, раскинулся город, который я люблю больше всех городов в мире».
Здесь уже он знал, что делать и куда двигаться.
В Париже к этому дню уже произошло народное восстание, возглавленное коммунистами. Улицы были заполнены ликующими толпами, хотя еще шла стрельба, немецкие танки еще пытались патрулировать некоторые районы города, немецкие снайперы, засевшие на крышах, то и дело открывали огонь. Но Париж был уже свободен — из всех окон свешивались французские флаги, люди обнимались, звучала «Марсельеза», «джипы», на которых продвигалась группа Хемингуэя, на каждом углу останавливали, их обнимали, поили вином, коньяком, шампанским.
Хемингуэй помнил, что в Париже у него есть друзья, которых надо проведать. Сильвия Бич рассказывала в своей книге воспоминаний, как она с ее подругой Адриенной прятались в доме, опасаясь немецких автоматчиков, расположившихся на крышах и стрелявших по мирным жителям. Они сидели и дрожали от страха, как вдруг «услышали скрип тормозов остановившегося «джипа» и крик: «Сильвия!» Все на улице тоже принялись кричать: «Сильвия!» Адриенна вскрикнула: «Это Хемингуэй! Это Хемингуэй!» Мы бросились вниз по лестнице. Хемингуэй подхватил меня, покружил вокруг себя и расцеловал, а толпа на улице и в окнах шумно приветствовала нас. Мы завели Хемингуэя в квартиру Адриенны. Он был в форме, перепачканной кровью. Автомат он бросил на пол. Он попросил у Адриенны кусочек мыла, и она отдала последний.
Хемингуэй спросил нас, что он может для нас сделать. Мы попросили его убрать снайперов, стрелявших на нашей улице с крыш. Он вызвал из «джипов» свою команду и повел их на крыши. В последний раз на улице Одеон мы услышали стрельбу. Хемингуэй и его люди спустились с крыш и опять расселись в «джипах», чтобы, как объяснил нам Хемингуэй, «освобождать погреба отеля «Ритц».
Так он и сделал. Когда танки генерала Леклерка еще находились на южном берегу Сены, Хемингуэй со своими боевыми товарищами уже дрался с немцами у Триумфальной арки. Вечером этого дня иностранные корреспонденты, сопровождавшие Леклерка, появились в Париже. Фотокорреспондент Роберт Капа очутился около отеля «Ритц» и узнал в солдате, охранявшем вход в отель, шофера Хемингуэя Пелки. Тот кратко доложил Роберту: «Папа захватил хороший отель. Много всего в погребах. Идите быстрее наверх».
И сразу же в номер 31 в отеле «Ритц» устремился поток посетителей. Самым желанным гостем оказалась Мэри Уэлш, прилетевшая из Лондона, чтобы написать репортаж о парадном марше дивизии Леклерка по Елисейским полям. В номере у Эрнеста она застала нескольких французских партизан, прошедших с Хемингуэем путь от Рамбуйе до Парижа. Среди них выделялся Жан Декан, который около двух лет сражался в рядах Сопротивления, дважды попадал в гестапо, его пытали. Он безуспешно пытался вступить теперь во французскую армию, и дело кончилось тем, что он остался при Хемингуэе чем-то вроде его телохранителя.
В один из этих дней в номере у Хемингуэя появился в форме полковника Андре Мальро, и между ними произошёл примечательный разговор:
— Сколько людей было у тебя под командой, Эрнест? — спросил Мальро.
— Десять или двенадцать, — скромно ответил Хемингуэй. — Максимум было две сотни.
— А у меня под началом было две тысячи, — с удовлетворением сказал Мальро.
— Как жаль, — заметил Эрнест, — что твои войска не помогали нам, когда мы освобождали этот городишко Париж.
Тут один из партизан Эрнеста вызвал его в ванную и шепотом спросил:
— Папа, не пристрелить ли этого прохвоста?
Хемингуэй успокоил своего соратника, объяснив, что этого человека не следует убивать, а надо предложить ему выпить, и дело обойдется без кровопролития.
Так прошло несколько дней, когда Хемингуэй получил записку от полковника Ланхема, который сообщал ему, что полк ведет тяжелые бои под Ландреси и все жалеют, что его нет с ними.
На следующее же утро Хемингуэй с Жаном Деканом, вооружившись до зубов, помчались на «джипе» на север. По дороге они попали в перестрелку с немецким противотанковым орудием, но все-таки добрались невредимыми до штаба Ланхема. Однако бои здесь уже утихли, и Хемингуэй поспешил обратно в Париж в отель «Ритц», где его ждала Мэри.
Они были счастливы оказаться опять вместе. Они побывали на старой квартире Мэри, где она жила до прихода немцев в Париж, посидели на набережной острова Сен-Луи, где двадцать лет назад Эрнест правил гранки «трансатлантик ревью». Мэри вспоминала, что, как ей кажется, они почти ничего не ели, «поддерживая свои силы шампанским и радостным изумлением от того, что они опять вместе».
Эта передышка между боями оказалась недолгой. 7 сентября Хемингуэй с Рыжим Пелки, Жаном Деканом, еще несколькими французскими партизанами и иностранными корреспондентами выехали на фронт догонять 4-ю дивизию, которая сражалась уже на территории Бельгии.
В полку и в дивизии Хемингуэя встретили с триумфом. Его искренне, по-мужски любили, любили как хорошего человека, причем большинство и не подозревало, что он знаменитый писатель. Однажды двое солдат из другой части после выпивки и беседы с Хемингуэем спросили у караульного:
— Кто этот парень? Он мировой мужик.
Солдат ответил:
— Он большой человек. Я не знаю точно, что он делает, но он по-настоящему большой человек.
«Нет никакого сомнения, — писал полковник Ланхем, — что Эрни был самым любимым человеком из всех, кто приезжал в 22-й полк». Корреспондент Кеннет Крайфорд вспоминал: «Хемингуэй был человек, которого хорошо иметь рядом во время войны. Он видел много войн в своей жизни, был опытным солдатом и охотно делился своими знаниями. Он мог предугадать, куда примерно попадет снаряд, по звуку его полета, он мог заранее сказать, что будет дальше предпринимать немецкое отделение, притаившееся за изгородью, он мог поговорить о хорошей еде с женой нормандского фермера или о старом кальвадосе с владельцем кафе на перекрестке дорог. Мы никогда не видели, чтобы он делал заметки. Он для этого был слишком поглощен войной. Он был настоящий человек в бою».
На линии Зигфрида 22-й полк вел тяжелые бои. В очерке «Война на линии Зигфрида» Хемингуэй рассказал об этом.
«Линию Зигфрида, — писал он, — прорвала пехота. Прорвала в холодное, дождливое утро, когда даже вороны не летали, не говоря уже о самолетах. За два дня до этого, в последний солнечный день, закончился наш парад бронетанковых войск. Парад был замечательный, от Парижа до Ле-Като, с жестоким сражением у Ландреси, которое мало кто видел и в котором никто не уцелел. Потом форсировали проходы в Арденнском лесу, где местность напоминает иллюстрации к сказкам братьев Гримм, только гораздо сказочнее и мрачнее… Лес остался позади, мы стояли на высокой горе, и все холмы и леса, видневшиеся впереди, были Германией».
Художник Джон Грот, приехавший в это время на линию Зигфрида, рассказал о своей встрече с Хемингуэем. В штабе 4-й дивизии Гроту показали карту, на которой была помечена ферма, находившаяся в 150 ярдах от немецких дотов, причем перед ней никаких американских солдат не было. На карте была пометка: «Специальная группа Хемингуэя».
«Была ночь, шел дождь, — вспоминал Грот. — Когда мы добрались до фермы, шел артиллерийский обстрел. Дверь быстро открылась и торопливо захлопнулась, и мы оказались в ярко, как нам показалось, освещенной комнате, хотя она освещалась одной только керосиновой лампой в углу. Около лампы сидел Хемингуэй, вокруг него солдаты. На столе перед ним лежали гранаты и стоял коньяк.
Ему было неважно, кто я. Я был кто-то в армейской форме. Он не обратил внимания на корреспондентские нашивки — он никогда не обращал внимания на ранги. Он предложил мне коньяк, кюммель, вино. Хемингуэй спросил меня, не тот ли я Грот, который иллюстрировал его рассказы в «Эсквайре» в прошлые годы. Он сказал, что рисунки ему понравились, но война на них не похожа на настоящую, вот завтра он покажет мне, что такое война… «Папа», как называли Хемингуэя солдаты, разрабатывал план обороны на ночь. Он останется бодрствовать всю ночь. Если появятся патрули, он нас разбудит. Если ферму будут атаковать, двое солдат из окон второго этажа откроют перекрестный огонь. Сам же он с остальными будет отстреливаться из окон первого этажа… Утром он показывал мне войну. На «джипе» он повез меня к захваченным вчера дотам. Около одного из них он устроил импровизированный бар, вытащив из «джипа» флягу с коньяком. Проходившие мимо солдаты останавливались около него, чтобы выпить. Они все его знали, но не как писателя. Они знали его как «Папу», который был вместе с ними в течение всего похода через Францию. Он был везде, где были они. Другой рекомендации ему не требовалось».
В октябре Хемингуэя вызвали с фронта в Париж. Там шло следствие по его делу. В то время как многие считали, что Хемингуэя следует наградить орденом за организацию разведки на пути в Париж, нашлись и такие, которые требовали предать его суду военного трибунала за нарушение Женевской конвенции, запрещавшей военным корреспондентам принимать участие в боях. Награждение пришло значительно позже в виде бронзовой медали, а пока что его вызвали для дачи показаний. Дело обошлось, потому что коллеги Хемингуэя — военные корреспонденты — заверили, что никогда не видели его с оружием в руках. В конце концов его уведомили, что следствие «не обнаружило с его стороны нарушения правил, установленных для военных корреспондентов». Он поспешил обратно в свою дивизию, которая готовилась к новым боям. Полковнику Ланхему Хемингуэй сказал: «Когда начнется следующая война, я вытатуирую Женевскую конвенцию у себя на заднице наоборот, чтобы я мог читать ее в зеркале».
В этот вечер они с Ланхемом долго сидели за бутылкой виски, которую привез с собой Хемингуэй, и рассказывали друг другу последние новости. Эрнест с тревогой сказал, что в последних числах октября пропал без вести его сын Бэмби, служивший в американских частях на европейском фронте, сообщил, что Марта потребовала от него развода.
На следующий день началась кровопролитная битва в Хюртгенском лесу, продолжавшаяся восемнадцать дней. 22-й полк потерял за эти дни из 3200 человек убитыми и ранеными 2600. Четверо батальонных командиров были выведены из строя в течение 36 часов. Хемингуэй оставался с полком до конца этой битвы, разделяя со своими товарищами все опасности. Один из батальонных командиров, Свед Хенли, вспоминал: «Он проводил со мной несколько дней на моем командном посту на передовой линии под дождем и снегом. Он всегда оказывался в самой гуще боя, подмечая все, о чем можно будет написать. С собою он носил обычно две фляги — одну со шнапсом и другую с коньяком, и всегда предлагал всем выпить».
22 ноября немецкий взвод, засевший в бункере ярдах в ста от штаба Ланхема, неожиданно бросился в атаку на штаб. Сразу же упал комендант штаба капитан Митчелл. Хемингуэй, не растерявшись, открыл огонь из ручного пулемета, а Жан Декан пытался вытащить из-под огня Митчелла, но тот уже был мертв. Атака немцев была быстро ликвидирована, и оставшиеся в живых немцы были захвачены в плен. В другой раз Хемингуэю пришлось участвовать в тяжелом бою, когда полк вышел в долину около Кельна.
3 декабря сильно потрепанный 22-й полк отвели на отдых, и Эрнест, распростившись со своими боевыми друзьями, направился в Париж. Здесь он свалился с жестокой простудой, но, узнав о серьезном контрнаступлении войск Рундштедта, опять выехал на фронт в 4-ю дивизию. Это была последняя битва, в которой он принимал участие. В начале января 1945 года Эрнест вновь водворился в парижском отеле «Ритц». Здесь он узнал, что его сын Бэмби парашютировался в немецком тылу с боевым заданием, был захвачен в плен немцами и теперь находится в немецком лагере для военнопленных.
В Париже Хемингуэй гостеприимно принимал всех приезжавших в отпуск ветеранов 22-го полка. Он с гордостью знакомил их с Мэри Уэлш и со своей старой приятельницей Марлен Дитрих.
Война заканчивалась, и Хемингуэй все чаще стал подумывать о возвращении на Кубу, о том, что пора опять садиться за письменный стол. Три года он ничего не писал, если не считать шести военных очерков, посланных им для «Колльерса». Надо было приниматься за дело и к тому же налаживать новую семью с Мэри Уэлш.
6 марта Хемингуэй вылетел на американском военном бомбардировщике в Нью-Йорк. Во время остановки в Лондоне он встретился с Мартой Гельхорн. Это была их последняя встреча.
Улетая из Парижа, Эрнест написал Мэри письмо, в котором заверял, что будет любить ее всегда.
ГЛАВА 23 ВЛАДЕТЕЛЬНЫЙ СЕНЬОР ФИНКА-ВИХИЯ
Чем больше вы пишете, тем более одиноким вы становитесь… Работать вы должны в одиночестве, а времени для работы с каждым днем остается все меньше, и, если вы его тратите попусту, вы понимаете, что совершаете грех, который не может быть прощен.
Э. Хемингуэй, Из письмаЕще недавно в Париже Эрнест убеждал друзей и собутыльников, да и самого себя, что война на исходе, что он свое отвоевал и его долг теперь писать. Но когда он очутился в уютной тишине Финка-Вихия, он почувствовал, как недостает ему войны с ее дразнящим ощущением опасности, с радостями фронтовой дружбы, с жизнью, полной физического действия. Ему было трудно переключиться на мирный быт, на принятый им режим работы.
Проезжая через Нью-Йорк, Эрнест захватил на Кубу своих младших сыновей, Патрика и Грегори, у которых были весенние каникулы. Но каникулы были недолгими, сыновья уехали, и он остался один.
Это были тяжелые дни. Он плохо переживал одиночество, особенно когда не работал. А писать он не мог. Кроме того, он очень плохо себя чувствовал. Мучили головные боли, по ночам, как когда-то после первой войны, приходили кошмары, на этот раз населенные безликими немецкими солдатами, он стал хуже слышать, появилась какая-то замедленность в речи и в мыслях.
Его друг — врач Хосе Эррера приехал в Финка-Вихия, выслушал Эрнеста и пришел в ужас, узнав, что тот после травмы, полученной в Лондоне во время автомобильной катастрофы, пролежал всего четыре дня. Эррера сказал ему также, что кальвадос и плохой джин, который Эрнест потреблял в большом количестве во Франции, тоже не способствовали улучшению деятельности мозга.
Наконец в начале мая приехала Мэри и вступила в права хозяйки Финка-Вихия. Рядом с ней он уже не чувствовал себя одиноким. Эрнест с воодушевлением писал Паку Ланхему, который в марте получил звание генерала, что Мэри полюбила его кошек, любит океан, хорошо плавает и удит рыбу, умеет управляться с «Пилар». Он писал, что она храбрая, добрая, не эгоистка и к тому же очень красиво загорает.
Весной пришло радостное известие, что сын Джон (Бэмби) освобожден из гитлеровского концлагеря, а в июне приехал и сам Джон, очень нуждавшийся в отдыхе и в поправке. Как и его младшие братья, Джон хорошо принял Мэри в качестве мачехи и новой хозяйки Финка-Вихия.
Жизнь как будто начала налаживаться, но катастрофы словно преследовали Хемингуэя. 20 июня он отвозил Мэри на аэродром, откуда она должна была лететь к своим родителям в Чикаго, шоссе было мокрое, Эрнест потерял управление, и машина врезалась в дерево. Он разбил лоб о ветровое стекло, сломал несколько ребер о руль и повредил ногу. У Мэри оказалась рассечена щека. Она потом вспоминала, как Эрнест, несмотря на боль в груди и поврежденную ногу, отнес ее на руках в ближайший пункт медицинской помощи.
Родители Мэри примирились с тем, что их дочь разошлась с первым мужем и выходит замуж за писателя с сомнительной репутацией. Ее отец прислал Хемингуэю в качестве первого подарка три книги религиозного содержания. Эрнест в ответ изложил в письме свое отношение к религии, желая с самого начала внести ясность в отношения с новыми родственниками.
Он писал, что в 1918 году, после своего первого ранения, он был очень напуган, боялся смерти и на этой почве стал молиться о спасении своей жизни. Его отношение к религии резко изменилось во время испанской войны, когда церковь встала на сторону фашизма. В последнюю войну он уже никогда не молился, хотя попадал в довольно тяжелые переделки. Он выработал свой собственный символ веры, подобный тому, который исповедовал его герой Роберт Джордан, — веры в «жизнь, свободу и поиски счастья».
Через некоторое время он объяснил Мэри, как ему хотелось бы жить. Они должны, говорил он, выработать свои собственные правила поведения, основанные на взаимном доверии. Они должны быть внимательны друг к другу, относиться с пониманием, должны сражаться за то, что считают справедливым, вырастить хороших детей, которые будут следовать их примеру, должны писать книги, которые будут всегда доставлять людям радость, стараться сделать мир лучше, чем он был, и, наконец, быть счастливыми.
В конце августа Мэри улетела в Чикаго, чтобы закончить свои дела с разводом. Эрнест отказался сопровождать ее главным образом потому, что не хотел встречаться со своей матерью. Опять потянулись дни одиночества. Война, воспоминания о ней не отпускали Хемингуэя. Переписывался он в это время большей частью со своими фронтовыми друзьями, вспоминал в письмах о боевых операциях.
К нему приехал погостить генерал Ланхем с женой, и опять они по вечерам после рыбной ловли и купанья вспоминали своих товарищей по 22-му полку. Хемингуэй много рассказывал о своем детстве, о всей своей жизни. Он с неприязнью говорил о матери, как о властной женщине, которая довела отца до самоубийства. Зашел разговор и о его бывших женах. Из них всех он наиболее критически отзывался о Марте Гельхорн. Про Полину он говорил, что она украла его у Хэдли, которая была ему добрым другом, и рассказывал, что, когда Полина стала упрекать его за увлечение Мартой, он напомнил ей, что «поднявший меч от меча и погибнет». Он утверждал, что сам виноват в разводах со всеми женами, кроме развода с Мартой.
Большое место в их разговорах занимали вопросы международного положения, состояния мира после второй мировой войны, проблемы взаимоотношений с Советским Союзом. Это было время, когда в Соединенных Штатах и в Англии стали открыто говорить о том, что врагом номер один является теперь Советский Союз, когда появились первые симптомы «холодной войны». Судя по воспоминаниям Ланхема, Хемингуэй категорически не разделял этих взглядов. Жена Ланхема даже обвинила его в примиренчестве.
Свои взгляды на послевоенное устройство мира Хемингуэй изложил в заказанном ему предисловии к антологии «Сокровища Свободного мира». «Теперь, — писал он, — когда война кончилась и мертвые мертвы, для нас настало еще более трудное время, когда долг человека понять мир. В мирное время обязанность человечества заключается в том, чтобы найти возможность для всех людей жить на земле вместе». Хемингуэй писал, что Соединенные Штаты вышли из войны самой сильной державой мира, но важно, чтобы они не стали самой ненавистной. Имея в виду взрывы атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки и варварские бомбардировки немецких городов, он напоминал, что американские вооруженные силы «уничтожили больше гражданского населения в других странах, чем наши враги в своих чудовищных злодеяниях, которые мы так осуждаем». Он писал о том, что атомная бомба — это та праща с камнем, которая может уничтожить всех гигантов, включая и Соединенные Штаты. Он предостерегал от опасности распространения фашистской идеологии в Америке и призывал уважать «права, привилегии и обязанности всех стран».
Жизнь напоминала ему о том, что фашизм отнюдь не искоренен и в других странах. Перед рождеством он получил письмо от своего бывшего боевого товарища и телохранителя Жана Декана, который сообщал, что его посадили в тюрьму по ложному обвинению в сотрудничестве с немцами. Декан был уверен, что это происки фашиствующих элементов в правящих кругах Франции. Он просил Хемингуэя помочь ему.
Эрнест пришел в ярость. Всякая несправедливость претила ему. Он тут же написал письмо, подтверждая участие Декана в боевых действиях партизан в период битвы за освобождение Парижа и в последующих сражениях, и попросил генерала Ланхема сделать то же самое.
В декабре 1945 года Эрнест получил развод от Марты Гельхорн, и в марте 1946 года он оформил свой брак с Мэри.
Все это время в Финка-Вихия шла светская жизнь, беспрерывно приезжали гости, устраивалась охота на морскую рыбу, веселые вечеринки в баре «Флоридита», состязания в стрельбе по голубям, матчи бокса. Хемингуэя угнетало одно — он не мог вернуться к работе. Он говорил, что, видимо, его способность придумывать и писать сильно пострадала от всех полученных им ранений.
Наконец весной 1946 года Хемингуэй сел писать новый роман под условным названием «Эдем». Получалось несколько странное произведение, в котором перемежалось прошлое и настоящее, воспоминания о его жизни с Хэдли и с Полиной переплетались с его сегодняшней жизнью.
Один из героев романа, Дэвид Боурн, автор нашумевшей книги, жил со своей женой в приморской деревушке во Франции в устье Роны, как раз там, где Эрнест с Полиной проводили в 1927 году свой медовый месяц. Другой герой, художник Ник Шелдон, с женой Барбарой, у которой, как и у Хэдли, были густые золотые волосы, жил в Латинском квартале, причем описание их квартиры полностью воспроизводило первую парижскую квартиру Эрнеста и Хэдли на улице Кардинала Лемуана.
Судя по всему, сюжет романа был неясен самому Хемингуэю. Об этом он рассказывал Ланхему, говоря, что совершенно не знает, что последует дальше, и изобретает каждую минуту. Написав уже около тысячи рукописных страниц романа, он ощутил потребность, как говорил Ланхему, написать о своих друзьях по 22-му пехотному полку. Вообще, говорил он, в течение 1944 года он накопил такой обильный материал, что весь остаток своей жизни мог бы писать о 22-м полку, о 4-й дивизии, об английском военно-воздушном флоте.
В разгар этой работы, в июне 1946 года, он получил от советского писателя Константина Симонова, находившегося тогда в США, переведенный на английский язык роман «Дни и ночи» и ответил ему большим письмом, в котором воздавал должное боевому подвигу советского народа. О себе Хемингуэй писал: «В эту войну у меня сильно пострадала голова (три раза), и меня мучили головные боли. Но в конце концов я снова взялся за перо, и дело пошло, но только и после 800 страниц рукописи романа я все еще не добрался до войны. Но если со мной ничего не случится, он захватит и войну. Надеюсь, он мне удастся… я пишу с таким усердием и почти без перерыва, что недели, месяцы проносятся так быстро, что не успеешь оглянуться, как умрешь».
В июле выяснилось, что Мэри забеременела, Эрнест решил увезти ее в Сан-Вэлли и пригласил туда своих сыновей. Сам он вместе с Мэри на машине отправился туда в начале августа, но по дороге, в городке Каспер в штате Вайоминг, путешествие пришлось прервать. Беременность Мэри оказалась внематочной, и ее пришлось срочно уложить в местную больницу.
Главного хирурга больницы не оказалось на месте, а Мэри умирала, у нее уже пропал пульс, она потеряла сознание, и молодой врач, снимая резиновые перчатки, предложил Хемингуэю проститься с женой. Все это слишком напоминало сцену смерти Кэтрин из романа «Прощай, оружие!». С этим смириться Хемингуэй не мог. Он натянул на себя халат и маску, влетел в палату, заставил врача сделать вливание плазмы в вену и оставался у постели Мэри, пока не появился пульс и не восстановилось дыхание — до приезда главного хирурга. Всю неделю он провел у ее постели, следя за тем, как ей переливали кровь, давали кислородные подушки. Так он доказал, что «судьбу можно изнасиловать», а не смиряться с ней. После этой истории Мэри говорила, что Эрнест «человек, которого хорошо иметь рядом во время несчастья».
Только в сентябре он смог привезти ее в Сан-Вэлли. Здесь, как всегда, он наслаждался чистым воздухом, прекрасной охотой, общением с друзьями, которые приезжали сюда навестить их.
Потом они провели три недели в Нью-Йорке, встретились с Баком Ланхемом и охотились вместе с ним в частном имении. Оттуда они вернулись на Кубу, и опять потекли дни, заполненные работой, купаньем, рыбной ловлей.
В июне 1947 года в американском посольстве в Гаване Хемингуэю вручили бронзовую медаль за его военную службу. Но радость по этому поводу была омрачена тяжелым известием — умер Макс Перкинс. В письме Чарльзу Скрибнеру Хемингуэй писал, что Макс был его самым лучшим и самым верным другом и самым мудрым советчиком как в жизненных вопросах, так и в литературных. Он был также, писал Хемингуэй, «великий редактор».
Этот год оказался очень тяжелым. После смерти Перкинса погибла в автомобильной катастрофе давняя приятельница Эрнеста еще по Чикаго Кэт Смит, жена Дос Пассоса. Потом одно за другим пришли известия о смерти двух его друзей по испанской войне — умер генерал Ганс Кале, в Польше был убит генерал Кароль Сверчевский.
Сам Хемингуэй чувствовал себя очень плохо, выяснилось, что у него сильно повышено кровяное давление, вызывавшее постоянный шум в ушах. Он уехал в Сан-Вэлли, надеясь, что тамошний воздух и охота помогут ему справиться с болезнью. Мэри оставалась в Финка-Вихия, где она затеяла строительство башни, в которой, как она предполагала, Эрнест сможет спокойно работать и ему никто не будет мешать. Потом она присоединилась к нему в Сан-Вэлли.
Новый, 1948 год они встречали в Сан-Вэлли в большой и шумной компании. Под влиянием всех смертей, которые случились в прошлом году, Хемингуэй был настроен весьма мрачно. Ингрид Бергман он сказал: «Дочка, этот год будет худшим из худших».
Вернувшись на Кубу, Эрнест и Мэри привезли с собой из Сан-Вэлли черного спаниеля, который получил кличку Черный пес и стал верным другом Эрнеста.
В феврале этого года к ним в Финка-Вихия приехал старый друг Малкольм Каули, которому журнал «Лайф» поручил написать литературный портрет Хемингуэя. Для того чтобы Каули мог подробно и объективно написать о его приключениях в Европе во время войны, Эрнест отправил его с рекомендательным письмом к Баку Ланхему, попросив того рассказать об участии Хемингуэя в боевых действиях.
Другую большую биографическую статью о нем в это время писала для «Нью-йоркера» журналистка Лилиан Росс, с которой он переписывался по этому поводу, уточняя многие детали своей жизни.
В этот год он смог на деле подтвердить свое убеждение, которое высказывал раньше, о том, что писатель не должен становиться членом каких-либо академий: он отказался от предложения быть избранным в члены Американской академии литературы и искусства.
Тогда же он написал предисловие к новому, на этот раз иллюстрированному, изданию романа «Прощай, оружие!». В этом предисловии он еще раз открыто выступил как активный противник войны и тех, кто замышляет войны.
Он вспоминал в этом предисловии многих друзей, умерших за последние годы, — Скотта Фицджеральда, Тома Вулфа, Джойса, «чудесного товарища, непохожего на официального Джойса, выдуманного биографами», Джона Бишопа, Макса Перкинса. Не забыл он помянуть с презрением Муссолини и гитлеровских главарей, развязавших эту войну: «Умерли и многие из тех, кому следовало умереть: одни повисли кверху ногами у какой-нибудь бензоколонки в Милане, других повесили, худо ли, хорошо ли, в разбомбленных немецких городах».
В ясных и недвусмысленных выражениях Хемингуэй объяснил, почему «писатель не может оставаться равнодушным к тому непрекращающемуся наглому, смертоубийственному, грязному преступлению, которое представляет собой война».
«Я принимал участие во многих войнах, — писал он, — поэтому я, конечно, пристрастен в этом вопросе, надеюсь, даже очень пристрастен. Но автор этой книги пришел к сознательному убеждению, что те, кто сражается на войне, — самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь; зато те, кто затевает, разжигает и ведет войну, — свиньи, думающие только об экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться.
Автор этой книги с радостью взял бы на себя миссию организовать такой расстрел, если бы те, кто пойдет воевать, официально поручили ему это».
В 1948 году, когда в Соединенных Штатах всячески разжигалась военная истерия, когда империалистические круги откровенно говорили о необходимости войны против Советского Союза и других социалистических стран, такое заявление было смелым и открытым вызовом всем поджигателям войны.
ГЛАВА 24 ВЕНЕЦИЯ
…город казался ему таким же прекрасным и волновал ничуть не меньше, чем тогда, когда ему было восемнадцать и он увидел его впервые, ничего в нем не понял и только почувствовал, как это красиво.
Э. Хемингуэй, За рекой, в тени деревьев21 июля 1948 года Хемингуэю исполнилось 49 лет. Этот день они с Мэри встретили в открытом море на борту «Пилар», специально приурочив к этой дате очередную рыболовную экспедицию.
Хемингуэй много говорил о том, что впереди уже пятидесятилетие, его тянуло к воспоминаниям о днях своей юности, хотелось побывать в памятных ему местах, вспомнить события тридцатилетней давности. Он хотел съездить в Италию и вновь увидеть все те места, где он бывал в молодости.
В сентябре они с Мэри выехали на небольшом пароходе из Гаваны в Геную, откуда он тридцать лет назад уезжал после тяжелого ранения домой. Из Генуи Эрнест повез Мэри в машине по Северной Италии. Из Стрезы они проехали через Комо и Бергамо в Кортина д'Ампеццо. В последний раз Хемингуэй был здесь с Хэдли в 1923 году. С тех пор тут многое изменилось, деревушка разрослась, но розовато-красные очертания гор остались прежними. Эрнест и Мэри познакомились здесь с графом Федерико Кехлером и его женой Марией-Луизой. С графом Федерико Эрнест ловил форель в речке.
В конце октября они уехали из Кортина д'Ампеццо в Венецию и поселились в отеле «Гритти-палас», расположенном в старинном дворце у канала.
Отсюда, из Венеции, Хемингуэй совершил путешествие в Фоссальту и дальше, к тому месту, где был когда-то ранен. Окопы первой мировой войны давно заросли травой и сровнялись с землей. Земля залечивала свои раны легче и лучше, чем люди.
Хемингуэй определил примерное место, где был ранен, приняв небольшую яму за след воронки, оставшейся от взрыва мины, и хотел проделать там ту процедуру, которую впоследствии проделает герой его романа «За рекой, в тени деревьев» полковник Кантуэлл, но постеснялся людей и ограничился только тем, что зарыл в этой яме банкнот в тысячу лир — сумму, которая полагалась ему за его итальянские ордена. В Венецию он вернулся в тот день, по словам Мэри, «мудрым и ликующим».
Большую часть ноября они с Мэри провели на острове Торчелло, в часе езды от Венеции, где он не уставал любоваться старинной церковью XI века. С ее башни в бинокль можно было видеть Фоссальту. На Торчелло он обычно по утрам работал, а с середины дня охотился на уток. Там им был написан для журнала «Холидей» очерк о Гольфстриме «Великая голубая река».
На зиму они вернулись в Кортина д'Ампеццо и сняли там дом на самой окраине. Неподалеку жил брат Федерико Кехлера, граф Карло Кехлер. Вместе с ним они часто устраивали охоту на куропаток.
Однажды они отправились в частный заповедник барона Франчетти и по дороге должны были захватить одну знакомую графа Карло. Когда она села в машину, Хемингуэй в сумерках не разглядел ее.
Весь день шел дождь, все они вымокли до нитки и с удовольствием после охоты собрались в охотничьем домике у огня, чтобы отдохнуть и согреться глотком виски. Хемингуэй заглянул на кухню и застал там девушку, которую мельком видел утром. Она сидела у огня и пыталась длинными пальцами расчесать свои блестящие темные волосы, падавшие на плечи. Девушка словно сошла с картины какого-нибудь старинного мастера — высокая, длинноногая, с бледной и очень смуглой кожей и профилем, от которого щемило сердце.
Звали ее Адриана Иванчич, ей было тогда девятнадцать лет, и происходила она из старинного далматинского рода.
Адриана впервые попала на охоту, устала, и, кроме того, когда она стреляла, гильза попала ей в лоб. Увидев, как она пытается привести в порядок свои волосы, Хемингуэй вытащил из кармана костяной гребень, разломал его пополам и половину отдал Адриане.
Все увлеченно говорили о сегодняшней охоте. Хемингуэй стал рассказывать об Африке, об Испании, о Кубе. Он был великолепным рассказчиком и быстро завладел вниманием всех собравшихся. Но рассказывал он для нее.
Потом он пригласил Адриану позавтракать с ним и с Мэри. Она принесла с собой альбом своих рисунков, и Эрнест вписал в этот альбом свой автограф.
В конце этого 1948 года Хемингуэй впервые упомянул в письме Чарльзу Скрибнеру, что работает над романом о море, земле и воздухе. Он писал, что работает над частью, посвященной морю, и что это самая трудная часть, потому что она охватывает период с 1933 по 1944 год. Он объяснял Скрибнеру, что работа идет медленно по двум причинам. Во-первых, его мучит постоянный звон в ушах, из-за чего он уже в течение пятнадцати месяцев вынужден каждые четыре часа принимать лекарство. А во-вторых, на этот раз он хочет написать так хорошо, как не писал еще никогда в своей жизни.
Однако злой рок как будто преследовал Эрнеста и Мэри: катаясь на лыжах, Мэри сломала ногу, а Эрнест долго лежал с простудой. И в довершение всех бед в марте во время охоты на уток кусочек пыжа попал ему в глаз. Доктора в Кортина д'Ампеццо боялись, что в глаз занесена инфекция, Хемингуэю пришлось отправиться в Падую и лечь там в больницу.
В письме Чарльзу Скрибнеру Эрнест писал: «Я не буду допускать к себе фотографов или репортеров, потому что я слишком устал — я веду свою борьбу — и еще потому, что все мое лицо покрыто коркой, как после ожога. У меня стрептококковое заражение, страфилококковое заражение (вероятно, я пишу это слово с ошибками), плюс рожистое воспаление, в меня вогнали тринадцать с половиной миллионов кубиков пенициллина и еще три с половиной миллиона, когда начался рецидив. Доктора в Кортина думали, что инфекция может перейти в мозг и привести к менингиту, поскольку левый глаз был поражен целиком и совершенно закрылся, так что, когда я открывал его с помощью борной, большая часть ресниц вылезала. Такое заражение могло произойти от пыли на плохих дорогах, а также от обрывков пыжа.
До сих пор не могу бриться. Дважды пытался, но кожа сдирается, как почтовая марка. Поэтому стригусь ножницами раз в неделю. Физиономия при этом выглядит небритой, но не настолько, как если бы я отпускал бороду. Все вышеизложенное истинная правда, и вы можете рассказывать это кому угодно, включая прессу».
На Хемингуэя, часто думавшего о смерти, этот случай произвел очень тягостное впечатление. Ему вновь стало казаться, что смерть настигнет его в ближайшем будущем и он не успеет написать всего, что задумал. Под влиянием этих мрачных мыслей он оставил работу над задуманным большим романом о войне на суше, на море и в воздухе и принялся за рассказ об охоте на уток в лагуне Венеции. И вдруг, как это бывало с ним не раз, когда он начинал писать рассказ, творческое воображение, получив толчок, заработало, ощущения, вызванные недавним посещением тех мест, где он когда-то воевал, вспыхнули особенно ярко, и он понял, что рассказ об охоте на уток вырастает в роман о Венеции.
Выйдя из больницы, он вернулся в Венецию, и опять они поселились в отеле «Гритти», где он успел подружиться с метрдотелем Ренато Корради, выпивали в баре «Гарри», обедали с Адрианой Иванчич и ее братом Джанфранко.
Эта девятнадцатилетняя девушка, занимавшаяся рисованием и писанием стихов, притягивала его к себе, ему было приятно бывать с ней, ее молодость и красота радовали его. Очень скоро он начал называть ее «Дочка».
Адриана Иванчич впоследствии, уже после смерти Хемингуэя, вспоминала: «Сначала я немного скучала в обществе этого пожилого и так много видевшего человека, который говорил медленно, растягивая слова, так что мне не всегда удавалось понять его. Но я чувствовала, что ему приятно бывать со мною и разговаривать, разговаривать.
При моем появлении он начинал сразу же смущенно улыбаться и переваливаться с ноги на ногу, как большой медведь. Он не очень любил знакомиться с новыми людьми, но моих молодых друзей встречал радушно. Ему нравилось рассказывать нам об охоте и о войне. Юмористические детали в его рассказах вызывали у нас смех, он тоже начинал смеяться с нами громче всех. Постепенно большой медведь с чуть усталой улыбкой преображался, молодел в нашем обществе. Часто он приглашал нас в Торчелло, назначал свидание за столиком кафе или на террасе «Гритти». Иногда мы с ним гуляли вдвоем по улочкам Венеции».
В начале этой дружбы Мэри была несколько обеспокоена, не зная, во что она может вылиться. Позднее она призналась в этом Адриане, когда убедилась, что чувство, испытываемое Папой к этой девушке, гораздо сложнее и глубже и ничем не грозит ее семейной жизни. Более того, Мэри сказала Адриане, что ее дружба полезна Эрнесту. По молодости своей Адриана не могла понять, в чем она может быть полезна этому пожилому человеку с мировой славой. А он потом писал ей в письмах, что бесконечно благодарен ей, что она, сама того не зная, помогла ему создать роман, героине которого он дал ее лицо.
Однажды, когда Эрнест и Мэри были на завтраке в доме у Иванчичей, Адриана, зная, что он пишет роман о Венеции, но ничего не зная о содержании этого романа, шутя сказала ему, что у нее есть для него сюрприз — рисунки для обложки его романа. Хемингуэй посмотрел их и попросил разрешения взять с собой. «Для чего?» — спросила она. «А это уже будет мой сюрприз», — ответил Хемингуэй и забрал рисунки.
В конце апреля Хемингуэй и Мэри отплыли из Генуи в Гавану.
Он увозил с собой только начало нового романа, по существу, ту первую главу, в которой описывалась охота на уток, но в голове его уже вырисовывались контуры будущего повествования. Дружба с Адрианой действительно помогла ему найти стержень романа.
Он уже знал, что героем романа будет пожилой человек, которому за пятьдесят, профессиональный военный, прошедший через все войны, через которые прошел сам Хемингуэй. Во время работы над романом Хемингуэй писал из Финка-Вихия Баку Ланхему, что его герой, полковник американской армии Кантуэлл, соединяет в себе черты трех людей: его старого знакомого Чарли Суини, воевавшего в самых разных странах, Бака Ланхема и главным образом его самого, такого, каким он мог бы быть, если бы стал военным, а не писателем. Он писал, что хочет создать образ высокоинтеллигентного офицера, отягощенного горьким опытом прожитой жизни. Фоном повествования будут, как всегда, любовь и смерть. На первом плане будет герой, вечный тип человека, который «один сражается против всего мира». Все боевые эпизоды, сообщал он Ланхему, «будут за сценой, как у Шекспира». Он признавался Ланхему, что решил ввести в этот роман многое из того, что знает о войне на суше, вместо того чтобы хранить это для большой трилогии о войне на суше, на море и в небе. Это будет отчасти похоже на ту операцию, которую он проделал в 30-х годах с рассказом «Снега Килиманджаро», — конденсация материала нескольких романов в один рассказ.
Местом действия романа стала Венеция, временем действия — первые годы после второй мировой войны. Полковник Ричард Кантуэлл, служащий в американских войсках в Триесте, приезжает на несколько дней в Венецию, которую он защищал в годы первой мировой войны, на подступах к которой получил первое в своей жизни тяжелое ранение. Он знает, что это, быть может, его последняя поездка в любимый им город — у него уже было два сердечных приступа, и врачи сказали ему, что третьего приступа он не переживет.
Он едет прощаться не только с любимым городом, но и с любимой женщиной, которая родилась и выросла в Венеции и которая воплощает в себе всю прелесть этого старинного и прекрасного города. Ей девятнадцать лет, она происходит из старинного аристократического рода, зовут ее Рената, и внешность у нее точно такая же, как у Адрианы Иванчич. Это последняя, горькая и прекрасная любовь полковника Кантуэлла, знающего, что он долго не проживет.
Роман Хемингуэя впитал в себя все пережитое им за последнее путешествие в Италию, воспоминания о первой мировой войне и раздумья о последней войне, которая только недавно закончилась. В этом романе есть и остров Торчелло, и отель «Гритти», куда Хемингуэй поселил полковника Кантуэлла, и бар «Гарри», где часто сидят полковник и Рената, и охота на уток в лагуне Венеции, и поездка на гондоле, и холодный ветер, продувающий венецианские улицы.
Собственно говоря, в романе почти ничего не происходит. Полковник Кантуэлл приезжает в Венецию, проводит там несколько дней с Ренатой, они сидят в ресторане, в баре, лежат в постели, разговаривают, потом Кантуэлл охотится на уток и на обратной дороге в Триест умирает в машине от сердечного приступа. Но за всем этим стоит очень многое — вся прожитая жизнь Кантуэлла, все войны, которые он провоевал, все раны, изуродовавшие его тело, горечь потерь, сознание неминуемой и близкой смерти и самое главное — необыкновенная любовь. Кантуэлл говорит Ренате: «Ты моя последняя, настоящая и единственная любовь».
Полковник Кантуэлл всю жизнь прослужил в армии, он не сделал военной карьеры — для этого нужно быть демагогом, ловкачом и не думать о людях, которых посылаешь в бой, — но война его профессия. И тем не менее он ненавидит войну, как ненавидел ее Хемингуэй.
По дороге в Венецию Кантуэлл заехал в Фоссальту и спустился к реке на то место, где его когда-то ранило, «пользуясь тем, что кругом ни души, полковник присел на корточки и, глядя за реку с того берега, где раньше нельзя было днем и головы поднять, облегчился на том самом месте, где, по его расчетам, он был тяжело ранен тридцать лет назад». Потом он выкопал ножом ямку и сунул в нее коричневую бумажку в десять тысяч лир, рассчитав, сколько он должен был получить за свои ордена. «Вот теперь все в порядке, — думал он. — Дерьмо, деньги и кровь; погляди только, как растет здесь трава; а в земле ведь железо, и нога Джино, и обе ноги Рандольфо, и моя правая коленная чашечка! Прекрасный памятник! В нем есть все — залог плодородия, кровь и железо».
Таким символическим актом отмечает полковник Кантуэлл память о той войне.
Он подробно рассказывает Ренате, которая женским чутьем понимает, что ему будет легче, если он выговорится о последней мировой войне. Это рассказы о тех операциях, в которых принимал участие сам Хемингуэй, — высадка в Нормандии, марш через Францию, освобождение Парижа, кровопролитные бои в Шнее-Эйфель и в Хюртгенском лесу. Он вспоминает друзей, оставшихся там, бездарность генералов-политиков, бросавших людей на убой по своей военной неграмотности, глупости, бездушию. Устами полковника Кантуэлла Хемингуэй помянул недобрым словом многих американских военачальников — некоего «политика в мундире, который за всю жизнь ни разу не был ранен и никого никогда не убил, разве что по телефону или на бумаге», о котором Кантуэлл говорит Ренате: «Если хочешь, вообрази его нашим будущим президентом». Других Кантуэлл называл по фамилиям — Бедела Смита, Джорджа Патона. С издевкой говорит он о штабе союзного командования: «Вообрази себе эту огромную контору, расположенную так далеко в тылу, что с нею было бы проще всего сноситься голубиной почтой. Только вот при тех мерах предосторожности, которые они соблюдали для защиты своей персоны, зенитки наверняка сбили бы голубей». И дальше Кантуэлл опять возвращается к этой теме: «Во всей мировой истории ни один командующий не сидел так далеко в тылу».
Кантуэлл, а вместе с ним и Хемингуэй характеризуют войну, которую вела американская армия, как крупный бизнес. Говоря о генерале Беделе Смите, что он «крупный делец, знает толк в политике, привык ворочать большими деньгами», полковник Кантуэлл заключает: «А сейчас армия — самое большое предприятие в мире».
В романе явственно выразилось отвращение, которое питал Хемингуэй к послевоенной политике правительства Соединенных Штатов. Кантуэлл с горечью говорит о том, что теперь он, как солдат, подчиняющийся приказам, не должен ненавидеть фашистов. Он знает, правящие круги США внушают своей армии, что русские — это их будущий враг, «так что мне, как солдату, может, придется с ними воевать». Но у полковника Кантуэлла есть свои убеждения, которые разделял и Хемингуэй: «Но лично мне они очень нравятся, я не знаю народа благороднее, народа, который больше похож на нас».
Полковник Кантуэлл не скрывает своей ненависти к фашистам и к их покровителям. В одном случае он говорит: «Я любил три страны и трижды их терял… Две из них мы взяли назад. И возьмем третью, слышишь ты, толстозадый генерал Франко? Ты сидишь на охотничьем стульчике и с разрешения придворного врача постреливаешь в домашних уток под прикрытием мавританской кавалерии… Мы возьмем ее снова и повесим вас всех вниз головой возле заправочных станций».
Так в романе всплывали воспоминания об Испании, где фашизм победил и продолжал господствовать, но Хемингуэю хотелось думать, что и испанских фашистов постигнет та же участь, что и Муссолини, повешенного в Милане у заправочной станции, и правящую верхушку гитлеровской Германии.
Не забыл Хемингуэй помянуть с издевкой своего былого знакомого по войне в Испании Паччарди, который там командовал батальоном итальянских добровольцев, а теперь стал военным министром Италии. Ренегатов Хемингуэй не любил.
В этом романе, в котором со всей силой выразилось отношение Хемингуэя к тем, кто пытался развязать новую войну, он с предельной откровенностью сформулировал и свое отношение к американскому правительству, возглавлявшемуся тогда президентом Трумэном, бывшим галантерейщиком с галстуком бабочкой. Когда Рената говорит Кантуэллу, что он был бы замечательным президентом, тот отвечает ей: «Президентом?.. Но я никогда в жизни не носил галстука бабочкой и никогда не был прогоревшим галантерейщиком. Нет у меня данных, чтобы стать президентом… И я не из тех генералов, которые пороха не нюхали… И убеленным сединами сенатором мне тоже не быть. Для этого я недостаточно стар. Теперь ведь нами правят подонки. Муть, вроде той, что остается на дне пивной кружки, куда проститутки накидали окурков. А помещение еще не проветрено, и на разбитом рояле бренчит тапер-любитель».
Работа над романом шла медленно и то и дело прерывалась. В июне 1949 года в Финка-Вихия приехал барон Франчетти из Венеции, Бак Ланхем прилетел из Вашингтона, сын Хемингуэя Грегори из Ки-Уэста. Хозяин немедленно организовал новую рыболовную экспедицию на Багамские острова.
Потом Хемингуэя вывело из равновесия известие о том, что некая журналистка пытается получить интервью у его матери. Он представил себе все, что может наговорить эта старая, озлобленная женщина, и пришел в ужас. Он написал матери, что, если она когда-нибудь будет давать интервью по его поводу, он перестанет оказывать ей материальную помощь. При этом он вспоминал, как однажды потребовал, чтобы она продала ничего не стоившие земельные участки во Флориде, и она сказала ему, чтобы он никогда не смел угрожать ей — его отец однажды в самом начале их брака попробовал угрожать ей и потом всю свою жизнь сожалел об этом. В конце концов это дело уладилось, и мать не стала давать никаких интервью.
В сентябре в Гавану прилетел Арон Хотчнер, который уже однажды был у Хемингуэя по поручению журнала «Космополитен», чтобы уговорить его написать статью о будущем литературы. Статью Хемингуэй так и не написал, но молодой Хотчнер ему понравился, и он пригласил его приехать отдохнуть в Гавану. На этот раз Хотчнер приехал провести с Хемингуэем переговоры о продаже «Космополитену» рукописи нового романа для публикации его с продолжением. Хемингуэй увез Хотчнера на «Пилар» в море и дал ему почитать написанные главы романа. Хотчнер в своей книге воспоминаний о Хемингуэе рассказывает, что ему было трудно читать, так как Хемингуэй стоял у него за спиной и тоже читал рукопись, комментируя отдельные места и смеясь, когда попадалось удачное место.
Хотчнер вспоминает и о том, как в его первый приезд они сидели с Хемингуэем в баре «Флоридита», где играл оркестр из двух гитаристов и скрипача, и Хемингуэй рассказал ему, как однажды в бар заявилось трое очень вежливых молодых джентльменов, у которых на лице было написано, что они из Федерального бюро расследований. Тогда Хемингуэй послал ребятам из оркестра записку, и они рванули песенку «С днем рождения», все сидевшие в баре подхватили ее, и, когда они спели «С днем рождения, дорогие ФБР», эти парни быстро смылись.
Описывает Хотчнер и ту компанию, которая обычно собиралась за столом в Финка-Вихия. Это были Эррера, врач, который приехал на Кубу после того, как отсидел в испанской тюрьме за участие в войне на стороне республики; баск Дунабеция, капитан торгового судна, появлявшийся в доме Хемингуэя каждый раз, когда его судно приходило в Гавану; священник-баск Андрес по прозвищу Черный Поп.
Вскоре после отъезда Хотчнера Хемингуэй нашел, наконец, название для нового романа — «За рекой, в тени деревьев».
В конце сентября Эрнест с Мэри выехали на пароходе «Иль де Франс» в Европу. В Париже они остановились в отеле «Ритц» — Хемингуэй продолжал там работать над романом. Сюда прилетел и Хотчнер, которого «Космополитен» послал, чтобы поторопить писателя с завершением романа. Вместе они часто бывали на скачках в Отейле, играли на тотализаторе.
Хемингуэй любил водить Хотчнера по Парижу и показывать ему места, памятные ему по проведенным в молодости годам. Он рассказывал ему множество подробностей их быта с Хэдли, вспоминал об их бедности, о том, как они были счастливы.
Однажды он привел Хотчнера в кафе «Клозери-де-Лила», где еще работали старые официанты, знавшие его по былым временам, и принялся рассказывать, как добры они были к нему и как они его выручили в истории с картиной Хуана Миро «Ферма». Они с Миро были хорошими друзьями, оба много работали, но ни один из них не мог ничего продать — рассказы Хемингуэя возвращались с отказами, а непроданные картины Миро стояли у него в студии. В одну из картин, рассказывал Хемингуэй, он влюбился и решил во что бы то ни стало приобрести ее. Он настоял на том, чтобы отнести картину к продавцу и чтобы тот оценил ее. Продавец оценил ее в двести долларов, и Хемингуэй дал ему расписку, что заплатит всю эту сумму в шесть приемов. Пришлось сильно экономить, и до последней выплаты все шло хорошо. Но на последний взнос денег не оказалось, а по условиям, если Хемингуэй опаздывал с очередным взносом, он терял и картину и все ранее выплаченные деньги. В тот день он пришел в «Клозери-де-Лила» мрачный как туча. Бармен спросил его, что с ним случилось. Хемингуэй рассказал. Тогда бармен пошептался с официантами, и они тут же собрали ему нужную сумму.
Теперь, добавил с усмешкой Хемингуэй, эта картина застрахована в двести тысяч долларов.
Прогулки по осеннему Парижу, да еще с таким благодарным слушателем, как Хотчнер, всколыхнули в душе Хемингуэя множество воспоминаний, и, быть может, именно тогда возникла у него мысль написать когда-нибудь книгу о своей молодости в Париже, о всех тех людях, которых он тогда знал.
Из Парижа они выехали на машине на юг Франции. Хотчнер сопровождал их до Ниццы. Для него эта поездка оказалась целым университетом: Хемингуэй, сидя на переднем сиденье машины, рассказывал ему и Мэри об истории французских городов, через которые они проезжали, о французском искусстве, о французской кухне, о винах, обычаях. Они проехали через Прованс.
Дальше их путь лежал в Венецию.
Здесь они опять оказались в обществе своих титулованных друзей. Барон Франчетти приехал из Кортина д'Ампеццо повидаться с ними, граф Карло Кехлер возил их охотиться в свое поместье. Вновь они встречались с Адрианой Иванчич, жили в отеле «Гритти», заходили выпить в бар «Гарри».
Когда выпал снег, они уехали в Кортина д'Ампеццо, где Мэри ходила на лыжах, а Эрнест опять, как когда-то, писал по утрам в постели. Потом он вернулся в Венецию и продолжал там переписывать роман «За рекой, в тени деревьев», безжалостно сокращая его.
С февраля журнал «Космополитен» начал печатать роман.
В марте они вернулись в Париж, гуда же приехала Адриана Иванчич заниматься французским языком. Эрнест и Мэри пригласили Адриану и ее подругу Монику Бомон позавтракать в «Ритце», и Хемингуэй сообщил Адриане, что показывал ее рисунки Чарли Скрибнеру. Адриана даже не знала, кто такой Скрибнер, и Эрнест объяснил ей, что это его американский издатель. Он тоже приехал в Париж и будет завтракать вместе с ними. «Ему понравились твои рисунки, — сказал Хемингуэй, — я сказал, что их делала женщина, он мне не поверил. Вот он идет. Ты пока помолчи. Ну, Чарли, — обратился он к Скрибнеру, — как обложка?» Скрибнер подтвердил, что обложка ему нравится и что ему хотелось бы поговорить с художником. Тогда Хемингуэй сказал, показывая на Адриану: «Вот этот художник». Все принялись хохотать, и Скрибнер признался, что действительно не верил, что это могла нарисовать женщина: «Рисунки очень хорошие, но женщины обычно не применяют эти цвета». — «Видишь, партнер, — засмеялся Хемингуэй, принимая тем самым Адриану в свои компаньоны, — ты победила. И причем сама…»
22 марта они отплыли в Нью-Йорк. Адриана провожала их до Гавра.
В Нью-Йорке было, как всегда, шумно, к ним приходило много знакомых. Из Гарвардского университета приехал повидаться с отцом Патрик. Пообедать с Эрнестом и Мэри приехала Марлен Дитрих, восхищенная первыми главами «За рекой, в тени деревьев» и уверявшая, что она ревнует его к Ренате. Радостной была для Хемингуэя неожиданная встреча со старым другом Чинком Смитом, который воевал в эту войну начальником штаба генерала Окинлека в Африке и теперь, выйдя в отставку, жил в Ирландии. Смит, прослуживший всю жизнь в армии, с восторгом принял роман и был поражен тем, откуда Хемингуэй знает какие-то подробности, известные только офицерам в отставке.
В Финка-Вихия Хемингуэя ждали три письма от Адрианы. Он тут же ответил ей, написав, что ежеминутно ощущает ее отсутствие с того дня, как они простились в Гавре.
Ему было очень грустно, он чувствовал себя опустошенным. Его раздражение выливалось в демонстративные выходки, которые всерьез обижали Мэри. Так, например, однажды, когда к Мэри приехала ее пожилая кузина и они условились встретиться в фешенебельном «Клубе Наутико», он заставил их прождать его около часа, а потом появился в сопровождении известной гаванской проститутки, которой он дал кличку Ксенофобия. Дамам он объяснил, что смертельно устал, работая над гранками романа, а Ксенофобия не только молода и свежа, но и голодна, вот он и пригласил ее пообедать.
Опять, как всегда, он уходил далеко в море на «Пилар». Здесь его настиг новый несчастный случай. 1 июля он закончил работу над гранками романа, и они решили отметить это событие трехдневной рыболовной экспедицией. На втором катере вышел Эррера. Море было неспокойным, рулевой Грегорио резко повернул «Пилар» навстречу большой волне, и Эрнест, потеряв равновесие, упал на мокрую палубу, сильно ударившись затылком о железную скобу. К счастью, Эррера на своем катере был поблизости, он оказал Эрнесту первую помощь и остановил кровотечение. Тем не менее пришлось возвращаться в Гавану и накладывать на рану швы. Хирурги сказали Хемингуэю, что жизнь ему спасла только крепость его черепа. Эрнест мрачно заметил, что его закалила литературная критика.
Шутка была не лишена оснований. В сентябре роман «За рекой, в тени деревьев» вышел в свет и был встречен критикой весьма недоброжелательно. Рецензенты писали об упадке таланта Хемингуэя, о том, что роман старомоден, банален, болтлив. Только отдельные критики оценили роман по достоинству. Среди них был Джон О'Хара, который писал, что Хемингуэй — это чемпион, с которым надо считаться, и что он «самый крупный писатель после смерти Шекспира». Эту рецензию Хемингуэй послал Адриане.
Некоторым утешением служило также то, что он получил одобрительные письма о романе от трех генералов: от Блейкли, который в конце 1944 года принял командование 4-й дивизией, от Дорман-Смита и от Бака Ланхема, восхищенного тем, как Хемингуэй описал боевые действия во время последней войны, а также тем, что он нашел в себе мужество критиковать таких «священных коров», как фельдмаршал Монтгомери.
Радовало и то, что, несмотря на критику, роман «За рекой, в тени деревьев» распродавался успешно, а Голливуд собирался приобрести право экранизации романа.
И все-таки утешения эти были слабые, и настроение у него было прескверное. Он стал раздражителен, то и дело обижал жену, не считаясь даже с присутствием гостей. Доходило до того, что он швырял тарелку с едой на пол, ругался самым непристойным образом.
Его тяжелое моральное состояние усугублялось еще и тем, что у него начались острые боли в правой ноге. Доктор Эррера пробовал лечить его электричеством и массажем, но это не помогало. Наконец при помощи рентгена было установлено, что боли вызваны несколькими металлическими осколками, оставшимися в ноге с ранения 1918 года. Видимо, падение на палубе «Пилар» сдвинуло осколки, и они стали давить на нерв.
Привела его в негодование одна глупая история. Однажды он услышал по радио, как известная поставщица светских сплетен Лоуэлла Парсонс сообщала своим слушателям, что брак Хемингуэя рушится из-за одной итальянской графини, которая открыто живет с ним в его доме в Сан-Франсиско-де-Паула. Ярости Хемингуэя не было границ. Он вообще ненавидел всякую газетную шумиху вокруг его имени, много раз отказывался давать интервью, сообщать какие-либо сведения из своей биографии. Как раз незадолго перед этой историей он отказался от предложения своего хорошего приятеля Харви Брейта из «Нью-Йорк таймс», который хотел написать его биографию. Он деликатно ответил Брейту, что еще не пришло время писать о нем что-либо определенное, многие женщины были еще живы, в том числе его мать и его жены.
В общем жизнь в Финка-Вихия в сентябре и октябре 1950 года была нелегкой и довольно напряженной.
ГЛАВА 25 ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ В МОРЕ
Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить.
Э. Хемингуэй, Старик и мореВсе изменилось в Финка-Вихия 28 октября, когда в Гавану приехала Адриана со своей матерью. Хемингуэй вместе с Мэри и братом Адрианы Джанфранко, который к этому времени поселился на Кубе, вышли на «Пилар» в море встречать пароход. Они салютовали гостям сиреной и криками: «Куба приветствует вас! Встретимся в порту!»
Адриану с матерью поселили в маленьком домике в пятидесяти метрах от Финка-Вихия. И снова жизнь в доме забила ключом. Начались рыболовные экспедиции, выезды в клуб, где устраивалась стрельба по голубям, походы в бар «Флоридита».
Памятуя о любителях сплетен, Хемингуэй вел себя очень осторожно, не танцевал с Адрианой, никак не выказывал своего отношения к ней.
Адриане очень понравилась Башня, выстроенная Мэри для Эрнеста. На первом этаже там обитали многочисленные кошки, любимицы хозяина дома; на втором этаже был оборудован кабинет для Хемингуэя, где он работал очень редко, предпочитая писать в своей спальне. На третьем этаже этой белоснежной Башни Адриана рисовала. Иногда Хемингуэй поднимался к ней, смотрел ее рисунки, читал ей страницы новой рукописи.
Однажды он попросил ее съездить с ним на машине в Кохимар, рыбацкую деревушку неподалеку от Финка-Вихия. У Адрианы в этот день было назначено свидание с одним кубинцем, который ей нравился, но она почувствовала в просьбе Папы нечто важное для него и поехала. В машине она его спросила: «Что я должна делать в Кохимаре?» — «Ничего, — ответил Хемингуэй. — Ты должна только посмотреть со мною на океан. Мне надо посмотреть на океан вместе с тобой». И тут Адриана поняла, что он переживает какой-то важный для него момент. В маленькой бухте Кохимара шел дождь, ветер трепал верхушки пальм. Они долго стояли молча и смотрели в даль океана, на коршунов, сидевших на хаотически вздыбленных скалах, на рыбаков, склонившихся над сетями. Внезапно ветер стих. Она не знала, сколько прошло времени, пока они так стояли. Папа сказал ей только одно слово: «Спасибо», но глаза его при этом блестели. Так же молча они вернулись домой.
В начале декабря Хемингуэй сел за работу. Он ощутил, что снова может и хочет писать. Впоследствии он говорил Адриане, что это произошло благодаря ее присутствию. Три недели он работал с огромным напряжением и на рождество объявил, что закончил одну из трех книг о море. Эти три книги он условно называл «Море в молодости», «Вдали от моря» и «Море в жизни». Хемингуэй говорил, что к той части, которую он называл «Море в молодости», он не притрагивался с 1947 года, и это дает основания предполагать, что он имел в виду наброски романа «Эдем». Та часть, которую он закончил в декабре 1950 года, условно называлась «Вдали от моря». Героем ее был американец Томас Хадсон, который своей внешностью, манерами и биографией сильно напоминал самого Хемингуэя, а бывшая жена героя обладала многими чертами Хэдли. О третьей части — «Море в жизни» — он говорил, что она сложилась у него в голове еще шестнадцать лет назад, но он еще не пробовал браться за нее.
Рождество прошло весело, съехалось множество друзей. Приехал сын Патрик с молодой женой, Грегори со своей девушкой, среди гостей были Гарри Купер и еще несколько кинозвезд.
Хемингуэй любил говорить Адриане, что им хорошо работать вместе, что они старые партнеры. Кончилось это тем, что они организовали «Общество Белой Башни». Почетными членами общества стали Мэри, которая была журналисткой, брат Адрианы Джанфранко, написавший рассказ о войне, сорок кошек, живших в Башне, и Черный пес, принятый за симпатичность. Членами общества были также сделаны Гарри Купер, потому что он был другом и потому что ему не везло в стрельбе по голубям, Марлен Дитрих и Ингрид Бергман, о которых Папа говорил, что они «великие женщины». Для членов общества были установлены правила: быть симпатичными, быть творческими художниками (освобождались от этой обязанности только кошки и Черный пес), помогать друг другу.
Основатели «Общества» работали только по утрам. Адриана рисовала, Папа писал. Потом они забирали Мэри и отправлялись купаться в бассейн, или стрелять по голубям, или выезжали на «Пилар» на рыбную ловлю.
Когда кончилось рождество и гости разъехались, Хемингуэй опять с радостью вернулся к своей конторке, за которой обычно работал. На этот раз он писал историю старого рыбака, который поймал далеко в море огромного марлина, долго с ним боролся и вышел победителем в этой борьбе. Но акулы сожрали его рыбу. Этот сюжет он изложил вкратце еще в 1936 году в очерке «Голубая вода», написанном для «Эсквайра». Много лет эта история пряталась где-то в глубинах его памяти, но про себя он знал, что когда-нибудь напишет ее. И вот это время пришло.
Теперь он знал рыбаков Кохимара, это были его близкие друзья, он знал их быт, их семьи, ловил вместе с ними крупную морскую рыбу, выпивал с ними в «Террасе» — маленьком рыбацком кабачке, где стены были увешаны фотографиями самых больших рыб и тех, кому удалось их выловить, часами слушал их рассказы о море и о рыбах.
Теперь он знал и море, проведя в нем столько незабываемых, напряженных дней и недель, знал повадки большой рыбы, знал, как ее ловить.
Впоследствии Хемингуэй говорил в интервью с Джорджем Плимптоном, что повесть «Старик и море» могла иметь и более тысячи страниц, в этой книге мог найти свое место каждый житель деревни, все способы, какими они зарабатывали себе на жизнь, как они рождаются, учатся, растят детей. «Это все, — говорил он, — отлично сделано другими писателями. В литературе вы ограничены тем, что удовлетворительно сделано раньше. Поэтому я должен был постараться узнать что-то еще. Во-первых, я постарался опустить все не необходимое, с тем чтобы передать свой опыт читателям так, чтобы после чтения это стало частью их опыта и представлялось действительно случившимся. Этого очень трудно добиться, и я очень много работал над этим. Во всяком случае, говоря кратко, на этот раз мне небывало повезло, и я смог передать опыт полностью, и при этом такой опыт, который никто никогда не передавал. Мне повезло, что у меня были хороший старик и хороший мальчик, а за последнее время писатели забыли, что такие существуют. Кроме того, океан заслуживает, чтобы о нем писали так же, как о человеке. Так что и в этом повезло».
Он сам поражался тому, как легко и просто пишется эта книга. Все было ясно, он знал, что в данную минуту будет делать его старик, о чем он будет думать, как будет вести себя рыба.
К 17 января 1951 года у него было написано 6 тысяч слов. 6 февраля Хемингуэй писал Харви Брейту, что он работает, как бульдозер, — в течение последних шестнадцати дней он писал по тысяче слов в день, в то время как обычная норма его работы не превышала пятисот слов.
В этот день Адриана и ее мать улетели самолетом в Соединенные Штаты. Кто-то из знакомых переслал матери Адрианы статью, появившуюся в одной французской газете, в которой был намек, что Рената Хемингуэя — это Адриана Иванчич. Мать испугалась и поторопилась увезти свою дочь подальше от Хемингуэя.
Спустя некоторое время после их отъезда Эрнест писал Адриане: «Если я сумею хорошо писать, то о тебе и обо мне будут говорить сотни лет, потому что мы трудно и хорошо работали вместе. Некоторые будут думать все, что угодно, но только ты и я знаем правду и с ней умрем. Может, мне не нужно было тебя встречать. Может, так было бы лучше для тебя. Может быть, я не должен был встретить тебя в Латизане под дождем. Но слава богу, что я увидел тебя, пока ты еще не совсем промокла. Знай, Дочка, что все было бы так же, если бы я даже не написал книгу о Венеции. Люди все равно бы заметили, что мы всегда вдвоем, что мы счастливы вдвоем и что мы никогда не говорим о серьезных вещах. Люди всегда завидуют чужому счастью. И кроме того, они все равно бы заметили, что мы работаем вместе, что работаем мы всерьез и работаем хорошо. Люди всегда завидуют тем, кто работает серьезно и хорошо. Запомни, Дочка, что самым лучшим оружием против лжи является правда. Не стоит бороться против сплетен. Они как туман, подует свежий ветер и унесет его, а солнце высушит…»
Мэри улетела вместе с Адрианой и ее матерью, чтобы показать им Флориду.
Для Эрнеста опять наступила пора одиночества, но на этот раз он оставался в хорошей компании — с ним были его старик Сантьяго, мальчик и красивая, большая рыба. И океан.
Старик уходил в море один, вот уже восемьдесят четыре дня он выходил на своей лодке в Гольфстрим и не поймал ни одной рыбы. Первые сорок дней с ним был мальчик, но потом родители сказали мальчику, что старику теперь явно не везет, и велели ходить в море на другой лодке.
Им было грустно расставаться, потому что они любили друг друга. Ведь мальчику было всего пять лет, когда старик впервые взял его в море и начал учить трудному искусству ловли рыбы. Мальчик принес старику поесть, а утром проводил его в море, помог донести снасть до лодки.
В этот день старик решил, что уйдет далеко от берега; «он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежее утреннее дыхание океана». Старик любил море. Другие рыбаки, помоложе, говорили о море как о пространстве, как о сопернике, порою даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, — что поделаешь, такова уж ее природа.
Разные мысли приходили в голову старику, пока он сидел в лодке и терпеливо ждал, когда клюнет рыба. Он думал о бейсболе, который любил. Но потом он одергивал себя — он должен думать только об одном — о том, для чего он родился. А родился он для того, чтобы ловить в море большую рыбу. Так обычно говорил про себя и Хемингуэй — что он родился на этот свет для того, чтобы писать.
С детских лет Хемингуэй любил и понимал природу — лес, реку, море. С самых первых его рассказов о детстве Ника Адамса его волновала тема единения человека с природой, эта тема прозвучала в романе «И восходит солнце», по существу, этой теме была посвящена книга «Зеленые холмы Африки». Ему была ненавистна мысль об отчуждении человека от природы, о варварском уничтожении девственной природы капиталистической цивилизацией. Идеалом Хемингуэя был человек, органически слитый с природой, понимающий ее и чувствующий себя среди природы естественно, как в родной среде. Таков был Ник Адамс, охотившийся в лесах Северного Мичигана, удивший рыбу на Биг-Ривер, таков был Джейк Барнс, наслаждавшийся вместе с Биллом Тортоном ловлей форели в глухом местечке Испании. Но трагедия всех этих героев была в их раздвоенности, в расщепленности их сознания, в их прикованности к суете повседневной жизни. Ведь им всем только иногда удавалось вырваться на природу и ощутить свое единение с ней.
На этот раз, в повести о старике Сантьяго, Хемингуэю удалось найти героя, который действительно органически слит с природой, с морем. Сантьяго родился для того, чтобы выходить в море и ловить большую рыбу. И когда самая большая рыба, какую он когда-либо видел, ловится на крючок, старик разговаривает с ней как с равным существом, которое он любит, понимает, жалеет, но тем не менее должен победить.
Рыба, как буксир, тащит его лодку далеко в океан. Проходит день и ночь, а рыба все тянет лодку, не теряя сил. «Ну не чудо ли эта рыба, — думает старик, — один бог знает, сколько лет она прожила на свете. Никогда мне еще не попадалась такая сильная рыба. И подумать только, как странно она себя ведет! Может быть, она потому не прыгает, что уж очень умна. Ведь она погубила бы меня, если бы прыгнула или рванулась изо всех сил вперед. Но, может быть, она не раз попадалась на крючок и понимает, что так ей лучше бороться за жизнь. Почем ей знать, что против нее всего только один человек, да и тот старик… Интересно, знает ли она, что ей делать, или плывет очертя голову, как и я?»
Старик ощущает свою связь с этой красивой рыбой. «Рыба, — говорит он, — я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя прежде, чем настанет вечер».
Долго продолжается борьба старика с рыбой. Леса изрезала ему ладони, левую руку свело судорогой, и он вынужден часами упражнять ее, чтобы вернуть ей силу, он подкрепляет себя сырой мелкой рыбой, и у него даже нет соли, чтобы посолить эту тошнотворную еду.
Старик вспоминает о мальчике, который очень помог бы ему, если бы был с ним вместе в лодке, но он вспоминает о нем еще и потому, что не раз говорил мальчику, что он не обыкновенный старик, и понимает, что теперь пришла пора это доказать. «Он доказывал это уже тысячи раз. Ну так что ж? Теперь приходится доказывать это снова. Каждый раз счет начинается сызнова: поэтому, когда он что-нибудь делал, то никогда не вспоминал о прошлом». Так исподволь начинает развиваться в повести главная для Хемингуэя тема о мужестве и стойкости человека.
Второй раз уже высыпают на небе звезды, и старик радуется им, как друзьям. «Рыба — она мне тоже друг, — сказал он. — Я никогда не видел такой большой рыбы и не слышал, что такие бывают. Но я должен ее убить. Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды! Представь себе: человек что ни день пытается убить луну? А луна от него убегает. Ну, а если бы человеку пришлось бы каждый день охотиться за солнцем? Нет, что ни говори, нам еще повезло… как хорошо, что нам не приходится убивать солнце, луну и звезды. Достаточно того, что мы вымогаем пищу у моря и убиваем своих братьев».
В конце концов старику удается подвести уставшую рыбу к лодке, загарпунить ее и привязать к лодке. Теперь он отправляется в далекий обратный путь. Но тут его настигают акулы, учуявшие издалека запах рыбьей крови. Первую акулу он убил, но она унесла с собой его гарпун. Вот тогда-то старик и говорит главные слова всей повести: «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».
И старик продолжает вести бой с акулами веслом, дубинкой, обломком румпеля. И все-таки акулы съедают у него всю рыбу, оставив только скелет. «Хотел бы я купить себе немножко счастья, если его где-нибудь продают, — сказал старик. — А на что ты его купишь? — спросил он себя. — Разве его купишь на потерянный гарпун, сломанный нож или покалеченные руки?»
Но на берегу его ждет мальчик, который утешает его, говоря, что они опять вместе выйдут в море и будут рыбачить. А богатые туристы, проходя мимо скелета этой огромной рыбы, ничего не понимают, им не дано понять того, что произошло. Они вообще решают, что это скелет акулы.
Повесть кончилась умиротворенной нотой — старик спал в своей хижине лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы. Это было лучшее, что он видел в жизни, когда в юности служил юнгой на корабле и ходил к берегам Африки. Каждую ночь ему снились длинные золотистые берега Африки, ее белые отмели, на которые выходят львята и резвятся там, словно котята. Этот образ счастья проходил через всю повесть, так она и заканчивалась: «Старику снились львы».
Старик вернулся непобежденным, потому что он победил рыбу, победил себя, свою старость, слабость своих рук, свою боль. Он вышел победителем.
17 февраля Хемингуэй закончил повесть. Желая проверить себя, он давал читать рукопись друзьям и с волнением ждал, что они скажут.
Он попросил прочесть рукопись Чарльза Скрибнера, который приехал к нему в гости с женой в конце февраля, Хотчнера и еще некоторых друзей. Все они пришли в восторг. Он послал рукопись также профессору Карлосу Бейкеру, много лет занимавшемуся изучением его творчества. Бейкер написал, что старик Сантьяго напоминает ему короля Лира. Хемингуэй ответил, что «Король Лир» действительно изумительная пьеса, но добавил, что море существовало задолго до того, как Лир был королем.
Он был полон творческой энергии и, почти не делая перерыва после завершения повести о старике Сантьяго, приступил к новой работе. Эта новая вещь была опять о море. Она по замыслу должна была составить третью часть трилогии о море и служить непосредственным продолжением того романа, который он закончил к рождеству прошлого года. Героем опять был американец Томас Хадсон. На этот раз действие происходило во время второй мировой войны, а местом действия было море у Багамских островов. Сюжет строился на преследовании экипажа потопленной нацистской подводной лодки и, видимо, основывался на том опыте, который Хемингуэй приобрел, охотясь на немецкие подводные лодки в 1942-1944 годах. Он так условно и назвал роман — «Морская охота», поставив в подзаголовке: «Море. Третья часть Главной книги».
Роман «Морская охота» был закончен им 17 мая 1951 года, через два с половиной месяца после начала работы. Чарльзу Скрибнеру он писал, что по качеству этот роман похож на историю старика Сантьяго, но действие в нем развивается быстро, с очень точным диалогом.
Теперь он считал, что задуманная им трилогия о море сама собой разрослась до четырех частей — четвертой частью стала повесть о старике Сантьяго. Хемингуэй говорил, что каждая часть является самостоятельным произведением, а потом он найдет способ объединить их в одно целое.
Устроив себе обычные каникулы после завершения «Морской охоты», он начал работать над первой частью этой Главной книги.
В разгар работы пришло известие о том, что в Мемфисе в возрасте семидесяти девяти лет умерла его мать. На похороны он не поехал, но смерть примирила его с матерью, и он старался вспоминать о ней хорошо.
В июле Мэри улетела в США повидать своих родителей. Эрнест писал ей почти ежедневно, жалуясь, что ему одиноко без нее.
Он решил встретить свой 52-летний юбилей опять на «Пилар» в открытом море. Он написал Чарльзу Скрибнеру, что если с ним что-нибудь случится, то Скрибнер может смело печатать повесть о старике и море отдельным изданием. Так впервые появилось название повести, которое он потом и оставил. Он заверял Скрибнера, что вторая и третья части Большой книги, начиная с жизни Томаса Хадсона до войны и кончая его смертью в море, находятся в таком состоянии, что их можно печатать, а вот первая часть, которую он условно называл «Остров и поток», потребует еще много времени на доработку. Он писал, что в ней есть «замечательные куски», которые ему очень не хочется выкидывать, но ему теперь ясно, что эту часть надо переписывать, чтобы по стилю и темпу она соответствовала остальным трем частям.
Июль в Гаване был необычно жарким, и он ушел на «Пилар» вместе с Грегорио Фруэнтесом в Пуэрто-Эскондидо, где всегда бывало прохладнее, чем в Гаване. Скрибнеру он писал, что будет там ловить рыбу, плавать, читать, отсыпаться, лечить свои легкие и ноги небольшими прогулками по берегу и окружающим холмам.
Когда он вернулся в Гавану, там уже была Мэри, но почти тут же пришла телеграмма, извещавшая, что у ее отца обнаружен рак. Она опять вылетела к родителям.
А в конце сентября он получил известие о скоропостижной смерти его бывшей жены Полины. Другой тяжелой новостью во втором полугодии 1951 года была смерть его старого друга Дина Кристиана Гауса.
Год по количеству смертей оказался рекордным. И ему даже было стыдно, как он говорил, что лично для него год был таким плодотворным — он написал три части Большой книги о море и работал над четвертой (первой по порядку). За месяц работы он сократил рукопись с 485 страниц до 305.
Новый, 1952 год Хемингуэй встречал в горах на ферме, которую купил брат Адрианы — Джанфранко. Эрнест совершал там дальние прогулки, охотился на цесарок. Потом они с Мэри отправились в большой рейс на «Пилар» вдоль берегов Кубы. Погода стояла отличная, дул легкий бриз, они вставали с восходом солнца, ловили рыбу, купались, читали и ложились спать в половине девятого вечера. Так прошла неделя, пока Мэри не позвонила из одной деревушки в Финка-Вихия узнать, нет ли для них писем, и ей передали новое тяжелое известие — 11 февраля умер от сердечного приступа Чарльз Скрибнер. Они немедленно вернулись домой, и Эрнест написал письмо вдове Чарльза. Со смертью его дорогого друга, писал он, у него не осталось никого, с кем он мог бы советоваться, кому доверять, с кем обмениваться крепкими шутками.
Между тем пришла пора решать, что же делать с повестью о старике Сантьяго, которая уже год лежала в рукописи. Кинорежиссер Леланд Хейуорд, отдыхавший в Гаване, пришел в восторг, прочитав повесть, и выразил уверенность, что ее надо печатать сразу в одном номере журнала «Лайф». Восхищение Хейуорда убедило Хемингуэя, и он послал рукопись Уолласу Мейеру, с которым он теперь имел дело в редакторском аппарате издательства Скрибнера. Он написал ему, что не намерен разбирать достоинства или недостатки повести. Он уверен, что это лучшее, что он написал в своей жизни. Эта вещь может быть эпилогом всего, что он написал, всего, что узнал в жизни или пытался узнать. Его волновало, может ли издательство Скрибнера опубликовать такую небольшую по объему вещь. Ведь печатают же другие писатели небольшие книги, почему же его нужно рассматривать как бездельника только потому, что он не написал «Войну и мир» или «Преступление и наказание».
В марте они с Мэри вновь ушли в плавание на «Пилар». Во время этой экспедиции он написал Мейеру письмо, в котором сообщал, что все еще раздумывает над заглавием для книги. Обычно у него бывает список в пятьдесят или более названий. Когда он по утрам просыпается на борту своей лодки, у него в голове возникают новые варианты. Он писал, что название «Достоинство человека» правильное, но слишком помпезное. Старое название «Море в жизни» ему тоже не хочется оставлять. Хемингуэй вспоминал в письме к Мейеру, что когда-то, когда ему было двадцать шесть лет, он написал роман «И восходит солнце» за шесть недель; теперь, когда он вдвое старше, он закончил «Старика» за восемь недель. Тогда ему пришлось полностью переписать роман, но за эти двадцать пять лет он многому научился, и ему не пришлось переписывать «Старика» вообще.
Отклики на повесть были очень обнадеживающие: Мейер сообщал, что редакторы «Клуба книги месяца» прочитали рукопись, и она им понравилась. Леланд Хейуорд телеграфировал, что разговаривал с редактором «Лайфа» и перспективы благоприятные. Это особенно радовало Хемингуэя — у журнала «Лайф» был тираж пять миллионов, и он говорил, что иметь такое количество читателей гораздо почетнее, чем получить Нобелевскую премию.
Адриане Иванчич он писал: «С тех пор как я закончил работу, я заметил, что вместо одной книги о море (такой тяжелой, что поднять ее невозможно) я написал четыре. Это облегчит мою жизнь в будущем. Все издатели и еще некоторые люди, которые прочитали «Старика и море», считают, что это классика. (Можно подумать, что я хвастаюсь. Но это не так, потому что это говорю не я, а они все. Они утверждают, что книга производит удивительное, самое разностороннее впечатление. Даже те люди, которые меня не любят, имея, возможно, на то основания, и те, кому не нравятся мои книги, говорят то же самое.) Если все это действительно так, то это значит, что я сделал то, чему пытался научиться всю мою жизнь; значит, это удача, и мы должны радоваться этому. Но я должен забыть об этом и должен попытаться писать еще лучше».
Он сообщал Адриане, что начал писать новую книгу — «о Мичигане в далеком прошлом». Он говорил, что она очень сложна по внутреннему ходу, но внешне совсем проста. Сюжет был действительно прост, в основе лежала история, как он еще школьником охотился на цапель на Мад-Лейк. Лесные сторожа поджидают Ника Адамса и его сестру, списанную во многом с сестры Эрнеста Санни, в коттедже «Уиндмир», чтобы привлечь за браконьерство. А Ник и его сестра, чтобы избежать наказания, уходят дальше в леса. Ему было радостно возвращаться памятью к дням своей юности, и, кроме того, это была разрядка после книг о море.
Он сообщал Адриане, что собирается выполнить свое новогоднее обещание — писать лучше, чувствовать себя хорошо, быть добрым к окружающим и избегать грубости, эгоизма и ненужного беспокойства.
Действительно, дни в Финка-Вихия протекали спокойно. Эрнест работал по утрам, Черный пес лежал у его ног, а потом сопровождал его, когда они с Мэри купались и загорали в бассейне, и занимался ловлей ящериц. Мэри была довольна тем, что Эрнест спокоен и у него хорошее настроение.
В мае он получил телеграмму от Леланда Хейуорда и своего адвоката Альфреда Райса, что журнал «Лайф» будет печатать «Старика и море» в сентябрьском номере. Это была большая победа, так как «Лайф» никогда раньше таких вещей не публиковал. К сентябрю и издательство Скрибнера готовилось издать книгу. Предложенный издательством рисунок на суперобложку ему не понравился, и он телеграфировал Адриане, чтобы она попробовала сделать обложку. Адриана немедленно прислала авиапочтой рисунок, который очень понравился Хемингуэю, и он написал ей, что никогда еще не был так горд за нее.
Хемингуэй хотел посвятить эту книгу «Мэри и «Пилар», но потом подумал о своих умерших друзьях и сказал Мэри, что хотел бы посвятить ее Чарли Скрибнеру и Максу Перкинсу. Мэри сказала, что это будет правильно.
1 сентября 1952 года номер журнала «Лайф», в котором была полностью напечатана повесть «Старик и море», вышел в свет. Успех превзошел все ожидания. В течение 48 часов было распродано 5 миллионов 318 тысяч 655 экземпляров. 8 сентября вышла книга тиражом сразу 50 тысяч экземпляров.
Критика встретила повесть восторженно. Харви Брейт назвал ее «чрезвычайно мужественной». Джозеф Джексон поздравлял автора с созданием этой «мистерии, где Человек борется против Рока». Журнал «Тайм» писал, что в новом произведении нет ничего от «былой агрессивности Хемингуэя», и называл книгу образцом высокого мастерства.
Но еще больше, чем отзывы прессы, Хемингуэя радовала реакция читателей. Его итальянская переводчица писала ему, что проплакала над этой книгой целый день. В Финка-Вихия раздавалось множество телефонных звонков от знакомых и незнакомых людей, которые благодарили его. Ежедневно в течение трех недель почта приносила ему от восьмидесяти до девяноста писем от поклонников его таланта, поздравлявших его с успехом.
Кое-кто из критиков принялся искать в «Старике и море» всевозможные символы. Хемингуэй посмеивался над этими попытками. В интервью корреспонденту журнала «Тайм» он впоследствии говорил: «Ни одна хорошая книга никогда не была написана так, чтобы символы в ней были придуманы заранее и вставлены в нее. Такие символы вылезают наружу, как изюминки в хлебе с изюмом. Хлеб с изюмом хорош, но простой хлеб лучше. В «Старике и море» я старался создать реального старика, реального мальчика, реальное море, реальную рыбу и реальных акул. Но если я сделал их достаточно хорошо и достаточно правдиво, они могут значить многое».
Отвечая на поздравление своего друга Бернарда Беренсона, искусствоведа, с которым они познакомились в Италии, Хемингуэй писал, что весь секрет повести заключается в том, что в ней нет никакого символизма. Беренсон, в свою очередь, написал для рекламы издательства Скрибнера несколько строк. «Старик и море» Хемингуэя, — писал он, — это идиллия о море как таковом, не о море Байрона или Мелвилла, а о море Гомера, и передана эта идиллия такой же спокойной и неотразимой прозой, как стихи Гомера. Ни один настоящий художник не занимается символами или аллегориями — а Хемингуэй настоящий художник, — но каждое настоящее произведение искусства создает символы и аллегории. Таков и этот небольшой, но замечательный шедевр».
Хемингуэй отказался ехать в Нью-Йорк пожинать там плоды своего успеха. Ему не хотелось шумихи, обилия людей, с которыми пришлось бы беседовать, выпивать, отвечать на их вопросы. Он сказал, что предпочитает оставаться на Кубе и охотиться на гигантских марлинов.
Вскоре он получил предложение от Леланда Хейуорда сделать фильм по «Старику и море» со Спенсером Трэси в главной роли. Хемингуэй должен был консультировать съемки и помочь в охоте на марлина. Он в принципе согласился, хотя весь его опыт общения с кинематографом не принес ему ничего, кроме огорчений. Как раз незадолго до этого на экраны Америки с большим шумом вышел фильм режиссера Занука «Снега Килиманджаро», который представлял собой пошлую вульгаризацию его рассказа с приделанным «счастливым концом». Хемингуэй, мечтавший о новой охотничьей экспедиции в Африку, куда переехал жить его сын Патрик, говорил по поводу фильма Занука, что чистит свое старое ружье, с которым хорошо охотиться на носорогов, буйволов и легко вооруженные автомашины, а по приезде в Момбасу отправится с этим ружьем на вершину Килиманджаро и начнет там «поиски Духа Занука».
Весной, как всегда, Финка-Вихия была полна гостей. Приехал и Леланд Хейуорд с женой и со Спенсером Трэси. Актер Хемингуэю понравился своей скромностью и интеллигентностью. Он водил Спенсера Трэси по деревушке Кохимар, заводил его в хижины рыбаков, показал ему старого рыбака Ансельмо Эрнандеса, как тот спит в своей хижине, вернувшись после ночной рыбной ловли.
4 мая 1953 года они ловили рыбу на «Пилар» у рифов Пинар-дель-Рио, когда услышали по радио сообщение о присуждении Хемингуэю Пулитцеровской премии. Потом уже он рассказывал своему другу Лайонсу: «Кубинское радио передавало сообщение о премии каждые пятнадцать минут. Я был рад, что я не дома и не могу брякнуть что-нибудь не то по телефону. Представь, если бы меня спросили, как я к этому отношусь, и я бы ответил, что множество людей, включая меня, были бы гораздо довольнее, если бы Нейтив Дансер выиграл Дерби. Но теперь я года два буду следить за своим проклятым языком — посмотрим, что из этого получится. Может быть, я стану респектабельным. Разве это не будет удивительно?»
ГЛАВА 26 ВНОВЬ ИСПАНИЯ И АФРИКА
Если ты всю жизнь старательно избегал смерти, но, с другой стороны, не позволял ей насмехаться над собой и разглядывал ее, как разглядывают красивую шлюху… тогда можно сказать, что ты разглядел ее, но это не значит еще, что ты искал ее.
Э. Хемингуэй, Из письмаТеперь, после такой победы, Хемингуэй мог позволить себе устроить каникулы. Он хотел вновь побывать в Африке, вдохнуть ее запахи, испытать волнение охоты на крупного зверя, подняться на ее плоскогорья. Бернарду Беренсону он писал, что вот уже три года он постоянно живет на уровне моря и теперь жаждет «оказаться среди холмов».
Кроме того, Хемингуэй мечтал по дороге в Африку побывать в Испании, посмотреть бой быков и показать его Мэри. Он сомневался, что его когда-нибудь пустят в эту страну, которую после родины он любил больше всех стран на свете. Да он и сам ни за что не поехал бы туда, пока хоть один из его друзей сидел там в тюрьме. Но к весне 1953 года все его друзья, находившиеся во франкистских тюрьмах, уже были на свободе. Он посоветовался с некоторыми испанцами, жившими на Кубе, и было решено, что он с честью может вернуться в Испанию, если, не отрекаясь от того, что им было написано, будет помалкивать насчет политики. На всякий случай Хемингуэи запаслись письмом от испанского посла в Лондоне герцога Мигеля Примо де Ривера.
Они условились встретиться в Гавре с Джанфранко Иванчичем, который к тому времени уехал с Кубы, и вместе с ним направиться в Испанию. В качестве шофера Джанфранко нанял веселого малого Адамо из Удино. Не задерживаясь в Париже, они двинулись через Шартр и далее по долине Луары.
Предстоящая встреча с Испанией волновала его. Четырнадцать лет он не был в этой стране. «Правда, — писал он впоследствии, — для меня эти годы во многом были похожи на тюремное заключение, только не внутри тюрьмы, а снаружи».
В Ируне они должны были пересечь испанскую границу. Полицейский инспектор долго изучал его паспорт.
— Вы не родственник писателю Хемингуэю? — спросил инспектор, не глядя на него.
— Из той же семьи, — ответил Хемингуэй.
Инспектор перелистал паспорт, всмотрелся в фотографию и спросил:
— Вы Хемингуэй?
Пришлось признаться. Тогда инспектор встал, протянул ему руку и сказал:
— Я читал все ваши книги, и они мне очень нравятся. Сейчас я поставлю штамп на ваших документах и, если понадобится, помогу вам на таможне.
Так они очутились в Испании. В Памплоне выяснилось, что номера в гостиницах найти невозможно, и им пришлось поселиться в городке Лекумберри в 25 милях от Памплоны и ежедневно ездить оттуда рано утром в Памплону, чтобы поспеть к семи часам, когда быки побегут по улицам. Но зато дорога до Памплоны была одна из самых живописных в Наварре. «Когда несешься по ней в быстроходной машине, — писал Хемингуэй, — испытываешь наслаждение полета». Мэри впоследствии вспоминала, как он упивался ароматом сосен, буков, гигантских папоротников и лилового вереска.
В первый же день в Памплоне на городской площади, когда там происходила утренняя поливка, их встретил старинный друг Эрнеста Хуанито Кинтана, который лишился своего отеля после гражданской войны. Подкрепившись черным кофе, они отправились к арене, проталкиваясь сквозь густую толпу. Уже когда они уселись на свои места, Хемингуэй обнаружил, что у него вытащили новый бумажник. «Лучшие карманники Испании съезжаются на эту фиесту, — сказал он удрученно. — Все они работают только в первый день, а затем исчезают из города».
Здесь, в Памплоне, все было как в прежние годы — пестрая, красочная толпа, стихийное, искреннее и непринужденное веселье. Сюда приехала большая компания их знакомых, и все они развлекались как могли. В таверне «Марселино» Джанфранко, повязавший красный шарф, смело распевал итальянскую революционную песню, на площади Кастильи они слушали народные оркестры дудочников и любовались танцами, внизу у реки осматривали ярмарку лошадей и мулов, на которую съезжались крестьяне со всей Наварры.
Хемингуэй считал, что возраст болельщика для него уже миновал и что он почти остыл к бою быков. Ему просто хотелось показать Мэри настоящий бой быков, а самому увидеть новое поколение матадоров. Он знал их отцов, многие из которых были его друзьями. «Я дал себе слово, — писал он, — больше не заводить друзей матадоров: слишком сильно я страдал за них и вместе с ними, когда от страха или от неуверенности, которую рождает страх, они не могли справиться с быком. Я сам испытывал этот смертный страх, когда на арене был кто-нибудь из моих друзей, а так как мне за это не платили и помочь другу я ничем не мог, я решил, что глупо мучить себя подобным образом, да еще за свои деньги».
Как всегда после окончания фиесты, веселая и дружная компания распалась — друзья уехали в разные стороны, а Хемингуэй с Мэри и Адамо за рулем отправились в Мадрид. Проехав Бургос, они свернули с главной магистрали к городку Сепульведа и дальше к Сеговии и Сан-Ильдефонсо, в те горные места, где происходило действие романа «По ком звонит колокол». Мэри записывала в своем дневнике: «Мы забрались высоко в горы Гвадаррамы. Это дикая страна гранитных скал и густых хвойных и лиственных лесов. Мелкий кустарник и папоротник часто скрывают здесь неожиданные пещеры. Внизу, справа от дороги, под небольшим каменным мостом, бежит чистая речка. Тут и лес, описанный в «По ком звонит колокол». Сквозь просветы между деревьев виднелась голая вершина горы, где в романе Сордо дал свой последний бой, а на мосту мы нашли место, где динамит взорвал его опоры.
— Как я рад, что все здесь выглядит так, как я описал, — прошептал Эрнест. — Мы удерживали все эти высотки. А они захватили три четверти дороги и располагались справа от нее, внизу. В некоторых местах передовые линии находились друг от друга на расстоянии менее десяти метров».
16 июля они были уже в Мадриде. Хемингуэй решил, что он обязательно должен остановиться в отеле «Флорида», именно в том номере, в котором он жил в 1937 году. Он писал Баку Ланхему, что внутренний голос подсказал ему, что испанцы это поймут и сочтут правильным.
Мадрид многое ему напомнил, казалось, этот город полон призраками былого. В том же письме Баку Ланхему он вспоминал, как в 1937 году во время ожесточенных атак франкистов на Мадрид ему приходилось мочиться в кожухи пулемета «максим», когда тот перегревался от стрельбы, и запах кипящей мочи смешивался с пылью обнаженной серой земли.
Они бродили по городу, отыскивая знакомые ему места. Хемингуэя очень огорчило, что его любимый бар около Пуэрто-дель-Соль исчез, но он утешился тем, что на Гран Виа по-прежнему существовал бар «Чикоте».
На следующее же утро он повел Мэри в музей Прадо. Она вспоминает, как он тут же принялся торопливо отыскивать свои любимые картины Гойи, Брейгеля, Иеронима Босха, Андреа дель Сарто. С этого дня они каждое утро посвящали Прадо, а днем отправлялись на бой быков.
На этот раз бой быков происходил настолько неинтересно, что, как вспоминал Хемингуэй, «о нем не стоило бы и говорить, если б не одно знаменательное обстоятельство. Именно тогда мы впервые увидели Антонио Ордоньеса».
Едва только Ордоньес сделал свое первое китэ, как Хемингуэю стало ясно, что это великий мастер. Много лет назад Хемингуэй знал его отца Каэтано Ордоньеса, выступавшего под именем Ниньо де ла Пальма, которого он вывел в романе «И восходит солнце» как Педро Ромеро. После боя Хемингуэю передали приглашение от Антонио зайти к нему в отель «Йодли». Как вспоминал потом Хемингуэй, он тогда сказал себе: «Только не вздумай заводить опять дружбу с матадором, да еще с таким, как этот, потому что ты знаешь, насколько он хорош и какая это будет для тебя утрата, если с ним что-нибудь случится». Но, к счастью, как он сам признавался, он так и не научился следовать собственным добрым советам или прислушиваться к собственным опасениям. Он пошел в номер к Антонио. Его прежде всего поразили глаза матадора. «Вряд ли есть на свете, — писал он, — другая пара таких ярких веселых черных глаз с озорным мальчишеским прищуром».
Антонио сразу начал расспрашивать Хемингуэя о своем отце и о том, не хуже ли он отца. Эрнест рассказал ему, какой замечательный матадор был его отец. С этого дня они стали друзьями. Хемингуэй с Мэри поехали вместе с Антонио в поездку по Испании, во все города, где он выступал.
Потом их пригласили на скотоводческую ферму матадора Луиса Мигеля Домингина, с сестрой которого Кармен был обручен Антонио. Это была прекрасная поездка: «В знойный летний кастильский полдень, когда горячий ветер из Африки взметал тучи соломенной пыли над токами, расположенными у дороги, мы остановились перед домом, от которого веяло тенью и прохладой».
Но надо было торопиться обратно в Париж, чтобы оттуда выехать в Марсель и успеть на пароход, который должен был доставить их в Момбасу.
В Момбасе их встретил старый друг Филип Персиваль, который увез их на свою ферму около Мачакос. Их сопровождал фотокорреспондент журнала «Лайф» Эрл Тейзен. Там они получили лицензии на охоту и отправились в путь.
В дороге они познакомились с егерем Имали-Лайтокитокского района Кении Денисом Зафиро, подружились с ним, вместе охотились на носорогов, львов, гну, стреляли влет разнообразных птиц, населявших заповедник. Хемингуэй даже заменял в течение нескольких недель Дениса Зафиро в его обязанностях егеря, когда тот должен был уехать в Долину Маслин.
Хемингуэй с удовольствием стал вживаться в эту новую для него роль. Он разбирал жалобы местных жителей, когда, например, один охотник из племени масаев ранил другого копьем, выслеживал стадо слонов, совершившее нашествие на одну из соседних плантаций, охотился на леопарда, повадившегося в гости к местным козам.
Слетал он и в Танганьику, чтобы повидать своего сына Патрика, купившего себе там большую ферму.
В качестве рождественского подарка Мэри, которой все казалось, что она еще мало видела Африку, Хемингуэй решил полететь с ней в Конго. Они отправились в Найроби и оттуда 21 января 1954 года вылетели на самолете «кесна-180» с пилотом Роем Маршем. Прежде всего они направились к Долине Маслин, разыскали с воздуха лагерь Дениса Зафиро, сбросили ему записку с пожеланием успехов, пролетели над ущельем Рифт, потом к озеру Патрон, у берегов которого паслись стада буйволов, затем повернули к кратеру Нгоронгоро, где увидели несколько тысяч антилоп гну, антилоп конгони и других пород.
Потом они летели над равниной Серенгети, где когда-то Хемингуэй охотился вместе с Полиной, сделали посадку в маленьком городке Мванза для заправки горючим и полетели дальше над озером Виктория к Руанда-Урунди. Сверху они наблюдали многочисленные туземные селения с конусообразными хижинами. В городе Костермансвилль, около необыкновенной красоты озера Киву, они сделали посадку и утром вылетели дальше на север. Они пролетели между двумя действующими вулканами, посмотрели на хребет Рувензори, который туристы называли «Лунные горы», и остановились в городке Энтеббе.
Отсюда ранним утром они вылетели к озеру Альберта. С воздуха было хорошо видно, как рыбаки забрасывают сети с лодок, выдолбленных из целого древесного ствола. Дальше они полетели вдоль Белого Нила к водопаду Мэрчисон-Фоллз. По пути они видели много бегемотов и слонов и даже смешанные стада слонов и буйволов. Берег реки был усеян крокодилами. Их было великое множество, и они отличались не только длиной, но и толщиной.
Покружившись над живописным водопадом Мэрчисон-Фоллз, где Мэри отсняла несколько катушек пленки, они решили вернуться в Энтеббе, чтобы отдохнуть и проявить пленки.
Когда водопад остался в стороне, им встретилась стая больших птиц, которых Хемингуэй определил как черно-белых ибисов. Такая птица легко могла пробить переднее стекло маленького самолета, как «кесна-180». Поэтому Рой Марш резко спикировал вниз под стаю. И в этот момент самолет сначала пропеллером, а потом хвостовым оперением ударился о провод старой телеграфной линии. На какое-то время самолет потерял управление, и хотя Рой Марш кое-как справился с ним, надо было немедленно идти на посадку. «Мы могли, конечно, — писал впоследствии Хемингуэй, — сесть на то, что было прямо под нами и что на жаргоне летчиков английского королевского флота именуется «пойлом». Однако в «пойле», которое мы с Роем внимательно разглядывали, оказалось слишком много крокодилов, так что посадка становилась нецелесообразной»,
Поэтому Рой Марш взял резко влево и посадил машину в гуще кустарника. Раздался обычный при авариях скрежет рвущегося металла. Хемингуэй с Роем вытащили Мэри из самолета и стали осматривать местность, чтобы определить, где им расположиться. Поблизости проходили две слоновые тропы, и они нашли высотку со скалой, куда не мог бы взобраться ни один слон. Там они нарвали травы, устроили ложе для Мэри, которая страдала от сильной боли, — как потом выяснилось, у нее были сломаны два ребра, набрали дров для костра, и Рой пошел к самолету и передал по радио сигнал бедствия. Они подсчитали свои запасы продовольствия и напитков, полагая не без оснований, что на их поиски может уйти несколько дней.
Ночь была очень холодной, и, кроме того, к их стоянке то и дело приближались огромные слоны.
На рассвете Рой Марш ушел за водой к водопаду, а Хемингуэй поддерживал костер, который должен был послужить сигналом пролетающим самолетам. Для этого надо было собирать сухие дрова, что было отнюдь не безопасно, так как при первом же треске ломающейся ветки слоны начинали громко и вызывающе трубить.
Во время одного из этих утренних путешествий за дровами Эрнест отклонился в сторону от лагеря, увидев хорошее дерево с сухими ветками. Но стоило ему сломать ветку, как он услышал протестующее ворчание слона. Он посмотрел в ту сторону, откуда слышался этот звук, и вдруг увидел на реке катер. В первый момент он побоялся, не мираж ли это, и позвал Мэри, но в эту минуту катер скрылся за мысом. Мэри выразила сомнение в его открытии, однако катер все-таки появился из-за мыса. Они просигналили, и катер пристал к берегу. Выяснилось, что этот катер совершал очередные рейсы не чаще чем раз в месяц и оказался здесь по счастливой случайности — одна английская супружеская пара отмечала таким образом свою золотую свадьбу. С ними была и их дочь с мужем, известным хирургом Мак-Адамом. Хемингуэй знаками показал людям с катера, как подойти к лагерю, чтобы не натолкнуться на слонов, они с трудом поднялись туда, забрали Мэри и повели ее к катеру, а Хемингуэй стал ждать Роя Марша. Тем временем опять появились слоны, и Хемингуэй с трудом, поскольку у него была вывихнута правая рука, вскарабкался на скалу, которую они выбрали как убежище для Мэри. Одна из слоних настойчиво пыталась дотянуться до него хоботом явно не с дружелюбными намерениями. Ему пришлось бросать в нее левой рукой камни, чтобы отогнать. В конце концов слонихи удалились, Рой Марш вернулся, и они добрались до катера, после чего был поднят якорь, и катер поплыл вниз по реке к озеру Альберта в Бутиабу.
Это уже было приятное путешествие. Хирург Мак-Адам осмотрел Мэри, обнаружил у нее перелом двух ребер, но нашел, что общее состояние ее хорошее и она оправляется от шока. Можно было любоваться теперь уже неопасными крокодилами, слонами, приходившими к реке на водопой, обилием птиц на водной глади озера Альберта.
Бутиаба оказалась маленькой, ничем не примечательной деревушкой на берегу озера. Там они встретили летчика Картрайта, который уже целый день разыскивал их на своем самолете «хэвиленд». Весь мир уже был оповещен о гибели Хемингуэя и его жены — летчик, пролетавший в районе Мэрчисон-Фоллз, увидел разбитый самолет, около которого никого не было, и сообщил об этом по радио, добавив, что, по-видимому, никого в живых не осталось.
Картрайт усадил Хемингуэя, Мэри и Роя Марша в свой самолет, чтобы доставить их в Энтеббе. Посадочная площадка в Бутиабе представляла собой поле, сплошь покрытое кочками. Когда они взлетали, самолет на максимальной скорости помчался по этому полю, прыгая с кочки на кочку, подобно дикой козе. Внезапно это сооружение, которое, как писал Хемингуэй, все еще продолжало считать себя самолетом, рывком поднялось в воздух, причем это произошло вовсе не по его вине. Все это заняло несколько секунд, после чего машина рухнула на землю. Раздался уже знакомый им треск рвущегося металла. И тут же вспыхнул правый мотор, пламя перекинулось на бензиновый бак, расположенный в нравом крыле.
Хемингуэй, сидевший позади, нашел дверь, которую заклинило, ему удалось вышибить ее ударом плеча и головы. Он вылез на левое крыло, которое еще не горело. Рой Марш разбил окно, вылез сам и вытащил Мэри, вслед за ними вылез и Картрайт. Они поспешили отойти подальше от горящего самолета. У Эрнеста была разбита и кровоточила голова, у Мэри повреждено колено.
Вспоминая об этом в очерке, написанном для журнала «Лук» и названном не без юмора «Рождественский подарок», Хемингуэй писал: «Многие люди и несколько сотрудников газет спрашивали меня: о чем думает человек в час своей смерти (довольно выспренняя фраза)? Что чувствует человек, когда читает некролог о самом себе?.. Я могу честно заявить, что в те мгновения, когда самолет разбивается и горит, мысли ваши заняты чисто практическими вопросами. Вся ваша жизнь вовсе не пролетает перед вашими глазами, как на киноленте, ваши мысли носят чисто техническую окраску. Возможно, что есть люди, у которых жизнь пролетает перед глазами, но в моей личной практике я пока что ничего такого не испытывал».
Полицейский Уильямс со своей женой доставили их на машине в Масинди. Пришлось ехать более 50 миль. Хемингуэй писал, что это была самая долгая поездка в его жизни, и он уверен, что Мэри она тоже не показалась короткой. В Масинди их встретили с восторгом местные жители и несколько пилотов, которые, так же как и Картрайт, разыскивали их останки. Местный врач-африканец бегло осмотрел их, обрил Хемингуэю голову и наложил пластыри, что придало ему, по его собственным словам, умеренно сенсационный вид. Он перевязал Эрнесту и ногу, которая начала гноиться. Мэри дала телеграмму своим родителям.
Из Масинди их опять-таки на машине доставили в Энтеббе. Это было долгое и скучное путешествие в сотню миль по пыльной дороге. В очерке «Рождественский подарок» Хемингуэй писал о своих раздумьях в течение этой дороги и помянул пресловутого сенатора Маккарти, этого «охотника за всеми врагами истинно американского образа жизни»: «Прежде всего, — писал он, — я пожалел о том, что при аварии обоих самолетов с нами не было сенатора-республиканца от штата Висконсин Джозефа Маккарти. Я всегда испытывал некоторое любопытство в отношении видных общественных деятелей; и вот я подумал, как повел бы себя сенатор Маккарти, попади он в эту переделку… И я задавал себе вопрос: был ли бы он неуязвим, временно лишившись своей сенаторской неприкосновенности, для тех разнообразных зверей, в чьем обществе мы недавно находились? Эта мысль занимала мой расстроенный ум на протяжении десяти-двенадцати миль, причем, должен признаться, она доставляла мне немалое удовольствие».
В Энтеббе их встретили представители авиакомпании, прилетевшие провести следствие об обеих авариях. Хемингуэй писал, что это был очень странный разговор, потому что каждый из этих «инквизиторов» двоился. Вообще с головой было плохо — слух то появлялся, то пропадал, иногда он не слышал собственного голоса, а то вдруг все звуки становились чересчур резкими. За левым ухом у него все время что-то сочилось. С обычным для него юмором он писал, что еще в дороге попросил Мэри посмотреть, не происходит ли там выделение серого вещества, на что Мэри ответила: «Папа, ты же знаешь, что у тебя нет мозгов, — значит, это какая-то другая, неизвестная нам жидкость». «В умении грубо шутить, — заключал он, — мисс Мэри никому не уступит».
Сразу после их приезда в Энтеббе прилетел из Танганьики Патрик, наняв для этого самолет. Он привез с собой четырнадцать тысяч шиллингов. «Это был первый случай, — писал потом с улыбкой Хемингуэй, — когда кто-либо из моих сыновей приезжал к нам с деньгами в кармане или без просьбы, скажем, помочь ему вернуться в армию либо вызволить его из тюрьмы. Так Патрик стал для меня героем этого повествования, точно так же, как мисс Мэри — его главной героиней».
Рой Марш пока что вылетел в Найроби и вернулся оттуда на другом самолете «кесна», чтобы доставить Эрнеста в Найроби. Патрик остался ухаживать за Мэри и должен был привезти ее рейсовым самолетом.
Здесь, в Найроби, его ожидала груда приветственных телеграмм со всех концов света. Но еще интереснее было читать другое. Здесь он начал предаваться «тому странному, — как он писал, — пороку, который, по-моему, может оказать крайне разрушительное воздействие на душевный покой человека и, может быть, даже привести к потере им репутации уравновешенного человека. А я всегда был уравновешенным человеком, хотя различные доморощенные биографы и пытались доказать обратное».
Этим «странным пороком» стало чтение некрологов, помещенных в связи с его «гибелью» во всех газетах мира. «Большинство из них, — посмеивался Хемингуэй, — я и сам не смог бы так хорошо написать».
Состояние его здоровья было весьма тяжелым — у него были повреждены кишечник, печень и почки, была временная потеря зрения левым глазом, утрата слуха левым ухом, поврежден позвоночник, растяжение связок в правой руке и плече, такое же растяжение левой ноги, ожоги на лице, на руках и голове. Но он при этом бодрился и заявил репортерам, что чувствует себя как никогда хорошо. В письме Адриане он писал, что оба раза, когда ему грозила смерть, он сожалел только о том, что доставит ей огорчение.
Еще до катастрофы они по телеграфу наняли рыбацкую лодку и договорились устроить лагерь на морском берегу Кении у Шимони. Мэри улетела в Момбасу проверить готовность лагеря, а Эрнест остался в Найроби писать для журнала «Лук» очерк об их злоключениях.
Потом они все собрались в лагере в Шимони. Туда приехал Патрик со своей женой, Филип Персиваль с женой. Все они увлеклись рыбной ловлей, на этот раз без Эрнеста — боль в спине не позволяла ему заниматься любимым спортом.
Злой рок словно преследовал его — около лагеря вспыхнул лесной пожар, и Хемингуэй, несмотря на свои недомогания, бросился помогать остальным в тушении пожара. Но он явно не рассчитал своих сил, споткнулся и упал в пламя. Когда его вытащили, у него были тяжелые ожоги ног, живота, груди, губ и рук. После этого он уже не сходил с борта рыбацкой лодки до тех пор, пока не пришло время отправляться пароходом в Венецию.
Здесь он большую часть времени лежал в своем номере в «Гритти-палас», принимая гостей, читая, отдыхая. Самым желанным гостем, как и раньше, была Адриана Иванчич.
Жизнелюбие его было поразительным — несмотря на тяжелое самочувствие, боли в спине, он все-таки решил после пасхи поехать опять в Испанию на ферию. Мэри должна была уехать в Париж и Лондон, а Эрнест вызвал находившегося тогда в Голландии Арона Хотчнера, чтобы тот сопровождал его в автомобильной поездке из Венеции в Испанию. Опять появился Адамо, сел за руль хемингуэевской «ланчии», и они двинулись в Милан.
Здесь они посетили Ингрид Бергман, которая вышла замуж за итальянского продюсера Роберто Росселини и жила в Милане, выступая там в театре в роли Жанны д'Арк. Отсюда они выехали через Турин в Кунео по направлению к Ницце. Эрнест подкладывал себе под спину подушку, чтобы не так болела спина, и тем не менее каждый раз, когда надо было изменить положение, он морщился от боли.
В Кунео, маленьком городке в Альпах, он захотел остановиться, чтобы купить бутылку виски. Девушка в магазинчике узнала его и попросила автограф. Когда они вышли на площадь, уже весь городок узнал о его приезде, и их окружила толпа местных жителей, требовавших автографов. Эрнест почувствовал, что его сейчас задавят. Выручили солдаты местного поста, проложившие ему дорогу сквозь толпу.
На Эрнеста этот эпизод произвел довольно тягостное впечатление, в машине он говорил Хотчнеру о своей ненависти к «паблисити», которое лишает писателя, художника, актрису возможности уединения. «Раньше, — говорил он, — у меня была очень приятная частная жизнь, и я мог гордиться многим без рекламы и опубликования, теперь же я чувствую, как будто кто-то оправился в моей личной жизни, подтерся роскошным журналом и оставил все это у меня. Я должен уехать в Африку или оставаться в море. Теперь я даже не могу пойти в бар «Флоридита», не могу поехать в Кохимар. Не могу оставаться дома. Все это очень плохо действует на нервы».
Чтобы избежать случаев, подобных тому, который произошел в Кунео, он в ближайшем же городке сбрил бороду, надеясь, что его не будут узнавать.
По дороге они в Сан-Себастьяне подобрали Хуанито Кинтану и к началу ферии святого Исидора были уже в Мадриде. Здесь опять был бой быков, встречи с друзьями матадорами, поездки на ферму, где Мигель Домингин тренировался на молодых быках.
Из Мадрида они на той же машине вернулись в Геную, откуда отплыли на Кубу.
ГЛАВА 27 ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
Надо быстрее работать. Теперь так рано темнеет…
Э. Хемингуэй, Из письмаИтак, после всех странствий он вернулся в свой дом, в Финка-Вихия, о котором он говорил: «Как хорошо возвращаться сюда, куда бы ты ни ездил». Здесь все было по-прежнему — спальня, где он привык работать, Белая Башня с видом на море, развалившаяся ступенька, которую он не разрешал чинить, потому что в ее трещинах проросли дикие цветы, бассейн, книги. О том, как он любил свой дом, можно судить по одному из его писем к Адриане, написанному позднее, в 1955 году: «Только что вернулся с вечерней прогулки вокруг дома. Небо над холмами розовое, Гавана светится в сиреневом тумане, наше большое дерево, которое на прошлой неделе покрылось новой листвой, кажется золотым, розовым, медным и похоже на огромный зонт, почки каучукового дерева возле вашего домика набухли и лопнули, бассейн сверкает зеркальной водой, кругом весенние цветы, из селения доносится музыка. Все вокруг так прекрасно, — а может быть, мне это только кажется, — что я чувствую себя особенно одиноким, а это вызывает желание видеть тебя рядом. Мы могли бы поговорить о влиянии красоты и окружающей среды на характер человека…»
Беспокоило только состояние здоровья и то, что он не мог работать. После африканских катастроф врачи сказали ему: «Вы должны были умереть немедленно после аварии. Поскольку этого не произошло, вы должны были умереть, когда получили эти ожоги. Однако раз вы еще живы, вы не должны умереть, если будете хорошим мальчиком…»
И он с помощью заботливой Мэри очень старался быть «хорошим мальчиком» — соблюдал строгую диету, сгоняя лишний вес, сократил выпивку до двух стаканчиков в день, плавал осторожно в бассейне. Он был опытный боец и твердо решил восстановить свою боевую форму. А для него боевая форма означала одно — возможность писать как можно лучше. Это он много раз утверждал на протяжении всей своей жизни. Советскому журналисту Г. Боровику, например, он говорил во время их встречи на Кубе: «Работа — это главное в жизни. От всех неприятностей, от всех забот можно найти только одно избавление — в работе. Настоящий писатель работает не ради денег. Ведь вы знаете: «Если можешь не писать, не пиши». Я не могу не писать. Если не пишу, то обязательно что-то делаю для будущей книги. Писать для меня — больше, чем есть, пить…»
Но писать в эти месяцы после возвращения из поездки Хемингуэй не мог. Ему было трудно даже написать письмо.
Так прошли весна и лето. А осенью он уже смог встать за свою конторку в спальне и вновь начать исписывать белые страницы бумаги своим быстрым почерком. На этот раз он начал писать цикл рассказов об Африке. По существу, это были почти дневниковые записи их последней поездки.
28 октября 1954 года было получено официальное сообщение о присуждении Хемингуэю Нобелевской премии по литературе. В этот день в Финка-Вихия было множество гостей, пришедших поздравить Эрнеста. В разгар торжества позвонил из Нью-Йорка старый приятель Харви Брейт, чтобы взять по телефону интервью. Он спросил Хемингуэя, кому из писателей, начиная с того времени, как была учреждена эта премия, он бы ее дал.
— Что ж, — сказал Эрнест, — как лауреат, не могу не пожалеть, что этой премии не были удостоены ни Марк Твен, ни Генри Джеймс, это если говорить только о моих соотечественниках. Не досталась она и более великим писателям, чем те, которых я назвал.
Говоря о своих современниках, Хемингуэй сказал, что был бы более счастлив, если бы Нобелевскую премию присудили, в частности, Бернарду Беренсону, который посвятил свою жизнь лучшим в мире работам о живописи. «А больше всего меня порадовало бы, — сказал он, — если бы премию присудили Карлу Сэндбергу».
К этой премии у него было двойственное отношение. С одной стороны, он, конечно, гордился, что ему присудили премию. Да и сумма премии — 35 тысяч долларов — была для него не лишней, он мог таким образом расплатиться с некоторыми долгами.
С другой стороны, ему претила шумиха, поднявшаяся вокруг его имени в связи с награждением: корреспонденты, атаковавшие его, газеты, бесцеремонно вторгавшиеся в его личную жизнь.
Журналистам, собравшимся в Финка-Вихия, он заявил, что не сможет поехать в Стокгольм получить премию. «Я выгляжу здоровым, — сказал он, — и, безусловно, из меня получится прекрасный труп, но путешествовать сейчас я не в состоянии». «Начиная с завтрашнего дня, — добавил он, — я не смогу никого больше принимать. Я должен вернуться к работе. Я не надеюсь, что проживу более пяти лет, и я должен торопиться».
Американский посол в Стокгольме, узнав из газет, что Хемингуэй не сможет по состоянию здоровья приехать лично получать премию, сообщил ему, что примет ее от его имени, но надо, чтобы Хемингуэй прислал в письменном виде небольшую речь для этого случая.
Такую речь он написал и отправил в Стокгольм. Содержание ее весьма характерно, в ней он вновь постарался сформулировать свои мысли о писательском труде. Прежде всего он утверждал, что всякий писатель, зная, какие великие писатели не получили этой премии, должен принять ее не иначе как со смирением. Каждый может составить свой собственный список таких писателей в соответствии со своими знаниями и совестью.
«Жизнь писателя, — заявил он, — всегда одинокая жизнь. Писательские организации в какой-то мере спасают писателя от одиночества, но сомневаюсь, чтобы они помогали ему в работе. Расставаясь со своим одиночеством, он вырастает как общественная фигура, но работа его при этом часто страдает. Ибо работает он один, и если он — достаточно хороший писатель, он изо дня в день думает о том, останется или не останется его имя в веках. Для настоящего писателя каждая книга должна быть новым началом, новой попыткой достигнуть недостижимого. Он всегда стремится сделать то, чего до него никто не делал или что другие пытались сделать и не сумели. И на этом пути, если ему повезет, он иногда добивается удачи. Как просто было бы работать в литературе, если бы требовалось только написать по-другому о том, о чем уже хорошо написано. Именно потому, что в прошлом у нас были такие великие писатели, современный писатель вынужден уходить дальше, куда ему, возможно, и не дойти и где никто ему не поможет. Для писателя я уже наговорил слишком много. То, что писатель хочет выразить, он должен не говорить, а писать».
Он твердо знал, что должен писать, но писать не мог — ему все время мешали. Роберту Мэннингу, который приехал к нему от журнала «Тайм», Хемингуэй сказал: «Конечно, я горжусь тем, что мне дали премию, но мне в это время очень хорошо писалось, и мне не нужна премия, если из-за нее я не смогу писать свою книгу». Хотчнеру он жаловался но телефону, что репортеры и фотокорреспонденты вламываются в его дом, даже если им не разрешают. Один корреспондент из Швеции мучил его в течение шести с лишним часов, другой — фотограф — хвалился в баре «Флоридита», что сделал четыреста двадцать пять снимков в доме Хемингуэя.
Хемингуэй был почти в отчаянии, он объяснял, что напряженно работает и что это равносильно убийству — мешать писателю, когда он пишет. Это все равно, говорил он, как врываться к мужчине, когда он лежит в постели с любимой женщиной.
В конце концов они с Мэри сбежали от этого непрекращающегося нашествия в море на «Пилар». Но, как он объяснял Хотчнеру, он забыл, насколько нужно быть крепким, чтобы вытянуть лесу с крупной рыбой. Он признавался, что не может ни ловить рыбу, ни плавать, ни вообще заниматься физическими упражнениями.
Все первое полугодие 1955 года его мучили боли в спине, он очень быстро уставал, его раздражало то, что левый глаз плохо видит и левое ухо плохо слышит.
Тем не менее он упорно продолжал работать над книгой об Африке. К концу мая уже было написано около 450 страниц. Но его опять оторвали от письменного стола, и на этот раз надолго. 1 июня к нему приехал Леланд Хейуорд, чтобы возобновить разговоры о фильме «Старик и море».
С Хейуордом приехал и сценарист будущего фильма Питер Виртел.
Всю свою жизнь Хемингуэй придерживался правила: никогда не связываться с кинематографом. Как вспоминает Мэри Хемингуэй, он часто цитировал высказывание журналиста Сирилла Коноли: «Если писатель начинает разбрасываться на журналистику, радиопропаганду и киносценарии, то какими бы грандиозными ни казались ему вначале эти проекты, в будущем его ожидает только разочарование. Вкладывать все лучшее, чем обладаем мы, писатели, в эти формы искусства — это значит совершать непоправимую глупость, ибо, поступая таким образом, мы предаем забвению все наши представления о хорошем и плохом».
Но на этот раз Хемингуэй изменил своему правилу — ему казалось, что, если он примет какое-то участие в съемках «Старика и море», может получиться пристойный фильм в отличие от всех снятых до тех пор по его произведениям картин.
Эрнест повез Виртела в деревушку Кохимар и заставил его провести ночь в хижине рыбака, подобной той, в которой жил его старик. Потом он вывез Виртела в море и оставил там на несколько часов одного в маленькой лодке, чтобы тот мог представить себе обстановку, в которой происходит действие книги.
Здоровье Хемингуэя начало понемногу улучшаться, и в июне они с Мери отправились в Ки-Уэст, чтобы осмотреть дом, в котором теперь никто не жил, и привести его в порядок. Туда прилетал повидаться с Хемингуэем Хотчнер и был поражен тем, как постарел и погрузнел писатель.
А в августе 1955 года к Хемингуэю на Кубу приехала съемочная группа фильма «Старик и море», и он принялся помогать им, главным образом в ловле марлина. Он был горд собой, что опять может часами бороться с мощной рыбой. Он даже согласился, чтобы его самого мельком показали на экране.
В первый же день ловли Хемингуэю удалось поймать двух крупных марлинов, но Хейуорду все казалось, что для фильма нужен марлин покрупнее, хотя Хемингуэй объяснял ему, что ничего лучшего выловить им не удастся. Самый большой марлин из пойманных ими был длиной в четырнадцать с половиной футов и весил 150 фунтов, но Голливуду нужен был марлин длиной в восемнадцать футов. Съемки прекратили до весны следующего года, чтобы продолжить их у берегов Перу, где, по слухам, можно было поймать гигантского марлина.
Хемингуэй опять думал о поездке в Африку, строил планы нового сафари, старался укрепить свои силы. Он даже вызвал к себе на Кубу своего старого приятеля по занятиям боксом Джорджа Брауна, чтобы тот его массажировал и тренировал. Тогда же, в сентябре 1955 года, Хемингуэй написал завещание, которое Джордж Браун и засвидетельствовал. Хемингуэй оставлял все, что у него было, Мэри и делал ее распорядительницей его рукописей.
Пока что он собирался съездить с Мэри в Центральную и Южную Америку, чтобы посмотреть там бои быков с участием Домингина и Ордоньеса. Однако новые приступы болезни помешали ему осуществить эту поездку. Новый, 1956 год он встретил в постели.
А в апреле опять появилась съемочная группа «Старика и море». Теперь энтузиазм Хемингуэя сильно сник. Мальчик, которого подобрали на роль Манолито, ему не понравился. Да и Спенсер Трэси, по словам Хемингуэя, выглядел слишком толстым, богатым и старым для роли старика.
Поездка к берегам Перу оказалась неудачной, им не удалось ничего поймать, океан был бурным, Хемингуэя раздражали споры между режиссером Фредом Циннеманом и Спенсером Трэси. Вернувшись в Финка-Вихия, он с огорчением говорил, что кинематографисты украли три или четыре месяца его жизни.
Рукопись книги об Африке была отложена, и он взялся за цикл рассказов о второй мировой войне. В том же году он написал рассказ «Нужна собака-поводырь». Это был рассказ об ослепшем писателе-американце, живущем с женой на острове Торчелло в лагуне Венеции, явно навеянный воспоминаниями о том трагическом периоде, когда Хемингуэй лежал в 1949 году в Венеции, опасаясь, что останется слепым.
Рассказ получился грустный и удивительно нежный. В нем проглядывает вся нежность Эрнеста по отношению к Мэри, надежной спутнице жизни. В том же 1956 году Хемингуэй сказал о ней в одном интервью слова, озаренные доброй улыбкой: «Мисс Мэри чудесная жена, она сделана из крепкого, надежного материала. Кроме того, что она чудесная жена, она еще и очаровательная женщина, на нее всегда приятно смотреть. Вдобавок она великолепная пловчиха, хорошая рыбачка, превосходный стрелок, незаурядная повариха, хорошо разбирается в винах и любит заниматься астрономией, что не мешает ей заниматься садоводством. Кроме астрономии, она изучает искусство, политическую экономию, язык суахили, французский и итальянский языки. В Испании она великолепно справлялась с баркасом, но может прекрасно справиться и с хозяйством целой усадьбы. Еще она умеет хорошо петь своим точным и верным голосом, а генералов, адмиралов, маршалов авиации, политиков и всяких важных лиц, убитых капитанов третьего ранга, бывших батальонных командиров, подозрительных субъектов, койотов, степных собак, зайцев, завсегдатаев кафе, содержателей салунов, летчиков, игроков на бегах, хороших и плохих писателей и коз она знает гораздо больше, чем я. Мисс Мэри может также петь по-баскски и прекрасно стреляет из ружья. Известно, что она раздражительна и может сказать на отличном суахили «Тупа иле чупа тупу», что значит: «Убери эту пустую бутылку». Когда ее нет, наша Финка пуста, как бутылка, из которой выцедили все до капли и забыли выбросить, и я живу в нашем доме словно в вакууме, одинокий, как лампочка в радиоприемнике, в котором истощились все батареи, а ток подключить некуда…»
В августе 1956 года они совершили путешествие в Европу. Из Парижа они приехали в Испанию, остановились в Логроно, где встретили Ордоньеса, проехали вслед за ним в Мадрид, потом в Сарагосу на ферию. Хемингуэй все обдумывал новую поездку в Африку, предполагая пригласить туда Ордоньеса и показать ему там охоту на крупного зверя. Но здоровье его ухудшилось, и доктор Мадинавейтия, наблюдавший его в Испании не первый год, категорически запретил ему ехать в Африку.
На обратном пути в Париже в отеле «Ритц» Хемингуэя ожидал приятный сюрприз — служители отеля нашли в подвале два его чемодана, лежавшие там с конца двадцатых годов. В чемоданах были рукописи, записные книжки, газетные вырезки. Эта неожиданная находка его чрезвычайно обрадовала. Он разбирал свои старые бумаги, черновики, и они так многое ему напоминали о давно ушедшей жизни. Исчерканные, по многу раз правленные страницы рукописей свидетельствовали о том, как напряженно он работал над своими произведениями. «Это удивительно, — сказал он Мэри. — Оказывается, тогда мне было так же трудно писать, как и сейчас».
Эта находка заставила его вернуться мыслями к давно прожитым годам, и когда, уже после возвращения в Финка-Вихия, журнал «Атлантик мансли» попросил его дать им что-нибудь для юбилейного номера в честь столетия журнала, Хемингуэй несколько неожиданно для себя начал писать воспоминания о Скотте Фицджеральде, об их первой встрече в Париже в 1925 году. Потом он отказался от этой мысли и послал им небольшой рассказ о бродяге, которого ослепили в драке.
Но воспоминания о Париже тех первых лет не давали ему покоя, и в течение осени 1957 и весны 1958 года Хемингуэй продолжал трудиться над ними.
Он писал о своей нищей и счастливой жизни с Хэдли и Бэмби, о том, как он работал над своими рассказами в славном кафе на площади Сен-Мишель, о своем знакомстве с Гертрудой Стайн, о разговорах с ней, в том числе и о памятном разговоре насчет «потерянного поколения», о Форде Мэдоксе Форде и о других товарищах тех лет, об Эзре Паунде, которого как раз в то время освободили из тюремного госпиталя в Америке, где он содержался в заключении за свои антиамериканские выступления во время второй мировой войны по итальянскому радио, о художнике Паскине, об Эрнесте Уолше, об их поездках с Хэдли в горы в Шрунс. Было многое, что хотелось вспомнить и записать.
Но главным героем этой книги становился Париж, любимый город его молодости, который так многое ему дал и которому он всегда был благодарен. Он описывал парижские улицы, набережные, бульвары, свои любимые кафе, скачки в Отейле, велогонки на Зимнем велодроме и многое другое.
Параллельно с книгой воспоминаний о Париже Хемингуэй в эти годы продолжал работать над давно начатым романом «Эдем», писал новые главы, переписывал уже ранее написанные. Однако он уже понимал, что книга о Париже будет закончена им раньше этого романа, и говорил, что, видимо, она будет ближайшей книгой, которую он опубликует.
Так шли дни в Финка-Вихия в эти последние годы их жизни на Кубе. Об их быте вспоминает Мэри в одном из интервью. Она рассказывает, что Хемингуэй если не писал — а это случалось редко, — то ловил рыбу или плавал в бассейне. Когда он вылезал из бассейна, они садились завтракать. Он любил вкусно поесть, но ел в общем мало. Гораздо большее наслаждение он получал от хорошего вина, за ужином у них всегда на столе стояли две бутылки, одна для него, другая для Мэри. Поужинав, он обычно брался за чтение. Читал он, по воспоминаниям Мэри, одновременно пять-шесть книг и читал их по-английски, по-испански, по-итальянски и по-французски. Очень любил читать детективы. Любимым его писателем этого жанра был Жорж Сименон. Про него он всегда говорил: «Да, вот кто действительно умеет писать». Читал Хемингуэй беспрерывно и повсюду, даже в море, когда они выезжали ловить рыбу. Практически, вспоминала Мэри, он никогда не переставал читать, разве только когда стрелял. Перед сном они любили читать вслух стихи.
Эрнест очень любил музыку, и в Финка-Вихия была прекрасная коллекция пластинок — Бах, Бетховен, Дебюсси. Любил он и джазовую музыку.
«На Кубе, — рассказывала Мэри, — с ним приходило повидаться много людей, иногда слишком много, и все в одно и то же время, и тогда он жаловался, что ему мешают работать. Бывало, что он жаловался, что приходится встречаться с разными идиотами. Но чаще он бывал рад гостям. Ведь он был очень общительным. Он любил, чтобы вокруг вертелись люди. Часто он собирал своих друзей и вел их с собой в бар «Флоридиту», где любил посидеть с ними за стаканом вина и от души посмеяться. Он даже не сердился на них, когда они задавали ему стереотипный вопрос: «Какая из написанных вами книг вам больше всего нравится?» В таком случае он неизменно отвечал: «На западном фронте без перемен» Ремарка».
Работал он по утрам в спальне, где к стене была прикреплена маленькая конторка, на которой хватало места только для стопки бумаги и нескольких карандашей, писал стоя. Иногда пользовался пишущей машинкой. Рядом на стене висел лист бумаги, на котором он в конце каждого рабочего дня записывал итог работы — количество написанных слов.
В доме было много картин, много книг, повсюду были охотничьи трофеи Хемингуэя и Мэри — шкуры львов и леопардов, головы буйволов, рога оленей.
Зима в 1958 году на Кубе выдалась на редкость суровая — штормы то и дело обрушивались на остров. А после этого наступила необычная даже для этих широт тягостная жара. Даже ночи не приносили прохлады. Работать в такую жару было невозможно, и Хемингуэй стал подумывать о том, чтобы уехать на лето в Кетчум — местечко неподалеку от Сан-Вэлли, где он не был последние десять лет. Он написал письмо старому другу Ллойду Арнольду, с которым подружился еще в 1939 году, и спросил его, очень ли изменились там места и можно ли еще охотиться. Арнольд ответил, что места, конечно, изменились, народу стало больше, но охота такая же, как и в прежние годы.
Это письмо решило вопрос, и Хемингуэй написал Арнольду, чтобы тот снял им дом. В октябре они из Чикаго на машине отправились в путешествие через Айову, Небраску и Вайоминг. Это была приятная поездка, он радовался природе Дальнего Запада, горам, лесам, предвкушая хорошую охоту.
В Кетчуме Хемингуэя радушно встретили старые друзья — Ллойд Арнольд, Тейлор Уильямс и многие другие. Чистый горный воздух, казалось, вливал в Хемингуэя новые силы. Хотчнер, приехавший в Кетчум в ноябре по приглашению Хемингуэя, был обрадован происшедшей с ним переменой. Эрнест вновь был подтянут, в нем не чувствовалось слабости, поражавшей при последних встречах, он был весел, глаза смотрели на мир ясно и бодро. Он вновь обрел быстроту реакции и охотился каждый день. Он мог даже соревноваться с Тейлором Уильямсом, который здесь считался лучшим стрелком влет по птице.
Однажды Хемингуэй подстрелил сову, подобрал ее раненую и принес домой, сова поселилась в гараже и стала верным другом Эрнеста. Сова охотно сидела у него на руке и, казалось, внимательно слушала все, что говорил ей Хемингуэй.
Здесь, в Кетчуме, вновь наладился былой распорядок его жизни — по утрам он работал, потом отправлялся на охоту. Мэри изощрялась в кулинарном искусстве, придумывая все новые блюда из уток, куропаток или оленины. По вечерам у них зачастую собирались местные приятели Эрнеста, смотрели по телевизору спортивные состязания. Он был самым внимательным хозяином, веселил гостей всевозможными смешными историями, следил, чтобы их стаканы не оставались пустыми. Во время этого пребывания в Кетчуме Хемингуэя посетил католический священник из соседнего городка и стал уговаривать Эрнеста встретиться в церкви со старшими школьниками и побеседовать с ними. Хемингуэй долго отказывался, но переубедить священника не удалось, и Эрнесту пришлось отправиться на эту встречу. Его сопровождали Мэри и Хотчнер, который записывал вопросы школьников и ответы Хемингуэя.
В отличие от многих других его интервью, когда он сплошь и рядом посмеивался над дотошными репортерами, а иногда и просто морочил им головы, на этот раз, беседуя со школьниками, он держался с ними как с равными и отвечал на их вопросы абсолютно серьезно. Его спрашивали о том, как он стал писателем, о его жизни, о книгах.
На вопрос о том, терпел ли он когда-нибудь неудачи, Хемингуэй ответил: «Если не работаешь хорошо — терпишь неудачи каждый день. Когда впервые начинаешь писать, никогда не испытываешь неудач. Тебе кажется, что ты пишешь замечательно и все идет прекрасно. Ты уверен, что писать очень легко, и ты радуешься этому, но ты думаешь о себе, а не о читателе. А он не так радуется. Позднее, когда ты понимаешь, что нужно писать для читателя, писать становится трудно. И уж что наверняка никогда не забудется — это как трудно было писать».
Его спросили, намечает ли он заранее план романа или делает предварительные заметки. Он ответил: «Нет, я просто начинаю писать. Литература создается путем изобретения на основе вашего знания. Если вы изобретаете успешно, получается более правдиво, чем если вы просто вспоминаете. Большая ложь более правдоподобна, чем правда».
Его спросили, бывает ли он разочарован в том, что пишет, и случается ли ему бросать начатое. Он ответил, что бывал разочарован, но никогда не бросал начатое: «Убежать некуда. Джо Луис сформулировал это очень точно — вы можете отступать, но скрыться негде».
В эти месяцы, пока Хемингуэй жил в Кетчуме, на Кубе разразилась долгожданная революция, войска Фиделя Кастро вошли в столицу, и кровавый диктатор Батиста сбежал. Хемингуэй нетерпеливо каждый день ждал новостей с Кубы. «Я от всей души желаю Кастро удачи», — говорил он. В его записях Мэри нашла впоследствии такие слова: «Кубинская революция была исторической необходимостью».
Хемингуэй очень сожалел, что не присутствовал при том, как вышвырнули Батисту, и утверждал, что банда Батисты украла у страны 600 или 800 миллионов долларов.
Жизнь в Кетчуме так понравилась Хемингуэю, что он решил купить себе здесь дом. Они присмотрели себе хороший новый дом на склоне горы, рядом протекала река Вуд-Ривер, богатая форелью. Из окон дома открывался великолепный вид на горы, покрытые лесами.
Пришлось ему побывать и на кетчумском кладбище. Здесь уже был похоронен один из первых его здешних друзей, Джин Ван Гилдер, погибший в 1939 году от случайной пули неопытного охотника. Теперь, в феврале 1959 года, они похоронили здесь Тейлора Уильямса, старого друга и замечательного охотника.
Предстоящее лето Хемингуэй твердо решил провести в Испании. Он собирался поехать туда еще прошлым летом, но обстоятельства ему не позволили. Теперь он сообщил Антонио Ордоньесу, что в любом случае они приедут в Мадрид не позднее мая, чтобы успеть к празднику святого Исидора. Хемингуэй знал, что в это лето Антонио будет соперничать с братом своей жены Домингином, и не мог пропустить такого зрелища. «Как показало время, — писал он впоследствии в книге «Опасное лето», — я бы никогда не простил себе, если бы пропустил то, что произошло весной, летом и осенью этого года. Страшно было бы это пропустить, хотя страшно было и присутствовать при этом. Но пропустить такое нельзя».
Было договорено, что Хемингуэй остановится на вилле богатого американца Дэвиса, их давнего знакомого, постоянно живущего в Испании. Там, на вилле «Консула», в горах над Малагой, Хемингуэй мог жить в комфортабельных условиях, работать и ездить на корриды.
В середине марта они выехали из Кетчума. Перед отъездом произошел эпизод, растрогавший Хемингуэя. Он решил выпустить на волю свою сову, отвез ее на машине в лес и посадил на то самое дерево, где когда-то подстрелил ее. Но как только они вернулись в машину, чтобы уехать, сова немедленно снялась с ветки и перелетела в машину — она ни за что не хотела расставаться с Эрнестом. Пришлось поручить ее друзьям, которые отвезли ее в лес уже после отъезда Хемингуэев.
Перед тем как отплыть в Европу, они совершили большую поездку по Соединенным Штатам до Нового Орлеана и оттуда в Ки-Уэст. Затем вылетели в Гавану и там сели на лайнер «Конститьюшн», доставивший их в Гибралтар.
Так начиналось это примечательное путешествие, впоследствии описанное Хемингуэем в книге «Опасное лето».
На вилле «Консула» Хемингуэям жилось прекрасно, они отдыхали, Эрнест ежедневно работал. «Когда я, проснувшись утром, — вспоминал Хемингуэй, — выходил на открытую галерею, опоясывавшую второй этаж дома, и смотрел на верхушки сосен в парке, за которыми видны были горы и море, и слушал, как шумит в сосновых ветках ветер, мне казалось, что лучшего места я никогда не видел. В таком месте чудесно работается, и я засел за работу с первого же дня».
Туда, на виллу «Консула», к нему приехал старый друг Хуанито Кинтана, и они долгими часами гуляли по парку, вспоминали разные случаи про бои быков, перебирали имена людей, которых оба хорошо помнили и которые умерли молодыми. «Мы тогда еще не знали, — писал Хемингуэй, — какое лето нас ожидает, но у нас обоих было тревожно на душе».
Проблема заключалась в предстоящем соперничестве между Антонио Ордоньесом и Домингином. «Бой быков, — писал Хемингуэй, — без соперничества ничего не стоит. Но такое соперничество смертельно, когда оно происходит между двумя великими матадорами. Ведь если один из боя в бой делает то, чего никто, кроме него, сделать не может, и это не трюк, но опаснейшая игра, возможная лишь благодаря железным нервам, выдержке, смелости и искусству, а другой пытается сравняться с ним или даже превзойти его, — тогда стоит нервам соперника сдать хоть на миг, и такая попытка окончится тяжелым ранением или смертью».
К началу корриды они были уже в Мадриде, но погода стояла дождливая и ветреная, и ферия показалась им томительно долгой, к тому же не было ни одного хорошего быка. Потом были другие города, Антонио Ордоньес выступал отлично, но впереди были корриды, когда он и Лупе Мигель Домингин должны были выступать в одних и тех же городах, в одни и те же дни.
В Аранхуэсе бык настиг Антонио и тяжело ранил его. Антрепренер Антонио и его брат Пепе хотели увести его с арены, но он яростно стряхнул их с себя и сказал Пепе: «И ты смеешь носить имя Ордоньес?» — после чего, превозмогая боль и истекая кровью, пошел на быка и безупречно убил его.
В больнице, куда положили Антонио, Хемингуэй долго еще оставался у его постели, пока не убедился, что опасность миновала. Выйдя из больницы, Антонио со своей женой Кармен приехали под Малагу на виллу «Консула», чтобы отдохнуть и набраться сил для предстоящих ферий. Это были чудесные дни, Эрнест и Антонио много гуляли, купались в море, разговаривали.
Потом опять замелькали города, гостиницы, рестораны. В Памплоне, где Антонио не должен был выступать, они бурно веселились пять суток без перерыва. С утра всей компанией уезжали на берег реки Ирати, гуляли там, купались и возвращались в город только к началу боя быков. Хемингуэй боялся, что в этих прелестных местах все вырублено, и страшно обрадовался, убедившись, что лес все такой же, каким он был в те годы, когда они путешествовали здесь с Хэдли пешком, — огромные буки и вековой ковер мха, на котором было так приятно лежать.
В Памплоне они отыскали излюбленные кабачки Хемингуэя и, как в былые годы, ходили в «Марсельяно» пить вино и петь песни. «Вино было так же приятно на вкус, — писал Хемингуэй, — как и тогда, когда нам было по двадцать лет, еда по-прежнему великолепная. Песни пелись те же, но были и новые, хорошие песни, с выкриками и притопыванием под дудку и барабан. Лица, молодые когда-то, постарели, как и мое, но все мы очень хорошо помнили, какими мы были в те годы… Ни у кого не залегла горечь в углах рта, хотя глазам, быть может, пришлось повидать многое. Горькие складки в углах рта — первый признак поражения. Поражения здесь не потерпел никто».
Этими словами Хемингуэй отдал должное мужеству и стойкости испанского народа, потерпевшего поражение в гражданской войне, но не сдавшегося, не смирившегося.
Ничто здесь как будто не изменилось с времен его молодости, и Хемингуэю казалось, что он опять молод, полон сил и веселья.
Тем временем приближалось 21 июля — день рождения Хемингуэя. Ему исполнялось шестьдесят лет. Мэри долго и тщательно готовилась к этому событию, которое решено было отметить на вилле «Консула». Она заказала шампанское из Парижа, китайские блюда из Лондона, наняла тир для стрельбы у кочующей ярмарки, пригласила специалиста по фейерверкам из Валенсии, танцоров, исполняющих фламенго, из Малаги, музыкантов из Торреполиноса.
Гостей на праздник съехалось множество, среди них был индийский магараджа с женой, из Бонна прилетел американский посол Дэвид Брюс, с которым Хемингуэй воевал вместе во вторую мировую войну, из Вашингтона прилетел генерал Бак Ланхем, из Парижа приехали некоторые старые друзья Хемингуэя, из Венеции — Джанфранко Иванчич, Антонио Ордоньес привез с собой жену Кармен и еще тридцать своих приятелей. Здесь же был и Хотчнер, путешествовавший с Хемингуэем по Испании.
Праздник длился целые сутки, и Хемингуэй сказал, что это лучший праздник в его жизни. Он пил шампанское, танцевал, провозглашал шутливые тосты в честь гостей, отстреливал пепел с сигареты, которую держал в зубах Антонио. Во время фейерверка одна из ракет подожгла верхушку королевской пальмы. Гости пытались потушить огонь, по безуспешно — пришлось вызвать пожарную команду из Малаги. Когда пожарные сделали свое дело, их тут же как следует напоили, виновник торжества надел на себя пожарную каску, а Антонио принялся ездить по парку в пожарной машине с включенной сиреной.
Гости разъехались только утром на следующий день. Хемингуэй пошел с Хотчнером купаться и сказал ему, что больше всего рад тому, что старые друзья не поленились приехать издалека. «Проблема со старыми друзьями, — сказал он, — сейчас в том, что их осталось так мало».
Он не хотел думать о старости, о смерти. Во время этой поездки по Испании он познакомился с испанским писателем Хуаном Гойтисоло. В разговоре они упомянули итальянского писателя Чезаро Павезе, покончившего самоубийством. Хемингуэй сказал: «Хороший был писатель, а вот покончил с собой. Я не понимаю, как может человек покончить с собой».
С Гойтисоло и его женой была их приятельница, дочь старого знакомого Хемингуэя, писателя Андре Мальро, который стал министром Франции. Хемингуэй неожиданно обратился к ней и сказал: «Объясните мне одну вещь. Отчего такой умный человек, как ваш отец, мог соблазниться властью? Художник не должен иметь иного честолюбия, кроме творческого».
Между тем сезон боя быков продолжался, и в Валенсии Антонио должен был выступать в один день с Луисом Мигелем Домингином. Оба претендовали на право считаться первым матадором Испании. И здесь, в Валенсии, произошло несчастье — бык поднял на рога Луиса Мигеля и потом в него, лежащего на песке, успел трижды вонзить рог.
Потом, когда Луис Мигель вышел из больницы, их состязание продолжалось в Малаге, в Сьюдад-Реале и закончилось в Бильбао, где Мигель Луис опять был тяжело ранен быком. Антонио вышел победителем.
Теперь Хемингуэй мог вернуться на виллу «Консула» и засесть за большую статью о событиях этого лета, которую он обещал написать для журнала «Лайф». Он начал с воспоминаний о том, как впервые после длительного перерыва приехал в Испанию в 1953 году и увидел тогда Антонио Ордоньеса.
В октябре они оставили Испанию и через Париж вернулись в США.
ГЛАВА 28 ПОСЛЕДНИЙ РАУНД
Мужчина не имеет права умирать в постели. Либо в бою, либо пуля в лоб.
Э. Хемингуэй, Из разговораВозвращение в Штаты было невеселым — во время короткой остановки в Париже Хемингуэй простудился и всю дорогу на пароходе не выходил из каюты. Он жаловался на лихорадку и говорил, что голова совершенно не работает.
В Нью-Йорке, где друзья сняли им квартиру неподалеку от Центрального парка, Эрнест тоже чувствовал себя неуютно. Недаром он много раз утверждал, что Нью-Йорк — это город, в котором нельзя жить. Хемингуэй хотел поскорее вернуться в свой дом на Кубе. Кроме того, ему хотелось показать Антонио Ордоньесу и его жене Кармен, которых он пригласил в Америку, новый дом, приобретенный им в Кетчуме.
Перед отъездом из Нью-Йорка, в ноябре, Хемингуэй передал рукопись своих воспоминаний о Париже в издательство Скрибнеров, с тем чтобы они потом переслали ее в Кетчум, где он собирался отделывать ее. Дождавшись Антонио и Кармен, он вылетел вместе с ними на Кубу.
На гаванский аэродром встречать Хемингуэя приехало чуть ли не все население Сан-Франсиско-де-Паула. Они шумно и радостно приветствовали Эрнеста. Тут же в аэропорту репортеры набросились на Хемингуэя с вопросами о том, что он думает по поводу враждебного отношения правительства США к революционной Кубе. Он ответил, что сожалеет об этом, так как после двадцати лет жизни на Кубе считает себя настоящим кубинцем. С этими словами он поцеловал кайму кубинского национального флага. Фотокорреспонденты не успели снять этот момент и попросили Хемингуэя повторить для них. Он усмехнулся: «Я сказал, что я стал кубинцем, но не актером».
Его всерьез волновал назревавший конфликт между американским правительством и правительством Фиделя Кастро. В телефонном разговоре с Хотчнером он высказал надежду, что Соединенные Штаты не откажутся от закупок кубинского сахара, говорил о больших переменах, которые произошли за это время на Кубе.
Антонио и Кармен получили все развлечения, которыми Хемингуэй обычно угощал своих гостей в Финка-Вихия и в Гаване, и он повез их в автомобиле по Соединенным Штатам от Ки-Уэста до Кетчума.
Погода стояла холодная, зима была снежная, и все равно путешествие было приятным — ему нравилось показывать своим испанским друзьям американский пейзаж.
В Кетчуме он хотел показать Антонио и Кармен местную охоту, но они вскоре уехали. А в семье Хемингуэев произошло очередное несчастье. Во время охоты на уток Хемингуэй с товарищем шли впереди, Мэри сзади. Ее ружье было заряжено, и предохранитель спущен. Вдруг какая-то коряга сломалась у нее под ногой, она стала падать и испугалась, что ружье выстрелит и может убить или ранить идущих впереди. Она подняла ружье над головой, всей тяжестью упала на локоть левой руки и раздробила его. Местный врач наложил повязку и сказал, что рука потребует длительного лечения.
Руку ей спас Эрнест. Многие месяцы подряд после этого несчастного случая он ежедневно утром и вечером массировал ей руку, никогда не пропускал сеанса, и все уговаривал ее: «Надо верить, что рука станет нормальной, надо верить в это, и она будет здоровой, твоя рука… Будь храброй и верь в победу… Будь храброй и верь в победу…»
Этот несчастный случай нарушил все планы Эрнеста на охотничий сезон и на то, что он сможет вновь засесть за свою рукопись о состязании Антонио Ордоньеса и Луиса Мигеля Домингина. Она лежала нетронутой с самого их отъезда из Малаги. Теперь ему пришлось заниматься домашним хозяйством, его это раздражало, у него опять повысилось кровяное давление, и он стал плохо спать.
Но погода в Кетчуме все равно радовала его. Он писал Биллу Дэвису 13 января 1960 года в Малагу: «Здесь сейчас прекрасно после трех дней снегопада. Холодно, высокое чистое горное небо, снег скрипит под ногами, когда гуляешь. Из окна в большой спальне можно увидеть двух уток, вылавливающих водоросли в заводи прямо под домом».
В январе они вернулись на Кубу, Эрнест пригласил к себе в секретари молодую журналистку Валери Банби-Смит, с которой они познакомились прошлым летом в Испании, она взяла на себя всю его деловую переписку, а он с жадностью набросился на работу. Казалось, он совершенно забыл, что по договору с журналом «Лайф» он должен представить им рукопись всего в 10 тысяч слов. Статья явно перерастала в большую книгу. К 28 мая 1960 года у него было написано уже 120 тысяч слов.
К этой книге Хемингуэй относился очень серьезно, он понимал свою ответственность перед Ордоньесом и Домингином, о которых писал, боялся обидеть кого-нибудь из них, боялся неточностей. Хотчнеру он сообщал в письме: «Сегодня написал Эду Томпсону (редактору журнала «Лайф». — Б. Г.), чтобы объяснить ему, почему рукопись получается такой большой. Ведь я пытался создать настоящий рассказ, который будет ценен сам по себе и будет заслуживать опубликования, несмотря на то, что в том сезоне не было смертей и драматических происшествий. Как ты помнишь, когда я согласился написать для них, была вероятность, что один из матадоров будет убит, и «Лайф» хотел описания всей истории. Вместо этого все обернулось тем, что произошло постепенное разрушение одного человека другим. Я должен был восстановить личность этих людей, их искусство и различие между этими двумя великими артистами и показать, что случилось, а сделать это короче невозможно.
Если бы я мог написать это короче, я, конечно, сам бы это сделал, но передо мной была необходимость показать этих людей живыми и изобразить те необычные обстоятельства, которые имели место прошлым летом, и при этом создать нечто цельное и заслуживающее опубликования. То, что я написал, стоит больше, чем 30 тысяч долларов, но я решил плюнуть на это, поскольку я умею писать только одним способом — как можно лучше».
Эта напряженная работа над рукописью очень измотала его. Зрение явно отказывало. Хотчнеру он жаловался по телефону на усталость, на то, что в феврале глаза стали болеть и плохо видеть. Роговая оболочка высыхает, объяснял он. Слезные железы уже высохли. Единственная книга, которую он мог читать, это «Том Сойер», поскольку она была напечатана крупным шрифтом.
Но еще больше его волновали странные мозговые явления. 1 июня он писал Хуанито Кинтане, что эта напряженнейшая работа помутила его мозг.
В феврале 1960 года Финка-Вихия посетил гость, чей визит был очень приятен Хемингуэю. Приехавший на Кубу Анастас Иванович Микоян посетил писателя и привез ему в подарок изданный в Советском Союзе двухтомник его избранных произведений с большой вступительной статьей Ивана Александровича Кашкина. Русское издание «Старика и море», выпущенное издательством «Детская литература», Хемингуэю еще раньше подарил моряк с одного из советских пароходов, заходивших в Гавану.
Июнь ушел на томительную работу по сокращению рукописи «Опасного лета». Это совершенно измучило Хемингуэя. Хотчнеру он опять жаловался по телефону, что по дюжине раз проходил по каждой странице и уже не видит ни одного слова, которое можно было бы сократить. Отказаться от договора с «Лайфом» он не считал возможным, так как там уже разрекламировали публикацию «Опасного лета». Хотчнер впервые почувствовал, что Хемингуэй ощущает какую-то неуверенность в себе. В конце концов Хемингуэй вызвал Хотчнера на Кубу, чтобы тот помог ему сократить рукопись.
Это был очень болезненный для писателя процесс. Кроме того, вскоре Хемингуэй вообще не смог работать — отказали глаза. «Я вижу слова на странице только первые десять-двенадцать минут, — признался он Хотчнеру, — пока не устают глаза, а потом я могу читать только через час или два».
В этот приезд Хотчнера Хемингуэй дал ему почитать рукопись своего романа «Морская охота». Хотчнер нашел, что это увлекательный приключенческий роман, который заслуживает издания. Когда он сказал свое мнение Хемингуэю, тот решил сам перечитать рукопись. Секретарша прочитала ему всю рукопись вслух, и он в нерешительности сказал: «Тут еще надо кое-что сделать. Может быть, после книги о Париже, если я еще смогу видеть настолько, чтобы писать».
Хотчнер увез сокращенную рукопись «Опасного лета» в Нью-Йорк, и, хотя она все-таки была вдвое больше договорного объема, редактор «Лайфа» Эд Томпсон согласился опубликовать отрывки из нее, заплатив Хемингуэю 90 тысяч долларов.
Казалось бы, работа над рукописью закончена и все проблемы с «Лайфом» решены. Однако Хемингуэя мучило беспокойство. Он без конца повторял, что должен поехать в Испанию, чтобы еще раз проверить детали книги, и что вообще с его стороны нехорошо бросать Антонио, которому лучше выступать, когда он рядом с ним.
В Нью-Йорке Хемингуэй встретился с Чарльзом Скрибнером, сыном своего покойного друга Чарльза Скрибнера, и тот, посоветовавшись со своими редакторами, решил, что в первую очередь они будут издавать книгой «Опасное лето», а воспоминания о Париже потом.
В Мадрид он на этот раз отправился один, без Мэри, и не пароходом, а самолетом. В первую очередь он поехал в Малагу на виллу «Консула», где ему так хорошо отдыхалось и работалось прошлым летом. Дэвисы были поражены его состоянием. Он был в явном нервном расстройстве — его мучили какие-то страхи, ночные кошмары, появились некоторые симптомы мании преследования. Он сам говорил, что боится «полного физического и нервного краха в результате смертельной усталости».
Когда в октябре Хотчнер прилетел в Мадрид, где находился Хемингуэй, он убедился, что тот серьезно болен. Хемингуэй стал уверять Хотчнера, что Билл Дэвис пытался убить его в прошлом году и теперь опять собирается.
При этом Хемингуэй ужасно волновался и переживал, увидев, что «Лайф» выбрал не те фотографии Ордоньеса и Домингина, которые он хотел, ему казалось, что эти фотографии могут обидеть их обоих. Он придавал этому факту такое значение, что не мог говорить ни о чем другом.
Потом он на четыре дня залег в постель в своем номере, отказываясь выходить и всячески откладывая свой отъезд домой. Наконец друзья уговорили его вылететь обратно в Нью-Йорк.
Мэри встретила его на аэродроме и через несколько дней увезла его в Кетчум, надеясь, что спокойная обстановка поможет ему оправиться и прийти в обычное состояние. Она убедилась, что оправдались ее худшие опасения. Эрнест все время волновался, ему казалось, что за ним следят агенты Федерального бюро расследований, что местная полиция хочет арестовать его. Он неожиданно заявил ей, что им придется расстаться с их домом в Кетчуме, потому что налоги разоряют его. И даже когда она позвонила в банк в Нью-Йорке, чтобы убедить его, что банковский счет в полном порядке, это отнюдь не успокоило Эрнеста.
Состояние Хемингуэя все ухудшалось. Появилась затрудненность речи, он с трудом связывал слова в фразы. Кровяное давление опять опасно поднялось.
30 ноября 1960 года кетчумский врач и старый приятель Эрнеста Сэвирс самолетом отвез его в Рочестер в штате Миннесота, где под чужим именем во избежание газетной шумихи уложил в клинику Мэйо. Мэри приехала туда же поездом.
Как объясняла впоследствии в одном интервью Мэри Хемингуэй, в клинике Мэйо у Эрнеста обнаружили чрезмерно высокое давление крови. «Но настоящим его несчастьем, — сказала Мэри, — было нечто более серьезное — нервное расстройство, вызывавшее в нем чувство постоянной подавленности. Это чувство овладело им давно, сейчас я даже не могу точно сказать, когда я заметила в нем эту подавленность. Начало его болезни я сейчас не могла бы точно зафиксировать».
Врачи в клинике Мэйо пришли к выводу, что состояние подавленности у Хемингуэя могло быть вызвано обильным употреблением лекарств, снижающих кровяное давление, и рекомендовали принимать их только в случае крайней необходимости. Однако состояние депрессии не проходило, и его стали лечить электрошоком.
В середине января к нему в Рочестер прилетел Хотчнер. Они гуляли вместе, Хемингуэй говорил ему, что хочет здесь, в клинике, разделаться со всей накопившейся перепиской, чтобы, вернувшись в Кетчум, можно было ничем другим не заниматься, кроме работы над книгой. Потом он задал вопрос, который Хотчнер со страхом ожидал. Он спросил о здоровье Гарри Купера. А Гарри Купер только за несколько дней до этого встретился с Хотчнером в Нью-Йорке, расспрашивал его о состоянии здоровья Эрнеста и сказал, что у него самого нашли рак.
Купер попросил Хотчнера передать это Эрнесту. «Мы всегда были откровенными друг с другом, абсолютно во всем, всю нашу жизнь, и я бы не хотел, чтобы он узнал об этом от кого-нибудь другого или из газет. Я пытался позвонить ему, но меня не соединяют с ним, а писать о таких вещах мне не хочется».
И Хотчнер сказал Хемингуэю правду. Тот не произнес ни слова, только, как писал впоследствии Хотчнер, посмотрел на него так, словно его предали.
22 января его выписали из клиники, и Мэри отвезла его самолетом в Кетчум. В привычной и дорогой его сердцу обстановке он как будто воспрянул духом. На следующий же день после возвращения он охотился и подстрелил восемь уток и двух чирков. Хотчнеру он радостно сказал по телефону, что начал работать.
Он действительно вставал в семь часов утра, в половине девятого начинал работать у своей конторки, расположенной у большого окна, и прекращал работать около часа. Однако работа его в основном сводилась к тому, что он просматривал уже написанные им куски воспоминаний о Париже, стараясь найти правильный порядок их расположения.
Он, который всю жизнь так любил окружать себя веселыми людьми, любил посидеть с ними за столом, поболтать, становился все нелюдимее. Он перестал приглашать своих кетчумских друзей смотреть по пятницам телевизионные спортивные передачи, все реже выходил в поселок и к курорту Сан-Вэлли.
Как-то в феврале его попросили написать несколько слов для книги, предназначенной в подарок президенту Кеннеди. Хемингуэй с утра принялся за работу, трудился весь день. Вечером, когда пришел доктор Сэвирс, Хемингуэй со слезами на глазах сказал ему, что не может больше писать, ничего не получается.
Весна не принесла облегчения. Его ничто, казалось, не радовало, он был как будто отделен от всех остальных невидимой стеной, мало разговаривал, подолгу думал о чем-то своем, глядел в окно на горы.
Однажды в апреле Мэри застала его за тем, что он вставлял в ружье два патрона. Она начала спокойно разговаривать с ним, убеждая его, что он не должен ничего с собой делать, напоминая о мужестве, которое сопровождало его всю жизнь. Потом пришел доктор Сэвирс и помог ей отнять у Эрнеста ружье. Они тут же увезли его в больницу в Сан-Вэлли, где ему дали успокаивающие лекарства.
Вскоре была достигнута договоренность о том, чтобы вновь положить его в клинику Мэйо. Старый приятель Дон Андерсон и медсестра больницы в Сан-Вэлли завезли его на машине домой, чтобы взять там кое-какие его вещи. Хемингуэй предложил им не вылезать из машины, сказав, что он сам возьмет все необходимое, и пошел в ту комнату, где стояли ружья. Дон Андерсон бросился вслед за ним, успел схватить его за руку и отнять ружье и два патрона, которые Хемингуэй уже пытался вставить. Из спальни прибежала Мэри и начала его успокаивать. Он сидел молча, с отсутствующим взором.
В конце апреля его самолетом отвезли в Рочестер и опять поместили в клинику Мэйо. На этот раз Мэри рекомендовали не ездить туда, и она осталась в Кетчуме. Потом она съездила в Нью-Йорк посоветоваться с крупными психиатрами о состоянии здоровья мужа. Ее волновало то, что он совершенно по-разному вел себя с врачами и с ней. Врачи в клинике Мэйо считали, что он почти здоров и его можно отправить домой. Мэри же понимала, что дело обстоит совсем иначе.
Вернувшись в Рочестер, она поняла, что совершена ошибка, которую трудно исправить. Эрнест убедил врачей, что он совершенно здоров и что ему пора возвращаться в Кетчум. Он был возбужден перспективой вырваться из клиники, и Мэри не решилась помешать ему.
Она вызвала из Нью-Йорка Джорджа Брауна, который когда-то тренировал Эрнеста и к которому тот относился с полным доверием, и они на машине привезли Хемингуэя в Кетчум. Это было 30 июня 1961 года.
Следующий день прошел спокойно. Хемингуэй с Джорджем Брауном съездили в больницу повидать доктора Сэвирса, вечером он с Джорджем и Мэри поехал ужинать в ресторан. Хемингуэй разговаривал мало, но был спокоен и внимателен к своим спутникам. Из ресторана они уехали рано, и дома Эрнест сразу же стал укладываться спать. Пока он чистил зубы, Мэри вдруг вспомнила итальянскую песенку «Все говорят мне, что я блондинка», которую они когда-то оба очень любили. Она пришла к Эрнесту в комнату. «У меня для тебя подарок», — сказала Мэри и запела. Эрнест заторопился кончить чистить зубы, чтобы спеть вместе с ней припев.
Утром 2 июля Хемингуэй встал, как всегда, рано. Мэри еще спала. Джордж Браун тоже спал в домике для гостей. Эрнест прошел в комнату, где хранились ружья, взял из стойки одно из самых любимых своих ружей, вложил два патрона в оба ствола, вставил дула в рот и нажал оба курка.
Он не оставил никакой записки.
Похоронили его на кетчумском кладбище рядом с могилой его старого друга Тейлора Уильямса.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ
1899, 21 июля — в Оук-Парке, пригороде Чикаго, родился Эрнест Хемингуэй. Отец — Кларенс Хемингуэй; мать — Грейс Хемингуэй, урожденная Холл.
1917 — Хемингуэй оканчивает школу в Оук-Парке и уезжает в Канзас-Сити, где работает репортером в газете «Стар».
1918 — Хемингуэй вступает в транспортный корпус Американского Красного Креста и в мае уезжает в Италию, на итало-австрийский фронт. 8 июля тяжело ранен в ноги. Три месяца лежит в госпитале в Милане.
1919 — в январе Хемингуэй возвращается в Оук-Парк.
1920 — в январе переезжает в Торонто (Канада), работает там в газете «Торонто дейли стар» и в литературном приложении к газете «Торонто стар уикли». В сентябре переезжает в Чикаго, работает в журнале «Кооператив коммонуэлс».
1921 — в декабре уезжает корреспондентом «Дейли стар» в Европу.
1922 — Хемингуэй живет в Париже; в марте в качестве корреспондента «Торонто дейли стар» выезжает на Генуэзскую конференцию, в сентябре отправляется на Ближний Восток, к театру греко-турецких военных действий; в ноябре присутствует на Лозаннской конференции.
1923 — в январе в журнале «Поэтри» публикуются шесть стихотворений Хемингуэя; в марте журнал «Литл ревью» печатает шесть прозаических миниатюр Хемингуэя, в июле в парижском издательстве Р. Мак-Элмона выходит первая книга Хемингуэя — «Три рассказа и десять стихотворений»; в сентябре возвращается в Торонто; в октябре у Хемингуэя рождается сын Джон; в декабре Хемингуэй порывает с «Дейли стар» и возвращается в Париж.
1924 — в январе в парижском издательстве У. Берда выходит книга прозаических миниатюр Хемингуэя «в наше время»; в течение этого года Хемингуэй принимает участие в издании журнала Ф. М. Форда «трансатлантик ревью» и печатает там свои рассказы; сотрудничает в немецком журнале «Квершнитт».
1925 — весной в Париже Хемингуэй знакомится со Скоттом Фицджеральдом; в июле присутствует с друзьями на фиесте в испанском городе Памплона, начинает работать над романом «И восходит солнце»; в октябре в Нью-Йорке в издательстве «Бони и Ливрайт» выходит книга рассказов Хемингуэя «В наше время».
1926 — в мае в нью-йоркском издательстве «Скрибнерс» выходит повесть Хемингуэя «Вешние воды»; в октябре в том же издательстве выходит роман «И восходит солнце».
1927 — публикуют новые рассказы Хемингуэя; в октябре в Нью-Йорке выходит его новая книга рассказов «Мужчины без женщин».
1928 — в начале года Хемингуэй возвращается в США, где начинает работать над романом «Прощай, оружие!»; в июне рождение сына Патрика; в декабре кончает самоубийством отец Хемингуэя.
1929 — весну и лето Хемингуэй проводит в Париже, продолжая работу над новым романом; в сентябре «Прощай, оружие!» выходит в свет.
1930 — Хемингуэй живет в поселке Ки-Уэст во Флориде, занимается ловлей крупной морской рыбы, выезжая для этого на Багамские острова и к берегам Кубы, охотится в северо-западных штатах — Монтане, Вайоминге; в сентябре Хемингуэй попадает в автомобильную катастрофу.
1932 — в июне рождается третий сын — Грегори; в сентябре выходит книга Хемингуэя о бое быков «Смерть после полудня».
1933 — Хемингуэй начинает сотрудничать в журнале «Эсквайр»; в октябре выходит сборник рассказов «Победитель не получает ничего».
1934 — начало года Хемингуэй проводит в Восточной Африке, охотясь на крупного зверя, лето и осень живет в Гаване.
1935 — весной и летом в журнале «Скрибнерс мэгезин» печатается книга Хемингуэя «Зеленые холмы Африки», в октябре она выходит отдельным изданием.
1936 — в январе Хемингуэй печатает в «Эсквайре» статью «Крылья над Африкой», в августе — рассказ «Снега Килиманджаро», в сентябре в журнале «Космополитен» — рассказ «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера»; после начала гражданской войны в Испании участвует в сборе средств для. медицинской помощи республиканской армии и для финансирования съемок фильма «Испанская земля».
1937 — март — май Хемингуэй проводит в Испании, откуда пишет корреспонденции об испанской воине, участвует в съемках фильма «Испанская земля»; 4 июня выступает на II конгрессе американских писателей с антифашистской речью «Писатель и война»; в течение лета заканчивает роман «Иметь и не иметь»; в августе возвращается в Испанию, пишет там пьесу «Пятая колонна»; в октябре «Иметь и не иметь» выходит в свет.
1938 — в течение года дважды уезжает в Испанию, бывает на фронтах; в октябре выходит сборник Хемингуэя «Пятая колонна» и первые сорок девять рассказов».
1939 — Хемингуэй в Гаване начинает работать над романом об испанской войне; покупает неподалеку от Гаваны усадьбу Финка-Вихия, которая на многие годы становится его домом.
1940 — в октябре выходит роман «По ком звонит колокол».
1941 — весной Хемингуэй с Мартой Гельхорн совершает поездку на Дальний Восток; после известия о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз посылает в Москву телеграмму, в которой солидаризируется с борьбой советского народа.
1942-1943 — Хемингуэй на своем катере «Пилар» охотится за немецкими подводными лодками в Карибском море.
1944 — весной Хемингуэй приезжает в Лондон корреспондентом американского журнала «Колльерс», участвует в боевых полетах бомбардировщиков над Германией и оккупированной Францией, участвует в высадке союзных войск в Нормандии, в августе во главе группы французских партизан принимает активное участие в боях за освобождение Парижа, в дальнейшем выезжает не раз на фронт в Бельгию и Эльзас, участвует в прорыве «линии Зигфрида».
1945 — в марте возвращается в США.
1949 — Хемингуэй весну проводит в Италии, в Венеции; после несчастного случая на охоте заболевает тяжелой септической болезнью глаз, угрожающей потерей зрения.
1950 — в феврале — июне в журнале «Космополитен» печатается роман Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев», в сентябре роман выходит отдельным изданием.
1952 — в сентябре повесть Хемингуэя «Старик и море» публикуется в журнале «Лайф» и выходит отдельным изданием; Хемингуэю присуждается премия Пулитцера.
1953 — в начале лета Хемингуэй впервые после окончания гражданской войны едет в Испанию; в конце года отправляется в Африку на сафари.
1954 — в январе Хемингуэй с женой дважды попадают в Африке в авиационные катастрофы; в октябре Хемингуэю присуждается Нобелевская премия по литературе за 1954 год.
1955 — Хемингуэй принимает участие в съемках фильма «Старик и море».
1958 — Хемингуэй на Кубе начинает работать над автобиографической книгой о Париже 20-х годов; осенью уезжает работать на запад США в городок Кетчум.
1959 — лето проводит в Испании, наблюдая за состязанием двух крупнейших испанских матадоров; осенью покупает в Кетчуме дом, работает там над книгой «Опасное лето».
1960 — с января по май Хемингуэй живет на Кубе, здесь его посещает А. И. Микоян: сентябрь-октябрь проводит в Испании, с осени его физическое состояние резко ухудшается, появляются признаки психической депрессии; в сентябре в журнале «Лайф» печатаются отрывки из книги «Опасное лето»; в ноябре Хемингуэй с женой переезжают в Кетчум, в конце ноября Хемингуэя кладут на лечение в клинику Мэйо в Рочестере.
1961 — в январе Хемингуэй возвращается в Кетчум, в апреле его опять кладут в клинику Мэйо. 2 июня утром, на следующий день после возвращения в Кетчум, Хемингуэй кончает с собой выстрелом из охотничьего ружья.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Хемингуэй Э., Собрание сочинений, тт. 1-4. «Художественная литература», 1968.
Хемингуэй Э., Репортажи. Изд-во Московского университета, 1969.
Кашкин И., Эрнест Хемингуэй. «Художественная литература», 1966.
Кашкин И., Хемингуэй. «Прометей», 1966, № 1. Изд-во Молодая гвардия».
Маянц 3., Человек один не может. «Просвещение», 1966.
By-line: Ernest Hemingway. N. Y. 1967.
The Wild Years. N. Y. 1963.
Baker C., Ernest Hemingway. A life story. N. Y. 1969.
Вауker C., Hemingway. The writer as artist. N. Y. 1952. Hemingway, The man and his work. N. Y. 1950.
Fentоn C., The apprenticeship of Ernest Hemingway. N. Y. 1954.
Montgomery C., Hemingway in Michigan. N. Y. 1968.
Hanneman A. Ernest Hemingway, A. comprehensive bibliography N. Y. 1967.
Hemingway L., My brother, Ernest Hemingway. N. Y. 1962.
Hоtсhner A., Papa Hemingway. N. Y. 1966.
Sanfоrd M., At the Hemingways. Boston, 1962.
Примечания
1
Название деревенского танца.
(обратно)2
Перевод стихов И. Кашкина.
(обратно)3
Долой офицеров! (итал.).
(обратно)

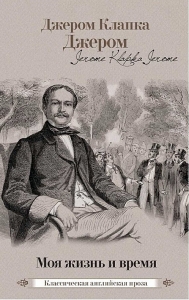



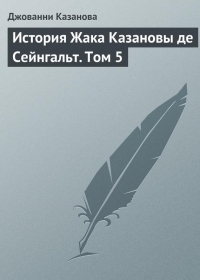

Комментарии к книге «Хемингуэй», Борис Тимофеевич Грибанов
Всего 0 комментариев