Лев Славин Восхищения Всеволода Иванова
Я познакомился с Всеволодом Ивановым давно, в незапамятные времена «Красной нови».
В редакции этого толстого ежемесячника работало шесть человек. Это нисколько не мешало (а может быть, даже и помогало) тому, что «Красная новь» была превосходным журналом.
Редактировал его сначала А. Воронский, а в мое время Иван Беспалов. Я называю «моим временем» 1930 год, потому что тогда на страницах «Красной нови» появилась моя первая большая вещь. Она-то и послужила поводом к знакомству с Всеволодом Ивановым.
В одной рапповской статье мой роман подвергался вздорным и злобным нападкам. Писательская шкура моя тогда еще не была обмозолена, и я страдал.
Однажды на улице кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся. Это был Всеволод Иванов. Его широкоскулое лицо со скошенными монгольскими глазами светилось доброжелательством. Этот большой писатель счел нужным сказать своему начинающему, почти незнакомому коллеге несколько хороших, ободряющих слов. Мне это очень помогло.
Немного было писателей, которых мы тогда в юношеской заносчивости нашей причисляли к разряду «настоящих». Всеволод Иванов был среди них. Нам нравилось его «Тайное тайных». Рассказ «Сервиз» из этого сборника мы считали шедевром мировой новеллистики. А через несколько лет бурно приветствовали появление первой части «Похождения факира».
Но мое личное знакомство с Всеволодом Вячеславовичем не двигалось далее размена поклонами и кратких реплик при случайных встречах. Шли годы, а наши пути не скрещивались.
В феврале 1945 года, то есть за три месяца до окончания войны, военные корреспонденты на 1-м Белорусском фронте некоторое время базировались в Мендзыхуде. Узкие, кривые улочки, непомерно большой костел, несколько тысяч познанских поляков, свободно говоривших по-немецки, и наши подразделения, рассыпавшиеся по всему городку, – вот физиономия этого польского захолустья.
Однажды в корреспондентском пункте «Известий» появился Всеволод Иванов.
Мне случилось быть на четырех войнах, из которых две мировые, и я, кажется, имею достаточно оснований утверждать, что в боевой обстановке характер человека проявляется довольно отчетливо.
На фронте не надо съедать с соседом пуд соли, чтобы распознать, каков он. Достаточно щепотки. Потери убитыми среди военных журналистов были довольно велики. В этой обстановке люди раскрывались без всякого промедления и до самого дна.
Мы жили трудной фронтовой жизнью и зачастую от бойцов отличались только тем, что сражались не автоматом, а пером. А случалось, и автоматом.
И вот в этих наших огрубелых буднях появилось видение из забытой мирной жизни: ухоженный, благоухающий человек в белоснежной рубашке с галстуком, в добротном демисезонном пальто и в фетровой, со вкусом заломленной шляпе. Все в нем было мирное, гражданское, даже орден, поблескивавший в петлице.
В те дни наш фронт сделал только первый шаг на немецкой земле. Это случилось месяц назад, и клочок бывшей фашистской империи давно уже не волновал нас. А Всеволод Иванов первым делом устремился туда,
Я сопровождал его.
Посреди небольшой площади стоял памятник Фридриху II. Вокруг него играли дети.
Иванов с волнением оглядывал все вокруг. Я понимал его чувства. Только два года назад немецкие кони пили волжскую воду. А вот сейчас мы стоим на их земле, а на перекрестке на дорожной стрелке написано: «ДО БЕРЛИНА 170 КИЛОМЕТРОВ».
Всеволод Вячеславович перевел взгляд на детей. Они были худы, бледны. Особенно вот эта маленькая девочка в очках.
Большая, добрая ладонь Всеволода легла на ее головку.
Он не видел, как мы, газовые печи Майданека под Люблином и эти страшные бараки с одеждой умерщвленных узников, с их очками, зубными протезами, женскими волосами. Он не видел, как мы, длинную ровную аллею виселиц в Детском селе и рвы под Кингисеппом, заваленные трупами.
– Послушайте, – сказал он, как всегда чуть пришепетывая, – мы там захватили кое-что на дорогу. Отдадим ей, а?
Я покосился на девочку. Она не отрываясь смотрела на Всеволода Иванова, на его лицо доброго Будды, она смотрела снизу вверх, задрав голову, как смотрят на взрослых дети и собаки. Потом она перевела свой робкий взгляд на меня.
Я вынул из машины банки с консервами, с молоком и насыпал ей в подол. Потом я проклял свою жалостливость, и мы поехали дальше.
Поминутная проверка документов надоела Всеволоду Иванову. Иногда, не доверяя документам, его вели в штаб для установления личности. В конце концов он попросил, чтобы его переодели в военную форму.
Это сделали, конечно. Но так как Всеволод Иванов не состоял, в отличие от нас, в кадрах армии, то одели его не очень тщательно. Особенно плохо обстояло дело с головным убором. Для большой головы Всеволода Вячеславовича не нашлось подходящей фуражки. И она как-то сразу села блином на самой макушке, В сочетании с очками это производило незабываемое впечатление.
К тому же он не носил погон. Но на поясе у него висел подсумок, как если бы он только что вылез из окопа. Мало кто знал, что в этом подсумке не патроны, а сигары.
В общем, такого рода фигуру можно было встретить в 1941 году в народном ополчении. В 1945 году она выглядела анахронизмом. Для обозника Всеволод Иванов выглядел слишком интеллигентным, для фронтовика недостаточно профессионально.
Так что, сменив гражданское платье на военное, Иванов не перестал привлекать к себе внимания патрулей. Но даже в этом необычном и немного смешном «оформлении», благодаря чувству достоинства и естественному благородству, присущему всему существу Всеволода Иванова, он продолжал сохранять в своем облике что-то величественное, царственное, даже божественное, конечно в буддийском смысле.
Я сделался гидом Всеволода Иванова и провел его сквозь толщу фронта. Мы начали с штабного городка, где маршал с легендарным именем, плененный обаянием Всеволода Вячеславовича, долго не отпускал его. Побывали мы и в разведке. Там юный капитан Лева Безыменский рассказал нам о гитлеровской армии. Его удивительная память содержала в себе как бы картотеку начальствующего состава противостоящих фашистских войск.
Спускаясь все ниже, не раз мы попадали в довольно горячие места. Всеволод Иванов держал себя там с хладнокровием старого охотника. Он был хорошим спутником в таких поездках. Он излучал какое-то спокойное, неторопливое мужество. Мне нравился его юмор, его товарищеская верность, смелость его мысли, самое лицо его с этим монгольским прищуром умных глаз. Я находил очарование даже в его пришепетывании и понимал Плутарха, который, рисуя портрет Алкивиада, даже недостатки его произношения считал обаятельными.
Второго мая гитлеровцы капитулировали. Но 1 мая они еще ожесточенно сражались на улицах Берлина.
Чтобы поспеть на разные участки берлинского сражения, мы делали большие круги по городу. Мы ехали тремя машинами.
Моросило, в воздухе плавала копоть пожаров, пахло сиренью, и стоял гул артиллерийской пальбы, прерываемый пулеметной трескотней…
День 5 мая 1945 года. День печати.
Помнят ли его мои товарищи, военные корреспонденты, слетевшиеся в Берлин со всех фронтов Германии, Австрии, Венгрии, Югославии, Болгарии, Румынии, Чехословакии!
Мы снялись всем корреспондентским гамузом. Я сохранил эту фотографию. На ней около ста военных журналистов. Среди них и Всеволод Иванов в солдатских сапогах и фуражечке-сковородке, с сигарным подсумком на поясе и записной книжкой в руке. И на лице выражение счастья, которое испытывали в те дни все мы.
К рейхстагу мы подъехали еще утром. Забрались внутрь, бродили по полуразрушенным залам со следами свежего боя.
Всеволод Иванов то и дело нырял в свой блокнот, что-то записывал. И все же он был не удовлетворен. Он не увидел героев боя за рейхстаг. Это огорчало его. Но мыслимое ли дело отыскать их в этом нескончаемом потоке военных, протекающем сквозь рейхстаг!
Мы вышли на улицу. Еще раз оглядели рейхстаг снаружи. Всеволод Вячеславович сказал, озирая его мрачный обгорелый остов:
– Обратили внимание? Гитлеровцы начались его пожаром и кончились его пожаром. Вся их грязная история между этими двумя пожарами…
Навстречу нам шли три генерала. Их вел молодой щеголеватый офицер, что-то оживленно объяснявший им, показывая на рейхстаг.
Взгляд его упал на Всеволода Иванова.
Офицер покраснел от гнева. Ему стало стыдно перед генералами за этого солдата, такого неряшливого, даже без погон и в этой ужасной сплюснутой фуражке да еще с толстой, дымящейся сигарой во рту!
– Марш в комендантское! – прошипел он. – На гауптвахту! На трое суток!
И проследовал с генералами дальше.
Я вскипел:
– Мальчишка! Он не знает, к кому он обращался! Я заставлю его извиниться!
Всеволод остановил меня:
– Не узнали? Это же он! Ну, он! Герой рейхстага. Блестящий парень, а?
И он добавил, глядя на меня умными, веселыми глазами:
– Я очень рад, что наша встреча с ним все-таки состоялась…
Мы мчались по магистрали, опоясывающей Берлин. Это дорога умопомрачительной гладкости. Ничто ее не пересекает. Все мосты сделаны заподлицо, и она настолько широка, что на ней приземлялись наши бомбардировщики.
А по ту сторону дороги навстречу нам шла вся Европа. Бесконечной лентой тянулись узники, освобожденные из фашистских концлагерей.
Внезапно из этой колонны отделился человек и замахал руками.
– Поехали, у нас нет места, – сказал один из нас.
– Тем более что он угрожает, – сказал другой.
– Товарищи, это сигнал бедствия, надо остановиться!– сказал Всеволод серьезно.
Мы остановились, что при такой скорости нам удалось не сразу.
Человек долго бежал к нам. Он был пожилой, к тому же истощенный, как все, вышедшие из лагерей.
Добежав, он протянул руку куда-то вдаль и сказал, одолевая одышку:
– Die Br?cke ist zerst?rt! [1]
Мы посмотрели вперед. Никаких признаков разрушения видно не было. Идеальной гладкости лента простиралась перед нами.
Водитель недоверчиво усмехнулся. Засомневался и я.
Всеволод Вячеславович поблагодарил старика.
Когда он удалялся, мы заметили на его спине желтую звезду, которой гитлеровцы отмечали евреев.
Мы медленно поехали вперед.
Пропасть открылась внезапно, буквально в нескольких метрах от нас. При нашей сумасшедшей скорости на этой зеркальной дороге никакие тормоза не успели бы нас спасти.
Молча постояли мы на краю пропасти. В ней было не меньше метров тридцати вглубь. На дне валялось несколько разбитых машин. Я бросил туда камень. Несколько больших черных птиц нехотя поднялись над какой-то бесформенной кучей. Мы отвернулись.
– А за старичка надо выпить, – сказал шофер.
– Недаром я всю жизнь любил этот народ, – пробормотал Всеволод.
Мы вернулись в машину и поехали в объезд пропасти.
Почти всегда в руке у Всеволода была записная книжка. По-видимому, тогда уже у него рождался замысел его романа «При взятии Берлина», где рядом с драгоценными наблюдениями и тонкими мыслями соседствовали торопливые записи. Но и в них есть дыхание войны и прелесть непосредственных впечатлений. Может быть, он намеренно оставил их как бы в неотработанном виде для усиления достоверности описаний?
А ведь поначалу у него был другой замысел. Он не раз говорил, что будет писать пьесу о конце фашизма. Это подтверждается и письмом Всеволода Вячеславовича, которое я получил уже после войны, но еще там, в Берлине, куда я вернулся из поездки на запад Германии:
«Дорогой Лев Исаевич! Мы уезжаем по маршруту, установленному судьбой и богом. Буду рад, если Вы догоните где-нибудь нас. А если нет, с той же радостью встречу Вас в Москве. Думайте о пьесе. Я обязуюсь думать тоже…»
Уже в Москве он говорил мне, что обширность материала заставила его избрать жанр романа.
Он всегда считал своей большой удачей, что ему посчастливилось собственными глазами увидеть победу над бестией фашизма.
1965
Примечания
1
Мост разрушен! (нем.)
(обратно)

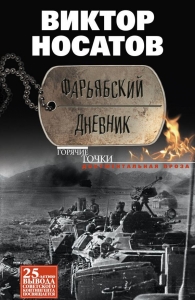

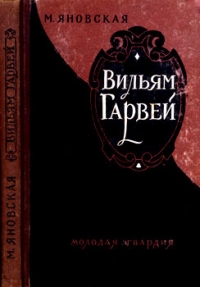

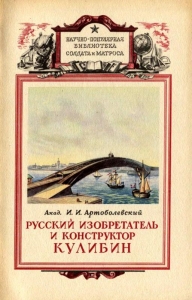
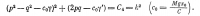
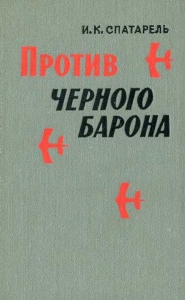
Комментарии к книге «Восхищения Всеволода Иванова», Лев Исаевич Славин
Всего 0 комментариев