Юрий Гагарин Дорога в космос ЗАПИСКИ ЛЁТЧИКА-КОСМОНАВТА СССР
СМОЛЕНЩИНА — МОИ РОДНЫЕ КРАЯ
…Семья, в которой я родился, самая обыкновенная, она ничем не отличается от миллионов трудовых семей нашей социалистической Родины. Мои родители — простые русские люди, которым Великая Октябрьская социалистическая революция, как и всему нашему народу, открыла широкий и прямой путь в жизни.
Отец мой — Алексей Иванович Гагарин — сын смоленского крестьянина-бедняка. Образование у него было всего два класса церковноприходской школы. Но человек он любознательный и многого добился путём самообразования; в нашем селе Клушино, что недалеко от Гжатска, слыл мастером на все руки. Он всё умел делать в крестьянском хозяйстве, но больше всего плотничал и столярничал. Я до сих пор помню желтоватую пену стружек, как бы обмывающих его крупные рабочие руки, и по запахам могу различить породы дерева — сладковатого клёна, горьковатого дуба, вяжущий привкус сосны, из которых отец мастерил полезные людям вещи.
Одним словом, к дереву я отношусь с таким же уважением, как и к металлу. О металле много рассказывала мама — Анна Тимофеевна. Её отец, а мой дед, Тимофей Матвеевич Матвеев, работал сверловщиком на Путиловском заводе в Петрограде. По рассказам мамы, он был кряжевый человек, мастер своего дела — рабочий высокой квалификации, из тех, которые могли, что называется, блоху подковать и из куска железа выковать цветок. Мне не пришлось видеть деда Тимофея, но в нашей семье хранят память о нём, о революционных традициях путиловцев.
Мама наша, так же как и отец, в молодости не смогла получить образования. Но она много читала и многое знает. Она могла правильно ответить на любой вопрос детей. А было нас в семье четверо: старший брат Валентин, родившийся в год смерти В. И. Ленина, сестра Зоя, тремя годами моложе, наконец, я и наш меньшой брат Борис.
Родился я 9 марта 1934 года. Родители работали в колхозе, отец плотничал, а мать была дояркой. За хорошую работу её назначили заведующей молочнотоварной фермой колхоза. С утра и до поздней ночи она работала там. Дел у неё было невпроворот: то коровы телятся, то с молодняком беспокойство, то о кормах волнения.
Красивым было наше село. Летом все в зелени, зимой в глубоких сугробах. И колхоз был хороший. Люди жили в достатке. Наш дом стоял вторым на околице, у дороги на Гжатск. В небольшом саду росли яблоневые и вишнёвые деревья, крыжовник, смородина. За домом расстилался цветистый луг, где босоногая ребятня играла в лапту и горелки. Как сейчас, помню себя трёхлетним мальчонкой. Сестра Зоя взяла меня на первомайский праздник в школу. Там со стула я читал стихи:
Села кошка на окошко, Замурлыкала во сне…Школьники аплодировали. И я был очень горд: как-никак первые аплодисменты в жизни.
Память у меня хорошая. И я очень многое помню. Бывало, заберёшься тайком на крышу, а перед тобой колхозные поля, бескрайние, как море, тёплый ветер гонит по ржи золотистые волны. Поднимешь голову, а там чистая голубизна… Так бы, кажется, и окунулся в эту красу, и поплыл к горизонту, где сходятся земля и небо. А какие были у нас берёзы! А сады! А речка, куда мы бегали купаться, где ловили пескариков! Бывало, примчишься с ребятами к маме на ферму, а она каждому нальёт по кружке парного молока и отрежет по ломтю свежего ржаного хлеба. Вкуснота-то какая!
Мама, бывало, посмотрит на нас, на своих и соседских ребят, и скажет:
— Счастливое у вас детство, пострелы, не такое, как было у нас с отцом.
Дом в Гжатске, в котором жил Юрий Гагарин.
И задумается, и взгруснет. А лицо у неё такое милое, милое, как на хорошей картинке. Очень я люблю свою маму, и всем, чего достиг, обязан ей.
Есть у отца брат — Павел Иванович. Служил он ветеринарным фельдшером. Очень мы любили, когда дядя Паша приходил к нам и оставался ночевать. Постелят нам рядно на сене, ляжем мы, дети, вместе с дядей, и пойдут разговоры. Лежим навзничь с раскрытыми глазами, а над нами созвездия одно краше другого. Валентин, мой старший брат, все допытывался:
— Живут ли там люди?
Дядя Паша усмехнётся и задумчиво скажет:
— Кто его знает… Но думаю, жизнь на звёздах есть… Не может быть, чтобы из миллионов планет посчастливилось одной Земле…
Меня всё время тянуло в школу. Хотелось так же, как брат и сестра, готовить по вечерам уроки, иметь собственный пенал, свою грифельную доску и тетрадки. Частенько с завистью вместе со своими сверстниками подглядывал я в окно школы, наблюдая, как у доски ученики складывали из букв слова, писали цифры. Как всем ребятам, хотелось поскорее повзрослеть. Когда мне исполнилось семь лет, отец сказал:
— Ну, Юра, нынешней осенью пойдёшь в школу…
В нашей семье авторитет отца был непререкаем. Строгий, но справедливый, он преподал нам, своим детям, первые уроки дисциплины, уважения к старшим, любовь к труду. Никогда не применял ни угроз, ни брани, ни шлепков, никогда не задабривал и не ласкал без причины. Он не баловал нас, но был внимателен к нашим желаниям. Соседи любили и уважали его; в правлении колхоза считались с его мнением. Вся жизнь отца была связана с колхозом. Колхоз был для него вторым домом.
Как-то в воскресенье отец прибежал из сельсовета. Мы никогда не видали его таким встревоженным и растерянным. Словно выстрелил из дробовика, выдохнул одно слово:
— Война!
Мать, как подкошенная, опустилась на залавок, закрыла фартуком лицо и беззвучно заплакала. Все как-то сразу вдруг потускнело. Горизонт затянуло тучами. Ветер погнал по улице пыль. Умолкли в селе песни. И мы, мальчишки, притихли и прекратили свои игры. В тот же день из села в Гжатск на подводах и на колхозном грузовике с фанерными чемоданчиками уехали новобранцы, цвет колхоза: трактористы, комбайнёры, животноводы и полеводы. Весь колхоз провожал парней, уходящих на фронт. Было сказано много напутственных слов, пролито немало горючих слез.
Как вода в половодье, подкатывалась война всё ближе и ближе к нашей Смоленщине. Через село молча, как тени, проходили беженцы, проезжали раненые, всё двигалось куда-то далеко в тыл за тридевять земель. Говорили, что фашисты стёрли с лица земли Минск, что идут кровавые бои под Ельней и Смоленском. Но все верили: фашисты не пройдут дальше.
Наступил сентябрь, и я со своими сверстниками направился в школу. Это был долгожданный, торжественный и всё же омрачённый войной день. Едва мы познакомились с классом, начали выводить первую букву-«А» да складывать палочки, как слышим:
— Фашисты совсем близко, где-то под Вязьмой…
И как раз в этот день над нашим селом пролетели два самолёта с красными звёздами на крыльях. Первые самолёты, которые мне пришлось увидеть. Тогда я не знал, как они называются, но теперь припоминаю, один из них был «Як», а другой «ЛаГГ». «ЛаГГ» был подбит в воздушном бою, и лётчик тянул его из последних сил на болото, поросшее кувшинками и камышом. Самолёт упал и переломился, а пилот, молодой парень, удачно выпрыгнул над самой землёй.
Рядом с болотцем, на луг, опустился второй самолёт — «Як». Лётчик не оставил товарища в беде. Все мы, мальчишки, сразу побежали туда. И каждому хотелось хоть дотронуться до лётчиков, залезть в кабину самолёта. Мы жадно вдыхали незнакомый запах бензина, рассматривали рваные пробоины на крыльях машин. Лётчики были возбуждены и злы. Жестикулируя руками, они говорили, что дорого достался немцам этот исковерканный «ЛаГГ». Они расстегнули свои кожаные куртки, и на их гимнастёрках блеснули ордена. Это были первые ордена, которые я увидел. И мы, мальчишки, поняли, какой ценой достаются военные награды.
Каждый в селе хотел, чтобы лётчики переночевали именно у него в доме. Но они провели ночь у своего «Яка». Мы тоже не спали и, поёживаясь от холода, находились с ними и, перебарывая молодой сон, не спускали с их лиц слипающихся глаз. Утром лётчики улетели, оставив о себе светлые воспоминания. Каждому из нас захотелось летать, быть такими же храбрыми и красивыми, как они. Мы испытывали какое-то странное, неизведанное чувство.
События разворачивались быстро. Через село поспешно прошли колонны грузовиков, торопливо провезли раненых. Все заговорили об эвакуации. Медлить было нельзя. Первым ушёл с колхозным стадом дядя Паша. Собирались в путь-дорогу и мать с отцом, да не успели. Загремел гром артиллерийской канонады, небо окрасилось кровавым заревом пожаров, и в село неожиданно на велосипедах ворвались немецкие самокатчики. И пошла тут несусветная кутерьма. Начались повальные обыски: фашисты все партизан искали, а под шумок забирали хорошие вещи, не брезговали и одеждой, и обувью, и харчами.
Нашу семью выгнали из дому, который заняли немецкие солдаты. Пришлось выкопать землянку, в ней и ютились. Жутко было ночами, когда в небе заунывно гудели моторы фашистских самолётов, идущих в сторону Москвы. Отец и мать ходили темнее тучи. Их волновала не только судьба семьи, но и судьба колхоза, всего нашего народа. Отец не спал по ночам, все прислушивался, не загремят ли советские пушки, не наступают ли наши войска, он беспокойно шептался с матерью о появившихся вблизи белорусских партизанах, тревожился о Валентине и Зое — они уже были почти взрослые, а в соседних сёлах гестаповцы и полицаи угоняли молодёжь в неволю.
Ни радио, ни газет, ни писем — никаких известий о том, что делается в стране, в село к нам не поступало. Но вскоре наши почувствовали: немцам крепко наломали бока. Через село повезли раненых и обмороженных гитлеровских солдат. И с каждым днём всё больше и больше. Помню, как ночью отец вздул огонь, поднялся из землянки наверх, постоял там и, вернувшись, сказал матери:
— Стреляют…
— Может, партизаны?-переспросила мама.
— Нет, регулярная армия. По всему окоёму гремит…
С утра через село сплошным потоком пошли немецкие машины с солдатами, танки и пушки. Это уже была не та армия, что совсем недавно двигалась на восток. Как потом мы узнали, мимо нас пятились остатки эсэсовской дивизии, разгромленной под Москвой. Все наши сельчане ждали близкого часа освобождения. Но фашистам удалось удержаться на оборонительном рубеже, и наше село осталось в их ближних тылах.
Детские годы. Юрий Гагарин (сидит в центре), его старший брат Валентин, младший брат Борис и сестра Зоя.
Наш дом теперь облюбовал матёрый фашист из Баварии. Звали его, кажется, Альбертом. Он занимался зарядкой аккумуляторов для автомашин и терпеть не мог нас, детей. Помню, как-то раз младший братишка Боря подошёл из любопытства к его мастерской, а он схватил его за шарфик, повязанный вокруг шеи, и на этом шарфике подвесил на яблоневый сук. Подвесил и заржал, как жеребец. Ну, мать, конечно, бросилась к Боре, а баварец не пускает её. Что мне было делать? И брата жалко, и мать жалко. Хочу позвать людей — и не могу: спёрло дыхание, будто не Борьку, а меня повесили. Был бы я взрослым, я бы ему показал, этому фашисту треклятому…
Хорошо, что баварца кликнул какой-то начальник, и мы с мамой спасли нашего Бориса. Унесли его в землянку и едва привели в чувство.
Подражая старшим, мы, мальчишки, потихоньку, как могли, вредили немцам. Разбрасывали по дороге острые гвозди и битые бутылки, прокалывавшие шины немецких машин, а Альберту этому, что в нашем доме хозяйничал, в выхлопную трубу от его движка запихивали тряпки и мусор. Он меня ненавидел и несколько дней не подпускал к землянке. Пришлось ночевать у соседей, а там только и разговору было, как досадить фашистам.
Фронт хоть и медленно, но всё-таки приближался к селу. Это даже мы, дети, чувствовали по нарастающему гулу артиллерийской стрельбы. Скоро передовая оказалась совсем близко — всего в восьми километрах от нашего дома. Село было забито немецкими войсками. По нему наши палили из пушек и бомбили его с самолётов. В особенности досаждали фашистам наши «ночники»-«По-2». Всю ночь стрекочут, как кузнечики, и сыплют и сыплют «гостинцы». Так мы и жили, в огне и дыму. День и ночь что-нибудь горело поблизости.
Ничто не проходило мимо детских внимательных глаз. Мы, ребята, все видели, все замечали. Помню, пролетели над селом шесть наших самолётов. Затем послышался гул бомбёжки. Смотрим, обратно возвращаются. Но одного не хватает. Было шесть самолётов, а стало пять. И считать-то мы могли тогда только до десяти, и вычитания ещё не проходили, а поняли, что одного недостаёт. Стали соображать: куда делся? А тут и он. Горит, но летит над самой улицей, забитой войсками, и бьёт по ним из всех пушек. Фашисты — кто куда. Шум. Крик. Паника.
Стали мы гадать: долетит до своих или не долетит? А лётчик развернулся и снова на колонну. Теперь уже сыплет бомбами. А потом и сам в самую гущу немцев врезался.
— Как Гастелло! Как Гастелло!-закричали мы, знавшие от взрослых о подвиге человека с этой фамилией.
И самолёт и лётчик сгорели. Так никто в селе и не доведался, кто он, откуда родом. Но каждый знал: то был настоящий советский человек. До самого последнего дыхания он бил врагов. Весь день мальчишки проговорили о безымённом герое. Никто не сказал вслух, но каждый хотел бы так же вот жить и умереть за Родину.
«Кто же отомстит за смерть героя?-тоскливо думали мы. — Кто расскажет его товарищам, как он погиб?»
Вскоре мы узнали, что этот самолёт подбили немецкие зенитчики, окопавшиеся за селом на холме. Возмездие пришло незамедлительно. Утром нагрянула пятёрка таких же самолётов — теперь-то я знаю, что это были штурмовики — «Илы», — и смешала с землёй и зенитную батарею и прислугу. Ни один фашист не уцелел. Здорово дали!
Клушино в то время было отрезано от всего мира. Что делалось на фронтах, никто не знал. Но как-то прилетел самолёт, сбросил пачку листовок. Как стая белых голубей, они долго кружились в небе и наконец опустились за околицей, на заснеженном лугу. Я схватил одну, мельком глянул, вижу, рисунок: груда черепов, а сверху ворон сидит с мордой Гитлера. И русские буквы. А прочесть-то я их не могу. Огляделся, нет ли фашистов поблизости, ведь за листовки они смертельно карали, сунул её за пазуху — и бегом в землянку. Там Зоя прочитала и обрадованно засмеялась:
— Юрка, знаешь какая победа!
В листовке рассказывалось о разгроме гитлеровцев под Сталинградом. Радости не было конца. Во всех землянках только и говорили о поражении фашистов.
Вскоре загремело и на нашем фронте. Началось наступление советских войск. Тут-то эсэсовцы и забрали наших Валентина и Зою и в колонне, вместе с другими девушками и парнями, погнали на запад, в Германию. Мать вместе с другими женщинами долго бежала за колонной, заламывая руки, а их отгоняли винтовочными прикладами, натравливали на них псов.
Большое горе свалилось на нас. Да и не только мы — все село умывалось слезами: ведь в каждой семье фашисты кого-нибудь погнали в неволю.
Но горе не бывает бесконечным, наступила радость, да ещё какая! В полночь в землянку к нам заглянули два человека в белых полушубках, в шапках-ушанках, с автоматами, покрытыми изморозью. Дали отцу закурить и начали расспрашивать. Это была наша разведка. Первая за всё время. У нас у самих нечего было есть, но мать захлопотала, чтобы накормить их, наварила картошки, правда, соли не оказалось.
Разведчики исчезли так же тихо, как и появились. Словно во сне. Я даже на рассвете спросил о них у отца. А он хитро посмотрел на меня, усмехнулся и говорит:
— Я сам как во сне…
Через день немцы покинули наше село. Отец вышел навстречу нашим и показал, где фашисты заминировали дорогу. Всю ночь он тайком наблюдал за работой немецких сапёров. Наш полковник, в высокой смушковой папахе и зелёных погонах на шинели, при всём народе объявил отцу благодарность и расцеловал его, как солдата.
Отец ушёл в армию, и остались мы втроём — мама, я и Бориска. Всем в колхозе заправляли теперь женщины и подростки.
После двухлетнего перерыва я снова отправился в школу. На четыре класса у нас была одна учительница — Ксения Герасимовна Филиппова. Учились в одной комнате сразу первый и третий классы. А когда кончались наши уроки, нас сменяли второй и четвёртый классы. Не было ни чернил, ни карандашей, ни тетрадок. Классную доску разыскали, а вот мела не нашли. Писать учились на старых газетах. Если удавалось раздобыть обёрточную бумагу или кусок старых обоев, то все радовались. На уроках арифметики складывали теперь не палочки, а патронные гильзы. У нас, мальчишек, все карманы были набиты ими.
От старшего брата и сестры долго не было никаких известий. Но бежавшие из неволи и вернувшиеся в село соседи рассказывали, что и Валентин и Зоя тоже удрали от фашистов и остались служить в Советской Армии. Вскоре пришёл треугольничек письма со штампом полевой почты, и я по слогам прочёл матери, что писала нам Зоя. А писала она, что служит по ветеринарному делу в кавалерийской части. Затем пришло письмо и от Валентина. Он воевал с фашистами на танке, был башенным стрелком. Я радовался, что брат и сестра живы, и ещё гордился, что они колошматят гитлеровцев, от которых мы столько натерпелись.
Отец далеко с армией не пошёл. С молодости он хворал, а при немцах с голодухи у него началась ещё и язва желудка. Он попал в военный госпиталь в Гжатск, да так и остался в нём служить нестроевым. И служил и лечился одновременно.
Война длилась долго — казалось, целую вечность, у всех ныла душа: ведь у каждого близкие находились на фронте.
Почтальон был самым желанным гостем в каждой землянке. Ежедневно приносил он то радостные, то печальные известия. Одного наградили орденом, другой убит.
В классе у нас висела старенькая карта Европы, и мы после уроков переставляли на ней красные флажки, отмечавшие победоносное шествие наших войск.
— Советские солдаты освободили Бухарест!
— Софию!
— Ворвались в Белград — столицу Югославии!
— Советские войска начали боевые действия на германской земле!
— Они уже в Австрии, — со слезами радости на глазах сообщала нам Ксения Герасимовна приятные новости.
— Под влиянием побед Советской Армии в странах Европы ширится движение Сопротивления, разгорается партизанская борьба, трещит тыл фашистской Германии.
Мы часами простаивали у карты, изучали географию по военным сводкам Совинформбюро.
Учебников не было, и многие мальчики учились читать по «Боевому уставу пехоты», забытому солдатами в сельсовете.
И хотя в уставе многое было непонятно, книга ребятам нравилась, она требовала от каждого порядка и дисциплины.
Все ждали окончания войны И вот как-то раз прибежала из сельсовета мать, пахнущая распаханной землёй, обняла меня, расцеловала:
— Гитлеру капут, наши войска взяли Берлин!
Я выбежал на улицу и вдруг увидел, что погода разгулялась, на дворе весна, цветут сады, над головой синее-пресинее небо и в нём поют жаворонки. Нахлынуло столько ещё не изведанных, радостных чувств и мыслей, что даже закружилась голова. Я ждал скорого возвращения сестры и брата.
Отныне начиналась новая, ничем не омрачаемая жизнь, полная солнечного света. С детства я люблю солнце!
Кончилась война, и моего отца оставили в Гжатске отстраивать разрушенный оккупантами город. Он перевёз туда из села наш старенький деревянный домишко и снова его собрал. Но я никак не мог позабыть наш старенький домик в Клушино, окружённый кустами сирени, смородины и бересклета, лопухи и чернобыльник, синие медвежьи ушки — всё то, что связывало меня с детством. Теперь мы стали жить в Гжатске, на Ленинградской улице. И школа у меня теперь была другая. Меня приняли в третий класс Гжатской базовой школы при педагогическом училище. Училище это готовило учителей начальных классов. Будущие педагоги проходили практику в нашей четырёхклассной школе.
С нами занималась совсем молоденькая учительница Нина Васильевна Лебедева. Внимательная, начитанная, она болела за каждого. Вела она все предметы. По её оценкам, учился я хорошо. Нина Васильевна часто рассказывала нам о Ленине, показывала книжку, в которой был напечатан табель с отметками гимназиста Володи Ульянова. Там были сплошные пятёрки.
— Вот и вы, ребята, должны учиться так же отлично, — говорила Нина Васильевна.
Мои товарищи по классу рисовали портреты Владимира Ильича, писали о нём стихи. Многие у нас в классе рисовали и сочинительствовали. Но у меня к этому не было склонности — я больше любил арифметику. Хорошая была школа, милые ребята учились в ней. У многих не было отцов — погибли на войне, многие были круглыми сиротами. Каждый из них настрадался за войну, видел ужасы, чинимые оккупантами, испытал муки голода и бесправия — всё то, что невозможно ни забыть, ни простить. А дети со временем становятся взрослыми.
Минуло два года, я сдал свои первые в жизни экзамены по русскому языку и арифметике и перевёлся в другую школу, в пятый класс. Там я вступил в пионерскую организацию. В Доме пионеров занимался в духовом оркестре, участвовал в драмкружке, выступал на школьных спектаклях. Жил так, как жили все советские дети моего возраста.
В это время попалась мне книга, которая оставила яркий след на всю жизнь. Это был рассказ Льва Толстого «Кавказский пленник». Очень мне нравился русский офицер Жилин, его упорство и смелость. Такой человек нигде не пропадёт. Попав в плен, он бежал да ещё помогал бежать Костылину, человеку, слабому духом. Татарка Дина тоже была прелестной. Перечитывая рассказ, я всё время сравнивал его героев со знакомыми людьми. Ведь брат мой Валентин тоже бежал из плена. И в нём я находил черты полюбившегося мне Жилина.
Русскую литературу преподавала Ольга Степановна Раевская — наш классный руководитель, внимательная, заботливая женщина. Было в ней что-то от наших матерей — требовательность и ласковость, строгость и доброта. Она приучала нас любить русский язык, уважать книги, помогала понимать написанное. От неё мы узнали, как работали Пушкин и Лермонтов, как их убили на дуэлях, каким был Гоголь, как писал свои басни дедушка Крылов. Мы декламировали Максима Горького: «Буревестник с криком реет, чёрной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает».
Мальчики и девочки учились вместе, сидели рядом на одних партах, помогали друг другу. В шестом классе меня избрали старостой. Дружил я тогда, да и сейчас продолжаю дружить, с Валей Петровым и Женей Васильевым. Славные были товарищи. Мы помогали друг другу готовить уроки. Петров сейчас в Гжатске, работает техником по лесомелиорации на ремонтно-технической станции. Васильев работает в Москве. С нами дружила Тоня Дурасова. Милая, любознательная девчушка, с ясным, открытым взглядом. Сейчас она продавщица в одном из гжатских магазинов.
Физику в школе преподавал Лев Михайлович Беспалов. Интереснейший человек! Прибыл он из армии и всегда ходил в военном кителе, только без погон. В войну служил в авиационной части, не то штурманом, не то воздушным стрелком-радистом. Было ему лет тридцать, но по лицу его можно было понять, что человек этот многое видел, многое пережил.
Лев Михайлович в небольшом физическом кабинете показывал нам опыты, похожие на колдовство. Нальёт в бутылку воды, вынесет на мороз — и бутылка разорвётся, как граната. Или проведёт гребнем по волосам, и мы слышим треск и видим голубые искры. Он мог заинтересовать ребят, и мы запоминали физические законы так же легко, как стихи. На каждом его уроке узнавали что-то новое, интересное, волнующее. Он познакомил нас с компасом, с простейшей электромашиной. От него мы узнали, как упавшее яблоко помогло Ньютону открыть закон всемирного тяготения. Тогда я, конечно, и не мог подозревать, что мне придётся вступить в борьбу с природой и, преодолевая силы этого закона, оторваться от земли, но смутные предчувствия, ожидания чего-то значительного уже тогда зарождались во мне.
В школе пионеры организовали технический кружок. Душой его был Лев Михайлович. Мы сделали летающую модель самолёта, раздобыли бензиновый моторчик, установили его на фюзеляж, смастерённый из камыша, казеиновым клеем прикрепили крылья. То-то радости было, когда эта модель взмыла в воздух и, набирая высоту, полетела, проворная, как стрекоза! Вместе с нами радовались и математичка Зинаида Александровна Комарова, и завуч депутат Верховного Совета СССР Ираида Дмитриевна Троицкая. А Лев Михайлович почти серьёзно пообещал:
— Быть вам, хлопцы, лётчиками…
В РЯДЫ РАБОЧЕГО КЛАССА
Окончив в Гжатске шесть классов средней школы, я стал задумываться о дальнейшей судьбе. Хотелось учиться, но я знал, что отец с матерью не смогут дать мне высшего образования. Заработки у них небольшие, а в семье нас — шестеро. Я всерьёз подумывал о том, что сначала надо овладеть каким-то ремеслом, получить рабочую квалификацию, поступить на завод, а затем уже продолжать образование. Так делало старшее поколение, те, которые строили Днепрогэс и Магнитку, прокладывали Турксиб, основали Комсомольск-на-Амуре. Да и теперь, после войны, многие поступали так же.
Всё это я обдумывал наедине, советоваться было не с кем — ведь мать наверняка не отпустит меня. Для неё я всё ещё оставался ребёнком. Но про себя решил: если уеду из Гжатска, то только в Москву. Ни разу не побывав в ней, я был влюблён в нашу столицу, собирал открытки с фотографиями кремлёвских башен, мостов через Москву-реку, памятников. Хоть сам я и не рисовал, но страстно хотел побывать в Третьяковской галерее. Мечтал пройтись по Красной площади, поклониться великому Ленину.
Да и зацепка была у меня насчёт Москвы. Ведь там жил брат отца — Савелий Иванович, работавший в строительной конторе. У него были две дочки — Антонина и Лидия, мои двоюродные сестры. Когда я сказал дома, чтобы отпустили меня к дяде Савелию, мать заплакала, а отец, подумав, сказал:
— На хорошее ты дело решился, Юрка. Езжай… В Москве ещё никто не пропадал.
Учителя отговаривали: надо, мол, окончить семь классов. Но я уже тогда стремился не изменять однажды принятых решений. Собрали меня в дорогу. В поезде волновался: как встретят в Москве? Дядя жил на скромный заработок, а тут в его семье прибавлялся лишний рот. Но встретили меня хорошо, я бы сказал, даже очень хорошо. Сильно обрадовались двоюродные сестры.
Первые дни они показывали столицу со всеми её красотами, а потом Тоня отвезла меня в Люберцы на завод сельскохозяйственных машин. Там в ремесленное училище набирали молодёжь. Ещё в Гжатске я решил, что буду учиться на токаря, в крайнем случае стану слесарем. А тут выясняется такая картина: на слесарное и токарное отделения берут с семилетним образованием. А у меня только шесть классов, прямо хоть плачь!
— Не горюй, парень, — сказал директор ремесленного училища, — возьмём тебя в литейщики… Видал в Москве памятник Пушкину? Это, брат, работа литейщиков.
Этот довод меня сразил, и я с лёгким сердцем согласился: литейщик так литейщик.
Экзамены были нетрудные. Я их выдержал, был зачислен в училище. Дали мне первую в жизни форменную одежду — фуражку с рабочей эмблемой на околыше, аккуратную гимнастёрку, брюки, ботинки, шинель, ремень со светлой пряжкой. Все это подогнали по фигуре и росту. В тот же день я на последние деньги сфотографировался. Получил карточки и не верю: я это или не я? Фотографии, конечно, тут же послал домой и друзьям: смотрите, мол, любуйтесь, какой я стал, вроде как офицер.
Через несколько дней мастер Николай Петрович Кривов повёл нас на завод. Это знаменитый завод. Николай Петрович сказал, что машины, которые тут делают, можно встретить на полях в любом уголке советской земли. И я припомнил, что и у нас в селе были машины с маркой Люберецкого завода.
Сначала мастер показывал нам механические цехи, там мы увидели много станков и, конечно, ещё не понимали, что к чему. А затем Николай Петрович повёл нас к месту будущей работы — в литейный цех. Тут мы совсем оробели — куда ни глянь, огонь, дым, струи расплавленного металла. И повсюду рабочие в спецовках, занятые работой.
— А, новички прибыли, — обрадовался высокий усатый бригадир, — присматривайтесь, привыкайте обращаться с огнём. — И тут же с гордостью добавил:-Огонь силён; вода сильнее огня, земля сильнее воды, но человек сильнее всего!
Юрий Гагарин — ученик литейщика Люберецкого завода сельскохозяйственных машин.
Мы все побаивались: вот что-нибудь сорвётся сверху, ударит, прибьёт. Или вырвется горячий металл и обожжёт. Жались к Николаю Петровичу, старались не отходить от него ни на шаг.
Затем мастер привёл нас в механизированный литейный цех. Там из белого чугуна отливали средние и мелкие детали к машинам. Водил он нас и к термическим печам, показывал производство отжига, объяснял, как хрупкий металл превращается в вязкий, ковкий чугун. И, странное дело, к концу дня мы стали привыкать к заводу и уже перестали бояться его, как вначале.
Вскоре меня определили к станку — учили специальности формовщика. Рядом со станком двигался конвейер. Мы делаем формы, ставим стержни, накрываем опоку — и на конвейер.
К концу дня приходит мастер. Схватился за голову:
— Что же вы, дорогие мальчуганы, гоните сплошной брак?
Стержни мы ставили с небольшим перекосом, и брака, действительно, получалось много. Мастер каждому из нас показал, как надо работать. На другой день дело пошло лучше.
Жили мы, ремесленники, в общежитии, в деревянном домике. Наша комната, на пятнадцать человек, находилась на первом этаже. Жили мы между собой мирно, дружно. Во всём был порядок: вставали и ложились одновременно, вместе ходили в столовую — там нас кормили бесплатно, вместе бегали в кино и на стадион, находившийся тут же под боком, в зелёной раме тополей.
Ремесленники — народ романтический. В то время мы много спорили о героизме. Говорили о том, что подвиги бывают разные. Есть такие, которые требуют от человека мгновенного решения, выбора между жизнью и смертью. К таким подвигам мы относили мужественные дела Николая Гастелло и Александра Матросова.
Но нам нравились больше подвиги, о которых народ говорит: вся жизнь — сплошной подвиг! Так говорилось о людях, всю свою жизнь подчинивших одной, главной цели и боровшихся за неё, не отступая. Ярчайший пример тому — жизнь Владимира Ильича Ленина.
Мы прочитали все книжки про Ленина, имевшиеся в нашей библиотеке.
Нас интересовала революционная деятельность Артёма, мы восхищались биографией М. В. Фрунзе. Приговорённый царским судом к смерти, М. В. Фрунзе в тюрьме самостоятельно изучал иностранные языки в надежде, что они ему ещё понадобятся, и они ему пригодились: ведь он бежал из темницы. Поистине Фрунзе знал «одну, но пламенную страсть». Сколько раз в общежитии читались слова Михаила Васильевича, которые я помню до сих пор: «Мы, смертники, обыкновенно не спали часов до пяти утра, чутко прислушиваясь к каждому шороху… Это трагические были часы. В это время на глазах у всех уводили вешать. От спокойных товарищей услышишь слова: „Прощай, жизнь! Свобода, прощай!“ Дальше звон цепей и кандалов делается всё тише и тише. Потом заскрипят железные двери тюрьмы, и всё стихнет. Сидят ребята и гадают: „Чья же очередь завтра ночью? Вот уж пятого увели“. Слез было немного».
Я напоминаю эти волнующие строки затем, чтобы молодёжь знала: революционная борьба старшего поколения требовала жертв и постоянного героизма.
Цех мне полюбился. Я перестал завидовать токарям. Работа спорилась и с каждым днём становилась все интереснее. Мне нравилось просыпаться с первым заводским гудком и, умывшись холодной водой, выходить на улицу, вливаться в поток рабочих, спешащих к проходной завода. На работу я всегда шёл с гордостью. С каждым днём эта гордость укреплялась: взрослые, квалифицированные рабочие разговаривали с нами, ремесленниками, как с равными. А тут подошла и первая получка. Небольшая, конечно, — всего тридцать рублей. Но это были первые заработанные мною деньги. Половину из них я послал матери в Гжатск, на хозяйство. Мне очень хотелось помогать семье, чувствовать себя взрослым.
В ремесленном училище мы одновременно проходили теоретическую подготовку и практику. Надо признаться, что ребята не очень-то любили занятия в классе. Их все больше тянуло к формовочной земле, к расплавленному металлу. Но был у нас преподаватель, маленький такой, незаметный старичок. Фамилию я его, к сожалению, позабыл. Он преподавал черчение — науку точную и необходимую для многих специалистов. Как-то дал он мне начертить одну деталь, потом другую, третью. И все сложнее и сложнее. Я заинтересовался и в конце концов стал хорошо чертить и читать сложные чертежи. Я знал: это пригодится в будущем.
И хотя я учился, мне хотелось знать ещё больше. В библиотеке брал технические книги и злился, что в сутках всего только 24 часа. На все не хватало времени. Было жаль годы, загубленные зря при фашистской оккупации. Я мечтал окончить какой-нибудь техникум, поступить в институт, стать инженером. Но для поступления в институт требовалось среднее образование. Вместе со своими товарищами — Тимофеем Чугуновым, тоже нашим, смоленским, и Александром Петушковым из Калужской области мы поступили в седьмой класс люберецкой вечерней школы № 1. Мы поддерживали друг друга, помогали друг другу, всегда держались втроём.
Трудновато было. Надо и на заводе работать, и теоретическую учёбу в ремесленном сочетать с занятиями в седьмом классе. Преподаватели и здесь попались хорошие. На преподавателей мне везло всю жизнь.
Проучился я всего один год. Этот 1950/51 учебный год был для меня сумбурным и беспокойным. Меня все куда-то тянуло.
Учителя, заметив, что я хочу учиться дальше и никогда не брошу учение, пока не получу образования, предложили поступить в Ленинградский физкультурный техникум. Ведь я среди рабочих завода зарекомендовал себя неплохим спортсменом, не раз занимал призовые места на соревнованиях.
Я прошёл отборочные испытания в Мытищах, на пятёрку сдал последний экзамен и вернулся в Люберцы. И тут мне сказали: можно поступить в Саратовский индустриальный техникум по своей литейной специальности.
— А спортом, — говорят, — можно заниматься везде…
И верно! Каждый спортсмен, каким бы он ни был мастером, должен иметь какую-то специальность и заниматься производительным трудом. Не человек для спорта, а спорт для человека!
Чугунов, Петушков и я отправились к директору ремесленного училища и попросили направления в Саратовский индустриальный техникум. Он душевно отозвался на нашу просьбу. Мы получили бесплатные билеты, сели в поезд и махнули на Волгу, где никто из нас ещё не бывал.
Саратов нам понравился. Мы приехали туда в августе. Устроились в общежитии на Мичуринской улице, в доме № 21, — и сразу на Волгу. На берегах этой красивой реки родился великий Ленин. Мы долго стояли на пристани, любуясь быстротой течения, необозримыми далями. Эта картина гармонировала с нашим приподнятым настроением, ведь мы входили в новую, ещё не изведанную жизнь, становились студентами.
Все прибывшие в техникум волновались: как пройдут экзамены? А нам, люберецким, экзаменов сдавать не надо: у нас отличные оценки за семь классов. Единственно, что потребовалось, — сдать пробу по производственной практике. Но каждый из нас уже имел пятый разряд литейщика-формовщика, и, конечно, пробы сдали успешно. Вообще-то пробы сдавали все хорошо, ведь большинство будущих студентов прибыло в техникум с заводов. Многие были куда взрослее нас, приехали даже мастера, жаждавшие получить среднее техническое образование.
Когда нас зачислили в техникум, директор сказал:
— Ну, студенты, поезжайте-ка пока, до начала занятий, в поле, помогите убрать урожай…
Сели на грузовики и отправились километров за восемьдесят от Саратова в колхоз. Там на току молотили пшеницу, возили её на элеватор в Екатериновку. Проработали недели две, получили благодарность от правления колхоза и с теми же шофёрами вернулись в город.
Начались занятия в техникуме. Он находился на улице Сакко и Ванцетти. Обстановка здесь была значительно серьёзнее, чем в школе и ремесленном училище. И требования жёстче и учебная база солиднее — лаборатории, библиотека, кабинеты по различным специальностям. В нашей группе было 35 человек, приехавших из разных городов Советского Союза. Среди них несколько коммунистов, орденоносцев — участников Великой Отечественной войны; они уже были женатыми людьми, имели детей. Всех их привела сюда жажда к знаниям, стремление приносить как можно больше пользы стране.
На первых порах новые знания приобретались с трудом. Люди, отвыкшие от школьной парты, хватали двойки со страшной силой. У нас троих — Петушкова, Чугунова и меня — учёба ладилась: всё было ещё свежо в памяти. Звали нас «неразлучными москвичами», часто обращались к нам за помощью, и мы охотно помогали товарищам разобраться в неясных вопросах. Особенно неважно было у многих студентов с математикой. Ведь это капризный предмет — пропустишь два-три урока, плохо усвоишь какую-нибудь формулу или правило, и это отразится на дальнейшей учёбе.
А мы все трое любили математику. Мы понимали, что в наше время, в век атома, без математики не прожить: все зиждется на точных расчётах. Каждый мечтал приобрести логарифмическую линейку.
В техникуме царил дух товарищеской взаимопомощи. Мы, молодёжь, присматривались, как ведут себя старшие, прислушивались к их мнениям, старались подражать им. «Сам погибай, а товарища выручай», — говорили порой бывшие фронтовики. Было в них что-то уже знакомое, близкое мне. В каждом из них проступали черты тех двух лётчиков, которых пришлось увидеть в первые дни войны в селе и которые так поразили тогда моё воображение широтой своих сердец. Техникум был и для меня, и для всех комсомольцев не только школой знаний, но и замечательной школой жизни.
С каждым днём у студентов всё больше и больше проявлялся вкус к занятиям. Двойки постепенно исчезали, их заменяли тройки, а потом и их почти не стало. В свободное время мы много занимались спортом, организовали баскетбольную команду. Я ещё в ремесленном училище пристрастился к этой быстрой, живой игре. Наша команда участвовала в городских соревнованиях и заняла первое место среди саратовских техникумов. Зимой раза три в неделю мы тренировались в спортивном зале. Был у меня друг — Толя Навалихин. Он все тянул на лыжню в засыпанные снегом пригородные рощи. Но я предпочитал баскетбол. На лыжах ходил, но не так много и часто, как другие.
В общежитии я жил в комнате, где, кроме меня, находилось ещё четырнадцать ребят. Жили дружно, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Вечерами ребята нередко играли в шахматы. Даже турниры организовывали. Но я не участвовал в них; по душе мне больше были подвижные игры. Сидеть часами на одном месте я не мог.
Стипендию получали мы небольшую — пятьдесят рублей в месяц на первом курсе и сто рублей на последнем. Хотя государство обувало нас, одевало, кормило, всё же приходилось строго рассчитывать свои расходы. Однако мы находили средства и на то, чтобы ходить в театр и в кино. В Саратове хороший оперный театр. Там я прослушал «Русалку» Даргомыжского, «Кармен» Бизе, «Пиковую даму» Чайковского. Большое впечатление произвела опера Глинки «Иван Сусанин». Следя за спектаклем, я как бы сам находился на сцене с русским народом, борющимся против врагов Родины.
В кино мы бывали почаще. Обычно ходили компанией, ведь в техникуме учились и девушки. После каждого фильма обязательно обменивались мнениями, спорили. Мне нравился фильм «Повесть о настоящем человеке», сделанный по книге Бориса Полевого. Я смотрел его несколько раз и книгу тоже прочитал не один раз. Хорошо в ней показана сила духа советского человека. Алексей Маресьев — прототип героя «Повести о настоящем человеке» — был посильнее полюбившихся мне героев Джека Лондона, он был ближе мне по духу и устремлениям. Я частенько прикидывал про себя, как бы поступал, доведись мне попасть в такой же переплёт, как Маресьеву. С детства я любил образ Овода, созданного Этель Лилиан Войнич в одноимённом романе. Это был любимый герой мальчишек. Я читал: «У него на груди был спрятан платок, обронённый Монтанелли. Он осыпал этот платок поцелуями и проплакал над ним всю ночь, как над живым существом…» И видел перед собой этот скомканный платок, ощущал его солёную влажность, ясно слышал выстрелы солдат, стрелявших в Овода.
Я любил Овода, но Маресьева полюбил сильнее. Он был моим современником, жил вместе с нами на одной земле, и мне хотелось встретиться с ним, пожать его мужественную руку.
Литературу преподавала нам Нина Васильевна Рузанова, внимательный, заботливый педагог, влюблённый в свой предмет. Она составила список книг, настоятельно рекомендуя прочесть их каждому. В этот список входила вся серия «История молодого человека XIX столетия», которую в своё время редактировал Максим Горький. Она знакомила нас с шедеврами русской и мировой классики. До сих пор помню волнение, охватившее меня, когда я читал «Войну и мир» Льва Толстого. Больше всего в этой чудесной книге мне понравились батальные сцены и образы защитников Отечества от наполеоновского нашествия — артиллериста Тушина, командира полка князя Андрея Болконского, офицеров Ростова, Долохова, Денисова. И фельдмаршал Кутузов, словно живой, представал перед моими глазами.
В то время я прочёл «Песнь о Гайавате» американского поэта Лонгфелло, произведения Виктора Гюго и Чарльза Диккенса. Читал много, навёрстывая то, что не успел сделать в детстве. Как и все мои сверстники, увлекался Жюлем Верном, Конан-Дойлем и Гербертом Уэллсом. Мы знали, что английского писателя интересовала Советская Россия, что в голодные годы он приезжал в Москву, разговаривал с Владимиром Ильичем Лениным и написал книгу «Россия во мгле». Нам хотелось прочитать эту книгу, но достать её не смогли: в Саратовской городской библиотеке её не было.
Герберт Уэллс сомневался в ленинском плане электрификации страны. Но мы собственными глазами видели, как снизу по Волге караваны барж везли материалы на строительство Куйбышевского гидроузла. То, что прозорливо предвидел Ленин, свершалось на наших глазах трудолюбивыми руками советского народа.
В очень интересное время проходила наша молодость! Надо было торопиться с учением. Мы были повсюду нужны. И у нас в стране, и за рубежом происходила масса событий, волновавших всех студентов техникума, и особенно нас, комсомольцев.
Где-то далеко, за тридевять земель, небольшой свободолюбивый народ Кореи отражал полчища самой крупной капиталистической страны мира — Соединённых Штатов Америки. Мы начинали свой день с того, что слушали по радио сообщения о боях в Корее. Тогда мы узнали имена героев Корейской Народно-Демократической Республики лётчиков Ли Дон Гю и Ким Ги Ока. «Правда» писала об их храбрости и отваге, о том, что каждый из них сбил по полтора десятка американских «Сейбров». Многие народы з своей борьбе учились и учатся героизму у советских людей, и нам было приятно читать о том, что корейский народ учился мужеству у советских людей, что в борьбе с американскими захватчиками прославили себя корейские партизанские отряды имени Зои Космодемьянской и Алексея Маресьева.
Китайский народный доброволец Хуан Цзи-гуан сознательно повторил подвиг Александра Матросова, ибо читал о нём книгу и видел о нём фильм, потрясший его до глубины души.
Прочитав об этом в газете, Толя Навалихин воскликнул:
— Вот оно, лучшее доказательство, что только сильный характер может породить другой сильный характер!
Это был отзвук наших все ещё продолжавшихся споров о героизме.
Почти все студенты техникума были комсомольцами. Меня избрали членом бюро комсомольской организации.
Общественной работы было много, тем более что я выполнял ещё обязанности секретаря местного спортивного общества «Трудовые резервы». Приходилось экономить каждую минуту, чтобы со всем справиться.
После окончания третьего курса захотелось мне купить новый костюм, а денег не было.
— Слушай, Гагарин, не поедешь ли ты физруком в детдомовский лагерь на лето?-предложил мне секретарь райкома комсомола. — Отдохнёшь, да и заработаешь немного…
Я любил детей и согласился.
Пионерский лагерь находился в замечательном месте, весь в зелени, на реке. Там мне впервые в жизни пришлось вести воспитательную работу. Надо сказать, ребята попались живые, а некоторые даже «вредные». Они обрадовались, что уехали от учительских глаз, и шалили вовсю. На весь лагерь было только двое мужчин, если меня в то время можно было назвать так, — я да слепой баянист Иван Алексеевич, человек тонкого слуха и большой музыкальной души. Мы, как могли, помогали молодой воспитательнице Тане Андреевой и завучу детского дома Елене Алексеевне.
Работа в лагере дала мне многое. Нередко вечерами, когда ребята, набегавшись за день, засыпали крепким сном, у нас с Еленой Алексеевной возникали задушевные беседы. Говорили о том, как важна в человеческой жизни дисциплина.
— От дисциплины до геройства — один шаг, — говорила эта опытная воспитательница.
Она утверждала, что каждый ребёнок — это целый мир. Правильно разобраться в нём — значит найти верные пути становления человека, помочь детскому сердцу окрепнуть для преодоления будущих трудностей жизни.
Лагерное лето пролетело быстро. Я вернулся домой и приобрёл новый костюм, ботинки, часы. Словом, всё сложилось хорошо — и практику воспитателя прошёл и деньги заработал.
Наступил последний год учения в техникуме. От книг и учебников мы всё больше и больше переходили к практике, к стажировкам на производстве. Сначала меня послали в Москву на завод имени Войкова, а затем в Ленинград на завод «Вулкан». Первые дни я со своим товарищем Фёдором Петруниным ходил по Ленинграду, охваченный небывалым восторгом. Подумать только — мы в городе, ставшем колыбелью Октября! Мы ходили к Смольному, откуда Ленин руководил революцией, посылал отряды рабочих, солдат й матросов на штурм Зимнего. Вот и сам Зимний. Нева. Легендарная «Аврора».
Нет в мире города с такой богатой революционной историей, как Ленинград. Все здесь напоминало о борьбе. И стены Петропавловской крепости, и чугунные мосты через Неву, и корпуса бывшего Путиловского завода, на котором работал мой дед Тимофей Матвеев. Мы ходили к Исаакиевскому собору, фотографировались у памятника Петру Великому. Федя декламировал:
О мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной, На высоте уздой железной Россию поднял на дыбы?В этом городе творили Пушкин, Гоголь, Достоевский… Здесь, на Сенатской площади, царские войска палили картечью по декабристам… У Зимнего дворца в январское воскресенье 1905 года царь расстрелял рабочих… Вся история русского рабочего класса разворачивалась перед глазами. Мы устремились к Финляндскому вокзалу, чтобы увидеть бронзового Ленина на броневике.
Дни мы проводили на заводе, а по вечерам ходили в музеи, в театры. Работая в ночной смене, мы три дня провели в Эрмитаже, среди сокровищ мирового искусства. Были и в Русском музее, любовались картинами наших знаменитых художников. Все нам нравилось в Ленинграде — его архитектурные ансамбли, его памятники. Мы с Петруниным долго стояли возле вздыбленных бронзовых коней на Анич-ковом мосту. Большое впечатление произвёл на меня и памятник миноносцу «Стерегущему» на Петроградской стороне. Я долго вглядывался в лица русских матросов, открывших кингстоны, потопивших и себя, и свой корабль, но не сдавшихся врагу — японским самураям.
Побывав в Ленинграде, мы сразу стали взрослее, духовно богаче. Одно дело — читать в книгах о том, как брали Зимний, и другое — видеть арку бывшего Генерального штаба, из-под которой красногвардейцы начали атаку, самому пройти по Дворцовой площади, побывать в залах Зимнего, где было арестовано Временное правительство Керенского… Вернувшись в Саратов, мы долго вспоминали красоту Ленинграда, подробно рассказывали о городе русской славы товарищам по курсу.
Одним из любимых моих предметов в техникуме, как и раньше в школе, продолжала оставаться физика. Здесь её преподавал такой же замечательный учитель, как и Лев Михайлович Беспалов. Многие у нас с глубоким уважением относились к этому чуткому, высокообразованному человеку — Николаю Ивановичу Москвину. Физика — предмет увлекательный, но трудный. Не зная математики, разобраться в ней трудно. Свои лекции наш физик читал интересно, образно, увлекательно. Тем, кто не знал предмета, он беспощадно ставил двойки, а затем требовал их исправления. Николай Иванович не оставлял в покое нерадивого студента до тех пор, пока тот не усваивал того, чего не знал.
— Техник не может не знать физики, — говорил он нам, — земной шар вращается по законам физики.
Москвин организовал физический кружок, участники которого выступали с докладами. Были доклады о законах Ньютона, о механике, о достижениях в электричестве. Мне Николай Иванович поручил сделать сообщение по работе русского учёного Лебедева о световом давлении. Доклад кружковцам понравился. И тогда я взялся за другую тему — «К. Э. Циолковский и его учение о ракетных двигателях и межпланетных путешествиях». Для этого мне пришлось прочесть и сборник научно-фантастических произведений Константина Эдуардовича, и все книги, связанные с этим вопросом, имевшиеся в библиотеке.
Циолковский перевернул мне всю душу. Это было посильнее и Жюля Верна, и Герберта Уэллса, и других научных фантастов. Все сказанное учёным подтверждалось наукой и его собственными опытами. К. Э. Циолковский писал, что за эрой самолётов винтовых придёт эра самолётов реактивных. И они уже летали в нашем небе. К. Э. Циолковский писал о ракетах, и они уже бороздили стратосферу. Словом, все предвиденное гением К. Э. Циолковского сбывалось. Должна была свершиться и его мечта о полёте человека в космические просторы. Свой доклад я закончил словами Константина Эдуардовича: «Человечество не останется вечно на Земле, но, в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство».
Прочёл и почувствовал, как сердце моё дрогнуло и забилось сильнее.
Все члены нашего кружка были поражены силой и глубиной мысли учёного. На эту фразу, похожую на формулу, обращал моё внимание ещё Лев Михайлович Беспалов в гжатской средней школе. Но тогда я не понимал её значения так, как понял теперь. И может быть, именно с этого дня у меня появилась новая болезнь, которой нет названия в медицине, — неудержимая тяга в космос. Чувство это было неясное, неосознанное, но оно уже жило во мне, тревожило, не давало покоя.
Я СТАНОВЛЮСЬ ЛЁТЧИКОМ
Занятия в техникуме шли своим чередом. Но стоило услышать гул пролетающего самолёта, встретить лётчика на улице, и как-то сразу на душе становилось теплее. Это была всё та же, ещё не осознанная тяга в воздух. Я знал, что в Саратове есть аэроклуб. Среди ребят о нём шла добрая слава. Но, чтобы поступить туда, надо было иметь среднее образование. Чувство, обуревавшее меня, волновало также и Виктора Порохню и Женю Стешина — тоже студентов нашего техникума. Как-то прибегает Виктор и возбуждённо кричит:
— Ребята, отличная новость! В аэроклуб принимают четверокурсников техникумов…
В тот же вечер втроём мы отправились в аэроклуб. Мы подали заявления, прошли все комиссии и начали заниматься. Сначала теория полёта, знакомство с устройством самолёта и авиационного двигателя. На первых порах нас даже разочаровали эти скучные занятия. Думалось, сразу попадём на аэродром, станем летать. А тут все те же классы, задачи у доски да учебники. Дорога на аэродром, к самолётам, оказалась куда длиннее, чем мы представляли себе.
Очень напряжёнными для нас были первые месяцы 1955 года. Приходилось работать в две тяги: днём занимались в техникуме, а вечером — в аэроклубе. А тут ещё подоспела защита дипломных проектов — надо было подбивать итоги четырёхлетнего обучения в техникуме. Мне досталась довольно сложная тема — разработка литейного цеха крупносерииного производства на девять тысяч тонн литья в год. Кроме того, я должен был разработать технологию изготовления деталей и методику производственного обучения в ремесленном училище по изготовлению этих деталей.
Дипломная работа требовала множества чертежей. И я не раз добрым словом помянул старенького люберецкого преподавателя, привившего мне вкус к черчению. Материалы, необходимые для диплома, я брал в библиотеке техникума и в техническом отделе городского книгохранилища. Опыт, хотя и небольшой, приобретённый ранее в ремесленном училище, на Люберецком заводе и во время стажировок в Москве и Ленинграде, пришёлся кстати. Постепенно дипломный проект приобретал нужные очертания, пополнялся всё новыми и новыми соображениями.
Работая над дипломом, я старался не пропускать занятий в аэроклубе. Там мы тоже уже заканчивали изучение теории, сдавали экзамены. Уставали смертельно и, едва добравшись до коек, засыпали моментально, без сновидений. Очень хотелось поскорее начать учебные полёты. Ведь я до сих пор ни разу, даже в качестве пассажира, не поднимался в воздух. А вдруг забоюсь, закружится голова или станет тошнить? Ведь старшие товарищи рассказывали всякое о полётах…
Но прежде чем начать учебные полёты, полагалось совершить хотя бы один прыжок с парашютом.
— Посмотрим, смелые ли вы ребята, — с лукавой усмешкой говорил наш лётчик-инструктор Дмитрий Павлович Мартьянов.
Это был молодой, постарше меня на несколько лет, плотно сбитый, невысокого роста человек. В аэроклуб он прибыл из истребительного полка, рассказывал нам, что окончил Борисоглебское училище военных лётчиков, и очень гордился тем, что в своё время там учился Валерий Чкалов. Прослужив некоторое время в войсках, он демобилизовался и стал работать инструктором аэроклуба. После службы в армии он мог поступить в какой-нибудь институт, стать инженером или агрономом, но пошёл в аэроклуб.
— Не могу без аэродрома, не могу не летать, — признавался он.
Мартьянов был подлинный лётчик и не мог жить без крыльев. Курсантам нашей группы по душе пришлась и его приверженность к авиации, и чёткость, к которой он приучал нас с первого дня знакомства. В нём была эдакая «военная косточка», сразу отличающая строевика от гражданских людей. К высокой дисциплине и порядку Дмитрий Павлович привык с детства. Ведь свою воинскую жизнь он начал в суворовском училище. Мы верили, что такой бывалый человек не успокоится, пока не сделает нас лётчиками.
Наконец назначены парашютные прыжки. Дважды ночами мы выезжали на аэродром и, переживая, ждали, когда нас поднимут в воздух. Но нам не везло: не было подходящей погоды. Невыспавшиеся, переволновавшиеся, возвращались мы в техникум и садились за дипломные работы. Их-то ведь за нас никто не сделает!
В третью ночь на аэродром поехали с нами и девушки — студентки саратовского техникума. Им тоже надо прыгать. Смотрю на них, а они бледные, растерянные. Неужели и у меня такой вид? Девушки подшучивают:
— А ты почему такой спокойный? Наверное, уже не раз прыгал?
— Нет, — говорю, — впервые…
Не верили мне девчата. И только когда мы стали надевать на себя парашюты, убедились, что я не лгу. У меня не ладилось дело с лямками и карабинами так же, как и у них. Непривычно было. Сзади большой ранец с основным парашютом. Спереди тоже ранец, поменьше, — с запасным. Ни сесть, ни встать, ни повернуться… Как же, думаю, обойдусь там, в воздухе, со всем этим хозяйством? Оно как бы связало меня по рукам и ногам…
С детства я не любил ждать. Особенно если знал, что впереди трудность, опасность. Уж лучше смело идти ей навстречу, чем увиливать да оттягивать. Поэтому я обрадовался, когда после первого «пристрелочного» прыжка Дмитрий Павлович выкрикнул:
— Гагарин! К самолёту…
У меня аж дух захватило. Как-никак это был мой первый полет, который надо было закончить прыжком с парашютом. Я уж не помню, как мы взлетели, как «По-2» очутился на заданной высоте. Только вижу, инструктор показывает рукой: вылезай, мол, на крыло. Ну, выбрался я кое-как из кабины, встал на плоскость и крепко уцепился обеими руками за бортик кабины. А на землю и взглянуть страшно: она где-то внизу, далеко-далеко. Жутковато…
— Не дрейфь, Юрий, девчонки снизу смотрят! — озорно крикнул инструктор. — Готов?
— Готов!-отвечаю.
— Ну, пошёл!
Оттолкнулся я от шершавого борта самолёта, как учили, и ринулся вниз, словно в пропасть. Дёрнул за кольцо. А парашют не открывается. Хочу крикнуть и не могу: воздух дыхание забивает. И рука тут невольно потянулась к кольцу запасного парашюта. Где же оно? Где? И вдруг сильный рывок. И тишина. Я плавно раскачиваюсь в небе под белым куполом основного парашюта. Он раскрылся, конечно, вовремя — это я уж слишком рано подумал о запасном. Так авиация преподала мне первый урок: находясь в воздухе, не сомневайся в технике, не принимай скоропалительных решений.
Проходит минута. Прислушиваюсь к себе — всё в порядке, сердце работает нормально, и его стук ощущается не громче, чем тикание часов на руке.
После меня на этот же «По-2» посадили девчушку, которая все подтрунивала надо мной в автобусе. На земле-то она была бойкая, а в воздухе растерялась. Вылезла на крыло, перепугалась и — ни туда, ни сюда. Так и вернул её инструктор на аэродром. Никто над ней не смеялся. С каждым такое в первый раз может случиться.
Когда прыжки кончились, Дмитрий Павлович спросил:
— Хочешь полетать со мной на «Яке»?
Как можно было не согласиться! Сажусь в заднюю кабину, привязываюсь ремнями. Мартьянов советует, чтобы я глядел на землю, ориентировался по ней, определял высоту полёта. А как её определять-то? Глаза разбегаются, дух захватывает, и не поймёшь, что к чему. Но, как уже много раз бывало со мной, я быстро освоился с новой обстановкой и залюбовался землёй с высоты птичьего полёта. До чего же красочна и прекрасна наша земля, если глядеть на неё сверху! Деревья и кусты кажутся низкими, вровень с травой; огромными ломтями ржаного хлеба чернеют вспаханные колхозные поля; видны грейдерные дороги; отчётливо вырисовывается каждая тропинка, стада коров и пастушки, задравшие головы к небу. Когда-то и я был таким, как они, обдирал колени и частенько разбивал нос, мечтал о сказочных крыльях, томился жаждой по неизведанному и вот наконец взлетел, и этот полет наполнил меня гордостью, придал смысл всей моей жизни.
Прошли мы по кругу, а потом Мартьянов повёл машину в зону и стал показывать фигуры высшего пилотажа.
— Вот это вираж, — говорил он по самолётному переговорному устройству, — а это петля Нестерова…
Юрий Гагарин — студент Саратовского индустриального техникума.
И самолёт сделал такую штуку, что мне сразу захотелось на землю. А Мартьянов продолжал свои узоры. Я не понимал, зачем он оглушает меня каскадом фигур. А ему это надо было для того, чтобы с одного раза решить: получится из меня лётчик или нет? Вывод для себя он сделал обо мне положительный, потому что, когда приземлились, его лицо выражало удовлетворение.
— Ну, что же, завтра опять слетаем? — поинтересовался он и пытливо поглядел мне в глаза.
— Я готов летать хоть круглые сутки, — вырвалось у меня.
Может быть, эта фраза и была несколько хвастливой, но произнёс я её от всего сердца.
— Нравится летать?
Я промолчал. Слова были бессильны, только музыка могла передать радостное ощущение полёта.
Через несколько дней в техникуме состоялась защита дипломов. Свою работу я выполнил и получил диплом об окончании Саратовского индустриального техникума с отличием. Государственная экзаменационная комиссия присвоила мне квалификацию техника-литейщика. Трудный жизненный рубеж был взят. Можно идти на производство, можно продолжать учение. Я стоял на распутье. Ничто меня не связывало. Родителям помогали старший брат и сестра, своей семьёй я пока ещё не обзавёлся. Куда захотел, туда и поехал. Знания мои везде могли пригодиться. В стране шли большие созидательные работы. Товарищи разъезжались, кто в Магнитогорск, кто в Донбасс, кто на Дальний Восток, и каждый звал с собой. Я ведь с многими дружил, привык жить в коллективе, в общежитиях, никогда ещё у меня не было своей комнаты.
Товарищи уезжали, а я всё никак не мог оторваться: крепкими корнями врос в землю Саратовского аэродрома… Я не мог бросить начатое дело. И когда в аэроклубе сказали, что на днях курсанты отправятся в лагеря, я согласился ехать туда.
В лагерях рядом с аэродромом, покрытым короткой травой, для нас уже были разбиты палатки, будто паруса, похлопывающие под ветром. И началось горячее, интересное лето. Почти каждый день — полёты, Дмитрий Павлович начал возить нашу группу по кругу, в зоны. Летали мы на «Як-18» — добротной учебной машине, казавшейся нам истребителем. Это был манёвренный, лёгкий в управлений самолёт.
Мартьянов, несмотря на свою молодость, относился к нам строго и требовательно.
— Лётное дело, — говорил он, — не прощает даже малейшую ошибку. За каждый промах в воздухе можно заплатить головой…
Он кропотливо, по крупице прививал нам основы авиационной культуры, без которой немыслим современный лётчик, требовал, чтобы каждое задание выполнялось с предельной точностью. Скорость мы должны были выдерживать до километра, заданную высоту полёта — до метра, намеченный курс — до полградуса. Некоторым казалась излишней такая придирчивость инструктора. А он, конечно, был глубоко прав: авиационное дело зиждется на математических расчётах, не терпит пренебрежения «мелочами», рассеянности в воздухе.
— Летать надо красиво, — любил повторять Дмитрий Павлович, выговаривая курсантам за каждое малейшее отклонение от задания.
Мартьянов был хорошим лётчиком-воспитателем. Но он не был на войне. А нас интересовало поведение лётчика в бою. Мы уже прочитали книги Александра Покрышкина и Ивана Кожедуба, и нам хотелось стать не просто лётчиками, а военными лётчиками, и обязательно истребителями. Мы знали, что человек познаётся в борьбе с препятствиями, и свою любовь и уважение к нашим первым наставникам в лётном деле делили между Мартьяновым и командиром звена Героем Советского Союза Сергеем Ивановичем Сафроновым. В дни войны он сражался под Сталинградом, участвовал в знаменитой воздушной битве на Кубани, сбил несколько «юнкерсов» и «мессершмиттов» на Курской дуге. Будучи капитаном, в 1943 году он был награждён Золотой Звездой. На примерах своей биографии он стремился показать нам, будущим пилотам, как формируется советский человек и настоящий лётчик. Слушали мы его внимательно: ведь перед нами советский ас, носитель славных традиций нашей боевой авиации. Он называл нас молодогвардейцами, много работал с нами и так же, как Мартьянов, учил чистоте лётного почерка.
Как-то мы собрались в тени раскидистого дерева, и под шёлковый шелест листвы Сергей Иванович сказал:
— Крепкие нервы важнее крепких мускулов… Сильная воля — не врождённое качество человека, её можно и надо воспитывать!
Из всего сказанного нам Героем Советского Союза в тот день и из предыдущих бесед мы сделали для себя вывод: воля — это усилие, напряжение всех нравственных и физических сил человека, мобилизация энергии и упорства для достижения поставленной цели.
Начальник нашего аэроклуба Григорий Кириллович Денисенко тоже был Героем Советского Союза. И это тоже сказывалось на нашем воспитании.
Выступая как-то на комсомольском собрании, он в свою очередь объяснил нам, что такое воля, — это прежде всего умение управлять своим поведением, контролировать свои поступки, способность преодолевать любые трудности, с наименьшей затратой сил выполнять поставленные задания.
Помню, в день собрания была отвратительная погода, дождь бил по стёклам, в комнате наступила сумеречная темнота, а мы слушали как зачарованные.
— Человек сильной воли отличается высокой организованностью, дисциплинирован, с толком использует каждый час, — так окончил своё выступление начальник аэроклуба.
Провиниться и получить замечание от таких заслуженных людей, как Сергей Иванович Сафронов или Григорий Кириллович Денисенко! Случись такое со мной, и я бы сгорел от стыда. Ведь, кроме всего, я ещё был и комсоргом отряда аэроклуба и старшиной группы. Мы во всём старались подражать им, даже походкой, манерой держаться. Золотые Звёзды на их кителях были мечтой каждого. Но об этом не говорилось вслух, они были так же недосягаемы, как настоящие звёзды.
Многие курсанты воспитывали в себе волю, отказывались от курения, вели дневники, ибо ежедневное писание дневников требует волевого усилия.
Наступал июль. Дни стояли знойные, вечера душные. В один из таких дней Дмитрий Павлович не сел, как обычно, со мной в машину — это была «шестёрка жёлтая», — а, стоя на земле, сказал:
— Пойдёшь один. По кругу…
И хотя я уже с неделю ждал этих слов, сердце моё ёкнуло. Много раз за последнее время я самостоятельно взлетал и садился. Но ведь за спиной у меня находился человек, который своим вмешательством мог исправить допущенную ошибку. Теперь я должен был целиком положиться на себя.
— Не волнуйся, — подбодрил Дмитрий Павлович.
Мечты о небе.
Я вырулил самолёт на линию старта, дал газ, поднял хвост машины, и она плавно оторвалась от земли. Меня охватило трудно передаваемое чувство небывалого восторга. Лечу! Лечу сам! Только авиаторам понятны мгновения первого самостоятельного полёта. Ведь я управлял самолётом и прежде, но никогда не был уверен, что веду его сам, что мне не помогает инструктор. Я слился с самолётом, как, наверное, сливается всадник с конём во время бешеной скачки. Все его части стали передатчиками моей воли, машина повиновалась моим желаниям и делала то, что я хотел.
Сделал круг над аэродромом, рассчитал посадку и приземлил самолёт возле посадочного знака. Сел точно, в ограничители. Настроение бодрое. Вся душа поёт. Но не показываю виду, как будто ничего особенного не случилось. Зарулил, вылез из кабины, доложил Дмитрию Павловичу: задание, мол, выполнено.
— Молодец, — сказал инструктор, — поздравляю…
Мы шли по аэродрому, а в ушах продолжала звенеть музыка полёта. Я всегда любил музыку. Она знакомила меня не только с жизнью других народов, но и с отжившими своё эпохами.
А на следующий день товарищи говорят:
— Знаешь, о тебе написали в газете…
Газеты на аэродроме не оказалось, достал я её только через неделю в городе. Там было всего несколько строк о моём полёте, были названы мои имя и фамилия, помещена фотография: я в кабине самолёта, подняв руку, прошу разрешение на взлёт. Когда был сделан этот снимок, кем написана заметка, я не знал. Видимо, все это организовал Дмитрий Павлович. Значит, он был уверен во мне, знал, что не подведу его.
«Заря молодёжи» — так называлась газета саратовских комсомольцев, в которой столь неожиданно отметили меня. Первая похвала в печати многое значит в жизни человека. Мне было и очень приятно видеть своё имя напечатанным в газете, и в то же время как-то неловко, что из всех товарищей почему-то написали именно обо мне. Но всё-таки я послал этот экземпляр «Зари молодёжи» домой, в Гжатск. Мама в ответном письме написала: «Мы гордимся, сынок… Но ты, смотри, не зазнавайся…»
После первых полётов. Юрий Гагарин второй слева.
Полёты становились всё более и более интересными. Мартьянов теперь посылал меня и других курсантов, тоже летающих самостоятельно, в пилотажные зоны и на маршруты. Ощущая холодок волнения, мы учились выполнять виражи, перевороты через крыло, полупетли и петли Нестерова, «бочки». Всё шло нормально. С каждым днём наши действия в воздухе становились всё более уверенными, вызывавшими одобрение и лётчика-инструктора и командира звена. Было приятно сознавать, что мы постепенно становимся крылатыми людьми. Я научился летать на «Як-18», но знал, что мне ой как далеко ещё до Сафронова, до Денисенко, до тех лётчиков, которыми гордится страна.
Да и военные самолёты привлекали моё внимание. Нам доводилось читать о звуковом барьере, об истребителях со сверхзвуковой скоростью, оборудованных усовершенствованными радиолокационными приборами. Не говоря об этом никому, даже ближайшим приятелям, я мечтал стать военным лётчиком. До сих пор все желания мои исполнялись. Исполнится ли и эта заветная мечта?
Как-то раз в перерыве между полётами среди курсантов нашей группы зашёл разговор о записках американского пилота-испытателя Джимми Коллинза. Книга ходила тогда по рукам, вызывала противоречивые суждения: одни восхищались невероятными положениями, в которые доводилось попадать автору; другие утверждали, что он преувеличивает, нагнетает страсти.
— А что скажет инструктор?
Мы тесно сгрудились вокруг Мартьянова. Аэродромный ветерок, теребя выбившиеся из-под шлемов волосы, свежо опахивал наши загорелые лица. Я тоже читал эти записки и не мог не увлечься некоторыми главами. Но вместе с тем у меня, знавшего о лётно-испытательной службе пока что понаслышке, книга возбудила странные чувства. И когда Дмитрий Павлович попросил высказать своё мнение, я поделился им с товарищами.
— Коллинза, — сказал я, — по-моему, преследовала обречённость одиночества… Главное, что занимало его мысли, были доллары. Любой ценой, но только заработать…
— Юрий прав, — поддержал меня Дмитрий Павлович. — Капиталистическая действительность создавала для автора книги именно ту обстановку азартной игры со смертью, когда в погоне авиационных кампаний за прибылями жизнь лётчика могла оборваться в любом полёте.
Курсант Юрий Гагарин к полёту готов!
Может ли быть такое в нашей стране, где главное — забота о человеке?-спрашивали мы самих себя. Мы хорошо понимали, что, как и во всяком новом деле, да ещё связанном с испытаниями техники, любой — ракетной, авиационной, морской, подземной, — всегда имеется риск. Но о каком одиночестве советского лётчика-испытателя могла идти речь, когда за ним стоят такие силы, как партия, как творческий труд всего нашего народа?
Незаметно подкралась тихая осень. Через аэродром потянулась паутина бабьего лета, в палатках по ночам становилось холоднее. Подошла пора выпускных экзаменов. Опять — в который раз — экзамены! Но и теперь я их выдержал: самолёт «Як-18» — «отлично», мотор — «отлично», самолётовождение — «отлично», аэродинамика — «отлично»; общая оценка выпускной комиссии — тоже «отлично».
После экзаменов все мы, летавшие на «шестёрке жёлтой», подошли к машине. Хотелось ещё раз, на прощание, дотронуться до её крыльев, посидеть в кабине, взглянуть на приборы. Кто знает, на каких самолётах доведётся ещё летать! А этот старенький, повидавший виды «Як-18» стал для нас родной машиной.
Некоторые курсанты нашего аэроклуба ушли в гражданскую авиацию. Их привлекали дальние рейсы по родной стране, полёты за границу. Ведь трассы советского Аэрофлота пролегают во многие страны мира. Кое-кто отправился в авиацию специального применения, работающую на сельское хозяйство, на медицину, на геологию. А я хотел стать военным лётчиком-истребителем. Почему? Может быть, не давали покоя воспоминания о лётчиках, которых довелось видеть во время войны в родном селе. Наверное, ещё тогда они посеяли в моей душе семена любви к военной авиации. Мне нравилась военная дисциплина, нравилась военная форма. Мне хотелось быть защитником Родины. Сто тридцать вторая статья Конституции нашего государства, где сказано, что воинская служба представляет почётную обязанность граждан Советского Союза, настойчиво звала меня в ряды наших Вооружённых Сил.
Мне дали направление в Оренбургское авиационное училище. Я ехал туда не один, а с товарищами. Все они были ловкие, смелые парни, способные на решительные поступки. Все самозабвенно полюбили авиацию, лётное дело.
Нас провожал Мартьянов. Ожидая, пока отправится поезд, мы ходили с ним по перрону, шуршащему гравием, и говорили о будущем. Дмитрий Павлович, человек, навсегда влюблённый в авиацию, предсказывал, что с каждым годом она будет совершенствоваться, что самолёты станут летать ещё дальше, быстрее и выше.
— Будущее принадлежит вашему поколению, — сказал он на прощание, крепко пожимая нам руки, — вы ещё полетаете на таких машинах, которые нам я не снились…
Грустно было расставаться с милым Саратовом, с красавицей Волгой, с прежней мечтой стать инженером-литейщиком, с таким добрым наставником, как Мартьянов. Но что было делать! Поезд приближал меня к новой мечте — стать лётчиком-истребителем. Ведь и Покрышкин, и Кожедуб, и Маресьев были истребителями. Я придирчиво, как бы со стороны, присматривался к своему характеру, привычкам, знаниям: смогу ли достигнуть всего того, что хочу? И сам себе отвечал: смогу!
ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
Степной Оренбург встретил нас приветливо. Город выглядел так, как о нём рассказывал Мартьянов, окончивший здесь суворовское училище. Ровные, прямые улицы, невысокие дома, сады с облетевшей листвой. На рынках — изобилие колхозных продуктов, лошади и верблюды. Словом, город поменьше Саратова, но со своим строгим уральским колоритом. Здание военного училища, в которое мы приехали, стояло на высоком берегу Урала, сливалось с пейзажем, вписывалось в необозримый простор. Из его окон открывался красивый вид на зауральскую лиственную рощу и голубые, без конца и края степные дали. Оттуда доносился шум авиационных двигателей. Там, на аэродроме, ключом била жизнь, к которой мы так стремились.
В главном корпусе на стенах в обрамлении дубовых листьев и гвардейских чёрно-оранжевых лент висели портреты знаменитых лётчиков, в своё время окончивших училище: Михаила Громова, Андрея Юмашева, Анатолия Серова… Больше ста тридцати фотографий Героев Советского Союза, научившихся летать на просторном Оренбургском аэродроме. Мы становились наследниками их славы и внимательно всматривались в их такие разные, но одинаково мужественные лица, припоминали, кто чем прославил Родину. Тут были и те, кто совершал первые дальние перелёты по стране, и те, кто вслед за экипажем знаменитого лётчика своего времени Валерия Павловича Чкалова прокладывал пути через Северный полюс в Америку. Много было здесь советских асов, в воздушных сражениях Великой Отечественной войны совершивших беспримерные подвиги. Эти стенды напомнили мне галерею героев 1812 года, которую несколько лет назад пришлось увидеть в Зимнем дворце. Но там были только одни генералы, а здесь встречались и лейтенанты.
Нам предстояло научиться летать на реактивных самолётах, которые уже прочно вошли в повседневный быт советской авиации. Было интересно узнать, что пионер реактивного летания Григорий Яковлевич Бахчиванджи, сын слесаря-механика и сам бывший рабочий, став лётчиком, ещё в начале 1942 года первым поднявший в небо реактивный самолёт, тоже учился в Оренбургском училище лётчиков. Под его портретом висело описание этого подвига и шёл рассказ о том, как рабочие авиационного завода, построившие первый реактивный самолёт, радостно встретили лётчика-испытателя. Они подбрасывали его в воздух, обнимали, жали ему руки. Всё это происходило возле плаката, на котором было написано: «Привет капитану Бахчиванджи — первому лётчику, совершившему полет в новое». О таких полётах, об эре реактивных самолётов прозорливо мечтал К. Э. Циолковский. Она уже наступила, эта новая эра, и нам, будущим курсантам, предстояло продолжать и развивать замечательное дело, которое ещё в годы войны начал смелый советский лётчик. Глядя на его безусое, молодое лицо, каждый из нас невольно представлял себя «однополчанином» этого замечательного пилота.
— Всё уже сделано до нас, ребята, — сожалеюще сказал кто-то из нашей группы. — И война выиграна, и новая эра в авиации открыта…
Я ничего не ответил, но про себя подумал, что в Советской стране всегда есть и будет место для подвига. За примерами далеко не надо ходить. Достаточно было взять любой номер «Правды» и убедиться в том, что буквально каждый день наш народ совершает трудовые подвиги, добивается новых успехов в социалистическом строительстве. В эти дни была пущена первая очередь Омского нефтеперерабатывающего завода, труженики сельского хозяйства Сталинградской области сдали государству хлеба в два раза больше, чем предусмотрено планом, на реке Нарве построена гидроэлектростанция, первый агрегат Каховской ГЭС дал промышленный ток, городу Севастополю вручили орден Красного Знамени, бригада экскаваторщика Михаила Евец на строительстве Куйбышевской ГЭС вынула 1 800 тысяч кубометров грунта, вышла книга колхозного опытника Терентия Мальцева «Вопросы земледелия», Владимир Куц установил новый мировой рекорд в беге на пять тысяч метров. Каждый день приносил что-то новое, значительное, волнующее, заставляющее думать. В те дни прочитал я в «Правде» беседу с академиком Л. И. Седовым «О полётах в мировое пространство» и вырезал её на всякий случай.
В училище начались приёмные экзамены. Я их не сдавал, так как у меня был диплом об окончании техникума с отличием, да и аэроклуб также дал хорошую аттестацию. Всё время я находился с ребятами, помогал им по физике, математике. Требования были жёсткие, и более половины прибывших оказались отчисленными либо ещё до экзаменов медицинской комиссией, либо как не выдержавшие испытаний по теоретическим предметам. И хотя уезжали они из Оренбурга с не очень-то лёгким сердцем, но от всей души желали нам, остающимся в училище, плодотворной учёбы, хороших полётов.
— На будущий год снова приедем поступать в училище, — говорили некоторые из них.
И действительно, через год, когда мы уже начали летать на «МиГах», кое-кто из этих ребят, проявив завидную настойчивость, добился своего и попал в число курсантов. Упорство в достижении поставленной цели — одна из отличительных черт нашей молодёжи. Люди, которые страстно желают стать лётчиками, обязательно станут ими.
Итак, началась моя военная жизнь! Нас всех, как новобранцев, постригли под машинку, выдали обмундирование — защитные гимнастёрки, синие бриджи, шинели, сапоги. На плечах у нас заголубели курсантские погоны, украшенные эмблемой лётчиков — серебристыми крылышками. Я нет-нет да и скашивал глаза на них, и гордясь, и радуясь, что приобщился к большой семье Советской Армии. Училище жило весёлой жизнью молодых, здоровых людей, стремящихся к одной цели.
Нас разбили по эскадрильям, звеньям, экипажам. Я попал в эскадрилью, которой командовал подполковник Говорун, звено майора Овсянникова, экипаж старшего лейтенанта Колесникова. Это были мои первые командиры. Обращаться к ним надо было не так, как мы все привыкли — по имени и отчеству, а по воинскому званию, и говорить о них тоже надо было, упоминая звание и фамилию. На первых порах это казалось странным, но мы быстро привыкли к такому армейскому порядку. Все теперь определялось уставами: за проступок — взыскание, за усердие — поощрение, за отвагу — награда.
Наше знакомство с военной авиацией началось с занятий по программе молодого бойца. Командиром нашего взвода оказался капитан Борис Фёдоров — человек требовательный и строгий. Он сразу же, по его выражению, принялся вытряхивать из нас «гражданскую пыль», приучать к дисциплине. Трудновато поначалу было курсантам, особенно тем, кто пришёл в училище из десятилетки; их учили всему: наматывать на ногу портянки, ходить лёгким, красивым шагом. Мне было значительно легче, чем им, так как я всю свою юность прожил в общежитиях, где всё делалось хотя и не по воинскому уставу, но по определённому распорядку дня.
Мне не надо было привыкать к портянкам и сапогам, к шинели и гимнастёрке. В казарме всегда было чисто, светло, тепло и красиво, всё блестело — от бачков с водой до табуреток.
С детства я любил армию. Советский солдат-освободитель стал любимым, почти сказочным героем народов Европы и Азии. Я помню стихи о нашем солдате:
Да, неспроста у пулемёта он глаз две ночи не смыкал, и неспроста среди болота он под обстрелом пролежал, — ворвался в город на рассвете и, завершая долгий бой, он слезы радости заметил в глазах у женщины чужой. Прошёл по брёвнам переправы, прополз по грязи под огнём, и грязь в лучах солдатской славы горит, как золото, на нём!Я тоже становился солдатом, и мне по душе были и артельный уют взвода, и строй, и порядок, и рапорты в положении «смирно», солдатские песни, и резкий протяжный голос дневального:
— Подъ-е-ом!
Нравились мне физическая зарядка, умывание холодной водой, заправка постелей и выходы из казармы в столовую на завтрак.
Много времени проводили мы на полевых занятиях, на стрельбище и возвращались в казарму, порой промокшими до нитки от дождя и снега. Глаза сами слипаются от усталости, скорее бы заснуть, но надо чистить и смазывать карабины, приводить в порядок снаряжение… Вначале у нас буквально не хватало времени ни книжку почитать, ни письмо домой отправить. Но постепенно размеренный строй армейской жизни научил нас не терять даром ни одной минуты, мы стали более собранными, подвижными, окрепли физически и духовно.
День 8 января 1956 года запомнился мне на всю жизнь. За окнами на дворе трещал мороз, поскрипывали деревья, ослепительно сверкали снега, освещённые солнцем. Всех молодых курсантов выстроили в большом зале училища. Каждый с оружием в руках выходил из строя, становился лицом к товарищам и командиру и громко зачитывал слова военной присяги. Одним из первых, по алфавиту, вышел вперёд я и, замирая от волнения, произнёс:
— Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик…
Подняв голову, я увидел, что со стены напротив глядит на меня с портрета прищуренными глазами Ленин. Быть всегда и во всём таким, как Владимир Ильич, учили меня семья, школа, пионерский отряд, комсомол… Сейчас мы давали клятву на верность народу, Коммунистической партии, Родине, и Ленин как бы слушал наши солдатские обещания быть честными, храбрыми, дисциплинированными, бдительными, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Каждый из нас клялся защищать Родину мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.
Присяга! Твёрдое, большое и ёмкое слово. В нём выражена любовь советского человека к своей социалистической Отчизне. Присяга вела в бой наших отцов и братьев. Она придавала им силы в ожесточённой борьбе с врагами и всегда приводила к победе.
Вся жизнь моя прошла перед глазами. Я увидел себя школьником, когда мне повязывали пионерский галстук, ремесленником, которому вручали комсомольский билет, студентом с ленинским томиком в руках и теперь воином, крепко сжимающим оружие… Страна доверила нам оружие, и надо было быть достойными этого доверия. Отныне мы становились часовыми Родины.
Юрий Гагарин — курсант Оренбургского военного авиационного училища.
О торжественном событии — принятии военной присяги я написал домой, поделился с родителями своими чувствами. У всех курсантов было приподнятое настроение. Мы с жаром принялись за изучение теоретических дисциплин. С первых же занятий всем понравились уроки в классах материальной части и теории полёта, которые вёл инженер-подполковник Коднер. В очень интересный, совсем новый мир ввёл нас и преподаватель тактики капитан Романов — человек с пышной курчавой шевелюрой, как у Пушкина. То, о чём мы знали только понаслышке: о формуле воздушного боя — «высота, скорость, манёвр, огонь», которую разработали и применили лётчики эскадрильи Александра Покрышкина но время знаменитого сражения на Кубани, о штурмовых ударах дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, о действиях пикирующих бомбардировщиков генерала Ивана Полбина — теперь как бы оживало в лекциях капитана Романова, зримо представлялось на схемах, которыми он иллюстрировал и дополнял эти лекции. Мы получили ясные понятия о том, как надо вести воздушный бой на вертикалях и горизонталях, узнали, какую огромную роль играет слётанность ведущего и ведомого. Современный воздушный бой предстал перед нами как бой групповой, где каждый лётчик обязан поддерживать товарища, где одним из решающих факторов является коллективная воля к победе.
После занятий в классе воздушной тактики среди нас, курсантов, обычно возникали оживлённые споры. У каждого был свой любимый ас. Одному нравился Сергей Луганский, другому — братья Глинки, третьему — Пётр Покрышев. Словом, сколько курсантов, столько и привязанностей. Нас интересовали и действия бомбардировщиков, летавших на Берлин в первый год войны, и штурмовиков, атаковывавших колонны танков на Курской дуге, и дальних разведчиков, в рдиночку проникавших в глубокие тылы противника, и экипажей женского полка, поддерживавших десантников в Керченском проливе. Транспортники, подбрасывавшие боеприпасы партизанам в Брянские леса и в Карпаты, нас тоже интересовали.
— Но ведь все это уже история, хоть и недавняя, но история, — говорили некоторые курсанты. — А теперь и техника другая и люди другие.
Капитан Романов шутливо называл этих курсантов скептиками и тут же на примерах совсем недавней войны в Корее доказывал, что и в пору новой авиационной техники — реактивных самолётов, радиолокации, более мощного бортового оружия истребителей — основы воздушной тактики, творчески разработанной передовыми советскими лётчиками в годы Великой Отечественной войны, наступательный стиль, которого они придерживались в боях с врагом, их принципы взаимной поддержки и многое другое, присущее нашим авиаторам, нельзя сбрасывать со счётов.
— Боевой опыт, — говорил он, — добыт большой кровью. То, что с приходом новой техники устарело, мы не должны брать на вооружение. Ну, а то, что может быть полезным и для реактивных самолётов, нужно всячески развивать.
К творческому совершенствованию всего того, что уже накоплено нашей авиацией, призывали и другие преподаватели. Они говорили, что даже самый отличный лётчик опирается на опыт своих предшественников. На занятиях по теории лётного дела они приучали нас не только заучивать уже установившиеся понятия и истины, но и критически мыслить, искать в нужных случаях новые решения. И хотя, конечно, «мыслители» из нас были ещё не ахти какие, ведь мы только-только начинали приобщаться к военной авиации и даже не пробовали летать на реактивных машинах, но уже одно то, что командиры и преподаватели видели в нас свою смену, говорило о том, что именно нам, лётной молодёжи, предстоит развивать отечественную авиацию, поднимало нас в собственных глазах. И всем от этого сознания своей будущей роли хотелось учиться как можно лучше, как можно скорее освоить дело, которому мы целиком посвятили себя.
Я всегда любил боевые знамёна. Они как неувядаемые листы книги, на которых навечно записаны ратные легенды, по которым многие поколения будут читать историю нашей Родины.
Ещё будучи в Ленинграде на производственной практике, я с интересом рассматривал в музеях нетленные петровские знамёна, изодранные штыками в Полтавской битве, любовался боевыми штандартами непобедимых армий Суворова и Кутузова, прошумевшими чуть ли не по всей Европе. Наполеон напал на нашу Родину, и войска Кутузова гнали его через всю Европу. Политическая жизнь Наполеона окончилась под Ватерлоо, но это было предопределено его поражением на Бородинском поле,
Незабываемое впечатление произвели на меня увитые цветными орденскими лентами знамёна частей наших Вооружённых Сил, хранящиеся в Центральном музее Советской Армии. За каждым знаменем, овеянным пороховым дымом, казалось мне, незримо стоят тысячи живых и мёртвых героев, победителей германского фашизма.
Помню, как мне впервые довелось стоять часовым у Знамени части — символа воинской чести, доблести и славы.
Я заступил на пост в полночь и бодрствовал на часах, когда все мои товарищи спали в казарме. В какой-то мере я отвечал за их покой и сон. Ещё неиспытанное, ни с чем не сравнимое чувство гордости наполнило всё моё существо. Я чувствовал себя часовым, ответственным за судьбу всей Родины, и ясные, хорошие мысли приходили мне в голову. Я стоял неподвижно, прислушиваясь к тишине, и размышлял о военной службе.
Я думал, сколь велика честь быть советским воином, непоколебимо стоящим на страже Родины, быть человеком, которого все любят и уважают, а многие народы называют не иначе, как освободителем. В памяти моей сохранилась любительская фотография. На ней снят пожилой русский солдат, видимо до войны бывший рабочим или колхозником, которого доверчиво обняла за шею немецкая девочка. Снимок этот был сделан в Берлине в первый день освобождения города Советской Армией от фашистских вояк.
В военной службе есть много суровой прелести, она возлагает на человека немало обязанностей, требует ежедневного труда. Помнится, что мама моя во время войны, когда я ещё был мальчишкой, называла наших солдат неутомимыми тружениками. И действительно, они целыми днями были заняты тяжёлой физической работой, то на околице нашего села рыли траншеи, то копали окопы, то наводили в балках мосты. Потом они пошли в бой.
За время службы в армии я не имел ни одного взыскания, строго соблюдал внутренний распорядок. Меня радовало, что все в части происходит по расписанию, в точно установленное время: и работа, и еда, и отдых, и сон. Меня ни чуточки не тяготило, что это повторялось изо дня в день. Я видел, а ещё более чувствовал, как сознательная воинская дисциплина, постоянное поддержание образцового внутреннего порядка сплачивали личный состав, делали воинскую часть дружным боевым коллективом, обеспечивали единство действий, согласованность и целеустремлённость, поддерживали постоянную боевую готовность и неусыпную бдительность.
В армии я привык жить и учиться по уставам. Уставы отвечали на все вопросы, связанные с жизнью, учёбой и службой, ясно указывали, как служить, изучать военное дело, овладевать оружием и боевой техникой, повседневно повышать политическую сознательность.
Как только мне удавалось выкроить свободную минуту, я заглядывал в устав. Он стал законом моей жизни. Эти небольшие книжки в серых переплётах, украшенных Государственным гербом, укрепляли волю, служили источником военных знаний.
В отличие от приказов, издающихся на короткий срок, уставы живут долго. С полным основанием их можно назвать сводом законов для Вооружённых Сил на долгие годы.
Стоя на часах у Знамени, покоившегося в парусиновом чехле, я думал о том, что несу личную ответственность за судьбу Отечества.
На память приходили много раз слышанные и читанные слова о том, что защита Отечества — священный долг, что надо служить Родине и защищать её так, как того требует военная присяга, а для этого надо до тонкостей знать свою военную специальность, стремиться стать первоклассным лётчиком.
Припомнились запавшие в душу слова Алексея Петровича Маресьева. Он писал в своих воспоминаниях: «Я не жалел сил, чтобы в совершенстве изучить свою специальность, стать умелым, дисциплинированным воином, даже в короткие минуты передышки между боями продолжал учиться… Качества, которые я приобрёл в боях и в учёбе, помогли мне, лётчику, потерявшему обе ноги, добиться возвращения в строй, позволили вместе с товарищами по оружию снова участвовать в разгроме врага».
Вдумываясь в эти простые и в то же время проникновенные слова, я убеждался, что ко всем вершинам ведут упорство и труд.
Отец и мать долго и терпеливо каждодневно воспитывали в нас, своих детях, правдивость и честность. Эти благородные черты людей социалистического общества развивала во мне и армия. Военная служба укрепляла с детских лет прививаемую мне любовь к дисциплине, строгое чувство долга,
Как раз накануне той ночи, когда мне впервые пришлось стоять на посту у Знамени, из Гжатска пришло немногословное письмо, столь гармонировавшее с моими думами и чувствами. Давая мне советы и напутствия, отец писал: «Юрий, где бы ты ни был, помни одно: колхозники и рабочие уважают честных, мужественных и храбрых людей, каждый советский человек ненавидит и презирает трусов. Малодушный никогда не поборет врага, потому что не верит в свои силы, не верит в стоящих рядом товарищей, не верит в победу».
Письма не было перед глазами, и прочёл-то я его всего один раз, но я припоминал из него фразы, сразу вдруг пустившие глубокие корни: «Честный воин бьётся с врагом до последнего дыхания, до последней кровинки, предпочитает смерть бесчестию и полону».
И хотя письмо было написано рукой отца, я знал, что писалось оно вместе с матерью: «до последней кровинки» были её слова.
Отец и раньше давал мне умные наставления, говорил, что честность, как солнечный луч, должна пронизывать собой всю жизнь, учёбу и службу солдата, войти в его плоть и кровь. Отец требовал, чтобы я соблюдал порядок не только при начальниках, но всегда и всюду, при всех условиях.
— Военная гордость — глубокое народное чувство, — говорил он Валентину, мне и Борису — своим сыновьям. И мы на всю жизнь запомнили его слова.
Как-то будучи в отпуске, я сел за стол в гимнастёрке с расстёгнутым воротом, отец ничего не сказал, но так посмотрел на меня, что пальцы сами застегнули все пуговицы. Мать, подававшая обед, разгадала немую сцену. Пожурив и похвалив меня одновременно, она сказала:
— Гордись, сынок, военной формой.
Никогда не забуду этих слов. Ведь внешний вид воинов нашей армии и флота во многом зависит от красоты военной формы. Отличая военнослужащих от гражданского населения, аккуратные брюки и подогнанная по фигуре гимнастёрка с погонами, начищенные до блеска сапоги придают воину бравый, молодцеватый вид, а подразделению — единообразие.
Вспомнив об этом крохотном и, казалось бы, незаметном эпизоде из своей жизни, я невольно подумал о том, что наша военная форма овеяна пороховым дымом многочисленных битв и сражений. Как освободители пришли в этой форме наши воины в страны Европы, изгнав из них германских фашистов, и в страны Азии, разгромив там японских самураев. Как же мне было не гордиться этой формой, не беречь казённого обмундирования, не беспокоиться о своём внешнем виде, не прибегать часто к утюгу и сапожным щёткам! Без добротного обмундирования, крепких сапог и снаряжения так же, как и без оружия, воевать нельзя. И я носил форму с достоинством и гордостью, берег честь своих погон.
— Погоны — не только деталь одежды. Это знак воинского достоинства, — сказал однажды нам старшина.
Было тихо. Сквозь окно виднелся тёмно-синий небосвод, густо усеянный звёздами. Мысли мои текли все в одном направлении, но теперь я думал о словах капитана Бориса Фёдорова. Обращаясь к нам, молодым курсантам, поглаживая крутой волевой подбородок, он говорил:
— Молодой воин! Беспрекословно повинуйся командиру, а если понадобится, то грудью защищай его в бою. И ты, и твой командир — граждане одного великого социалистического государства, оба вы патриоты своей Родины, оба воспитаны партией, ваши цели едины, оба вы принимали присягу на верность своей матери-Отчизне, и оба с одинаковой храбростью и бесстрашием призваны её защищать.
После таких слов я чувствовал себя смелым, способным на решительные поступки в любой обстановке, как бы сложна и тяжела она ни была.
Капитан Фёдоров нравился мне настойчивостью и уверенностью в своей правоте. Открытый взгляд его всегда был полон мысли и жизни. Я внимательно вслушивался в его наставления и убеждался, что во всех случаях он прав, что повиновение командиру — одно из главных качеств воина. Без повиновения невозможна крепкая дисциплина, а без дисциплины немыслима боеспособность армии, а следовательно, и победа в бою. Ни одна работа не предъявляет столько требований к человеку, как военная служба. Но это справедливые требования, и обойтись без них нельзя.
— Сержант — твой первый учитель. Уважай его и повинуйся ему, — говорил капитан, и я на десятках примеров убеждался, какую огромную роль играют сержанты и старшины — непосредственные начальники и воспитатели солдат.
Как-то после строгого разговора с двумя нерадивыми курсантами, явившимися на несколько минут позже того срока, который был обозначен в их увольнительных записках, капитан Фёдоров, требовательный и непреклонный, неожиданно мягко напомнил:
— Родина оказала вам большое доверие, вас приняли в училище, овеянное лучами немеркнущей славы. Герои Советского Союза, прославившие училище, как бы незримо находятся среди вас. Ведь вы — наследники славы своих отцов. Провиниться, получить взыскание — значит оскорбить их память, наше боевое Знамя.
Я стоял на часах с оружием в руках, охранял это Знамя, и мне очень хотелось, чтобы меня наградили личной фотокарточкой, где я был бы сфотографирован при развёрнутом Знамени. Я даже представил себе, как бы порадовал моих родителей этот снимок, который в числе поощрений предусматривается воинскими уставами.
Пришёл разводящий с часовым, вооружённым автоматом, и сменил меня с поста. Я ушёл в казарму, лёг спать, но долго не мог уснуть и все размышлял об уставах, о присяге, обо всём том, без чего военному человеку нельзя жить.
Всё было предельно ясно, и мне никогда не приходилось в чём-либо сомневаться или спорить с самим собой. Усвоенные мной правила проходили испытание временем, а дисциплина надёжно удерживала от опрометчивых поступков.
Время близилось к весне, и, кроме занятий по теории, в нашей эскадрилье начались учебные полёты. Товарищи, которым впервые предстояло летать, радовались. А мы, прошедшие школу аэроклуба, огорчились: надо было снова летать на «Як-18».
Эти полёты продолжались недолго. В училище поступили экспериментальные самолёты — те же «Як-18», но несколько модифицированные, с носовым колесом для отработки посадки, чтобы в дальнейшем было легче переходить на реактивные машины, имеющие трёхколёсное шасси. Мы много летали, но, честно говоря, новый самолёт нам не очень нравился. Был он тяжеловат, не хватало у него, как говорят авиаторы, «мощи» — слабоват мотор. И на фигурах высшего пилотажа он частенько сваливался в штопор; правда, так же быстро и выходил из него, стоило только бросить управление. На этих «Як-18» выполняли мы упражнения и по штурманскому делу — летали по дальним маршрутам, в разную погоду. Было много разнообразия и смены впечатлений.
Курсант Юрий Гагарин после успешного полёта.
Большинство этих полётов происходило летом, когда мы вышли в лагеря. Лагерь нашей пятой эскадрильи находился на красивом берегу Урала. Устанешь от работы на аэродроме, разомлеешь от жары и сразу после полётов — на реку. Вода в Урале холодная, быстрая, не то что там, в городе, возле училища. Мы соорудили купальню, вышку для прыжков и в свободное время занимались водным спортом, ныряли, плавали наперегонки. От молодой, почти мальчишеской радости захватывало дух.
Наша эскадрилья первой закончила лётную программу. У нас оказалось свободное время, и командование, поддержав инициативу комсомольского бюро, разрешило нам выехать за двести километров в один из колхозов Шарлыкского района на уборку картофеля. Наступила осень, холодная и дождливая. Но работали мы с охотой. Нам было полезно после полётов немного потрудиться на земле, да и хотелось помочь колхозникам с уборкой обильного урожая. Мы бы с радостью поехали подальше — на целину, где осваивались миллионы гектаров новых земель, где уже созрели колоссальные массивы пшеницы. Но мы располагали всего лишь двумя неделями и поехать туда не могли.
Письма, адресованные нам в колхоз, не приходили, и я к концу нашей «уборочной кампании» затосковал по Вале. Все мне нравилось в ней: и характер, и небольшой рост, и полные света карие глаза, и косы, и маленький, чуть припудренный веснушками, нос. Валя Горячева, окончив десятилетку, работала на городском телеграфе. Мы познакомились с ней, когда нас выпустили из карантина, как выражались девушки, «лысенькими» курсантами, на танцевальном вечере в училище. Она была в простеньком голубом платьице, робкая и застенчивая. Я пригласил её на тур вальса, и с этого началась наша крепкая дружба.
Валя на год моложе меня. Она родилась в Оренбурге и до встречи со мной никуда не выезжала из этого города. Отец её — Иван Степанович — работал поваром в санатории «Красная Поляна», а мама — Варвара Семёновна — была домашней хозяйкой. Семья у Вали большая — три брата и три сестры; она самая младшая и поэтому самая любимая всеми родными. Вскоре после знакомства с Валей я стал бывать у Горячевых в доме. Они очень радушно отнеслись ко мне. Помню, первый раз я пришёл к ним сразу после лыжного пробега, как был, в спортивном костюме. Варвара Семёновна только что вернулась из своих родных мест, из Калуги, привезла лесных орехов. Сели мы с ней у столика и давай их грызть. Зубы у меня крепкие, и мама Валина все удивлялась, как я ловко щёлкаю орехи. А Валя смеётся и говорит обо мне:
— Наточил зубы о гранит науки, всю жизнь учится.
Мы заговорили о моей учёбе, о лётном училище, о том. что и Вале надо учиться. Посоветовались всей семьёй и решили, что ей следует пойти по медицинской части. Так она и сделала — поступила в медицинское училище.
Многое нас связывало с Валей. И любовь к книгам, и страсть к конькам, и увлечение театром. Бывало, как только получу увольнительную, сразу же бегу к Горячевым на улицу Чичерина, да ещё частенько не один, а с товарищами. А там нас уже ждут. Как в родном доме, чувствовал я себя в Валиной семье. Иван Степанович был большой мастер кулинарии, но особенно удавались ему беляши — любимое кушанье уральских казаков. Ели мы их с огромным аппетитом. В училище хоть и кормили хорошо, но беляшей не готовили.
Покончив с уборкой картофеля, эскадрилья вернулась в училище на зимние квартиры. Но с Валей нам свидеться не пришлось: началась усиленная подготовка к октябрьскому параду. По строевой у меня всегда было «хорошо», но ходил я далеко не в первых рядах — по ранжиру. Однако в праздник, когда все училище торжественным маршем прошло по улицам Оренбурга, Валя нашла меня в рядах; наши взгляды встретились, и мы улыбнулись друг другу.
Праздники я провёл с Валей, а затем поехал в отпуск. В Гжатске ведь меня ещё не видели с сержантскими нашивками на погонах — теперь я уже стал помощником командира взвода.
И вот родной Гжатск. Он всё больше и больше отстраивался, появилось много новых домов, улицы стали благоустроеннее. Отец с матерью потихоньку старели, старшие брат и сестра, чем могли, помогали им, а наш младший, Борис, стал уже совсем взрослым: ему исполнилось двадцать лет, и он служил в армии артиллеристом.
Я побывал в школе, где учился, повидался с преподавателями, повстречал прежних товарищей, оставшихся работать в Гжатске. И хотя я снова был в кругу родной семьи, меня тянуло в Оренбург — училище уже стало для меня вторым домом, да и мысли о Вале тоже не давали покоя. Мама почувствовала это и однажды в сумерки, когда мы остались одни в доме, стала ласково расспрашивать, почему я задумываюсь, что тревожит моё сердце. И как-то само собой получилось, что, повинуясь установившемуся ещё с детства правилу ничего не таить от родителей, я рассказал маме о Вале.
— Думаешь расписаться?-спросила мама.
Я неопределённо пожал плечами. Ведь этот вопрос был ещё не решён. Я был противником скоропалительных браков. Да и будучи курсантом, конечно, не мог содержать собственную семью.
— Если любишь, то женись, только крепко, на всю жизнь, как мы с отцом, — сказала мама. — И радости и горе — все пополам.
Я сразу вырос в её глазах, и она дала мне несколько полезных советов на будущее, напомнила: добрый, мол, жёрнов все смелет, плохой сам смелется.
Я не использовал отпуск до конца и в Оренбург вернулся раньше срока. Товарищи по эскадрилье и командиры поняли меня без слов. А Валя обрадовалась: она знала, почему я вернулся.
Новый учебный год начался с перемен. Меня и некоторых курсантов перевели в эскадрилью майора Беликова. Командиром нашего звена стал капитан Пенкин, творчески мыслящий, всегда ищущий что-то новое офицер. Я попал в экипаж старшего лейтенанта Анатолия Григорьевича Колосова, который и научил меня летать на реактивном самолёте. Но до этого нам пришлось с головой погрузиться в теорию. Погода благоприятствовала этому: зима стояла буранная, гарнизон заносило снегами, и летать было нельзя. Мы изучали материальную часть реактивных двигателей, знакомились с основами газовой динамики, познавали законы скоростного полёта. Многое из усвоенного раньше теперь предстало в ином свете: иная техника, большие скорости, высокий потолок, другие расчёты, новый подход к делу.
Дружба наша с Валей всё время крепла и постепенно перешла в любовь. В день моего рождения она подарила мне две свои фотографии. На одной из них она снята в белом медицинском халате, а на другой — в нарядном платье. На обороте этой фотографии Валя почерком, очень похожим на мой, написала: «Юра, помни, что кузнецы нашего счастья — это мы сами. Перед судьбой не склоняй головы. Помни, что ожидание — это большое искусство. Храни это чувство для самой счастливой минуты. 9 марта 1957 года. Валя».
Валя была права — мы действительно были кузнецами своего счастья.
Наконец наступил долгожданный день первых полётов на «МиГах». Как красиво выглядели они с поблёскивающими на солнце, круто отброшенными к хвосту стреловидными крыльями! Гармонии гордых и смелых линий этих самолётов могли бы позавидовать архитекторы, работающие над проектами новых домов.
Вслед за Колосовым я сажусь в кабину.
— Есть, пламя! — лихо докладывает техник.
И вот уже чуть подрагивающая от нетерпения машина разбегается по взлётной полосе. Не успел я, что называется, и глазом моргнуть, как высотомер показал пять тысяч метров. Это тебе не «Як-18», как же летать на такой стремительной машине с большим радиусом действия, головокружительной высотой, увеличенной скоростью и огневой мощью? А Колосов, словно не ощущая возникшей перегрузки, уверенно, рукой мастера повёл «МиГ» в зону и виртуозно проделал несколько пилотажных фигур.
— Возьмите управление, — неожиданно приказал он.
Тон у него всегда был повелительный, не допускающий возражений.
Взялся за ручку — сразу чувствую, не тот самолёт, к которому привык, надо упорно работать, чтобы управлять им так же легко, как винтомоторным. И началась упорная работа. За провозными полётами пошли вывозные, потом контрольные, а когда лётчик-инструктор окончательно уверился в моих знаниях и способностях — первый самостоятельный на «МиГе». Он проходил так же, как и первый полёт на «Як-18». Все с тем же душевным трепетом оторвался я от земли, выписал широкий круг в безоблачном небе и, счастливый, вернулся на аэродром, сделав для себя вывод, что с увеличением скорости полёта лётная работа становится всё более трудной.
Все как прежде и все не так. Красивый, удобный, манёвренный «МиГ» полюбился сразу. Он был лёгким в управлении, быстро набирал высоту. Я ощутил, как выросли и окрепли мои крылья. Впервые я почувствовал себя настоящим пилотом, приобщившимся к современной технике. То же самое испытывали и мои друзья, с которыми я поступил в училище: Юрий Дергунов, Валентин Злобин и Коля Репин.
Лётчик-инструктор А. Г. Колосов с курсантами.
Но нам ещё многое надо было освоить, чтобы стать настоящими лётчиками: высший пилотаж, маршрутные полёты, воздушные стрельбы, групповую слётанность. Всей этой премудрости обучал нас сменивший Колосова квалифицированный лётчик-инструктор Ядкар Акбулатов. У него был верный глаз охотника, он все успевал замечать в воздухе и не прощал ни малейшей ошибки. Уже в первом полёте в зону он отметил, что глубокие виражи выходят у меня не совсем чисто… Вскоре он похвалил за вертикальные фигуры, на которых возникали сильные перегрузки. А мне удавались эти фигуры потому, что каждый раз, придя в зону, я старался как бы посоревноваться с машиной: проверить, что она может дать и что я могу выдержать. Словом, выжимал из техники все возможности, а лучше всего это можно было делать на вертикальных фигурах.
Но не всё проходило гладко. Случались и неудачи. Рост у меня не ахти какой и затруднял ориентировку при посадке машины. Для того чтобы лучше чувствовать землю в этот ответственный момент полёта, я приспособил специальную подушку. Сидя на ней, я видел землю так же, как и лётчик-инструктор; посадка получалась лучше. Ядкар Акбулатов одобрил мою «рационализацию».
Как все квалифицированные лётчики, он был немногословен, даже замкнут, но всё, что советовал, было достойно записи в памятную тетрадь. Он учил:
— Чтобы в полёте правильно держать себя, нужно ещё на земле все тщательно обдумать; действия в воздухе должны быть быстрыми, но разумными.
Он учил видеть небо по-новому, во всём его многообразии и говорил о самолётах с той же простотой, с какой мой отец говорил о топоре и фуганке. Все эти разговоры сводились к одному — лётчик должен летать.
Был и такой неприятный случай. Мы сдавали зачёты по теории двигателя. Преподаватель А. Резников поставил мне «тройку». Я весь похолодел — это была первая «тройка» за все моё учение, первое моё личное «чепе» — наказание за дерзкую самоуверенность. Надо признаться, что суровая отметка была выведена справедливо, я действительно кое-чего недопонимал. А ведь современный авиатор не может летать без крепких и глубоких технических знаний. Мне хотелось быть не просто лётчиком, а лётчиком-инженером, таким, как многие испытатели новых машин. Значит, теорию авиационных двигателей, да ещё в таком небольшом объёме, какой требовался от курсантов, надо было знать назубок. Пять дней я провёл за учебниками, никуда не выходил из училища и на шестой день отправился на пересдачу зачёта. Преподаватель спрашивал много и строго. Обыкновенно при повторном экзамене выше «четвёрки» не ставят. Но на этот раз неписаное правило было нарушено, и мне поставили «пять». На душе стало легче.
На первых порах не у всех нас ладились воздушные стрельбы. Особенно из пушек по наземным целям. А ведь умение вести меткий огонь — одно из главных качеств военного лётчика, и тем более лётчика-истребителя. От меткой очереди, разящей противника наверняка, зависит зачастую и победа, и целость машины, и собственная жизнь. Ядкар Акбулатов терпеливо учил нас правильно атаковать, следить за целью с помощью современных прицелов и только тогда нажимать на гашетки, когда ты совсем уверен, что поразишь цель. Он вместе с нами подолгу разглядывал плёнки кинофотопулеметов, на которых отмечались все наши ошибки, анализировал их и подсказывал, как их исправить.
В конце концов мы освоили сложное искусство воздушных стрельб.
Я летал много, с увлечением.
Приближалась страдная пора выпускных экзаменов. Целые дни мы проводили на аэродроме. В это время и случилось событие, потрясшее весь мир, — был запущен первый советский искусственный спутник Земли. Как сейчас помню, прибежал к самолётам Юрий Дергунов и закричал:
— Спутник! Наш спутник в небе!
Я ощутил лёгкий уже знакомый озноб.
То, о чём так много писала мировая пресса, о чём было множество разговоров, свершилось! Советские люди, обогнав в негласном соревновании США, первыми в мире создали искусственный спутник Земли и посредством мощной ракеты-носителя запустили его на орбиту.
Вечером, возвратившись с аэродрома, мы все бросились в ленинскую комнату к радиоприёмнику, жадно вслушиваясь в новые и новые сообщения и репортажи о движении первенца мировой космонавтики. Многие уже наизусть знали основные параметры полёта спутника: его скорость, которую трудно было представить, — восемь тысяч метров в секунду, высоту апогея и перигея, угол наклона орбиты к плоскости экватора; города, над которыми он уже пролетел и будет пролетать. Мы жалели, что спутник не прошёл над нашим Оренбургом. Разговоров было о спутнике много, его движение вокруг Земли взбудоражило все училище. И мы, курсанты, и наши командиры, и преподаватели задавали один вопрос: «Что же будет дальше?»
— Лет через пятнадцать, ребята, — возбуждённо говорил мой друг Валентин Злобин, — и человек полетит в космос…
— Полетит-то полетит, но только кто?-подхватил Коля Репин. — Мы-то к тому времени уже старичками станем… А с годами замедляется реакция, утрачивается острота зрения, человек уже не так быстро соображает, как раньше.
Спорили о том, кто первым отправится в космос. Одни говорили, что это будет обязательно учёный-академик; другие утверждали, что инженер; третьи отдавали предпочтение врачу; четвёртые — биологу; пятые — подводнику. А я хотел, чтобы это был лётчик-испытатель. Конечно, если это будет лётчик, то ему понадобятся обширные знания из многих отраслей науки и техники. Ведь космический летательный аппарат, контуры которого даже трудно было представить, разумеется, будет сложнее, чем все известные типы самолётов. И управлять таким аппаратом будет значительно труднее.
Мы пробовали нарисовать будущий космический корабль. Он представлялся то ракетой, то шаром, то диском, то ромбом. Каждый дополнял этот карандашный набросок своими предложениями, почерпнутыми из книг научных фантастов. А я, делая зарисовки этого корабля у себя в тетради, вновь почувствовал уже знакомое мне какое-то болезненное и ещё не осознанное томление, все ту же тягу в космос, в которой боялся признаться самому себе.
Мы сразу постигли все значение свершившегося события. Полетела первая ласточка, возвестившая начало весны — весны завоевания просторов Вселенной.
Триумфальный полет спутника Земли вызвал обильный поток газетных и журнальных статей. Выступали советские учёные: А. В. Топчиев, Л. И. Седов, В. А. Амбарцумян, А. Е. Арбузов, А. И. Берг, Д. И. Щербаков. Сказали своё веское слово и представители зарубежной науки — президент Академии наук Китая Го Можо, французский учёный Фредерик Жолио-Кюри, английский физик профессор Бернал, американец доктор Джозеф Каплан и многие другие. Все они приветствовали небывалое достижение советского народа, говорили о том, что советский спутник прорезал путь в космос.
Газеты, полные трепетного жара, напоминали пламенные издания времён Октябрьской революции и Отечественной войны. За ними стояли очереди, их прочитывали залпом прямо на улице, возле киосков «Союзпечати». Во всех газетах публиковались многочисленные письма трудящихся нашей Родины, выражавших своё восхищение свершившимся. Через некоторое время «Правда» сообщила, что в адрес «Москва… Спутник» поступило 60 396 телеграмм и писем. Среди них было и наше курсантское послание. Меня взволновало опубликованное в газете письмо Евгения Щербакова с моей родной Смоленщины. Земляк писал: «Вероятно, в самом ближайшем будущем будет возможен запуск более крупного спутника. Если целесообразно послать спутник с человеком, то я готов по комсомольской путёвке лететь осваивать космос».
Свыше тысячи подобных предложений от людей, способных на великолепное проявление мужества, на самопожертвование и героическую стойкость в любых испытаниях, вызвал полет нашего первого в мире искусственного спутника Земли. Письма выражали патриотические чувства советских людей, готовых рисковать жизнью во имя интересов Родины. Я всей душой разделял этот страстный порыв, но понимал, что далеко не каждый может отправиться в космос. Для этого, на мой взгляд, требовалось энциклопедическое образование и великолепное здоровье.
Недаром мама моя говорила, что здоровью цены нет.
Я помнил вещие слова преподавателя Резникова:
— Без инженерных знаний, без глубокого понимания того, что произойдёт или может произойти в полёте, — летать нельзя!
Наши выпускные экзамены проходили в дни всенародного энтузиазма, вызванного полётом спутника. Каждый курсант старался быть достойным этого исторического события, показать Государственной экзаменационной комиссии, что он сын своего времени и отличными знаниями вносит свой посильный вклад в успехи всего народа.
Председателем Государственной экзаменационной комиссии был полковник Кибалов — офицер, хорошо известный в авиационных кругах, готовящих кадры для Военно-воздушных сил, и давший путёвку в жизнь не одному выпуску военных лётчиков. Всматриваясь в каждого молодыми, живыми глазами, он выслушивал ответы курсантов по экзаменационным билетам в классах, внимательно следил за нашими полётами на аэродроме. Он часто улыбался, и по выражению его лица мы понимали: полковник удовлетворён нашими знаниями и умением пилотировать реактивные самолёты. Опытный военный педагог и авиационный командир, он все понимал: и степень наших знаний, и то, что творилось у каждого на душе. Выпускные экзамены — самый торжественный и самый ответственный момент в жизни каждого молодого лётчика. Я бы назвал его вторым днём рождения человека.
Сохранился документ, в котором сказано: «Представление к присвоению звания лейтенанта курсанту Гагарину Юрию Алексеевичу. За время обучения в училище показал себя дисциплинированным, политически грамотным курсантом. Уставы Советской Армии знает и практически их выполняет. Строевая и физическая подготовка хорошая. Теоретическая — отличная. Лётную программу усваивает успешно, а приобретённые знания закрепляет прочно. Летать любит, летает смело и уверенно. Государственные экзамены по технике пилотирования и боевому применению сдал с оценкой „отлично“. Материальную часть самолёта эксплуатирует грамотно. Училище окончил по первому разряду. Делу Коммунистической партии Советского Союза и социалистической Родине предан». Этот дорогой сердцу документ и стал для меня путёвкой в большую авиацию.
Пока наши аттестации рассматривались в Москве, в Министерстве обороны, мы пребывали в так называемом «голубом карантине» — нетерпеливом ожидании присвоения офицерских званий.
Я в эти дни находился на седьмом небе: Валя приняла моё предложение и согласилась стать моей женой. Мы в сопровождении товарищей по училищу и её подруг побывали в загсе, поставили свои подписи в книге молодожёнов и дали друг другу слово всегда быть верными своей любви. Договорились с родными свадьбу гулять дважды — сначала в Оренбурге в торжественные дни 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции, а потом во время, моего отпуска — в Гжатске. Чтобы строить новую жизнь, нам нужны были добрые советы, и мы в изобилии получили их накануне свадьбы.
В доме Горячевых дым стоял коромыслом — Варвара Семёновна и Валины сестры хлопотали, готовясь к приёму гостей, а Иван Степанович собирался блеснуть своим кулинарным искусством. Все были рады, что наша двухлетняя любовь закрепляется браком. Мы с Валей отнеслись к этому шагу со всей серьёзностью. Два года — достаточный срок для того, чтобы хорошо узнать друг друга, убедиться в том, что на жизнь мы смотрим одними глазами и готовы вместе преодолеть любые трудности, которые — мы это точно знали — встретятся на длинном жизненном пути. Мы жили одним высоким дыханием, и сердца наши бились в одном ритме. Ещё в загсе при товарищах я напомнил невесте слова мамы:
— И радость, и горе — все пополам…
— Всегда вместе, — задушевно ответила Валя, и это прозвучало как клятва.
Почти всё уже было готово к свадьбе. И тут произошло ещё одно событие, вновь взбудоражившее весь мир, радостно отозвавшееся в душе. 3 ноября в небо взлетел ещё один советский искусственный спутник Земли. За первым — второй! Он был во много раз крупнее и тяжелее; на его борту в герметической кабине находилась собака Лайка. Это событие вызвало ещё большую бурю восторга, воочию показало миру, каких невиданных высот достигла наша наука и техника за сорок лет Советской власти.
Читая в те дни газеты, описывающие полет второго искусственного спутника Земли, я размышлял: раз живое существо уже находится в космосе, почему бы не полететь туда человеку? И впервые подумал: почему бы мне не стать этим человеком? Подумал и испугался своей дерзости: ведь в нашей стране найдутся тысячи более подготовленных к этому людей, чем я. Мысль мелькнула, обожгла и исчезла. Стоило ли думать о том, что свершится, наверное, не очень скоро. Выпуск из училища, свадьба, отпуск, назначение в строевую часть были ближе, это был мой сегодняшний день. И всё же второй спутник Земли больно задел во мне какой-то оголённый нерв, и я вдруг понял, что жду чего-то, что обязательно должно прийти.
В канун празднования 40-летия Октября все выпускники уже в новеньком офицерском обмундировании, но ещё с курсантскими погонами были выстроены в актовом зале. В торжественной тишине вошёл в зал начальник училища генерал Макаров. Высоко подняв гордую голову, отчётливым, командирским голосом он зачитал приказ о присвоении нам званий военных лётчиков и лейтенантов Советской Армии. Вручая каждому золотые офицерские погоны, генерал поздравлял и пожимал нам руки.
Торжество это предполагалось 8 ноября. Но генерал сам был когда-то курсантом и понимал, что такой всенародный праздник, как 40-летие Октября, нам, выпускникам, важно провести не курсантами, а офицерами. И он, видевший нас насквозь, сделал нам праздник вдвойне прекраснее.
Прямо из училища вместе с друзьями я поехал в просторную жактовскую квартиру Горячевых. Там для нас, новобрачных, приготовили отдельную комнату. Валя встретила меня в белом свадебном платье. А я, сбросив шинель, явился перед ней во всей своей офицерской красе. Таким она меня ещё не видела. Впервые мы расцеловались на людях, при родителях. Я стал её мужем, она — моей женой. Мы были счастливы, и нам хотелось всем уделить хоть частицу своего счастья.
Свадьба удалась на славу. Невеста была всех наряднее. Иван Степанович действительно блеснул своим искусством, — как говорится, стол ломился от яств и напитков. Товарищи поздравляли нас, кричали традиционное «горько». Словом, всё было как на всех настоящих русских свадьбах. Варвара Семёновна включила радио, и мы услышали: «Два посланца Советского Союза — две звезды Мира совершают свои полёты вокруг Земли. Наши учёные, конструкторы, инженеры, техники и рабочие порадовали советских людей к 40-летию Октября действительно великим подарком, осуществив дерзновенную мечту человечества».
Мы узнали близкий и родной голос Никиты Сергеевича Хрущёва. Передавался произнесённый им в этот день доклад во Дворце спорта Центрального стадиона имени В. И. Ленина на юбилейной сессии Верховного Совета СССР.
— Вот и побывал у нас на свадьбе Никита Сергеевич, — сказала Валя.
И все подняли бокалы за нашу партию, за наш народ, за Советское правительство.
ПРИ СВЕТЕ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ
Итак, я стал офицером, лётчиком-истребителем. У меня была любящая жена и впервые за всю жизнь собственная комната. Училище я окончил по первому разряду, и мне было предоставлено право выбора места дальнейшей службы. Можно было уехать на юг, предлагали Украину, хорошие, благоустроенные авиационные гарнизоны. Но командование училища не отпускало меня, оставляя на должности лётчика-инструктора.
— Ну куда ты поедешь, — говорили мне в штабе училища, — Оренбург — город хороший. У тебя тут семья, квартира, жена учится… Зачем ломать жизнь?
Но я ещё раньше решил — ехать туда, где всего труднее. К этому обязывала молодость, пример всей нашей комсомолии, которая всегда была на переднем крае строительства социализма и сейчас показывала чудеса трудового героизма, осваивая всё новые и новые миллионы гектаров целинных и залежных земель, возводя доменные и мартеновские печи, перекрывая могучие реки плотинами гидростанций, прокладывая новые пути в сибирскую тайгу… Одним словом, я чувствовал себя сыном могучего комсомольского племени и не считал себя вправе искать тихих гаваней и бросать якорь у первой пристани.
Чувства, которые обуревали меня, не давали покоя и друзьям — Валентину Злобину, Юрию Дергунову, Коле Репину. Все мы попросились на Север.
— Почему на Север? — спрашивала Валя, ещё не совсем поняв моих устремлений.
— Потому что там всегда трудно, — отвечал я.
Но это было легко сказать. Надо было ещё и объяснить. Ведь спрашивал-то не свой брат лётчик, а хрупкая молодая женщина, проведшая всю свою жизнь в благоустроенном городе, в обеспеченной семье. Я понимал её: ехать со мной — значит бросить учение, родных, расстаться с привычным укладом жизни. Ведь Валя никогда никуда из Оренбурга не выезжала, и её не могло не пугать то совсем неведомое и неизвестное, что ожидало нас на Севере. Узнав, что я собираюсь ехать туда не один, она даже как-то спросила:
— Что же, тебе товарищи дороже, чем я?
Что можно было ответить на этот вопрос? Я её расцеловал, и мы решили, что на первых порах я поеду один, обо всём ей напишу, и когда она закончит медицинское училище, немедленно приедет ко мне. Это Валю даже обрадовало, она поняла, что со своей новой специальностью будет нужнее на Севере, чем в Оренбурге.
До прибытия к новому месту службы оставалось время, и мы с Валей отправились в Гжатск к моим старикам. Встретили нас приветливо. Невестка понравилась. Но отец как-то в беседе высказал недовольство тем, что свадьбу мы справили не в Гжатске, а в Оренбурге. Зная характер отца, не терпевшего возражения, я промолчал, а Валя сказала:
— Папа, не могли же все мои подруги и Юрины товарищи приехать к вам в Гжатск. Ведь у нас была комсомольская свадьба!
Этот довод убедил отца, и было решено повторить свадьбу в Гжатске. Деньги у меня были, и свадьба прошла так же весело, как и в Оренбурге.
Валя не могла долго оставаться в Гжатске, ей надо было спешить в училище на занятия. Вместе мы доехали до Москвы, я показал жене достопримечательности столицы и с грустью проводил её на Казанский вокзал. Кажется, она всплакнула, да и мне было невесело. Но что поделаешь — служба! Поезд отошёл от перрона, а я долго глядел вслед рубиновым огонькам последнего вагона…
На другой день уехал из Москвы и я. Вместе со мной в купе были Валентин Злобин и Юрий Дергунов. Всю дорогу мы играли в шахматы или, стоя у окна, любовались картинами осыпанных инеем карельских лесов. Мы пересекали край островерхих елей. Позади остался Полярный круг, и с каждым часом природа становилась все суровее, все необычнее. За окнами вагона трещал мороз, клубились туманы, стрелки часов показывали полдень, а нас окружала призрачная голубоватая ночь.
— Куда мы заехали?-недоуменно восклицал Дергунов.
— В гости к белым медведям, — отшучивался я со Злобиным.
Шутить-то мы шутили, но знали: предстоят не шуточные дела. Нет-нет да и даст себя знать сомнение: справимся ли? Ночью-то никто из нас ещё не летал, а тут сколько ни едем — все ночь да ночь…
И всё же нетерпение одолевало нас, до чего же поезд тащится медленно по сравнению с самолётом!
Но всему приходит конец, и мы добрались до штаба. Блестящие армейские лейтенанты, мы всем бросались в глаза, на нас поглядывали: что это, мол, за птицы залетели сюда, к студёному морю?
Нам предложили на выбор два типа самолётов, и мы выбрали «МиГи», на которых летали в училище. Получили направление и поехали к месту службы в дальний гарнизон. Дорогу заносило снегом, окна автобуса покрывались морозным узором. Было дьявольски холодно, и мы от уймы новых впечатлений и усталости клевали носами.
К месту назначения добрались далеко за полночь, но в гарнизонной гостинице нас ждали. Там уже были оренбуржцы Веня Киселёв, Коля Репин, Алёша Ильин и Ваня Доронин. Они нас схватили в объятия, и сон сразу как рукой сняло. Разговорам не было конца. Говорили сразу все и сразу обо всём. Из этого многоголосого гомона я выделил одну важную подробность: командир полка — заслуженный лётчик, строгий и справедливый начальник.
Поселили нас в комнату, в которой стояли три койки. Первую, самую лучшую, у окна, занял Валя Злобин. На второй расположился Салигджан Байбеков — татарин из Уфы, третья койка досталась мне. Легли мы под утро и моментально уснули безмятежным сном здоровых молодых людей.
Утром, после завтрака, явились к командиру. Первое впечатление совпадало с тем, что мы уже слышали от товарищей. Подполковник напомнил нам о традициях подразделения и пожелал быть достойными наследниками боевой славы его ветеранов. За последние годы подразделение выдвинулось в число лучших. Его лётчики летали без происшествий и завоевали немало призов и почётных грамот за успехи, достигнутые в воздухе и на земле. В кабинете командира в траурной рамке висел портрет.
— Сергей Негуляев, — сказал подполковник, показав на портрет. — Советский Данко! В бою ценой своей жизни выручил товарищей из беды, таранив фашистский самолёт.
Больше ничего не надо было говорить о боевых традициях. Всё было ясно.
Вся лётная молодёжь была зачислена в третью эскадрилью. Командовал нами офицер Андрей Пульхеров. Эскадрилья пока не была объявлена отличной, но находилась на хорошем счёту и соревновалась с другими эскадрильями. Теперь в это соревнование предстояло вступить и нам, показать, на что мы способны.
Непосредственным моим начальником оказался командир звена Леонид Данилович Васильев — старший лейтенант. Он считал себя старожилом Севера. Не раз во время полётов он с честью выходил из ловушек, которые то и дело подстраивает капризная, изменчивая северная природа с её внезапными снежными зарядами, густыми туманами и непрерывным ветром, задувающим с Ледовитого океана. После первых бесед с ним мы поняли: здесь, на Севере, мало одного умения летать, надо уметь управлять самолётом в непогоду, да ещё ночью.
Свирепствовал лютый январь. Непроглядная ночная темень придавила землю, засыпанную глубоким снегом. Но над взлётно-посадочной полосой не утихал турбинный гул. Летали те, кто был постарше. Так как у нас не было опыта полётов в ночных условиях, мы занимались теорией и нетерпеливо ожидали первых проблесков солнца, наступления весны. Жили мы дружной, спаянной семьёй, наверное, так же живут и моряки, сплочённые суровыми условиями корабельного быта. Мы знали друг о друге все, никто ничего не таил от товарищей. Если приходило письмо, оно становилось достоянием всех. Его читали вслух, как, по рассказам фронтовиков, это бывало на войне.
Валя писала часто, но немногословно. Скупо сообщала о своих успехах в учении, видимо, медицина увлекала её. Она ни на что не жаловалась, но между строк я ощущал тоску и желание поскорее встретиться со мной. То же самое было и в письмах, приходящих к товарищам от родных и близких.
Мы вошли в новый интересный мир строевой службы, полюбили друг друга, радовались успехам товарищей и сообща переживали всё, что делалось у нас. Опытные, старослужащие лётчики летали в любое ненастье. Звенья отправлялись на перехваты воздушных целей, в зоны, ходили по дальним маршрутам, вели учебные воздушные бои, тренировались в стрельбах. Одним из лучших перехватчиков в эскадрилье был командир нашего звена. Он летал в любую погоду. Однажды, когда я нёс дежурство по аэродрому, а Васильев находился в воздухе, внезапно всё заволокло густым туманом. Окружавшие аэродром сопки, поросшие соснами, погрузились в непроглядную мглу. Положение создалось критическое. Посадить самолёт казалось невозможным. И всё же командир звена и его ведомый вышли к аэродрому и, пробив толщу тумана, точно вышли на посадочный курс и опустились на посадочную полосу. У всех отлегло от сердца.
Я бросился к командиру. Он вёл себя так, будто ничего не случилось, но всё же сказал:
— Необходимы точный штурманский расчёт и доверие к приборам… И, конечно, надо уметь держать в руках не только машину, но и нервы. На истребителе ты царь и бог — лётчик, штурман и стрелок, един в трёх лицах…
Своим полётом Васильев преподал нам, молодым лётчикам, наглядный урок умения не теряться ни при каких обстоятельствах. А к командиру звена мы стали относиться с ещё большим уважением.
Конец зимы мы использовали для теоретической подготовки, ещё раз повторили материальную часть. Затем сдали зачёты на право эксплуатации самолётов в условиях Севера. Особенностей, действительно, было много, и знать их должен был каждый. В штабе на нас завели новые лётные книжки. Но пока их листы оставались чистыми.
Летать мы начали в конце марта, когда во всём уже чувствовалось дыхание весны и длинная полярная ночь стала уступать такому же длинному полярному дню. Вывозил меня командир звена. Усаживаясь в самолёт, я ощутил знакомое предполётное волнение, ведь несколько месяцев мне не довелось подниматься в небо. Взлетели на исходе ночи, в синеватой полумгле предрассветных сумерек. Набирая высоту, я, как всегда в полёте, слился с машиной. Но когда стрелка высотомера придвинулась к заданной черте, взглянул вниз и увидел солнце. Оно прорезывалось на горизонте, окрашивая небо и землю в золотистый цвет утренней зари. Внизу проплывали сопки, покрытые розовым снегом, земля, забрызганная синеватыми каплями озёр, и тёмно-синее холодное море, бившееся о гранитные скалы.
С первым самостоятельным полётом в полку лейтенанта Юрия Гагарина поздравляют командир эскадрильи майор В. Решетов (слева) и секретарь парторганизации капитан А. Росляков.
— Красота-то какая!-невольно вырвалось у меня.
— Не отвлекайтесь от приборов,-послышался отрезвляющий голос Васильева.
Он так же, как и все мы, истосковался па солнцу, но знал: в воздухе ничто не должно отвлекать внимание лётчика от управления самолётом. Для него было важно то, что с солнцем мы встретились точно по расчётному времени. И он тут же сказал мне об этом:
— Эмоции эмоциями, а дело прежде всего.
Так началась настоящая лётная служба в Заполярье.
Командир звена, обстоятельно проверив: моё умение обращаться с машиной, допустил к самостоятельным полётам. Новый командир нашей эскадрильи майор Владимир Решетов согласился с его решением и, когда первый самостоятельный полёт был совершён, сразу у самолёта вместе с секретарём партийной организации капитаном Анатолием Росляковым поздравил меня с этим событием. Товарищи запечатлели на фотографии этот момент. Мне было приятно послать Вале в Оренбург снимок, на котором мы все трое, одетые в меховые комбинезоны, в лётных шлемах, улыбающиеся вовсю, пожимаем друг другу руки.
Вскоре случилось со мной неприятное происшествие. Я летал по приборам. Синоптики на целый день «дали» хорошую погоду — ничто не предвещало ненастья. Когда я выполнил последнее упражнение, неожиданно стало темнеть. Внизу исчезли островки и заливы. Я понял: приближаются снеговые заряды — самая неприятная вещь на Севере, не только в небе, но и на земле. Запросил аэродром: какая погода? Ответили: пока терпимо, но с каждой минутой видимость ухудшается, запасную посадочную площадку уже захлестнули снежные волны. «Ну что ж, поспорим и поборемся с непогодой», — решительно подумал я и тут же увидел: топлива осталось в обрез. Главное в таком положении — сохранить ясность мысли и присутствие духа.
— Немедленно возвращайтесь, — приказал мне руководитель полётов. В голосе его послышались тревожные нотки.
Невольно вспомнился недавний случай с Васильевым и то, как он тогда нашёл выход из подобного положения. Я быстро прикинул в уме самый короткий маршрут к аэродрому, учитывая все решающие данные: крепкий встречный ветер, высоту полёта, время, запас топлива. Пробиваясь сквозь слепящее снежное месиво, я точно исполнял приказы руководителя полётов. Я отдавал себе ясный отчёт, что целость машины и собственная жизнь находятся у меня в руках и зависят от того, сколь правильно будут выполняться мною команды более опытного, чем я, авиатора — руководителя полётов. Его спокойствие передавалось мне.
Этот хладнокровный, волевой офицер однажды сказал:
— Настоящего человека характеризуют четыре качества: горячее сердце, холодный ум, сильные руки и чистая совесть…
Приборы показали: самолёт вышел в район аэродрома. Но, не видя земли, рассчитать посадку с ходу я не смог. Пришлось, как ни напряжены были нервы, сделать ещё один круг, выйти на приводную радиостанцию и снова планировать на посадку. С чувством облегчения я увидел развернувшуюся серую ленту посадочной полосы. Теперь можно было садиться.
Пожав мне руку, руководитель полётов сказал:
— Удача благоприятствует смелым.
Это была похвала, в которой так нуждаются молодые офицеры.
Гарнизон жил напряжённой творческой жизнью здорового коллектива. Никто не тянулся к преферансу, не забивали «козла», не растрачивали времени на пустяки, никто не пьянствовал, не разводились с жёнами. Все жили, повинуясь прекрасным законам советской морали.
Лётчики, техники и механики нашего подразделения понимали, что полёты первых искусственных спутников Земли знаменуют собой начало эры проникновения человека в космическое пространство, что остроумно сконструированные советскими учёными и инженерами летательные аппараты открывают широчайшие перспективы для осуществления целого ряда важнейших научных исследований. Юрий Дергунов хорошо знал историю завоевания воздушного пространства и, рассуждая вместе с нами о том, с какой стремительностью в наши дни начали развиваться события, связанные с дальнейшими успехами в этом деле, приводил интересные соображения. Он напомнил, что целых полтораста лет потребовалось человеку для того, чтобы после смелого подъёма на примитивном воздушном шаре — это, кстати сказать, было сделано под Рязанью русским мужиком, подьячим Крякутным, — построить первый в мире самолёт. Вдвое меньше — всего 75 лет прошло от этих работ, осуществлённых нашим соотечественником, флотским офицером Александром Можайским на Красносельском поле под Петербургом, до момента запуска первого искусственного спутника Земли. А теперь, спустя всего несколько месяцев, ввысь пошёл уже третий спутник.
— С такими темпами, — убеждённо говорил Дергунов, — совсем недалеко и до полёта человека в космос.
«Как все сложится в дальнейшем?» — думал я, поглядывая на залитое серебристо-зеленоватым светом луны высокое небо. Подумать только — наш первый спутник тысячу четыреста раз облетел вокруг Земли, а второй сделал почти на тысячу оборотов больше, пройдя путь свыше ста миллионов километров.
Мы внимательно вчитывались в замечательные итоги радиотехнических и оптических наблюдений за первыми двумя спутниками, обсуждали результаты сделанных с их помощью исследований плотности атмосферы, ионосферы, космических излучений, различных биологических данных. Нас волновали выводы учёных, утверждающих, что живые существа удовлетворительно переносят условия космического полёта. Было понятно, что всё это делалось для исследований, конечной целью которых являлось обеспечение полёта человека в космос.
Как-то я услышал:
— Я спутником не пользуюсь, мне и без спутника неплохо живётся.
Это была обывательская болтовня. Так можно было договориться и до такого — я телеграфом на пользуюсь, я радио не слушаю, в поезде не езжу, мне и без них неплохо.
Я понимал, что правительство не жалеет средств на все, связанное с освоением космоса, и мне казалось, что несколько тысяч, а может быть, и десятков тысяч специалистов в разных областях науки и техники самоотверженно трудятся, чтобы решить самую грандиозную задачу из всех, которые когда-либо ставило перед собой человечество.
Радио передавало сравнительно скупые известия о полёте нового спутника. Центральные газеты в наш дальний гарнизон приходили с опозданием, так же как и письма. Но ждали мы их с нетерпением, часто наведывались на почту. И наконец пришла «Правда», почти целиком занятая описанием третьего советского искусственного спутника Земли. В газете были новые сведения об орбите спутника, о наблюдениях за его полётом, а самое главное — давались подробности устройства спутника. Это в полном смысле слова была автоматическая научная станция в космосе. Статья была написана доходчиво, популярным языком.
Почти вся газета оказалась исчёрканной цветными карандашами, а на полях пестрели наши пометки. Вскоре инженер полка прочёл лекцию о победах наших учёных в борьбе за овладение космическим пространством. На лекцию пришли почти все офицеры, многие с жёнами и детьми. Я наблюдал, как загорались глаза подростков, когда лектор говорил, что в скором времени люди полетят к ближайшим планетам. Их уже не интересовали самолёты — они их видели каждый день, теперь сердца мальчишек были отданы новой любви — космическим кораблям, которых толком ещё никто не мог себе представить.
Юрий и Валентина Гагарины на прогулке.
Я тоже каким-то краем души чувствовал, что на смену самолёту придёт ракета. В зарубежной печати нет-нет да и проскальзывали сообщения, что дни человека-лётчика на высокоскоростных самолётах уже сочтены; что современная техника позволяет направить самолёт в любую точку земного шара, сбросить там бомбы и вернуть машину к месту старта без присутствия лётчика на борту самолёта. И в то же время я знал, что ракеты и межпланетные корабли строятся на базе авиационной техники, что именно авиация пробивает дорогу в космос, что на Луну полетит не ветеринар, а лётчик.
В эти дни в библиотеке появилась новая книга — «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, пронизанная историческим оптимизмом, верой в прогресс, в светлое коммунистическое будущее человечества. У себя в комнате мы читали её по очереди. Книга нам понравилась. Она была значительней научно-фантастических повестей и романов, прочитанных в детстве. Нам полюбились красочные картины будущего, нарисованные в романе, нравились описания межзвёздных путешествий, мы были согласны с писателем, что технический прогресс, достигнутый людьми, спустя несколько тысяч лет был бы немыслим без полной победы коммунизма на земле.
В свободное от полётов время мы уходили на горную речку ловить форель. Это очень приятное занятие. Отдыхает мозг, и ни о чём не думаешь. Полный покой…
А иногда, по воскресеньям, захватив с собой баян, шли на сопки, поросшие скупой травой и неяркими северными цветами. По дороге пели любимые песни, напоминающие о далёких родных краях. Чувствовали себя моряками, отпущенными на берег после дальнего плавания. Однажды во время такой прогулки мы наткнулись на обломки самолёта, поросшие мхом и затерявшиеся среди камней. С нами был инженер, воевавший в этих краях. Он быстро определил: это обломки «мессершмитта».
— Чья же это работа? — поинтересовался Юрий Дергунов.
— Кто знает, — ответил инженер, — может, Бориса Сафонова, а может, Серёжи Курзенкова…
Мы знали, что Сергей Георгиевич Курзенков — Герой Советского Союза — был первым командиром нашего подразделения и дружил с прославленным советским асом — североморцем Борисом Сафоновым. О Сафонове до сих пор рассказывают легенды, лётчики называют его морским орлом.
Молодой Северный флот прославился в годы войны. Корабли его высаживали десанты на скалистое побережье, занятое врагом, конвоировали караваны судов союзников. Подводные лодки Николая Лунина, Магомета Гаджиева, Израиля Фисановича ходили в Норвежское и Северное моря, топили транспорты противника. Народ знал и Героев Советского Союза — матроса Василия Кислякова, командира отряда морской пехоты Виктора Леонова и многих других защитников Советского Заполярья. И хотя со времён войны уже прошло более полутора десятилетий, в каменной книге гранитных скал можно было читать о том, что здесь происходило.
Обломки сбитой машины с облупившимся, наполовину смытым дождями черным крестом многое нам напомнили и заставили призадуматься. Мы находились на передовом форпосте северных рубежей нашей Родины, и нам следовало быть такими же умелыми, отважными лётчиками, как Борис Сафонов, Сергей Курзенков, Захар Сорокин, Алексей Хлобыстов и многие другие герои Великой Отечественной войны — наши старшие братья по оружию.
Вернувшись домой, я обо всём виденном и передуманном написал жене.
Валя вскоре окончила училище, получила диплом фельдшера-лаборанта и в начале августа приехала ко мне. А жить-то было негде. Дом, в котором мне обещали комнату, достраивался. Но безвыходных положений не бывает. Одна знакомая учительница уезжала в отпуск и на это время уступила нам свою комнату. Тут мы и поселились, радуясь тому, что свет не без добрых людей.
Первые дни Валя никак не могла привыкнуть к северной природе, к хмурому, моросящему небу, к сырости: проснётся ночью, а на улице светло как днём. Станет тормошить меня — проспал, мол, полёты. А я смеюсь:
— Сюда петухов привезли, так они все путали, — не знали, когда кукарекать…
Вскоре нам выделили небольшую комнату, но не в новом доме, как обещали, а в старом, деревянном. Соседями по квартире оказались Кропачевы — хорошая молодая чета.
Осень на Севере наступает рано. Надо было заготовить на зиму топливо. И мы с Валей по вечерам пилили дрова, потом я их колол и складывал в поленницу. Хорошо пахнут свеженаколотые дрова! Помашешь вечерок колуном, и такая охватит тебя приятная усталость — ноет спина, побаливают руки, аппетит разыграется к ужину, и спишь потом беспробудно до самого утра.
Всё было хорошо у нас в гарнизоне. И вдруг произошло несчастье. Погиб Юрий Дергунов. Глупо погиб. Не в воздухе, а на земле. Мотоцикл с коляской, на котором он с Алёшей Ильиным ехал по крутой дороге между сопок, врезался на повороте во встречный грузовик. Юра был убит наповал, а Алёша отделался ушибами — его выбросило в мох. Так мы узнали, что есть на свете не только парки и сады, но и кладбища, поросшие деревьями и кустами, и люди могут не только радоваться, но и плакать. Я лишился одного из своих ближайших друзей и долго горевал. Валя успокаивала меня, как могла, предлагала валерьянку и снотворное, но я никогда не болел и ни разу не принимал лекарств.
В это тяжёлое для меня время мы сблизились с семьёй заместителя командира эскадрильи Бориса Фёдоровича Вдовина. Я и раньше бывал у них в доме, играл с их четырёхлетней дочкой Ирочкой. Мать её, Мария Савельевна, была активисткой и вовлекала нас, молодых офицеров, в кружки художественной самодеятельности. Самодеятельность у нас была широкая — чуть ли не полтораста певцов, танцоров, затейников. Я пел в хоре.
Когда Валя приехала, Мария Савельевна отнеслась к ней с большим участием. Помогая в житейских делах, она незаметно, с большим тактом объясняла Вале, что значит быть женой военного лётчика, как надо переносить трудности, уметь ждать и никогда не отчаиваться. Я знал, что она научила Валю распознавать в воздухе самолёты нашей эскадрильи, вместе с ней часами просиживала возле аэродрома, когда у нас проходили особенно сложные полёты, когда мы летали над морем. Гул пикирующих самолётов создавал обстановку боя, тревожил женщин.
Чем больше привязывалась Валя к Марии Савельевне, тем больше крепла и моя дружба с Борисом Фёдоровичем. Небольшого роста, подвижной, синеглазый, с выразительным худощавым лицом, он нравился мне своей влюблённостью в жизнь, простотой в обращении с подчинёнными. На аэродроме, во время полётов, он становился по-командирски строг и немногословен, а дома сразу менялся, был весел, общителен и остроумен. Мы видели в нём и командира, и наставника, и доброго друга. Он был запевалой во всём, а без запевалы и песня не поётся.
Борис Фёдорович писал стихи и нередко читал их на вечерах самодеятельности. Песенки и частушки, написанные им, исполнялись нашим хором. Он любил русский язык, чувствовал слово. У него была небольшая, толково подобранная библиотечка любимых поэтов. На полке рядышком стояли томики избранных произведений Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Блока. Были и книги советских поэтов — Маяковского, Тихонова, Сельвинского, Малышко, Шенгелиа… Мы тоже пользовались этими книжками.
Читали мы в то время и прозу, изданную Воениздатом и «Молодой гвардией», книги любимых солдатских писателей: Георгия Березко, Ивана Стаднюка, Михаила Алексеева и других. Их произведения показывали советского воина во весь его гигантский рост, описывали любовь народов к своему освободителю. Большой популярностью пользовалась в нашей среде библиотечка журнала «Советский воин», небольшие книжицы из этой серии мы носили с собой повсюду.
Прошла короткая осень, и наступила зима с её длинной полярной ночью. Мы с Валей часто любовались трепетным северным сиянием, охватывающим полнеба. Это было величественное, ни с чем не сравнимое зрелище. Я летал в мерцающем свете серебристо-голубоватых сполохов, соединяющих небо и землю, и, вернувшись домой, рассказывал Вале о том, как ещё красивее выглядят они с высоты многих тысяч метров.
Вечерами мы с Валей читали книги. Обыкновенно, лёжа на койке, я читал, а она, занятая домашними делами, слушала. Мы брали в библиотеке книги о лётчиках. Нам понравилась «Земля людей» Антуана де Сент-Экзюпери — французского лётчика и журналиста. Он погиб как герой, не дожив трёх недель до освобождения Франции. В его книге было много поэзии и лётной романтики, любви к людям. Он описывал мирный труд лётчиков почтовых самолётов. Мне запомнилась новелла «Ночной полёт». Сильно в ней описано поведение лётчика, пробивающегося ночью сквозь бурю, и переживания его молодой жены. Такое случалось и с нашими лётчиками, и с нашими жёнами.
Мне нравилось, как писал Экзюпери: «Достаточно ему, пилоту, просто разжать руки — и тотчас их жизнь рассыплется горсточкой бесполезной пыли. Фабьен держит в своих руках два живых бьющихся сердца — товарища и своё…» Или: «Твоя дорога вымощена звёздами».
К сожалению, подобных «вечеров громкого чтения» было не так уж много. Валя была занята вместе с другими женщинами общественной работой, а я учился в вечернем университете марксизма-ленинизма. Занятия эти требовали непрерывного обращения к первоисточникам — трудам Маркса, Энгельса, Ленина. Над книгами я за полночь просиживал с карандашом в руках, исписывал целые тетради конспектами к семинарам.
Семинары проходили оживлённо. Слушатели, разбирая очередную тему, обменивались мнениями, приводили массу интересных житейских примеров. В сочинениях Владимира Ильича Ленина мы находили ответы на многие вопросы современности. Я переписывал из его книги себе в тетрадь: «Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет ещё больше, увеличивая тем свою власть над ней…» Эти слова заставляли меня вспоминать о спутниках Земли.
Третий из них все ещё кружил вокруг планеты, когда весь мир снова потрясло известие — 2 января 1959 года в Советском Союзе запущена многоступенчатая космическая ракета в сторону Луны. Это было эпохальное событие. Человек стал ещё ближе к космосу. Коллективы научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, заводов и испытательных организаций, создавшие новую ракету для межпланетных сообщений, посвятили этот запуск внеочередному XXI съезду Коммунистической партии Советского Союза.
Раздумывая над всем, что удалось узнать о полёте ракеты, я чувствовал словно лёгкое недомогание и не сразу разобрался, что меня мучает недостаток образования. Следовало, не теряя ни одного дня, продолжать учение.
Я уже знал о кибернетике, слышал разговоры о том, что придёт время — и вычислительная машина заменит человеческий мозг. Согласиться с этим было нельзя по многим причинам, хотя бы потому, что, как бы машина ни была совершенна, решение всё же должен принять человек, в критическом случае человек более многосторонен, и ему надо меньше места, чем машине. Наконец, чтобы поддерживать машину в рабочем состоянии, тоже необходим человек. Одним словом, человеческий мозг — самое совершенное произведение природы — ничто заменить не может и никогда не заменит.
Через три недели после запуска многоступенчатой ракеты в докладе на XXI съезде партии Н. С. Хрущёв под бурные аплодисменты делегатов сказал: «Первым в мире искусственным спутником Земли был советский спутник; первой искусственной планетой Солнечной системы является советская планета. В необъятных просторах Вселенной она гордо несёт вымпел с изображением Государственного герба Советского Союза и надписью „Союз Советских Социалистических Республик. Январь, 1959 год“.
XXI съезд Коммунистической партии! Наметив величественный семилетний план дальнейшего развития народного хозяйства страны, он выдвинул перед нашим народом, вступившим в период развёрнутого строительства коммунистического общества, грандиозные задачи во всех областях экономической, политической, идеологической и международных отношений. Глубоко изучая материалы съезда, мы хорошо понимали, что семилетка — это новый, решающий рубеж на пути исторического развития нашей Родины. Перед советскими людьми съезд поставил ясную и благородную цель, и для достижения её надо было хорошо потрудиться каждому. А нам, лётчикам, с ещё большим рвением выполнять свой долг, бдительно охранять мирное советское небо. На съезде были сказаны веские слова о задачах нашего государства в области защиты мира и обороны от угрозы нападения со стороны империалистических держав, о том, что, пока существуют агрессивные военные блоки, нужно укреплять и совершенствовать Советские Вооружённые Силы.
На дворе свирепствовала зима, но съезд внёс в жизнь страны весеннее оживление. Все всколыхнулось, пришло в движение, пробудилось. Повсюду прорастали семена нового.
XXI съезд партии сыграл и в моей жизни огромную роль. Именно в эти счастливые дни во мне окончательно созрело давнишнее решение подать заявление о приёме в кандидаты партии. Ведь все те люди, на которых я старался быть похожим, у кого учился жить и работать, были коммунистами. И когда я сказал об этом секретарю нашей партийной организации капитану Анатолию Павловичу Рослякову, он одобрительно сказал:
— Правильно, Юрий, партия сделает из тебя закалённого бойца.
В тот же день я написал заявление, испортив немало бумаги, пока нашёл несколько десятков слов, отвечающих моему настроению, моим мыслям и стремлениям. Товарищи и комсомольская организация дали мне рекомендацию, и вскоре я был принят кандидатом в члены партии. Это обязывало меня работать, учиться ещё усерднее, чтобы оправдать великое доверие. В то время «История Коммунистической партии Советского Союза» стала моей настольной книгой.
Одно радостное событие следовало за другим. В середине апреля я отвёз Валю в родильный дом ближайшего к нашему гарнизону городка, а сам вернулся домой. К Вале я всегда испытывал необыкновенную нежность и никогда не волновался так, как в эти дни. Да, наверное, все молодые отцы, ждущие первенца, переживают нечто подобное.
Мне хотелось, чтобы родилась девочка. В отпуске мы даже поспорили, какое купить приданое. Валя хотела мальчика и выбрала, как полагается для мальчика, голубенькое одеяльце.
Я переживал и довольно-таки часто звонил из гарнизона в родильный дом. Надоел всем ужасно — меня узнавали по голосу и подшучивали над моим нетерпением, обнадёживали, что все, мол, обойдётся благополучно. А я верил и не верил и снова звонил. Даже телефонистки стали обижаться.
Наконец, на мой звонок ответили вопросом:
— Ждёте мальчика?
— Нет, девочку, — быстро ответил я.
— Ну, так поздравляем с исполнением желания: родилась девочка, семь с половиной фунтов.
А что это такое семь с половиной фунтов? Много это или мало? Мне хотелось немедленно мчаться в родильный дом, но не было машины, и я смог поехать только утром. Ни к Вале, ни к дочке, конечно, не пустили, но записку и подарки передали.
Валю выписали через неделю. Я приехал за ней на военном «газике» и всю дорогу обратно бережно держал ребёнка на руках, боясь что-нибудь повредить в этом хрупком и таком дорогом для меня существе. Прямую дорогу заливало солнце, и над ней кружили белые морские птицы. Свежий апрельский ветер летел нам навстречу. На душе было радостно, хотелось петь. Хорошо, если бы вся жизнь нашей дочери шла такой же светлой, весенней дорогой.
Уже подъезжая к нашему домику, я сказал жене:
— Ты мучилась — твоё право выбрать имя нашей девочке…
— А я уже называю её Леночкой, — ответила Валя.
Елена! Красивое русское имя! Это имя и было вписано в метрику нашей дочери.
С появлением ребёнка в доме прибавилось забот. Только молодой отец может понять, какое удовольствие купать в тёплой воде своего маленького, беспомощного ребёнка, пеленать его, носить на руках, нашёптывать тут же придуманные колыбельные песенки. Вернувшись домой с аэродрома, я всё время проводил с малышкой, помогал жене в хозяйственных делах. Ходил в магазин за продуктами, носил воду, топил печь. Прав был поэт, когда писал: «Я люблю, когда в доме есть дети и когда по ночам они плачут».
Работы было по горло, но она шла на пользу душе и телу, ведь самая лучшая гимнастика — работа. На все не хватало времени, и я, что называется, не выходил из цейтнота.
А полёты становились все сложнее и сложнее, летали над неспокойным, по-весеннему бурным морем. Летали строем, что важно при ведении воздушного боя, летали по приборам «вслепую», изучали радионавигацию. Над морем проводили и учебные воздушные бои. Приходилось тренироваться с таким опытным «противником», как Борис Вдовин. Он был хваткий воздушный боец и считался неуязвимым.
Как-то я получил задание перехватить самолёт Вдовина. Для перехвата и нападения на самолёт «противника» необходимо было догнать его и атаковать с хвоста. Набрал высоту, пошёл в район цели. Мне удалось незаметно для Вдовина атаковать его с верхней задней полусферы. Но ещё до того, как я вышел на дистанцию огня, чтобы зафиксировать поражение цели на плёнку кинофотопулемета, Вдовин положил свой «МиГ» в крутой вираж. Я ринулся за ним. Так и виражили мы несколько минут друг против друга, и ни один из нас не смог зайти в хвост другому. Каждый упорствовал и оставался недосягаемым. Так бы, наверное, и крутили мы бешеную карусель до тех пор, пока в баках оставалось топливо, но Вдовин подал команду, я пристроился к его машине, и мы, довольные друг другом, крыло к крылу, возвратились на аэродром.
— Силён ты, брат, стал, — одобрительно посмеиваясь, сказал мне Вдовин на земле, когда нервное напряжение спало. — Своих учителей кладёшь на лопатки. Так действуй и впредь.
У него была привычка подшучивать над людьми, которые ему нравятся.
Моему росту как лётчика и воздушного бойца способствовали систематические занятия спортом. Зимой лыжи и коньки, а летом — лёгкая атлетика и баскетбол. Игра в баскетбол нравилась своей стремительностью, живостью и тем, что в ней всегда царил дух коллективного соревнования. Броски мяча в корзину с ходу и с прыжка вырабатывали меткость глаза, точность и согласованность движений всего тела. Есть и другие, не менее интересные и полезные игры, но я, как старый энтузиаст баскетбола, пользуясь случаем, хочу сказать, что, на мой взгляд, это самая лучшая игра.
Теннис — тоже отличная игра, требующая физической выносливости, как в футболе, хорошего глазомера, сообразительности и ума, как в шахматах. Но, к сожалению, везде, где мне приходилось учиться и служить, теннисных кортов не было. А жаль! Для военного лётчика теннис очень полезен, а то, что хорошо для лётчиков, хорошо и для всех. Это, пожалуй, единственная спортивная игра, которой можно заниматься с детства до преклонного возраста.
Став кандидатом в члены партии, я получил общественное поручение — редактирование эскадрильского боевого листка. В нём помещались заметки лётчиков и техников о жизни и учёбе, отмечались успехи, достигнутые в полётах, критиковались те, кто допускал ошибки. Приурочивали мы выход боевого листка и к важным политическим событиям, которыми жила страна. Одним из самых удачных, по мнению политработников, был боевой листок, посвящённый поездке Н. С. Хрущёва с миссией мира и дружбы в США в сентябре 1959 года.
За три дня до отлёта Н. С. Хрущёва из Москвы в Вашингтон в Советском Союзе произошло два события, словно гром прокатившихся по всему миру: в Неву, к месту стоянки в штормовую октябрьскую ночь 1917 года легендарной «Авроры», пришёл могучий корабль мира — атомоход «Ленин», а к Луне устремилась космическая ракета. Она несла вымпел с нашим Государственным гербом. Две красные пятиконечные звёзды зажглись одновременно: одна — на рее атомохода и другая — на далёкой межпланетной трассе.
«Придёт время, и наши космонавты привезут с Луны на Землю образцы тамошней породы», — писали мы в боевом листке.
Мы страстно верили, что человек проникнет в космос, с огромной скоростью облетит вокруг Земли, а затем придёт пора волнующих стартов — к Луне, к Марсу, к Венере…
По радио и по газетам лётчики следили за триумфальной поездкой Н. С. Хрущёва по городам Соединённых Штатов Америки. В ленинской комнате нашей эскадрильи была вывешена карта, на ней отмечался маршрут: Вашингтон — Нью-Йорк — Лос-Анжелос — Сан-Франциско — Де-Мойн — Питтсбург и опять Вашингтон. И повсюду радостные встречи, выражения привета и восторга. В то время моё сердце неудержимо рвалось в космос. Я прочитывал в газетах и журналах всё, что касалось этого вопроса. На встрече в Национальном клубе печати в Вашингтоне американские журналисты спросили Н. С. Хрущёва:
— Когда вы думаете забросить человека на Луну?
— Человека в космос мы пошлём тогда, — ответил Н. С. Хрущёв, — когда будут созданы необходимые технические условия. Пока таких условий ещё нет.
Эти слова главы Советского правительства взволновали меня и в то же время успокоили. Я понял, что в нашей стране ведутся серьёзные работы по подготовке полёта человека в космос и то, что у меня ещё есть время, чтобы все обдумать и окончательно решиться подать рапорт с просьбой зачислить меня кандидатом в космонавты.
Что я подам этот рапорт, сомнений уже не было. Я не боялся начинать свою жизнь сначала.
ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Через несколько дней после возвращения Н. С. Хрущёва из поездки в США, во время которой американский народ, народы всех стран ещё раз наглядно убедились в стремлении Советского Союза к миру, наши учёные запустили третью космическую ракету. Она обогнула Луну, сфотографировала её невидимую с Земли часть и передала фотографии на Землю. Эта новая, небывалая победа всколыхнула всё человечество. Снова высокая волна оваций в честь Советского Союза прокатилась по всем континентам.
Жизнь вносила существенные поправки в мои замыслы и планы. Если я совсем недавно полагал, что ещё есть время на размышления, то теперь понял: медлить больше нельзя. На следующий день, как того требует военный устав, я подал рапорт по команде с просьбой зачислить меня в группу кандидатов в космонавты. Мне казалось, что наступило время для комплектования такой группы. И я не ошибся. Меня вызвали на специальную медицинскую комиссию.
Комиссия оказалась придирчивой. Всё было совсем не так, как при наших ежегодных лётных медицинских осмотрах. К ним авиаторы привыкли, и ничего «страшного» в них не видели. А тут, начиная с первого же специалиста — а им оказался врач-окулист, — я понял, насколько все серьёзно. Глаза проверяли очень тщательно. Нужно было иметь «единицу» по зрению, то есть свободно и уверенно прочитывать всю таблицу букв и знаков от начала и до конца, от крупных до самых мелких. Придирчиво искали скрытое косоглазие, проверяли ночное зрение, тщательно исследовали глазное дно. Пришлось не один, как обычно, а семь раз являться к окулисту, и всякий раз всё начиналось сызнова опять таблицы букв и знаков, проверка цветоощущения; взгляните правым глазом, взгляните левым, посмотрите туда, посмотрите сюда… Одним словом, доктор работал по известной поговорке: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Искал он, искал, но ни сучка ни задоринки в моих глазах не нашёл.
Проводилась проверка способности работать в усложнённых условиях. Предлагалось производить арифметические действия с цифрами, которые вначале нужно было найти в специальной таблице. При этом учитывались и скорость работы, и правильность ответа. На первый взгляд решение задачи было простым. Но неожиданно включался репродуктор, из которого монотонный голос начинал подсказывать решение. Однако вместо помощи голос сильно мешал сосредоточиться. Внимание начинало рассеиваться, и требовалось заставить себя продолжать работу, не обращая внимания на «услужливого друга». Было трудно. Впрочем, это были только цветочки — ягодки были впереди.
Врачей было много, и каждый строг, как прокурор. Приговоры обжалованию не подлежали — кандидаты в космонавты вылетали с комиссии со страшной силой. Браковали терапевты и невропатологи, хирурги и ларингологи. Нас обмеряли вкривь и вкось, выстукивали на всём теле «азбуку Морзе», крутили на специальных приборах, проверяя вестибулярные аппараты… Главным предметом исследований были наши сердца. По ним медики прочитывали всю биографию каждого. И ничего нельзя было утаить. Сложная аппаратура находила все, даже самые минимальные изъяны в нашем здоровье.
Руководил комиссией опытный авиационный врач Евгений Алексеевич — человек большой эрудиции. Красивый, синеглазый, остроумный, он сразу расположил к себе всю нашу группу, и даже те, кто уже отчислялся по состоянию здоровья, уезжали с хорошим чувством к нему.
— На медицину не сердитесь, ребята, — провожая их, шутил он. — Продолжайте летать, но не выше стратосферы.
Отсев был большой. Из десяти человек оставляли одного. Но и он не был уверен, что его не спишет следующая комиссия, которую каждому сулил на прощание Евгений Алексеевич. Готовиться к такой комиссии он советовал и мне.
Первый этап был пройден, и у меня появилась надежда. Я вернулся в полк, и потянулись дни ожидания. Время быстро переворачивало листки календаря. Как и прежде, я по утрам уходил на аэродром, летал над сушей и морем, нёс дежурства по полку, в свободное время ходил на лыжах, оставив Леночку на попечение соседей, вместе с Валей на «норвегах» стремительно пробегал несколько кругов на гарнизонном катке, по-прежнему редактировал боевой листок, нянчился с дочкой, читал трагедии Шекспира и рассказы Чехова, во второй раз перечитывал роман Виктора Гюго «Труженики моря».
Я ждал, ждал и ждал вторичного вызова. Трудно было, потому что ждал один. Валя пока ещё ничего не знала. О своей первой поездке на медицинскую комиссию я умолчал, сказал, что это была обычная командировка по служебным делам. Меня мучила совесть: ведь мы ничего не скрывали друг от друга. Но тут было уж очень необычное дело, и пока лучше всего помалкивать. Так советовали и Евгений Алексеевич, и командир полка.
А дни все шли и шли. Уже стало казаться, что обо мне забыли, что я не подошёл. Ведь рост у меня небольшой, на вид я щуплый, бицепсами похвастать не мог. А вместе со мной проходили комиссию парни что надо — кровь с молоком, гвардейского роста, косая сажень в плечах, самые что ни на есть здоровяки… Куда мне с ними тягаться! Старался забыть о своём рапорте, о комиссии — и не мог.
Валя растила дочку, была занята поручениями женсовета, мечтала со временем поступить в медицинский институт. Вечерами, когда мы встречались дома, она нет-нет да и поглядывала на меня каким-то странным, вопрошающим взглядом, словно догадывалась, что творится у меня на душе.
— Уж не заболел ли ты, Юра?-допытывалась она и, как все медики, советовала измерить температуру.
Я послушно ставил градусник под мышку. Но ртутный столбик упорно не хотел подниматься выше 36,6. И всё же я был болен болезнью, которой нет названия в медицине, — тяга в космос продолжала мучить меня. Но я знал: от этой болезни ни один врач не смог бы меня исцелить.
И когда я совсем отчаялся, когда, казалось, уже не осталось никаких надежд, пришла бумага: меня снова вызывали на комиссию. Я поехал и опять не сказал Вале, куда и зачем меня вызвали.
Всё повторилось сначала. Но требовательность врачей возросла вдвое. Все анализы оказались хорошими, ничего в моём организме не изменилось. Евгений Алексеевич был доволен.
— Стратосфера для вас не предел, — обнадёжил он.
Это были самые приятные слова, слышанные когда-либо.
Клинические и психологические обследования, начатые первой комиссией, продолжались. Помимо состояния здровья, врачи искали в каждом скрытую недостаточность или пониженную устойчивость организма к факторам, характерным для космического полёта, оценивали полученные реакции при действии этих факторов. Обследовали при помощи новейших биохимических, физиологических, электрофизиологических и психологических методов и специальных функциональных проб. Нас выдерживали в барокамере при различных степенях разреженности воздуха, крутили на центрифуге, похожей на карусель. Врачи выявляли, какая у нас память, сообразительность, сколь легко переключается внимание, какова способность к быстрым, точным, собранным движениям.
При отборе интересовались биографией, семьёй, товарищами, общественной деятельностью. Оценивали не только здоровье, но и культурные и социальные интересы, эмоциональную стабильность.
Для полёта в космос искали горячие сердца, быстрый ум, крепкие нервы, несгибаемую волю, стойкость духа, бодрость, жизнерадостность. Хотели, чтобы будущий космонавт мог ориентироваться и не теряться в сложной обстановке полёта, мгновенно откликаться на её изменения и принимать во всех случаях только самые верные решения.
Всё это заняло несколько недель. Вновь отсеялось немало ребят. Я остался в числе отобранных лётчиков — кандидатов в космонавты. Через несколько дней всю нашу группу принял главнокомандующий Военно-воздушными силами Константин Андреевич Вершинин. На этой встрече среди других заслуженных генералов нашей авиации мне радостно было увидеть одного из первых Героев Советского Союза — Николая Петровича Каманина, о котором я так много слышал ещё от его бывшего фронтового однополчанина, начальника Саратовского аэроклуба Г. К. Денисенко.
Впервые в жизни мне, младшему офицеру, довелось беседовать с Главным маршалом авиации. Он встретил нас по-отцовски, как своих сыновей. Интересовался прохождением службы, семейными делами, расспрашивал о жёнах и детях и в заключение сказал, что Родина надеется на нас.
Отныне я должен был расстаться с полком, попрощаться с товарищами и вместе с семьёй отбыть к месту новой службы. Открывалась новая, самая интересная страница в моей жизни.
Вернулся я домой в день своего рождения. Валя знала о моём приезде и в духовке испекла именинный пирог, украсила его моими инициалами и цифрой «26». Подумать только-недавно было шестнадцать и уже двадцать шесть! Но я все так же, будто паренёк-ремесленник, восторженно глядел на открывающийся моим глазам широкий, залитый солнечным светом мир.
На пирог собрались к нам мои товарищи и подруги Вали. И хотя ещё никто ничего толком не знал, все догадывались, что мы скоро покидаем гарнизон. Вале я сказал, что меня назначают на лётно-испытательную работу и что мы скоро уедем в центр России. Она поделилась новостью с подругами. Так все и думали — Гагарин станет лётчиком-испытателем, будет опробовать новые машины.
За столом много говорилось о лётчиках-испытателях. Разговор шёл о борьбе нашей авиации за скорость, высоту и дальность полётов. Вспомнили, что за последнее время многие лётчики-испытатели завоевали Родине новые мировые рекорды: Владимир Ильюшин на «Т-431» поднялся почти на тридцатикилометровую высоту, Георгий Мосолов на «Е-66» летал со скоростью, чуть ли не в два с половиной раза большей скорости звука. Валентин Ковалёв все выше поднимал потолок, увеличивал грузоподъёмность наших пассажирских воздушных кораблей. Усердно трудились над развитием нашего Воздушного Флота и многие другие авиаторы.
— Теперь очередь за тобой, Юрий, — шутя сказал Анатолий Росляков — секретарь нашей партийной организации.
Он почему-то был уверен, что я сделаю что-то необыкновенное.
Я слушал товарищей и молчал. Ведь предстояли такие рекорды, перед которыми все достигнутое бледнело. Вспомнились лётчики, с которыми я был на приёме у Главного маршала авиации. Каждый из них горел решимостью отдать все свои силы для подготовки к таким полётам. Каким-то подсознательным чутьём я догадывался, что каждый из них установит космический рекорд: одни раньше, другие позже. Дело было во времени.
Над учебником.
Играл патефон. Борис Вдовин прочёл своё новое стихотворение. Затем спели хором, а под конец заговорили о новом законе, принятом сессией Верховного Совета СССР, о значительном сокращении наших Вооружённых Сил. Закон этот взволновал офицеров полка, и все разговоры обязательно сводились к нему.
— Ты вот идёшь в испытатели, — говорил Вдовин, — а мне наверняка придётся на «гражданку» подаваться… Все начинать сызнова…
Товарищи понимали, что закон, видимо, коснётся и нашего полка.
Ведь главным видом Советских Вооружённых Сил стали ракетные войска. Ракета потихоньку вытесняла и авиацию, и артиллерию; иным становился облик всей нашей могучей Армии и Флота — численно они уменьшались, а огневая мощь их возрастала. Тех, кто должен был уйти из рядов Вооружённых Сил, новый закон обеспечивал жильём и работой.
Вскоре радио, а затем газеты сообщили о подвиге четырёх советских солдат, занесённых штормом на барже в Тихий океан. Они проявили выдержку и отвагу, преодолели, казалось бы, самое непреодолимое. Асхат Зиганшин, Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский и Иван Федотов были людьми советской закалки. Их замечательная поэтическая история волновала лётчиков. Каждый из этой отважной четвёрки оказался человеком большой храбрости, физической выносливости, несгибаемой воли к победе. Казалось бы, в центре урагана, в котором очутилось их утлое судёнышко, не было никаких надежд на спасение, но советские парни не растерялись и не отказались от борьбы. Несмотря на молодость, за плечами у них были годы учёбы, труда, опыта. Это был маленький сплочённый коллектив, воспитанный партией и комсомолом. Они по-братски делились каждой каплей воды и каждым куском вареной кожи, нарезанной из сапог. Они ещё раз доказали, сколь прочны узы войскового товарищества.
Подвиг отважной четвёрки гармонировал с моим приподнятым настроением. Мне хотелось в преодолении трудностей быть таким же, как они, не бояться разбушевавшейся стихии, смело вступать с ней в борьбу. Ведь космос — тоже опасная стихия.
В доме приготовились к отъезду. Было жаль расставаться с товарищами, с полюбившейся суровой природой, со сполохами северного сияния.
В последний раз поехали мы с Валей на берег моря, окантованного кружевом прибоя, поглядели на белых птиц, круживших над гранитными скалами, затем сходили на кладбище, долго стояли у могилы Юрия Дергунова. «Мог быть замечательным лётчиком и так глупо погиб», — думал я. Мы положили ветви сосны на могилу товарища и с грустью отправились домой.
Вечером вся наша небольшая семья, провожаемая друзьями, покинула военный городок. Что ждало нас? На этот вопрос никто не смог бы ответить.
К месту нового назначения мы прилетели на самолёте. Валя плохо переносит воздушные путешествия, но она согласилась на этот полет, зная, что времени в обрез и меня уже ждут. Мы быстро устроились с жильём, и я вместе с новыми товарищами приступил к занятиям.
Прежде всего нас детально познакомили с тем, что ожидает человека, отправляющегося в космос. Военный врач Владимир Иванович, крупнейший специалист авиационной медицины, обстоятельно рассказал нам о факторах, с которыми встречается живой организм при полётах в космическое пространство. Он разделил их на три класса. К первому Владимир Иванович относил факторы, зависящие от физического состояния самого космического пространства: низкое барометрическое давление — фактически глубокий вакуум; иной, чем на земле, газовый состав среды; резкое колебание температур; различные виды ионизирующей радиации; метеоритную опасность. Во второй класс факторов профессор зачислял все зависящее от ракетного полёта — шум, вибрации, сильные перегрузки, невесомость. И, наконец, к третьему классу факторов относил искусственную атмосферу в космическом корабле, ограниченные размеры кабины, сужение двигательной активности человека, находящегося в этой кабине, его эмоциональное напряжение, нагрузки на нервы и психику и, наконец, неудобства, связанные с пребыванием в специальной одежде.
Всё это было ново, интересно, и слушали мы затаив дыхание, не пропуская ни одного слова. Нам как бы приоткрыли дверь в мир науки.
С каждым днём Владимир Иванович и другие специалисты раскрывали перед нами, рядовыми лётчиками, увлекательную картину того, что уже было проделано и достигнуто учёными, исследовавшими, как влияют условия космического полёта на живой организм. Оказалось, что с 1951 года, кроме лабораторных опытов в институтах, проводились биологические исследования на ракетах, запускаемых ввысь, в отсеки которых помещались животные.
Первый такой полет, осуществлённый в Советском Союзе на высоту 112 километров, увенчался успехом. Были получены данные, свидетельствующие о возможности кратковременного пребывания животных в космосе. Вслед за этим изучили возможность пребывания животных в скафандрах в герметических кабинах и спуска их с больших высот на парашютных системах. Они спускались с высоты в 90 километров в течение 65 минут.
— А потом наши ракеты взлетели на двухсоткилометровую высоту, — сказал Владимир Иванович. — Эти полёты также принесли хорошие результаты.
Ракеты забрасывали животных всё выше и выше. Было поставлено несколько опытов с полётом животных на высоту до 450 километров к поясу частиц высоких энергий. Эти научные исследования помогли определить возможности пребывания живых существ в космосе.
Наши учёные для изучения биологических условий космического полёта избрали собак. Собаки — животные спокойные, физиология их хорошо изучена, они поддаются тренировкам и подготовке.
Подобные исследования велись и ведутся в США. Но американцы проводили свои опыты на мелких грызунах, на мышах и на обезьянках. Они посылали обезьянок в космос под наркозом, выключающим на время кору головного мозга.
— Это, — пояснял нам Владимир Иванович, — противоречит учению великого русского физиолога Ивана Петровича Павлова, и мы отказались от подобных опытов.
Мы все помнили знаменитый полет собаки Лайки на втором искусственном спутнике Земли. В отличие от прежних исследований её полет позволил изучить длительное воздействие ускорений при выводе спутника на орбиту и последующего состояния невесомости, продолжавшегося несколько дней. Наблюдения за организмом Лайки, осуществлённые при помощи различных тончайших приборов, послужили основой для разработки средств, обеспечивающих безопасность полёта человека в космическом пространстве.
— Словом, ребята, — сказал один из. лётчиков нашей группы, выходя с лекции Владимира Ивановича, — можно сказать, что собака — лучший друг космонавта!
Изображение Лайки встречается па почтовых марках и открытках, на коробках сигарет. Но она, право, заслужила большего. И, может быть, ей когда-нибудь поставят памятник, как поставили в Колтушах под, Ленинградом бронзовую скульптуру безымянной собаки — предмета исследований медицины.
Мы находились в идеальных условиях. Все у нас было, ничто не отвлекало от полюбившихся, интересных занятий. Мы относились с уважением к нашим врачам. Это они определяли условия, обеспечивающие жизнь и здоровье человека в кабине космического корабля, принимали деятельное участие в его создании, в разработке надёжного скафандра и научной медицинской регистрирующей аппаратуры. Я часто садился на садовой скамейке под деревом, уже покрывшимся почками, и начинал рассуждать. Иногда приятно остаться наедине и разобраться в своих мыслях и впечатлениях дня. Чаще всего это было на закате солнца или вечером, когда небо перепоясывал дымящийся Млечный Путь.
Человек побаивается перемен, но и любит их. Наша жизнь переменилась, и переменилась к лучшему. Я размышлял над тем, какой огромный размах приобрели работы по освоению космического пространства в Советском Союзе, сколько денег и труда вложено в это дело. Как-то Владимир Иванович сказал, что Никита Сергеевич Хрущёв в курсе всего достигнутого, живо интересуется всеми работами, требует от учёных свести до минимума риск не только для жизни, но и для здоровья космонавта.
Нас ознакомили с планом подготовки к космическим полётам. Это была обширная программа, включающая сведения по основным теоретическим вопросам, необходимым космонавту, а также обеспечивающая приобретение навыков, умения пользоваться оборудованием и аппаратурой космического корабля. Мы должны были изучить основы ракетной и космической техники, конструкцию корабля, астрономию, геофизику, космическую медицину. Предстояли полёты на самолётах в условиях невесомости, много тренировок в макете кабины космического корабля, в специально оборудованных звукоизолированной и тепловой камерах, на центрифуге и вибростенде. Словом, работы — непочатый край.
В здоровом теле — здоровый дух.
До готовности номер один к полёту в космос было ещё ох как далеко.
Начались занятия. Они проходили в совершенно отличной обстановке, чем в техникуме, в училище или в полку. Здесь царила абсолютная тишина, и занимались с нами видные специалисты с громкими именами. У каждого — крупные теоретические работы, каждый внёс заметный вклад в советскую науку.
Рабочий день наш начинался с часовой утренней зарядки. Занимались на открытом воздухе, в любую погоду, под наблюдением врачей. Были и специальные уроки по физкультуре: гимнастика, игры с мячом, прыжки в воду с трамплина и вышки, упражнения на перекладине и брусьях, на батуте, с гантелями. Много плавали и ныряли. Люди, не умеющие плавать, боящиеся воды, в космонавты не годятся. Все эти занятия вырабатывали у нас навыки свободного владения телом в пространстве, повышали способность переносить длительные физические напряжения.
В какой-то мере эту цель преследовали и прыжки с парашютом, производившиеся на аэродроме, возле реки.
Перед тем как я должен был уехать на этот аэродром, мы получили телеграмму из Оренбурга: тяжело заболел Иван Степанович — отец Вали. Посоветовавшись, мы решили, что, пока я буду проходить парашютную практику, Валя вместе с дочкой отправится к своим родным. Тем более, что и мама её — Варвара Семёновна тоже чувствовала недомогание. Так и сделали.
После первого прыжка с парашютом, совершенного ещё в Саратовском аэроклубе, мне довелось прыгать только четыре раза — в Оренбургском авиационном училище и в полку. Это были обычные тренировочные прыжки, которые полагается выполнять каждому лётчику. Теперь же предстояло освоить сложные прыжки по инструкторской программе. Особенное внимание уделялось затяжным прыжкам и спуску на воду.
Тренировал нас Николай Константинович — заслуженный мастер спорта, один из известнейших советских парашютистов, обладатель нескольких мировых рекордов, в том числе рекорда затяжного прыжка, когда он падал свыше четырнадцати с половиной тысяч метров, не раскрывая парашюта. Учиться у такого мастера было интересно. Он многому научил нас: как оставлять самолёт, как управлять телом во время свободного падения, как определять расстояние до земли, как приземляться и приводняться…
За короткий срок я выполнил около сорока прыжков. И все они не были похожи друг на друга. Каждый прыжок переживался по-своему, всякий раз доставляя смешанное чувство волнения и радости. Мне нравились и томление, охватывающее тело перед прыжком, и трепет, порыв и вихрь самого прыжка. Парашютные прыжки шлифуют характер, оттачивают волю. И очень хорошо, что в нашей стране сотни тысяч юношей и девушек занимаются этим смелым спортом.
Юрий Гагарин на тренировочных прыжках с парашютом.
В минуты отдыха Николай Константинович — душевный человек и прекрасный рассказчик — делился с нами эпизодами из своей богатой практики и случаями из жизни Николая Евдокимова и Константина Кайтанова — пионеров затяжных прыжков. Каждый из рассказанных эпизодов был не только занимателен, но и поучителен. Это были наглядные примеры того, как парашютисту надо вести себя в воздухе.
В серии выполняемых нами прыжков при длительной задержке раскрытия парашюта и мне и моим товарищам приходилось попадать в так называемое штопорное положение. При этом очень неприятном явлении тело вдруг начинает стремительно вращаться вокруг собственной оси, и ты будто по спирали с огромной силой ввинчиваешься в воздух, голова наливается свинцовой тяжестью, появляется резь в глазах, и всего тебя охватывает неимоверная слабость. Попав в штопор, теряешь пространственную ориентировку, тебя крутит и вертит со страшной силой, ты становишься совершенно беспомощным. Николай Константинович демонстрировал нам, как надо, пользуясь руками и ногами, словно рулями, выходить из штопора. Он рекомендовал нам положение плашмя, лицом к земле, с раскинутыми в стороны руками и ногами. Такое положение, кстати сказать, культивировал один из самых известных парашютистов-испытателей — Василий Романюк, прыгавший более трёх тысяч раз. Оно в наибольшей степени страховало устойчивость тела при свободном падении. И мы не раз убеждались в этом.
По окончании парашютных тренировок всем нам выдали инструкторские свидетельства и значки инструкторов-парашютистов. Этим значком, признаться, я очень гордился и с удовольствием прикрепил его к кителю под значком военного лётчика 3-го класса.
На аэродром часто приходили весточки от Вали из Оренбурга. Вообще-то она не любит посылать письма, а тут они шли одно за другим. Я так и не догадался тогда, что письма эти сначала прикрывали тревогу, а затем и горе — умер её отец, Иван Степанович. Но Валя не сообщала мне об этом до тех пор, пока не закончились наши прыжки. Добрый, внимательный друг, она не хотела расстраивать меня, зная, что это могло отразиться на моём душевном состоянии, а значит, и на тех сложных заданиях, которые мне нужно было выполнять в то время. Вот и выходит, что с любимой женой горе — полгоря, а радость — вдвойне.
С аэродрома, где проходили парашютные прыжки, я возвратился домой в тот самый день, когда в нашей стране вывели первый советский космический корабль на орбиту спутника Земли.
На следующее утро все газеты опубликовали сообщение ТАСС, в котором приводились потрясающие воображение данные о весе — более четырёх с половиной тонн — и оборудовании этого космического корабля. На его борту находилась герметическая кабина с грузом, равным весу человека, и со всем необходимым для будущего полёта человека в космос, а также различная аппаратура с источниками питания.
Победно шёл космический корабль над планетой, появлялся над Парижем, Лондоном, Сан-Франциско, Мельбурном, Оттавой и другими городами многих стран, возвещая о новом этапе борьбы советских учёных за проникновение в космос. Произошло прекрасное явление, ещё более расширившее человеческую власть над природой. Мы увидели, что наша планета не так уж велика, если летательный аппарат, созданный руками человека, облетает её за какие-нибудь полтора часа.
Тренировки на центрифуге.
— На таком корабле, наверное, полетим и мы, — говорили наши ребята.
Было ясно, что космический корабль уже построен, что идёт отработка и проверка систем, обеспечивающих его безопасный полет, возвращение на Землю и необходимые жизненные условия для человека в полёте. Надо было спешить с учёбой, а то, чего доброго, корабль окончательно оснастят и проверят, а мы не будем готовы к тому, чтобы подняться на нём в космические просторы. И каждый из нас ещё усерднее приналёг на занятия и тренировки.
Подошло время тренировок на центрифуге. Это несложный аппарат, предназначенный для подготовки организма к перенесению больших перегрузок. Схематически его можно представить в виде коромысла, насаженного на ось. На одном конце коромысла устроена кабина для человека, на другом размещается уравновешивающий груз. Чем быстрее вращается коромысло вокруг оси, тем больше возрастают ускорения в организме, тем большую он испытывает перегрузку.
Я довольно часто тренировался на центрифуге, с каждым разом ощущая все более возрастающую тяжесть собственного тела. Нечто подобное уже приходилось испытывать во время полётов, когда самолёт резко выходит из крутого пикирования. Тогда на меня навалилась неимоверная тяжесть, она словно вдавливала в сиденье кабины, нельзя было пошевелить пальцем, будто туманом застилало глаза. Это и есть действие перегрузки, когда вес человека возрастает в несколько раз.
Нам сказали, что с таким явлением, но гораздо более сильным и более растянутым по времени, мы встретимся при старте космического корабля и его спуске с орбиты.
Мы продолжали тренироваться на центрифуге. В отличие от лётчика в кабине самолёта мы занимали лежачее положение, и перегрузка, таким образом, распределялась по всему телу более равномерно. Давило сильно. Глаза не закрывались, затруднялось дыхание, перекашивались мышцы лица, увеличивалось число сердечных сокращений, росло кровяное давление, кровь становилась тяжёлой, как ртуть.
Во время тренировок на центрифуге я, как и другие, постепенно привыкал ко все большим и большим ускорениям, выдерживал длительные многократные перегрузки. К центрифуге была подключена очень точная и сложная электрофизиологическая аппаратура, предназначенная для регистрации физического состояния и функциональной возможности всего организма человека. Мы проверялись на внимание, сообразительность, должны были производить заданные рабочие движения. На бешеной скорости следовало называть и запоминать внезапно появляющиеся на световом табло цифры от единицы до десяти. Возрастая по значению, они уменьшались в размерах. На предельной скорости мне удавалось безошибочно видеть и называть «семёрку» или «восьмёрку».
Мы, кандидаты в космонавты, не только занимались теорией и проходили тренировку, но и жили общественной жизнью. У нас, как и повсюду, выпускались боевые листки. Они выходили под созвучными нашему настроению названиями: «Луна», «Марс», «Венера». Однажды обо мне написали заметку, как об отличнике по изучению теории, а затем и о том, что я — отличник по тренажу. И хотя это было написано от руки, всего в одном экземпляре, прочитать который могла лишь небольшая группа людей, мне было приятно такое товарищеское поощрение.
Надо отметить, что и учились, и тренировались все с увлечением, понимая, что потерянного времени никогда не вернуть.
Наверное, нигде с таким энтузиазмом не изучались наука и техника, как в нашей группе. В ней царил дух товарищеской взаимопомощи. Если что-нибудь не ладилось у одного, все спешили помочь ему и советом и делом. Соревнуясь между собой, мы видели друг в друге не конкурентов, а единомышленников, стремящихся к одной цели. Мы знали, что в первый полет выберут одного из нас. Но так же хорошо знали и то, что и другим найдётся работа, что другие сделают больше первого, продлят и разовьют то, что начнёт первый. Кто-то сделает один виток вокруг Земли, кто-то несколько витков, кто-то полетит к Луне, и все они будут первыми. Мы были сплочены и едины, как четвёрка отважных советских солдат, победивших стихию в Тихом океане.
Я хотел отправиться в космический полёт членом партии. Это уже стало традицией советских людей: накануне решающих событий в своей жизни приходить к ленинской партии, вступать в её ряды. Так делали строители первых пятилеток, так поступали герои Великой Отечественной войны. Так поступают и теперь.
Мой стаж пребывания в кандидатах партии истёк. Однополчане с Севера прислали мне свои рекомендации. Бывший комэск Владимир Михайлович Решетов писал: «На протяжении всей службы Ю. А. Гагарин являлся передовым офицером части… Политически развит хорошо… Принимал активное участие в общественных и спортивных мероприятиях… Взятые на себя социалистические обязательства выполнял добросовестно…» В рекомендации секретаря партийной организации Анатолия Павловича Рослякова говорилось: «Знаю Ю. А. Гагарина как исполнительного, дисциплинированного офицера… Летает грамотно и уверенно… Являлся членом комсомольского бюро части… Партийные поручения выполнял своевременно и добросовестно…» А в третьей рекомендации, данной коммунистом Анатолием Фёдоровичем Ильяшенко, было написано: «Гагарин Ю. А. идеологически выдержан, морально устойчив, в быту опрятен. Являясь слушателем вечернего университета марксизма-ленинизма, всегда активно выступал на семинарских занятиях…Активно участвовал в работе партийных собраний, хорошо выполнял партийные поручения, был редактором боевого листка».
Я перечитал эти рекомендации, и они взволновали меня. Старшие товарищи, коммунисты, верили в меня, добрым словом отзывались о моей скромной работе и, казалось бы, ничем не примечательной жизни. Я не знаю, что бы я сделал с собой, если бы когда-нибудь плохим поступком заставил их раскаяться в том, что они написали, ручаясь своим партийным словом за меня. О, какое это великое дело — доверие товарищей, знающих о тебе все: и чем ты живёшь, и что думаешь, к чему стремишься, и на что способен! Сколько раз дружба советских людей проверялась кровью! Да и я сам, если бы это потребовалось, отдал бы жизнь и за Решетова, и за Рослякова, и за Ильяшенко, за всех своих однополчан.
Долго думал я над тем, что следует написать в своём заявлении. Самые тёплые и возвышенные чувства переполняли меня, и если бы все их излить на бумагу, получилось бы много страниц. Затем вспомнились рассказы фронтовиков о том, что в таких случаях солдаты перед боем писали выразительно, но кратко. И на листке из ученической тетради написал: «Прошу партийную организацию принять меня в члены КПСС… Хочу быть активным членом КПСС, активно участвовать в жизни страны…» В этих словах я сказал всё, что думал.
В солнечный день 16 июня 1960 года меня пригласили на партийное собрание. Как положено в таких случаях, я рассказал свою биографию. Она оказалась короткой и улеглась в несколько фраз. Ничего особенного, все как у миллионов молодых советских людей. Кто-то из коммунистов спросил:
— Как относитесь к службе?
— Служба — главное в моей жизни, — ответил я.
— Партии и Советскому правительству предан. Быть в рядах партии Ленина достоин! — говорили выступавшие коммунисты.
Затем проголосовали. Все подняли руки «за». И хотя благодарить на партийных собраниях не полагается, я не мог удержаться, чтобы не сказать:
— Спасибо! Большое спасибо! Я оправдаю ваше доверие. Готов выполнить любое задание партии и правительства.
Я находился в сильном возбуждении, какого ещё никогда не испытывал, чувствовал необыкновенный прилив сил и готов был выполнить немедленно то, что сказал.
Через месяц меня вызвали в партком. Вместе со мной туда пришла группа офицеров. Все волновались не меньше меня. Наконец дверь открылась:
— Товарищ Гагарин, зайдите…
Секретарь парткома стоя протянул мне красную книжечку партийного билета и, пожимая руку, сказал:
— Всегда и во всём поступайте так, как учил нас великий Ленин.
Каждый человек берет за образец жизнь другого, живущего в его сердце человека. Таким образцом для советских людей является Ленин.
— Буду достойным звания коммуниста, — ответил я чуть дрогнувшим голосом.
Вернувшись домой, я показал Вале и её маме, Варваре Семёновне, гостившей у нас, партийный билет, и только теперь посмотрел на номер — 08909627. Отныне я стал членом Коммунистической партии — частицей многомиллионного могучего авангарда советского рабочего класса.
Женщины поздравили меня, и Варвара Семёновна, впервые назвав меня по имени и отчеству, сказала:
— Большую ответственность взял ты на себя, Юрий Алексеевич. Коммунист — такой человек: сядет на него пылинка, и всем видно.
Приём в партию был величайшим событием в моей жизни. И в тот же вечер я написал об этом отцу в Гжатск. Он давно хотел, чтобы я стал коммунистом. И мечта старика сбылась.
В эти счастливые для меня дни у нас произошло долгожданное знакомство с Главным Конструктором космического корабля. Мы увидели широкоплечего, весёлого, остроумного человека, настоящего русака, с хорошей русской фамилией, именем и отчеством. Он сразу расположил к себе и обращался с нами, как с равными, как со своими ближайшими помощниками. Главный Конструктор начал знакомство вопросами, обращёнными к нам. Его интересовало наше самочувствие на каждом этапе тренировок.
— Тяжело! Но надо пройти сквозь все это, иначе не выдержишь там, — сказал он и показал рукой на небо.
Когда один из товарищей пожаловался, что невыносимо жарко в термокамере, он объяснил, что во время полёта температура в кабине корабля будет колебаться от 15 до 22 градусов Цельсия, но космонавту надо быть ко всему готовым, так как во время входа корабля в плотные слои атмосферы его наружная оболочка разогреется, возможно, до нескольких тысяч градусов. Каждый из нас внутренне ахнул: человек в оболочке, разогретой до такой огромной температуры! Это и тревожило и восхищало одновременно.
Главный Конструктор не спеша подвёл нас к своему детищу — космическому кораблю, самому совершенному сооружению современной техники, воплотившему в себе многие достижения науки.
— Посмотрите, — сказал Главный Конструктор, — внешняя поверхность корабля и кабины пилота покрыта надёжной тепловой защитой. Она-то и предохранит их от сгорания во время спуска.
Как зачарованные, разглядывали мы никогда ещё не виданный летательный аппарат. Главный Конструктор объяснил, что корабль-спутник монтируется на мощную многоступенчатую ракету-носитель и после выхода на орбиту отделится от её последней ступени. Он сказал нам то, чего мы ещё не знали, — что программа первого полёта человека рассчитана на один виток вокруг Земли.
— Впрочем, корабль-спутник может совершать и более длительные полёты, — добавил он.
Нам дали возможность как следует осмотреть корабль снаружи. Все обратили внимание, что кабина пилота вовсе не слепая, как мы предполагали раньше, и глядит на нас внимательными глазами иллюминаторов. Их было несколько.
— Стекла в этих иллюминаторах, — пояснили нам, — тоже жаропрочные. Через них будут вестись наблюдения во время полёта.
По одному мы входили в пилотскую кабину корабля. Она была куда просторнее кабины лётчика на самолёте. Находясь в кресле, космонавт мог осуществлять все операции по наблюдению и связи с Землёй, контролировать полет и при необходимости самостоятельно управлять кораблём. Чего только не было в этой необычной кабине! И все совсем не так, как на самолёте.
Слева размещался пульт пилота. На нём находились рукоятки и переключатели, управляющие работой радиотелефонной системы, регулирующие температуру в кабине, а также включающие ручное управление и тормозной двигатель. Справа размещались радиоприёмник, контейнеры для пищи и ручка управления ориентацией корабля. Прямо перед креслом космонавта — приборная доска с несколькими стрелочными индикаторами и сигнальными табло, электрочасы, а также глобус, вращение которого совпадало с движением корабля по орбите. Ниже приборной доски была установлена телевизионная камера для наблюдения за космонавтом с Земли. А ещё ниже находился иллюминатор с оптическим ориентатором.
Каждый впервые по нескольку минут провёл на кресле — рабочем месте космонавта. Оно было установлено под таким углом, что на участках выведения корабля на орбиту и спуска с неё перегрузки действовали в направлении грудь — спина космонавта, то есть в наиболее благоприятном для него направлении. Кресло представляло собой небольшое, но сложное сооружение. В него были вмонтированы привязная и парашютные системы, катапультные и пиротехнические устройства и всё необходимое для вынужденного приземления — аварийный запас пищи, воды и снаряжения, радиосредства для связи и пеленгации. На кресле находились также система вентиляции скафандра и парашютный кислородный прибор. Оно было оборудовано надёжной автоматикой.
— Космонавт приземляется, находясь в кабине корабля, — сказал нам Главный Конструктор. — Но мы одновременно предусмотрели вариант, когда при необходимости он может покинуть корабль.
То, что мы увидели, было легко, прочно, портативно. Все поблёскивало стерильной чистотой. Никто ещё не прикасался к этим приборам, и, даже больше того, никто не видел, кроме тех, кто их задумал и сделал. Каждый молча покидал кабину и молча отходил в сторону, уступая место товарищу.
Переживая и обдумывая про себя всё, что увидели и узнали сейчас, мы вдруг поняли, что в этот корабль вложены большие средства и силы всего народа, что для него надо было создать и металл, какого ещё не знали наши мартены, и необыкновенное стекло, и пластмассы, и сверхпрочные ткани, и стойкие лаки, и разумные приборы. Вся металлургия и вся химия со всеми своими достижениями работали на это чудо из чудес.
Кабина космонавта: 1 — пульт пилота; 2 — приборная доска с глобусом; 3 — телевизионная камера; 4 — иллюминатор с оптическим ориентатором; 5 — ручка управления ориентацией корабля; 6 — радиоприёмник; 7-контейнеры с пищей.
Мы не находили слов, чтобы передать всю торжественную музыку, гудящую у нас в крови. Хотелось сказать, что лучше один раз видеть, чем тысячу раз слышать, но никто этого не сказал.
Тренировки и занятия продолжались своим чередом. Пришло время вибростенда — аппарата, имитирующего содрогание корабля при работающих ракетных двигателях. Устроишься в этом аппарате, и тебя всего трясёт час, а то и больше, как в лихорадке. Все тело вибрирует, словно натянутая струна. Но ничего, привыкли…
Привыкли и к термокамере, где при очень высокой температуре находились продолжительное время. Но мне такое было не впервинку. Я и раньше парился — русский человек не может жить без хорошей бани с берёзовым веником и парной. К высоким температурам я привык ещё в то время, когда, будучи ремесленником, работал у вагранок с расплавленным металлом. Советского человека огнём не испугаешь. Десятки тысяч рабочих трудятся на доменных и мартеновских печах, у бессемеровских конверторов, на блюмингах и прокатных станах.
Сидишь один в термокамере, не с кем перекинуться словом, и вспоминаешь, сколько раз наши люди при адских температурах меняли колосники в топках или ремонтировали футеровку в сталеплавильных печах. Им, пожалуй, было потруднее, чем нам: они ведь работали при температуре и побольше. Одним словом, все закаляется на огне, закалялись и мы.
Домой приходил усталый, ног под собой не чуял. Понянчусь с дочкой, присяду и начинаю клевать носом. Жена беспокоится, все допытывается: что, мол, с тобой? И вынудила-таки сказать:
— Собираюсь в космос… Готовь чемодан с бельишком…
Валя восприняла это как шутку, но вопросов больше не задавала. Как все жёны офицеров, она старалась не вмешиваться в мои служебные дела. Валя знала: то, что можно сказать, я не стану таить от неё. Ну, а о том, чего говорить нельзя, лучше и не расспрашивать. Я был доволен: и все сказал, и ничего не сказал.
Леночка теперь весь день проводила в яслях, и Валя могла пойти на работу по своей специальности фельдшера-лаборанта. Она не могла сидеть без дела и работала, как всегда, увлечённо. Иногда вместе с товарищами мы заходили к ней в поликлинику, и мне было приятно смотреть, как ловко она орудует со шприцами, микроскопом и специальными таблицами. Тут, конечно, не обходилось без того, чтобы шутливо не попросить: сделайте, мол, нам, Валентина Ивановна, анализ без очереди, да такой, чтобы врачи не подкопались. А она нарочно выберет шприц побольше да иглу потолще и скажет:
— Ну-ка, давайте сюда ваши лапищи, сейчас узнаем, что там у вас в крови, может, одна водичка?…
Заняты мы были по горло. Газеты обычно приходилось читать дома, вечерами. Каждый день они сообщали о новых трудовых подвигах советских людей. Все лето народ жил вопросами, поднятыми на июльском Пленуме Центрального Комитета партии, о путях дальнейшего технического прогресса в нашей стране.
Говоря, что коммунизм может базироваться только на самых современных, передовых достижениях науки и техники, Никита Сергеевич Хрущёв подчёркивал: «Наука должна освещать путь вперёд инженерам и конструкторам, чтобы они могли успешно конструировать ещё более совершенные машины, чтобы техника постоянно совершенствовалась».
Эти слова прямо относились ко всему тому, с чем мы сейчас имели дело, к чему мы готовились. Главный Конструктор говорил нам, что советская космонавтика — любимое детище Никиты Сергеевича, рассказывал о своих встречах с ним в Центральном Комитете партии, в научных лабораториях, на космодроме. Он говорил, что Никита Сергеевич отдаёт этому новому делу много внимания, энергии и забот.
Выразительным проявлением повседневной заботы нашей партии и правительства о развитии советской космонавтики был второй советский космический корабль, вышедший 19 августа 1960 года на орбиту спутника Земли. В его кабине, оборудованной всем необходимым для полёта человека — то есть кого-то из нашей группы будущих космонавтов, — находились собаки Стрелка и Белка. Сделав восемнадцать витков вокруг земного шара, космический корабль вернулся на Землю, отклонившись от расчётной точки приземления всего на каких — нибудь десять километров. Впервые в истории живые существа, много раз облетев планету, благополучно возвратились из космоса.
На тренировках.
Это выдающееся событие показало полную надёжность корабля, который мы изучали и осваивали. Весь мир говорил о Стрелке и Белке. А нам эти две простые дворняжки были особенно дороги. На борту корабля-спутника работала та самая телевизионная установка, которую нам уже показывал Главный Конструктор. С её помощью учёные наблюдали с Земли за поведением, самочувствием и настроением разведчиц космоса.
Нам показали телевизионную плёнку, где было хорошо видно, как в момент старта собаки испуганно смотрели в днище кабины, насторожённо прислушиваясь к непривычному шуму. В первые секунды полёта они, было, заметались, но по мере ускорения движения корабля их прижимала всё возрастающая сила тяжести. Стрелка, упираясь лапами, пыталась сопротивляться навалившейся на неё силе. Затем животные замерли. Корабль уже мчался по своей орбите. После больших перегрузок наступило состояние невесомости, и животные повисли в кабине. Головы и лапы их были опущены. Собаки казались мёртвыми. Но затем постепенно они оживились. Белка разозлилась и стала лаять. Вскоре они привыкли к невесомости и стали есть из автоматической кормушки.
Всё это было интересно, успокаивало и давало материал для серьёзных размышлений и разговоров. И если раньше все это мы представляли умозрительно, то теперь увидели, как оно было в действительности. Говорят, опыт — учитель учителей. Все, перенесённое Стрелкой и Белкой — существами живыми, но не мыслящими, — конечно, могли перенести и люди, здоровые, тренированные и целеустремлённые.
Всех нас интересовали ощущения состояния невесомости. Мы приучали себя к невесомости. Делалось это во время полётов на скоростных реактивных самолётах. Ставя их в определённые положения, мы уравновешивали центробежную и центростремительную силы. Тогда-то и возникала невесомость, длившаяся порой несколько десятков секунд. Это явление, хотя и было кратковременным, показывало возможность ведения радиосвязи, чтения, визуальной ориентировки в пространстве, а также приёма воды и пищи. Проходя эти испытания, мы убеждались, что работоспособность не нарушится и при длительном состоянии невесомости. Выслушивая наши заключения, руководитель тренировок говорил:
— Предполагать можно всё, что угодно. Надо все доказать на практике, подтвердить опытом. А такой опыт можно произвести только в космическом пространстве.
На различных тренировках наши организмы и нервная система подвергались резким переходам от стремительного верчения на центрифугах до длительного пребывания в специально оборудованной звукоизолированной так называемой сурдобарокамере. Эта «одиночка» определяла нервно-психическую устойчивость космонавта, ибо иногда приходилось сутками находиться в изолированном пространстве ограниченного объёма. Отрезан от всего мира. Ни звука, ни шороха. Никакого движения воздуха. Ничего. Никто с тобой не говорит. Время от времени, по определённому расписанию, ты должен производить радиопередачу. Но связь эта — односторонняя. Передаёшь радиограмму — и не знаешь, принята она или нет. Никто тебе не отвечает ни слова. И что бы с тобой ни случилось, никто не придёт на помощь. Ты один. Совершенно один, и во всём можешь полагаться только на самого себя.
Трудновато было порой в этой «одиночке». Тем более, что, входя в неё, не знали, сколько времени придётся пробыть наедине с самим собой, со своими мыслями. Несколько часов? День и ночь? Несколько суток? Но знали, что это надо: в космическом пространстве может по какой-то непредвиденной причине оборваться всякая связь с людьми, и ты останешься один. Нервная система, вся психика космонавта должны быть подготовленными ко всяким случайностям и неожиданностям.
Оставаясь в полном одиночестве, человек обычно всегда думает о прошлом, ворошит свою жизнь. А я думал о будущем, о том, что мне предстояло в полёте, если мне его доверят.
На тренировке.
С детства я был наделён воображением и, сидя в этой отделённой от всего на свете камере, представлял себе, что нахожусь в летящем космическом корабле. Я закрывал глаза и в полной темноте видел, как подо мной проносятся материки и океаны, как сменяется день и ночь и где-то далеко внизу светится золотая россыпь ргней ночных городов. И хотя я никогда не был за границей, в своём воображении я пролетал над Пекином и Лондоном, Римом и Парижем, над родным Гжатском… Все это помогало переносить тяготы одиночества.
Я думал о том, что поэты, может быть, раньше учёных пытались разгадать тайны Вселенной.
В 160 году нашей эры был написан первый фантастический рассказ о путешествии людей на Луну. Его автором был греческий софист и сатирик Лукиан Самосатский. Он назвал свою необыкновенную книгу «Истинные истории», но с самого начала предостерёг читателя следующим вступлением: «Я пишу о том, чего я никогда не видел, не испытал и не узнал от другого, о том, чего нет и не могло быть на свете, и потому мои читатели ни в коем случае не должны верить мне»… Эти «истории», которым через четырнадцать столетий суждено было оказать большое влияние на литературу, являются «несостоявшимися приключениями» Одиссея, которые, однако, могли бы быть вписаны в гомеровскую «Одиссею», если бы во времена Гомера люди хорошо знали астрономию.
В книге описывается, как ужасная буря, якобы, подхватила корабль Одиссея и высоко подняла его над взбушевавшимся морем. Ветер нёс его с ужасающей быстротой, и путешественники в течение семи дней и ночей не знали, что ожидает их. На восьмой день корабль достиг почвы Луны.
Вспоминались великолепные стихи Лермонтова. Кинорежиссёр Александр Довженко на втором Всесоюзном съезде советских писателей говорил: «Я верю в победу братства народов, верю в коммунизм, но, если при первом полёте на Марс любимый мой брат или сын погибнет где-то в мировом пространстве, я никому не скажу, что преодолеваю трудности его потери».
Это было сказано до рождения первого искусственного спутника Земли.
Иногда я целиком отдавался тишине, какую даже трудно себе представить, а я ведь всегда любил тишину труда, тишину мышления и раздумий. И когда выходил из камеры, занимая которую не знал, когда можно будет из неё выйти, обследователи удивлялись моему хладнокровию и спокойствию, устойчивости психики и крепости нервов.
Не все одинаково спокойно переносили тренировки и в «одиночке» и в тепловой камере, на центрифуге и на вибростенде. Это дало возможность отобрать товарищей, лучше других выдерживавших трудные испытания. Нас, кандидатов на первый полет, становилось всё меньше и меньше. Ведь в конце концов надо было отобрать кого-то одного. Испытания, которые мы проходили, были куда сложнее конкурсных экзаменов в МГУ, где, как я слышал, на одно место претендуют десятки молодых людей.
Ю. Гагарин во время подготовки к полёту.
За непрерывными занятиями и тренировками мы не заметили, как минула осень и наступили зимние дни. В Москве в это время проходило Совещание представителей коммунистических и рабочих партий. В нём принимали участие делегации восьмидесяти одной партии. В опубликованном Заявлении этого Совещания — марксистско-ленинской программе коммунистов всего мира — говорилось: главная отличительная черта нашего времени состоит в том, что мировая социалистическая система превращается в решающий фактор развития человеческого общества. Сплочение социалистических государств в единый лагерь, его крепнущее единство и растущая мощь обеспечивают в рамках всей системы полную победу социализма. Совещание подчеркнуло, что историческое значение для судеб человечества имело бы осуществление выдвинутой Советским Союзом программы всеобщего и полного разоружения. Это был документ огромной силы. Он говорил, что коммунисты видят свою историческую миссию не только в том, чтобы упразднить эксплуатацию и нищету в мировом масштабе и навсегда исключить возможность любой войны из жизни человеческого общества, но уже в современную эпоху избавить человечество от пожара новой мировой войны.
Читая этот исторический документ, я убеждался, что личная жизнь моя имеет смысл постольку, поскольку она направлена на служение народу. Для нас, будущих космонавтов, было важно, что в Заявлении говорилось: «Советская наука открыла целую эпоху в развитии мировой цивилизации, положила начало освоению космоса, ярко демонстрируя экономическую и техническую мощь социалистического лагеря». Читая эти проникновенные слова, мы почувствовали свою ответственность не только перед Родиной, но и перед всем социалистическим лагерем, перед коммунистами всех стран. Предстоящий полёт человека в космос преследовал сугубо мирные цели. В этом убеждал нас и сам космический корабль, не имеющий никаких военных приспособлений, и характер всей нашей подготовки к полёту. Успешное осуществление такого полёта стало бы триумфом мирной политики нашего народа, победой всех миролюбивых людей Земли.
Стремление нашего народа к миру, к созиданию подтверждалось делом. Один за другим вступали в строй гиганты семилетки. На Магнитогорском металлургическом комбинате закончилось сооружение мощного прокатного стана «2500»; началась загрузка крупнейшей в мире Криворожской домны; завершилось строительство первой коксовой батареи на «Казахстанской Магнитке» — металлургическом заводе в Темир-Тау; на Балхашском горнометаллургическом комбинате дала плавку первая в мире циклонная печь. В эти дни я получил несколько писем от своих товарищей — военных лётчиков, в том числе и от Бориса Фёдоровича Вдовина. Они писали, что, согласно Закону о новом вначительном сокращении наших Вооружённых Сил, уволились в запас, делились своими впечатлениями о работе на новом для них поприще — на заводах, фабриках, в сельском хозяйстве. Вдовины поселились в Калуге — там, где творил К. Э. Циолковский, занимались педагогическим трудом. Они писали о своей Иринке, что она подросла и вспоминает меня. А мы с Валей ответили, что и наша Леночка уже ходит пешком под стол и ждёт братика или сестричку.
1 декабря 1960 года в космос отправился наш третий космический корабль. На борту его находились собаки Пчёлка и Мушка, а также другие мелкие животные, насекомые и растения. Программа исследований, предшествующих полёту человека, выполнялась по строгому плану. Полет этот дал новые ценные для нас сведения. Но не всё обошлось благополучно. В связи со снижением по нерасчетной траектории корабль-спутник прекратил своё существование. Кое-кто из специалистов опасался, что сообщение об этом произведёт на нас неблагоприятное впечатление. Но мы понимали, что это была не закономерность, а случайность, что жизнь гораздо сложнее, чем предполагаешь. Было жаль спутник, в который вложены большие средства. Но в таком грандиозном деле неизбежны издержки.
Занятия наши продолжались в ускоренном темпе. Мы все больше и чаще тренировались в макете кабины космического корабля, обживали её, как обживают новый дом, привыкали к каждой кнопке и тумблеру, отрабатывали все необходимые в полёте движения, доводили их до автоматизма. Руки сами знали, что надо делать в любом случае.
Отрабатывалось умение обращаться с системами ручного управления космическим кораблём, ориентации, приземления, а также терморегулирования, кондиционирования воздуха, регулирования давления. Мы работали с аппаратурой контроля и управления кораблём. Учёные продумали каждое наше движение. Много времени уделялось тренировкам по связи космонавта с Землёй по разным каналам и различными способами. Мы должны были логически мыслить и наименьшим количеством совершенно точных слов и цифр записывать свои наблюдения в бортовой журнал. Мы умели воображать и представляли себя в настоящем корабле, опоясывающем Землю. Это придавало смысл занятиям.
Для отработки различных вариантов полётного задания инженеры соорудили отличный стенд-тренажёр, оснастили его остроумными электронно-модулирующими устройствами. Займёшь кресло в кабине, а перед тобой стрелки приборов, и то вспыхивающие, то гаснущие разноцветные табло воспроизводят различные изменения обстановки, какая может сложиться в полёте. Тут же и радиопереговоры, записываемые на магнитофонную ленту, и наблюдения в иллюминаторы через оптический ориентатор, и ориентировка по глобусу, и ведение борт-журнала… Успевай только поворачиваться!
В макете кабины имитировался не только нормальный полет — так, как он должен был протекать по всем расчётам, — но и различные аварийные варианты. Словом, всё делалось на земле по-полётному. Да ещё в защитном скафандре, в гермошлеме и гермоперчатках, обеспечивающих сохранение жизни и работоспособности космонавта в случае разгерметизации кабины. И пищу и воду тоже принимали в этом одеянии.
— После такой тренировки, — говорили мне товарищи как старшине группы, — устаёшь больше, чем на центрифуге со всеми её прелестями.
— Ничего, — успокаивал их я, — все приходит вовремя для того, кто умеет ждать.
Горьковатый осадок, вызванный гибелью Пчёлки и Мушки, в котором мы боялись признаться самим себе, но который всё же существовал, совершенно улетучился, как только мы узнали об удачном запуске тяжёлого искусственного спутника Земли весом около шести с половиной тонн, а затем через неделю и старте с подобного спутника космической ракеты, выведшей автоматическую межпланетную станцию на траекторию к планете Венера. Успешный запуск этой станции, несущей вымпел с изображением Государственного герба СССР, проложил трассу к планетам Солнечной системы.
В то время все у меня было хорошо. Только волновался за Валю. Со дня на день она должна была родить. На этот раз я ждал сына, а жена дочку. Как там она? Все ли с ней в порядке? Я был очень занят и не мог оставаться с ней.
Седьмого марта она родила дочку.
А девятого марта товарищи говорят мне:
— Ну, Юра, тебе ещё один подарок ко дню твоего рождения…
Спрашиваю:
— Какой подарок?
— Запустили четвёртый корабль-спутник…
Четвёртый космический корабль-спутник в тот же день вернулся на Землю со своими пассажирами — собакой Чернушкой и другими живыми обитателями, калибром поменьше, а также манекеном, помещённым в кресле пилота. Основной целью этого запуска являлась проверка надёжности конструкции космического корабля и всех установленных на нём систем, обеспечивающих необходимые условия для полёта человека. По всему было видно, что такой полет совсем близок.
Через несколько дней Никита Сергеевич Хрущёв на совещании передовиков сельского хозяйства Целинного края, говоря о новой славной странице в истории нашей Родины — освоении целины, сказал: «Мы уверены, что недалеко то время, когда первый космический корабль с человеком на борту устремится в космос!» Теперь уже можно было наверняка утверждать, что вот-вот кто-то из нас должен стартовать. Было и радостно и чуточку жутковато.
Но не только в нашей стране шла подготовка к полёту человека в космос. Готовились к этому и в Соединённых Штатах Америки. Зарубежная печать уже давно сообщала об удачных и неудачных запусках американских спутников Земли и космических ракет. В журнале «Лайф» мы видели фотографии обезьяны шимпанзе, которая запускалась с мыса Канаверал на ракете в космос и благополучно вернулась обратно. Американские телеграфные агентства сообщали о том, что уже отобрано семеро кандидатов для полёта в космос в узкой, колоколообразной капсуле, размещённой в носовой части ракеты «Редстоун». Ракета должна была подняться на высоту 115 миль. Весь полёт рассчитывался на четверть часа.
Вскоре директор проекта «Меркурий» сообщил: из семи американских астронавтов отобраны трое — Джон Хершел Гленн — 39 лет, подполковник морской пехоты, уроженец города Нью-Конкорд в штате Огайо; Вирджил Айвен Гриссом — 34 лет, капитан военно-воздушных сил, родившийся в городе Митчелл, штат Индиана, и Алан Бартлет Шепард — 37 лет, капитан 3-го ранга, уроженец города Ист-Дерри, штат Нью-Гэмпшир. Все трое, как сообщало агентство Юнайтед Пресс Интернейшнл, были отобраны на основании «многих медицинских и технических данных». Эти кандидаты на полет являлись кадровыми военными, работавшими в авиации в области научных исследований. Они проходили специальное обучение уже в течение двадцати двух месяцев.
Гленн и Гриссом служили в авиации во время второй мировой войны, а затем воевали в Корее; Шепард проходил службу на эсминце в Тихом океане. Американская печать публиковала их портреты и биографии, сообщала о том, что любимое времяпрепровождение Гленна — катание на лодке, Гриссом увлекается рыболовством, а Шепард любит катание на беговых коньках и на водных лыжах.
Полет по баллистической траектории на ракете, планирующийся в США, по сути дела, не мог явиться космическим полётом. Советские учёные и конструкторы с самого начала работ, в которых теперь активное участие принимала и наша группа кандидатов в космонавты, направляли свои усилия по другому пути — создавая тяжёлые искусственные спутники Земли и космические корабли крупных размеров. В этом заключалась принципиальная линия развития космических полётов в СССР. Главный Конструктор говорил нам, что только таким путём можно будет решить задачу полёта человека в космическое пространство.
Нас, конечно, не могли не интересовать смелые американские парни, готовящиеся к полёту на ракете «Редстоун». Мы были уверены, что рано или поздно кому-то из нас придётся встретиться с кем-то из них и поговорить обо всём виденном и пережитом. Мы знали, что космический полёт может сблизить наши страны, и, конечно, были уверены, что первым полетит в космос советский человек. Для этого были все основания.
— Восток ближе к солнцу, чем запад, — шутили мои друзья, просматривая вороха американских газет и журналов.
В это время попалась мне книга американского лётчика Фрэнка Эвереста «Человек, который летал быстрее всех». Имя автора было знакомо, и я с интересом прочёл то, что написал этот волевой человек, ценой невероятных усилий добившийся того, что хотел.
Всё шло хорошо до тринадцатой главы, названной «Покорение космоса». Как только я прочёл эту главу, меня охватило смешанное чувство неприязни и гадливости. Эверест писал: «Я твёрдо убеждён в том, что тот, кто первым покорит космос, будет господствовать над Землёй. Не обязательно судьбы людей будет решать сильная и большая страна.
Даже небольшая и сравнительно слабая страна с помощью космического корабля, вооружённого управляемыми снарядами с атомными зарядами, может добиться мирового господства. Эта страна, имея в своих руках космический корабль и ядерное оружие, может совершить нападение на противника из космоса, не подвергаясь в то же время ответному удару. Победа ей будет обеспечена».
О какой малой стране вёл разговор Эверест, уж не об аденауэровской ли Германии? Во всяком случае, от этой галиматьи за сто километров несло ничем не прикрытым махровым фашизмом.
Нет, не для порабощения других стран и народов стремятся советские люди в космос! Титанические усилия нашего правительства и его главы Никиты Сергеевича Хрущёва направлены не на подготовку войны, а на сохранение мира.
Завоевание космоса советским народом связано с бурным прогрессом отечественной науки и техники. Я думал о том, что полёты на космических кораблях помогут науке ответить на многие вопросы о возникновении звёзд и планет, их месте во Вселенной. Другой не менее важной проблемой, которую поможет разрешить проникновение человека в космос, равно как и полёты на ближайшие планеты, является происхождение жизни.
По теории вероятности, существуют миллионы планет, подобных нашей Земле, где есть биологическая жизнь. Ещё Джордано Бруно, великий мыслитель прошлого, высказал идею о множественности заселённых живыми существами миров. Эту смелую мысль развивал и пропагандировал гениальный русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов. На многих планетах мыслящие существа, наверное, имеют гораздо более длительную историю, чем люди, и, может быть, находятся на более высоком уровне развития.
В воздухе чувствовалось дыхание весны. И у нас в семье царило весеннее настроение: родилась вторая дочка, и мы дали ей весеннее имя — Галочка. А я ходил по комнате, держа её на руках, и напевал:
Галя, Галинка, Милая картинка…Но с маленькой мне понянчиться не пришлось — надо было ехать на космодром. Там готовился к последнему контрольному запуску наш космический корабль с подопытными животными и манекеном на пилотском кресле. Космодром — это обширное хозяйство, расположенное в стороне от проезжих дорог. Обслуживает его квалифицированный персонал инженеров и техников. Здесь монтируются и подготавливаются к запуску мощные ракеты с космическими кораблями. Отсюда они устремляются в небо.
Нам показали дворняжку светлой рыжеватой масти с тёмными пятнами. Я взял её на руки. Весила она не больше шести килограммов. Я погладил её. Собака доверчиво лизнула руку. Она была очень похожа на нашу домашнюю собачонку в родном селе, с которой я частенько играл в детстве.
— Как её зовут?
Оказалось, что у неё ещё нет имени — пока она значилась под каким-то испытательным номером. Посылать в космос пассажира без имени, без паспорта? Где это видано! И тут нам предложили придумать ей имя. Перебрали добрый десяток популярных собачьих кличек. Но все они как-то не подходили к этой удивительно милой рыжеватенькой собачонке. Тут меня позвали, я опустил её на землю и сказал:
— Ну, счастливого пути, Звёздочка.
И все присутствующие согласились: быть ей Звёздочкой. Так потом о собачке и написали в газетах.
С каким-то смешанным чувством благоговения и восторга смотрел я на гигантское сооружение, подобно башне, возвышающееся на космодроме. Вокруг него хлопотали люди, выглядевшие совсем маленькими. С интересом я наблюдал за последними приготовлениями на ракете-носителе и на космическом корабле к старту. На лифте подняли Звёздочку и её спутников, поместили их в герметически закрывшуюся кабину. Проверка, проверка и ещё раз проверка всех систем. Наступает положенное время. Вот-вот будет дана команда на запуск.
В эти минуты я невольно представил себе, что это не Звёздочку снаряжают в полёт, а меня, что я уже нахожусь там, в кабине вздыбленного к небу космического корабля. Я предполагал, что из людей, может быть, мне доведётся лететь первому.
Пуск! Короткая, как выстрел, команда. В пламени, выбивающемся из сопел, в грохоте всё сильнее и сильнее рокочущих двигателей высокий и тяжёлый корпус многоступенчатой ракеты как бы нехотя приподнимается над стартовой площадкой. Ракета, словно живое, разумное существо, в каком-то раздумье, чуть подрагивая, на секунду-другую зависает у земли и вдруг неуловимо, оставляя за собой бушующий вихрь огня, исчезает из поля зрения, словно росчерк, оставляя в небе свой яркий след. Всё произошло так, как я и предполагал.
— Вот так и тебя будем провожать, Юрий!-сказали мне товарищи.
Целый день я ходил под впечатлением увиденного. Корабль уже успел облететь вокруг планеты и вернуться в заданный район. Уже специалисты — биологи и медики — хлопотали над Звёздочкой, великолепно перенёсшей полет. А я все раздумывал над тем, что произошло на моих глазах и скоро, теперь уже совсем скоро, должно было произойти со мной. В моих ушах все ещё отзывался услышанный на старте грохот, перед глазами все ещё вздымались высокие волны пламени, которое оставила за собой ракета. Но это не пугало меня, а восхищало. И вспомнились мне слова высокого усатого бригадира Люберецкого завода, когда он нам, ремесленникам, попятившимся от жара расплавленного чугуна, весело сказал:
— Огонь силён, вода сильнее огня, земля сильнее воды, но человек — сильнее всего!
Дома Валя спросила, почему я в таком восторженном состоянии и где это я вообще всё время пропадаю.
— Лечу в космос… Готовь чемодан с бельишком, — попытался снова отшутиться я.
— Уже приготовила, — ответила Валя, и я понял: она все уже знает.
Мы уложили в кроватки наших девочек, поужинали, и тут у нас начался серьёзный разговор. Я сказал, что первый полёт человека в космос не за горами и что в этот полет, возможно, пошлют меня.
— Почему именно тебя?-спросила Валя. — Не обидятся ли твои друзья?
Я, как мог, объяснил ей, почему выбор может пасть на меня. По Валиному вдруг посерьёзневшему лицу, по её взгляду, по тому, как дрогнули её губы и изменился голос, я видел, что она и гордится этим, и побаивается, и не хочет меня волновать. Всю ночь, не смыкая глаз, проговорили мы, вспоминая прошлое и строя планы на будущее. Мы видели перед собой своих дочерей уже взрослыми, вышедшими замуж, нянчили внуков, и вся жизнь проходила перед нами без войн и раздоров, такой, какой мы её представляем при коммунизме.
И когда мы наговорились досыта и я спросил у Вали, как она смотрит на предстоящее мне испытание, она ответила, как и должна была ответить комсомолка:
— Если ты уверен в себе, решайся! Всё будет хорошо…
СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ
…Приближалось время старта. Вот-вот нас должны были отправить на космодром Байконур, расположенный восточнее Аральского моря в широкой, как океан, казахской степи. И всё же я томился нетерпением, редко, когда ожидание было так тягостно. Я знал, что корабль, на котором предстояло лететь, получил название «Восток». Видимо, нарекли его так, потому что на востоке восходит солнце и дневной свет теснит ночную тьму, двигаясь с востока.
Перед нашим отъездом состоялось напутственное партийное собрание. Все предполагали, что в первый полет назначат меня. Выступали те, кто уезжал на космодром, и те, кто оставался.
— Мы завидуем вам хорошей, дружеской завистью… Желаем счастливого полёта… Вернувшись из космоса, не зазнавайтесь, не дерите нос кверху, будьте всегда скромными, такими, как сейчас, — говорили товарищи, выступавшие на собрании.
Дали мне слово. Я сказал:
— Я рад и горжусь, что попал в число первых космонавтов. Заверяю своих товарищей коммунистов в том, что не пожалею ни сил, ни труда, не посчитаюсь ни с чем, чтобы достойно выполнить задание партии и правительства. На выполнение предстоящего полёта в космос пойду с чистой душой и большим желанием выполнить это задание, как положено коммунисту… Я присоединяюсь к многочисленным коллективам учёных и рабочих, создавших космический корабль и посвятивших его XXII съезду КПСС.
Собрание было немногословным и немножечко напоминало митинг. Все были взволнованы. Видимо, во время войны так же сердечно и задушевно коммунисты провожали своих товарищей на фронт.
Красная площадь. Юрий Гагарин перед отъездом на космодром.
На космодром летело несколько космонавтов. Всё могло случиться. Достаточно было соринке попасть в глаз первому кандидату для полёта в космос, или температуре у него повыситься на полградуса, или пульсу увеличиться на пять ударов — и его надо было заменить другим подготовленным человеком. Уезжающие товарищи были так же готовы к полёту, как я. Старт должен был состояться точно в назначенный день и час, минута в минуту. Вместе с нами на космодром ехали несколько специалистов и врач.
Незадолго до намеченного дня полёта я побывал в Москве. И всю дорогу на космодром вспоминал волнение, охватившее меня, когда я стоял возле Мавзолея. У советских людей стало внутренней потребностью перед решающим шагом в жизни идти на Красную площадь, к Кремлю, к Ленину. Светлыми июньскими ночами тут проходят, взявшись за руки, юноши и девушки, получившие аттестаты зрелости. Двадцать лет назад, в грозовом сорок первом году, отправляясь на фронт, мимо Мавзолея проходили полки московского ополчения. Откуда бы ни приезжали советские люди в Москву, они обязательно побывают на Красной площади. То же делают и наши зарубежные друзья.
Я медленно шагал вдоль кремлёвских стен по набережной реки. Под бой курантов Спасской башни пересёк Красную площадь. С рукой, поднятой к козырьку, остановился у Мавзолея, посмотрел, как сменяется караул, и, умиротворённый полётом голубей и шелестом развевающегося на ветру Государственного флага над Кремлёвским дворцом, медленно побрёл по городу, равного которому нет в мире. Вокруг шумел, охваченный предчувствием весны, людской поток. Тысячи людей шли навстречу и обгоняли меня. Никому не было до меня дела, и никто не знал, что готовится грандиозное событие, подобного которому ещё не знала история. «Как обрадуется наш народ, когда задуманное свершится!» — думал я.
В ту же ночь мы улетели на космодром. С нами летел Евгений Анатольевич — наш командир, врач и наставник, человек необыкновенного обаяния и такта, двадцать лет пекущийся о здоровье лётчиков. Он работал с нами с первого дня, и для него, как он говорил, не оставалось неразрезанных книг. Он знал о каждом больше, чем знали о себе мы сами. Было приятно, что с нами на космодром летит и Николай Петрович Каманин — один из первых Героев Советского Союза, воспитатель многих известных лётчиков.
За окнами самолёта клубились вспененные облака, в их просветах проглядывала по-весеннему оголившаяся земля, кое-где покрытая ещё талым снегом. Я глядел вниз и думал о родителях, о Вале, о Леночке и Галинке. Представил себе, что стану делать после полёта, и тут же решил: буду учиться. Рядом сидел мой ближайший друг — Герман Титов — великолепный лётчик, коммунист, принятый в кандидаты партии нашей организацией, человек с чистой, почти детской жизнерадостностью. Он тоже смотрел на проплывающую внизу землю и тоже думал, и, наверное, о том же самом, о чём размышлял и я. Порой наши взгляды встречались, и мы улыбались, понимая друг друга без слов. Опасения тех, кто полагал, будто нас нельзя предупреждать о полёте, чтобы мы не нервничали, не оправдались. И я и мой товарищ, который в любом случае был готов занять место в кабине «Востока», чувствовали себя превосходно.
Герман Титов сидел ко мне в профиль, и я невольно любовался правильными чертами красивого задумчивого лица, его высоким лбом, над которым слегка вились мягкие каштановые волосы. Он был тренирован так же, как и я, и, наверное, способен на большее. Может быть, его не послали в первый полет, приберегая для второго, более сложного.
На космодроме нас ждали. Там мы встретили многих знакомых специалистов и Главного Конструктора. Прибыл на космодром и Теоретик Космонавтики — так мы между собой называли видного советского учёного, под руководством которого составлялись сложнейшие расчёты космических рейсов. Он всё время находился вместе с Главным Конструктором. Я знал, что для этих людей никогда не наступит покой. Они всегда будут искать новое, всегда дерзать. Только творческое содружество этих двух корифеев советской науки, больших коллективов учёных и инженеров, объединённых их единой смелой мыслью, могло породить космический корабль, определить ему надёжный путь вокруг планеты с возвращением на Землю.
Все на космодроме, куда мы прилетели перед стартом «Востока», вызывало восхищение и восторг. Здесь хотелось ходить с обнажённой головой, держа фуражку в руке. Рационально расположенные наземные установки для запуска космических ракет и наблюдения за ними в полёте, может быть, ещё более сложны, чем сам космический корабль.
Время убыстрило свой бег. Наступил предполётный день.
Нам дали полный отдых. Работал магнитофон, успокаивающая тонкая музыка тихо струилась вокруг. Вечером мы сыграли партию на бильярде. Игра продолжалась недолго. Ужинали втроём: доктор и нас двое. Уже несколько дней мы питались «по-космически», выдавливая из тюбиков в рот вкусную питательную пищу. О полёте разговоров не было, говорили о детстве, о прочитанных книгах, о будущем. Беседа велась в шутливом тоне, мы весело подтрунивали друг над другом. Никаких сомнений ни у кого не оставалось.
Зашёл Главный Конструктор. Как всегда, внимательный, добрый. Ничего не спрашивая, сказал:
— Через пять лет можно будет по профсоюзной путёвке летать в космос.
Мы расхохотались. Наше самочувствие понравилось ему, и он, мельком взглянув на ручные часы, быстро ушёл. Я не уловил в нём и тени тревоги. Он был уверен во мне так же, как был уверен в себе.
Врач наклеил на моё тело семь датчиков, регистрирующих физиологические функции. Довольно долгая, не особенно приятная процедура, но я к ней привык: её проделывали с нами не один раз во время тренировок.
В 21 час 50 минут Евгений Анатольевич проверил кровяное давление, температуру, пульс. Все нормально: давление 115 на 75; температура 36,7; пульс 64.
— Теперь спать, — сказал он.
— Спать? Пожалуйста, — покорно ответил я и лёг в постель.
Вместе со мной в комнате на другой койке расположился Герман Титов. Уже несколько дней мы жили по одному расписанию и во всём походили на братьев-близнецов. Да мы и были братьями: нас кровно связывала одна великая цель, которой мы отныне посвятили свои жизни.
Мы перекинулись двумя — тремя шутками. Вошёл Евгений Анатольевич.
— Мальчики, может быть, вам помочь спать? — спросил он, опуская руки в карманы белоснежного халата.
В один голос мы отказались от снотворного. Да у него, наверное, и не было с собой таблеток: он был уверен, что мы откажемся их глотать. Хороший врач, он знал потребности своих пациентов. Ходили слухи, что, когда лётчик, у которого болела голова, просил у него пирамидон, он давал порошок соды, пациент выпивал её, и головную быль снимало как рукой.
Минут через семь я уснул.
После полёта Евгений Анатольевич рассказывал, что, когда он через полчаса потихоньку вошёл в спальню, я лежал на спине и, приложив к щеке ладонь, безмятежно спал. Герман Титов тихо спал на правом боку. Ночью доктор ещё несколько раз заглядывал к нам, но мы этого не слышали и, как он говорил, ни разу не переменили позы. Спал я крепко, ничто меня не тревожило и ничего не приснилось. В три часа ночи пришёл Главный Конструктор, заглянул в дверь и, убедившись, что мы спим, ничего не сказав, ушёл. Рассказывали, что в руках у него был последний номер журнала «Москва», он не мог уснуть и читал далеко за полночь.
Евгений Анатольевич не сомкнул глаз и проходил вокруг дома всю ночь. Его тревожили проезжавшие по дороге автомашины и звуки, нет-нет да и долетавшие сюда из монтажного цеха; но мы спали, как новорождённые младенцы, и ничего не слышали и обо всём этом узнали после.
В 5.30 Евгений Анатольевич вошёл в спальню и легонько потряс меня за плечо.
— Юра, пора вставать, — услышал я.
— Вставать? Пожалуйста…
Я моментально поднялся; встал и Герман, напевая сочинённую нами шутливую песенку о ландышах.
— Как спалось?-спросил доктор.
— Как учили, — ответил я.
После обычной физзарядки и умывания завтрак из туб: мясное пюре, черносмородиновый джем, кофе. Начались предполётный медицинский осмотр и проверка записей приборов, контролирующих физиологические функции. Всё оказалось в норме, о чём и был составлен медицинский протокол. Подошла пора облачаться в космическое снаряжение. Я надел на себя тёплый, мягкий и лёгкий комбинезон лазоревого цвета. Затем товарищи принялись надевать на меня защитный ярко-оранжевый скафандр, обеспечивающий сохранение работоспособности даже в случае разгерметизации кабины корабля. Тут же были проверены все приборы и аппаратура, которыми оснащён скафандр. Эта процедура заняла довольно продолжительное время. На голову я надел белый шлемофон, сверху — гермошлем, на котором красовались крупные буквы: «СССР».
Одним из снаряжающих меня в полёт был заслуженный парашютист Николай. Константинович, обучавший космонавтов сложным прыжкам с парашютом. Его советы были ценны, ведь он уже несколько раз катапультировался из самолётов с креслом, подобным установленному в космическом корабле и также снабжённым специальным парашютным устройством. Это было тем более важно, что по программе первого космического полёта для большей надёжности на случай посадки корабля на не совсем удобной для этого площадке был принят вариант, при котором на небольшой высоте космонавт катапультировался с борта корабля и затем, отделившись от своего кресла, приземлялся на парашюте. Корабль же совершал нормальную посадку.
Пришёл Главный Конструктор. Впервые я видел его озабоченным и усталым, — видимо, сказалась бессонная ночь. И всё же мягкая улыбка витала вокруг его твёрдых, крепко сжатых губ. Мне хотелось обнять его, словно отца. Он дал мне несколько рекомендаций и советов, которых я ещё никогда не слышал и которые могли пригодиться в полёте. Мне показалось, что, увидев космонавтов и поговорив с ними, он стал более бодрым.
— Всё будет хорошо, всё будет нормально, — сказали мы с Германом одновременно.
Люди, надевавшие на меня скафандр, стали протягивать листки бумаги, кто-то подал служебное удостоверение — каждый просил оставить на память автограф. Я не мог отказать и несколько раз расписался.
Подошёл специально оборудованный автобус. Я занял место в «космическом» кресле, напоминавшем удобное кресло кабины космического корабля. В скафандре есть устройства для вентиляции, к ним подаются электроэнергия и кислород. Вентиляционное устройство было подключено к источникам питания, установленным в автобусе. Всё работало хорошо.
Автобус быстро мчался по шоссе. Я ещё издали увидел устремлённый ввысь серебристый корпус ракеты, оснащённой шестью двигателями общей мощностью в двадцать миллионов лошадиных сил. Чем ближе мы подъезжали к стартовой площадке, тем ракета становилась всё больше и больше, словно вырастая в размерах. Она напоминала гигантский маяк, и первый луч восходящего солнца горел на её острой вершине.
Погода благоприятствовала полёту.
Небо выглядело чистым, и только далеко-далеко жемчужно светились перистые облака.
— Миллион километров высоты, миллион километров видимости, — услышал я. Так мог сказать только лётчик.
На стартовой площадке я увидел Теоретика Космонавтики и Главного Конструктора. Для них это был самый трудный день. Как всегда, они стояли рядом. Выразительные лица их до последней морщинки освещались утренним светом. Здесь же находились члены Государственной комиссии по проведению первого космического рейса, руководители космодрома и стартовой команды, учёные, ведущие конструкторы, мой верный друг Герман Титов и другие товарищи — космонавты. Все заливал свет наступающего нового дня.
— Какое жизнерадостное солнце! — воскликнул я. Вспомнились первый полёт на Севере, проплывающие под самолётом сопки, покрытые розовым снегом, земля, забрызганная синеватыми каплями озёр, и тёмно-синее холодное море, бьющееся о гранитные скалы.
«Красота-то какая!» — невольно вырвалось у меня. «Не отвлекайтесь от приборов», — строго сказал мне тогда командир звена Васильев. Давно это было, а вот вспомнились его слова: «Эмоции эмоциями, а дело прежде всего…»
Нетерпение росло. Люди поглядывали на хронометры. Наконец доложили, что ракета с кораблём полностью подготовлена к космическому полёту. Оставалось только посадить космонавта в кабину, в последний раз проверить все системы и произвести запуск.
Я подошёл к председателю Государственной комиссии — одному из хорошо известных в нашей стране руководителей промышленности — и доложил:
— Лётчик старший лейтенант Гагарин к первому полёту на космическом корабле «Восток» готов!
— Счастливого пути! Желаем успеха!-ответил он и крепко пожал мне руку. Голос у него был несильный, но весёлый и тёплый, похожий на голос моего отца.
Я глядел на корабль, на котором должен был через несколько минут отправиться в небывалый рейс. Он был красив, красивее локомотива, парохода, самолёта, дворцов и мостов, вместе взятых. Подумалось, что эта красота вечна и останется для людей всех стран на все грядущие времена. Передо мной было не только замечательное творение техники, но и впечатляющее произведение искусства.
Перед тем как подняться на лифте в кабину корабля, я сделал заявление для печати и радио. Меня охватил небывалый подъём душевных сил. Всем существом своим слышал я музыку природы: тихий шелест трав сменялся шумом ветра, который поглощался гулом волн, ударяющих о берег во время бури. Эта музыка, рождаемая во мне, отражала всю сложную гамму переживаний, рождала какие-то необыкновенные слова, которые я никогда не употреблял раньше в обиходной речи.
— Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов!-сказал я. — Через несколько минут могучий космический корабль унесёт меня в далёкие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением…
Я сделал паузу, собираясь с мыслями. И вся прожитая жизнь пронеслась перед глазами. Я увидел себя босоногим мальчонкой, помогающим пастухам пасти колхозное стадо… Школьником, впервые написавшим слово — Ленин… Ремесленником, сделавшим свою первую опоку… Студентом, работающим над дипломом… Лётчиком, охраняющим государственную границу…
— Всё, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты, — говорил я то, что передумал за последние дни, когда мне сказали: «Ты полетишь первым».
— Сами понимаете, трудно разобраться в чувствах сейчас, когда очень близко подошёл час испытаний, к которому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить этот первый в истории полет. Радость? Нет, это была не только радость. Гордость? Нет, это была не только гордость. Я испытал большое счастье. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой — можно ли мечтать о большем?
Было тихо. Словно ветерок среди травы, шуршала лента магнитофона.
— Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня. Первым совершить то, о чём мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос… Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Это ответственность не перед одним, не перед десятками людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. И если тем не менее я решаюсь на этот полет, то только потому, что я коммунист, что имею за спиной образцы беспримерного героизма моих соотечественников — советских людей.
И встали перед моими глазами Чапаев и Чкалов, Покрышкин и Кантария, Курчатов и Гаганова, Турсункулов и Мамай… Они, да и не только они, а все советские люди черпали и черпают свои жизненные силы из одного глубокого и чистого источника — из учения Ленина. Жадно пили из этого источника и мы, космонавты, и все наше молодое поколение, воспитываемое ленинской партией коммунистов.
На какое-то мгновение я задумался, но быстро собрался с мыслями и продолжал:
— Я знаю, что соберу всю свою волю для наилучшего выполнения задания. Понимая ответственность задачи, я сделаю всё, что в моих силах, для выполнения задания Коммунистической партии и советского народа…
Счастлив ли я, отправляясь в космический полёт? Конечно счастлив. Ведь во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях…
Я глядел поверх микрофона и говорил, видя внимательные лица моих наставников и друзей: Главного Конструктора, Теоретика Космонавтики, Николая Петровича Каманина, милого, доброго Евгения Анатольевича, Германа Титова.
— Мне хочется посвятить этот первый космический полёт людям коммунизма — общества, в которое уже вступает наш советский народ и в которое, я уверен, вступят все люди на земле.
Я заметил, как Главный Конструктор украдкой поглядел на часы. Надо было закругляться.
— Сейчас до старта остаются считанные минуты, — сказал я. — Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания, как всегда говорят люди друг другу, отправляясь в далёкий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далёких и близких!
И, уже находясь на железной площадке перед входом в кабину, прощаясь с товарищами, остающимися на Земле, я приветственно поднял обе руки и сказал:
— До скорой встречи!
Я вошёл в кабину, пахнущую полевым ветром, меня усадили в кресло, бесшумно захлопнули люк. Я остался наедине с приборами, освещёнными уже не дневным, солнечным светом, а искусственным. Мне было слышно всё, что делалось за бортом корабля на такой милой, ставшей ещё дороже Земле. Вот убрали железные фермы, и наступила тишина, Я доложил:
— «Земля», я — «Космонавт». Проверку связи закончил. Исходное положение тумблеров на пульте управления заданное. Глобус на месте разделения. Давление в кабине — единица, влажность — 65 процентов, температура-19 градусов, давление в отсеке — 1,2, давление в системах ориентации — нормальное. Самочувствие хорошее. К старту готов.
Технический руководитель полёта объявил полуторачасовую готовность к полёту. Потом часовую, получасову. За несколько минут до старта мне сказали, что на экране
телевизионного устройства хорошо видно моё лицо, что моя бодрость радует всех. Передали также, что пульс у меня — 64, дыхание — 24. Я ответил:
— Сердце бьётся нормально. Чувствую себя хорошо, перчатки надел, гермошлем закрыл, к старту готов.
До скорой встречи!
Все команды по пуску передавались также и мне.
Наконец технический руководитель полёта скомандовал: — Подъем!
Я ответил:
— Поехали! Всё проходит нормально.
Взгляд мой остановился на часах. Стрелки показывали 9 часов 7 минут по московскому времени. Я услышал свист и все нарастающий гул, почувствовал, как гигантский корабль задрожал всем своим корпусом и медленно, очень медленно оторвался от стартового устройства. Началась борьба ракеты с силой земного тяготения. Гул был не сильнее того, который слышишь в кабине реактивного самолёта, но в нём было множество новых музыкальных оттенков и тембров, не записанных ни одним композитором на ноты и которые, видимо, не сможет пока воспроизвести никакой музыкальный инструмент, ни один человеческий голос. Могучие двигатели ракеты создавали музыку будущего, наверное ещё более волнующую и прекрасную, чем величайшие творения прошлого.
Юрий Гагарин в скафандре космонавта.
Начали расти перегрузки. Я почувствовал, как какая-то непреоборимая сила всё больше и больше вдавливает меня в кресло. И хотя оно было расположено так, чтобы до предела сократить влияние огромной т яжести, наваливающейся на моё тело, было трудно рукой и ногой. Я знал, что состояние это продлится недолго: пока корабль, набирая скорость, выйдет на орбиту. Перегрузки все возрастали.
Космический корабль-спутник «Восток›
«Земля» напомнила:
— Прошло семьдесят секунд после взлёта.
Я ответил:
— Понял вас: семьдесят. Самочувствие отличное. Продолжаю полет. Растут перегрузки. Все хорошо.
Ответил бодро, а сам подумал: «Неужели только семьдесят секунд? Секунды длинные, как минуты». «Земля» снова спросила:
— Как себя чувствуете?
— Самочувствие хорошее, как у вас?
С «Земли» ответили:
— Все нормально.
С Землёй я поддерживал двустороннюю радиосвязь по трём каналам. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков составляли 9,019 мегагерца и 20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн — 143,525 мегагерца. Я слышал голоса товарищей, работавших на радиостанциях, настолько отчётливо, как если бы они находились рядом.
За плотными слоями атмосферы был автоматически сброшен и улетел куда-то в сторону головной обтекатель. В иллюминаторах показалась далёкая земная поверхность. В это время «Восток» пролетал над широкой сибирской рекой. Отчётливо виднелись на ней островки и берега, поросшие тайгой, освещённой солнцем.
— Красота-то какая! — снова, не удержавшись, воскликнул я и тут же осёкся: моя задача — передавать деловую информацию, а не любоваться красотами природы, тем более что «Земля» тут же попросила передать очередное сообщение.
— Слышу вас отчётливо, — ответил я. — Самочувствие отличное. Полет продолжается хорошо. Перегрузки растут. Вижу Землю, лес, облака…
Перегрузки действительно всё время росли. Но организм постепенно привыкал к ним, и я даже подумал, что на центрифуге приходилось переносить и не такое. Вибрация тоже во время тренировок донимала значительно больше. Словом, не так страшен черт, как его малюют.
Многоступенчатая космическая ракета — сооружение настолько сложное, что его трудно сравнить с чем-либо известным людям, а ведь все познаётся путём сравнений. После выгорания топлива отработавшая своё ступень ракеты становится ненужной и, чтобы не быть обузой, автоматически отделяется и сбрасывается прочь, а оставшаяся часть ракеты продолжает наращивать скорость полёта. Я никогда не видел учёных и инженеров, нашедших лёгкое и портативное топливо для двигателей советской ракеты. Но мне, взбирающемуся на ней всё выше и выше к заданной орбите, хотелось в эту минуту сказать им спасибо и крепко пожать руки. Сложные двигатели работали сверхотлично, с точностью кремлёвских курантов.
Одна за другой, использовав топливо, отделялись ступени ракеты, и наступил момент, когда я мог сообщить:
— Произошло разделение с носителем, согласно заданию.
Самочувствие хорошее. Параметры кабины: давление — единица, влажность — 65 процентов, температура — 20 градусов, давление в отсеке — единица, в системах ориентации — нормальное.
Корабль вышел на орбиту — широкую космическую магистраль. Наступила невесомость — то самое состояние, о котором ещё в детстве я читал в книгах К. Э. Циолковского. Сначала это чувство было необычным, но я вскоре привык к нему, освоился и продолжал выполнять программу, заданную на полет. «Интересно, что скажут люди на Земле, когда им сообщат о моём полёте», — подумалось мне.
Невесомость — это явление для всех нас, жителей Земли, несколько странное. Но организм быстро приспосабливается к нему. Что произошло со мной в это время? Я оторвался от кресла, повис между потолком и полом кабины, испытывая исключительную лёгкость во всех членах. Переход к этому состоянию произошёл очень плавно. Когда стало исчезать влияние гравитации, я почувствовал себя превосходно. Всё вдруг стало делать легче. И руки, и ноги, и все тело стали будто совсем не моими. Они ничего не весили. Не сидишь, не лежишь, а как бы висишь в кабине. Все незакреплённые предметы тоже парят, и наблюдаешь их, словно во сне. И планшет, и карандаш, и блокнот… А капли жидкости, пролившиеся из шланга, приняли форму шариков, они свободно перемещались в пространстве и, коснувшись стенки кабины, прилипали к ней, будто роса на цветке.
Невесомость не сказывается на работоспособности человека. Всё время я работал: следил за оборудованием корабля, наблюдал через иллюминаторы, вёл записи в бортовом журнале. Я писал, находясь в скафандре, не снимая гермоперчаток, обыкновенным графитным карандашом. Писалось легко, и фразы одна за другой ложились на бумагу бортового журнала. На минуту забыв, где и в каком положении я нахожусь, положил карандаш рядом с собой, и он тут же уплыл от меня. Я не стал ловить его и обо всём увиденном громко говорил, а магнитофон записывал сказанное на узенькую скользящую ленту. Я продолжал поддерживать радиосвязь с Землёй по нескольким каналам в телефонных и телеграфных режимах.
«Земля» поинтересовалась, что я вижу внизу. И я рассказал, что наша планета выглядит примерно так же, как при полёте на реактивном самолёте на больших высотах. Отчётливо вырисовываются горные хребты, крупные реки, большие лесные массивы, пятна островов, береговая кромка морей.
«Восток» мчался над просторами Родины, и я испытывал к ней горячую сыновнюю любовь. Да и как не любить свою Родину нам, её детям, если народы всего мира с надеждой обращают к ней свои взоры. Ещё недавно нищая и отсталая, она превратилась в могучую индустриальную и колхозную державу. Советский народ, организованный и воспитанный Коммунистической партией, стряхнул с себя прах старого мира, расправил богатырские плечи и двинулся вперёд по пути, открытому Лениным. Наш могучий народ под руководством партии установил власть трудящихся, создал первое в мире Советское государство.
На примерах героических подвигов своих сынов учила нас Родина-мать, с детства прививала самые лучшие и благородные чувства. На земном шаре нет страны более обширной, чем наша. Нет страны более богатой, чем наша, нет страны красивее, чем Советский Союз.
Будучи мальчишкой, я с упоением читал «Слово о полку Игореве» — этот древнейший русский сборник идей преданности Родине. Я любил на переменах простаивать в классе у географической карты, смотреть на великие русские реки: Волгу, Днепр, Обь, Енисей, Амур, словно синие жилы, оплетающие могучее тело нашей страны, и мечтать о далёких странствиях и походах. И вот он, главный поход моей жизни — полет вокруг земного шара! И я на высоте трёхсот километров мысленно благодарил партию и народ, давших мне такое огромное счастье — первому увидеть и первому рассказать людям обо всём увиденном в космосе.
Я видел облака и лёгкие тени их на далёкой милой Земле. На какое-то мгновение во мне пробудился сын колхозника. Совершенно чёрное небо выглядело вспаханным полем, засеваемым зерном звёзд.
Они яркие и чистые, словно перевеянные. Солнце тоже удивительно яркое, невооружённым глазом, даже зажмурившись, смотреть на него невозможно. Оно, наверное, во много десятков, а то и сотен раз ярче, чем мы его видим с Земли. Ярче, чем расплавленный металл, с которым мне приходилось иметь дело во время работы в литейном цехе. Чтобы ослабить слепящую силу его лучей, я время от времени перекрывал иллюминаторы предохранительными шторками.
Мне хотелось понаблюдать Луну, узнать, как она выглядит в космосе. Но, к сожалению, её серп во время полёта находился вне поля моего зрения. «Впрочем, — подумал я, — увижу её в следующем полёте».
Наблюдения велись не только за небом, но и за Землёй. Как выглядит водная поверхность? Темноватыми, чуть поблёскивающими пятнами. Ощущается ли шарообразность нашей планеты? Да, конечно! Когда я смотрел на горизонт, то видел резкий, контрастный переход от светлой поверхности Земли к совершенно чёрному небу. Земля радовала сочной палитрой красок. Она окружена ореолом нежно-голубоватого цвета. Затем эта полоса постепенно темнеет, становится бирюзовой, синей, фиолетовой и переходит в угольно-чёрный цвет. Этот переход очень красив и радует глаз.
В кабину долетала музыка Родины, я слышал, как родные голоса пели одну из моих любимых песен — «Амурские волны». Вспомнилось, что американцы писали: «Никто не в состоянии точно предсказать, каково будет влияние космического пространства на человека. Известно только одно — человек в космосе будет ощущать скуку и одиночество». Нет, я не ощущал скуки и не был одинок. Разрезая космос, я работал, жил жизнью своей страны. Радио, как пуповина, связывало меня с Землёй. Я принимал команды, передавал сообщения о работе всех систем корабля, в каждом слове с Земли чувствовал поддержку народа, правительства, партии.
Всё время пристально наблюдая за показаниями приборов, я определил, что «Восток», строго двигаясь по намеченной орбите, вот-вот начнёт полёт над затенённой, ещё не освещённой Солнцем, частью нашей планеты. Вход корабля в тень произошёл быстро. Моментально наступила кромешная темнота. Видимо, я пролетал над океаном, так как даже золотистая пыль освещённых городов не просматривалась внизу.
Пересекая западное полушарие, я подумал о Колумбе, о том, что он, мучаясь и страдая, открыл Новый Свет, а назвали его Америкой, по имени Америго Веспуччи, который за тридцать две страницы своей книги «Описание новых земель» получил бессмертие. Повесть об этой исторической ошибке я читал как-то в книге Стефана Цвейга.
Подумав об Америке, я не мог не вспомнить парней, намеревавшихся ринуться следом за нами в космос. Почему-то я предполагал, что это сделает Алан Шепард. Станут ли американские космонавты служить делу мира, как это делаем мы, или будут рабами тех, кто готовит войну? Как было бы хорошо, если бы народы земного шара вняли разумному голосу Никиты Сергеевича Хрущёва и все свои усилия направили на достижение всеобщего и постоянного мира.
В 9 часов 51 минуту была включена автоматическая система ориентации. После выхода «Востока» из тени она осуществила поиск и ориентацию корабля на Солнце. Лучи его просвечивали через земную атмосферу, горизонт стал ярко-оранжевым, постепенно переходящим во все цвета радуги: к голубому, синему, фиолетовому, чёрному. Неописуемая цветовая гамма! Как на полотнах художника Николая Рериха!
9 часов 52 минуты. Пролетая в районе мыса Горн, я передал сообщение:
— Полет проходит нормально, чувствую себя хорошо. Бортовая аппаратура работает исправно.
Я сверился с графиком полёта. Время выдерживалось точно. «Восток» шёл со скоростью, близкой к 28 000 километров в час. Такую скорость трудно представить на Земле. Я не чувствовал во время полёта ни голода, ни жажды. Но по заданной программе в определённое время поел и пил воду из специальной системы водоснабжения. Ел я пищу, приготовленную по рецептам, разработанным Академией медицинских наук. Кушал так же, как в земных условиях; только одна беда — нельзя было широко открывать рот.
На земле принимают телепередачу с корабля-спутника «Восток».
И хотя было известно, что за поведением моего организма наблюдают с Земли, я нет-нет да и прислушивался к собственному сердцу. В условиях невесомости пульс и дыхание были нормальными, самочувствие прекрасное, мышление и работоспособность сохранялись полностью.
В мой комбинезон были вмонтированы лёгкие удобные датчики, преобразовывавшие физиологические параметры — биотоки сердца, пульсовые колебания сосудистой стенки, дыхательные движения грудной клетки — в электрические сигналы. Специальные усилительные и измерительные системы обеспечили выдачу через радиоканалы на Землю импульсов, характеризующих дыхание и кровообращение на всех этапах полёта. Так что на Земле знали о моём самочувствии больше, чем знал об этом я.
С момента отрыва ракеты от стартового устройства управление всеми её сложными механизмами приняли на себя разумные автоматические системы. Они направляли рули, заставляя ракету двигаться по заданной траектории, управляли двигательной установкой, задавая необходимую скорость, сбрасывали отработанные ступени ракеты. Автоматика поддерживала необходимую температуру внутри корабля, ориентировала его в пространстве, заставляла работать измерительные приборы, решала много других сложных задач. Вместе с тем в моём распоряжении находилась система ручного управления полётом корабля. Стоило только включить нужный тумблер, как все управление полётом и посадкой «Востока» перешло бы в мои руки. Мне пришлось бы ещё раз уточнить по бортовым приборам местоположение стремительно несущегося над Землёй «Востока». А затем надо было бы рассчитать место посадки, ручкой управления удерживать ориентацию корабля и в нужный момент запустить тормозную установку. Сейчас всего этого не требовалось — автоматика работала безотказно. Все обдумали и взвесили учёные.
Главный Конструктор рассказывал нам о борьбе, ведущейся за облегчение веса и габаритов каждой детали космических кораблей, о том, что советские учёные, работающие в области автоматики, создают системы со многими тысячами элементов, делают самонастраивающиеся устройства, способные приспосабливаться к изменяющимся условиям. Молодо увлекаясь, он говорил нам об устройствах управления с большим числом элементов, обеспечивающих, однако, высокую надёжность системы.
Все эти воспоминания промелькнули в мозгу в какую-то секунду. А вспомнив все это, я стал думать о Главном Конструкторе. Космическим кораблём могли гордиться научные коллективы, вложившие в него свой разум, энергию, труд.
Я старался представить себе людей, причастных к строительству корабля, и перед моим взором проходили ряды тружеников, как на первомайской демонстрации на Красной площади. Хорошо было бы увидеть их за работой в лабораториях, в цехах заводов, пожать им руки, сказать спасибо. Ведь самое прекрасное на Земле — это человек, занятый трудом.
С душевным трепетом всматривался я в окружающий меня мир, стараясь все разглядеть, понять и осмыслить. В иллюминаторах отсвечивали алмазные россыпи ярких холодных звёзд. До них было ещё ой как далеко, может быть, десятки лет полёта, и всё же с орбиты к ним было значительно ближе, чем с Земли. Было радостно и немного жутковато от сознания, что мне доверили космический корабль — бесценное сокровище государства, в которое вложено так много труда и народных денег.
Несмотря на сложную работу, я не мог не думать. Вспомнилась мама, как она в детстве целовала меня на сон грядущий в спину между лопаток. Знает ли она, где я сейчас? Сказала ли ей Валя о моём полёте? А вспомнив о маме, я не мог не вспомнить о Родине. Ведь неспроста люди называют Родину матерью — она вечно жива, она бессмертна. Всем, чего достигает человек в жизни, он обязан своей Родине. «Наша социалистическая Родина самая прекрасная в мире, и всем, чего достиг, я обязан ей», — думал я.
Приходили разные мысли, и все какие-то светлые, праздничные. Вспоминалось, как мы, мальчишки, тайком трясли яблони в колхозном саду, как накануне полёта я бродил по Москве, по её шумным, радостным улицам, как пришёл на Красную площадь и долго стоял у Мавзолея. Подумал о том, что космический корабль несёт идеи Ленина вокруг всей Земли. «Что делает сейчас Герман Титов?» — мелькнула мысль, и я ощутил силу и теплоту его объятий во время прощания. Ведь всё, что я сейчас переживаю, придётся пережить и ему.
Одна за другой внизу проносились страны, и я видел их как одно целое, не разделённое государственными границами.
В 10 часов 15 минут на подлёте к африканскому материку от автоматического программного устройства прошли команды на подготовку бортовой аппаратуры к включению тормозного двигателя. Я передал очередное сообщение:
— Полет протекает нормально, состояние невесомости переношу хорошо.
Мелькнула мысль, что где-то там, внизу, находится вершина Килиманджаро, воспетая Эрнестом Хемингуэем в его рассказе «Снега Килиманджаро».
Затем я подумал, что корабль пролетает над Конго, страной, в которой империалисты злодейски убили мужественного борца против колониализма, борца за счастье своего народа Патриса Лумумбу.
Но размышлять было некогда. Наступал заключительный этап полёта, может быть, ещё более ответственный, чем выход на орбиту и полет по орбите, — возвращение на Землю. Я стал готовиться к нему. Меня ожидал переход от состояния невесомости к новым, может быть ещё более сильным, перегрузкам и колоссальному разогреву внешней оболочки корабля при входе в плотные слои атмосферы. До сих пор в космическом полёте всё проходило примерно так же, как мы отрабатывали это во время тренировок на Земле. А как будет на последнем, завершающем этапе полёта? Все ли системы сработают нормально, не поджидает ли меня непредвиденная опасность? Автоматика автоматикой, но я определил местоположение корабля и был готов взять управление в свои руки и в случае необходимости осуществить его спуск на Землю самостоятельно в выбранном мною подходящем для этой цели районе.
Система ориентации корабля в данном полёте была солнечной, оснащённой специальными датчиками. Эти датчики «ловят» Солнце и «удерживают» его в определённом положении, так что тормозная двигательная установка оказывается всегда направленной против полёта. В 10 часов 25 минут произошло автоматическое включение тормозного устройства. Оно сработало отлично, в заданное время. За большим подъёмом и спуск большой — «Восток» постепенно стал сбавлять скорость, перешёл с орбиты на переходный эллипс. Началась заключительная часть полёта. Корабль стал входить в плотные слои атмосферы. Его наружная оболочка быстро накалялась, и сквозь шторки, прикрывающие иллюминаторы, я видел жутковатый багровый отсвет пламени, бушующего вокруг корабля. Но в кабине было всего двадцать градусов тепла, хотя я и находился в клубке огня, устремлённом вниз.
Невесомость исчезла, нарастающие перегрузки прижали меня к креслу. Они все увеличивались и были значительнее, чем при взлёте. Корабль начало вращать, и я сообщил об этом «Земле». Но вращение, обеспокоившее меня, быстро прекратилось, и дальнейший спуск протекал нормально. Было ясно, что все системы сработали отлично и корабль точно идёт в заданный район приземления. От избытка счастья я громко запел любимую песню:
Родина слышит, Родина знает…Высота полёта всё время уменьшалась. Убедившись, что корабль благополучно достигнет Земли, я приготовился к посадке.
Десять тысяч метров… Девять тысяч… Восемь… Семь…
Внизу блеснула лента Волги. Я сразу узнал великую русскую реку и берега, над которыми меня учил летать Дмитрий Павлович Мартьянов. Всё было хорошо знакомо: и широкие окрестности, и весенние поля, и рощи, и дороги, и Саратов, дома которого, как кубики, громоздились вдали…
В 10 часов 55 минут «Восток», облетев земной шар, благополучно опустился в заданном районе на вспаханное под зябь поле колхоза «Ленинский путь», юго-западнее города Энгельса, неподалёку от деревни Смеловка. Случилось, как в хорошем романе: моё возвращение из космоса произошло в тех самых местах, где я впервые в жизни летал на самолёте. Сколько времени прошло с той поры? Всего только шесть лет. Но как изменились мерила! В этот день я летел в двести раз быстрее, в двести раз выше. В двести раз выросли советские крылья!
Ступив на твёрдую почву, я увидел женщину с девочкой, стоявших возле пятнистого телёнка и с любопытством наблюдавших за мной. Пошёл к ним. Они направились навстречу. Но, чем ближе они подходили, шаги их становились медленнее. Я ведь всё ещё был в своём ярко-оранжевом скафандре, и его необычный вид немножечко их пугал. Ничего подобного они ещё не видели.
— Свои, товарищи, свои! — ощущая холодок волнения, крикнул я, сняв гермошлем.
Это была жена лесника Анна Акимовна Тахтарова со своей шестилетней внучкой Ритой.
— Неужели из космоса? — не совсем уверенно спросила женщина.
— Представьте себе, да, — сказал я.
— Юрий Гагарин! Юрий Гагарин!-закричали подбежавшие с полевого стана механизаторы.
Это были первые люди, которых я встретил на Земле после полёта, — простые советские люди, труженики колхозных полей. Мы обнялись и расцеловались, как родные.
Вскоре прибыла группа солдат с офицером, проезжавших на грузовиках по шоссе. Они обнимали меня, жали руки. Кто-то из них назвал меня майором. Я, ничего не спрашивая, понял, что Министр обороны Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский присвоил мне внеочередное звание через одну ступень. Я не ожидал этого и покраснел от смущения. У кого-то нашёлся фотоаппарат, мы встали большой группой и сфотографировались. Это был первый снимок, сделанный после полёта.
Военные товарищи помогли мне снять скафандр, и я остался в лазоревом комбинезоне. Кто-то предложил мне свою шинель, но я отказался — комбинезон был тёплый и лёгкий. Вместе с солдатами я направился к своему кораблю. Он стоял среди вспаханного поля, в нескольких десятках метров от глубокого оврага, в котором шумели весенние воды.
Я тщательно оглядел «Восток». Корабль и его внутреннее оборудование были в полном порядке; их можно было вновь использовать для космического полёта. Чувство огромной радости переполняло меня. Я был счастлив от сознания того, что первый полёт человека в космос совершён в Советском Союзе и наша отечественная наука ещё дальше продвинулась вперёд.
Солдаты выставили караул у космического корабля. Тут за мной прилетел вертолёт со специалистами из группы встречи и спортивными комиссарами, которые должны были зарегистрировать рекордный полёт в космос. Они остались у «Востока», а я направился на командный пункт этой группы для того, чтобы обо всём доложить Москве.
Попав к товарищам, ожидавшим моего возвращения, я узнал, что на моё имя есть телеграмма от Никиты Сергеевича Хрущёва. Первый секретарь Центрального Комитета партии поздравлял меня с завершением космического рейса.
Через некоторое время меня соединили по телефону с Никитой Сергеевичем Хрущёвым, находившимся в районе Сочи. Я услышал знакомый и такой родной голос. Это была величайшая минута в моей жизни. Произошёл задушевный разговор. Я привожу его здесь полностью, от слова до слова.
— Я рад слышать Вас, дорогой Юрий Алексеевич, — сказал Никита Сергеевич.
Я: — Я только что получил Вашу приветственную телеграмму, в которой Вы поздравляете меня с успешным завершением первого в мире космического рейса. Сердечно благодарю Вас, Никита Сергеевич, за это поздравление. Счастлив доложить Вам, что первый космический полёт успешно завершён.
Н. С. ХРУЩЁВ:-Сердечно приветствую и поздравляю Вас, дорогой Юрий Алексеевич! Вы первым в мире совершили космический полёт. Своим подвигом Вы прославили нашу Родину, проявили мужество и героизм в выполнении такого ответственного задания, своим подвигом Вы сделали себя бессмертным человеком, потому что Вы первым из людей проникли в космос.
Скажите, Юрий Алексеевич, как Вы себя чувствовали в полёте? Как протекал этот первый космический полёт?
Я: — Я чувствовал себя хорошо. Полёт проходил очень успешно, вся аппаратура космического корабля работала чётко. Во время полёта я видел Землю с большой высоты. Были видны моря, горы, большие города, реки, леса.
Н. С. ХРУЩЁВ: — Можно сказать, что Вы чувствовали себя хорошо?
Я:-Вы правильно сказали, Никита Сергеевич. Я чувствовал себя в космическом корабле хорошо, как дома. Я ещё раз благодарю Вас за сердечное поздравление и приветствие с успешным завершением полёта.
Н. С. ХРУЩЁВ:-Я рад слышать Ваш голос и приветствовать Вас. Буду рад встретиться с Вами в Москве. Мы вместе с Вами, вместе со всем нашим народом торжественно отпразднуем этот великий подвиг в освоении космоса. Пусть весь мир смотрит и видит, на что способна наша страна, что может сделать наш великий народ, наша советская наука.
Я: — Пусть теперь все страны догоняют нас!
Н.С.ХРУЩЁВ: — Правильно! Очень рад, что Ваш голос звучит бодро и уверенно, что у Вас такое замечательное настроение! Вы правильно говорите — пусть капиталистические
страны догоняют нашу страну, проложившую путь в космос, пославшую первого в мире космонавта. Все мы гордимся этой великой победой.
Здесь присутствует Анастас Иванович Микоян, он передаёт Вам сердечное поздравление и приветствие.
Н. С. Хрущёв поздравляет Юрия Гагарина с успешным завершением космического полёта.
Я: — Передайте мою благодарность Анастасу Ивановичу и лучшие пожелания ему!
Н. С. ХРУЩЁВ:-Скажите, Юрий Алексеевич, у Вас есть жена, дети?
Я: — Есть и жена, Валентина Ивановна, и две дочери, Лена и Галя.
Юрий Гагарин разговаривает с Н. С. Хрущёвым по телефону после полёта.
Н. С. ХРУЩЁВ:-А жена знала, что Вы полетите в космос?
Я: — Да, знала, Никита Сергеевич.
Н. С. ХРУЩЁВ:-Передайте мой сердечный привет Вашей жене и Вашим детям. Пусть Ваши дочери растут и гордятся своим отцом, который совершил такой великий подвиг во имя нашей Советской Родины.
Я:-Спасибо, Никита Сергеевич. Я передам этот Ваш привет и навсегда запомню Ваши сердечные слова.
Н. С. ХРУЩЁВ:-А Ваши родители, мать и отец, живы, где они находятся сейчас, чем занимаются?
Я:-Отец и мать живы, они живут в Смоленской области.
Н. С. ХРУЩЁВ:-Передайте Вашему отцу и Вашей матери мои сердечные поздравления. Они вправе гордиться своим сыном, который совершил такой великий подвиг.
Я: — Большое спасибо, Никита Сергеевич. Я передам Ваши слова отцу и матери. Они будут рады и глубоко признательны Вам, нашей партии и Советскому правительству.
Н. С. ХРУЩЁВ:-Не только Ваши родители, но вся наша Советская Родина гордится Вашим великим подвигом, Юрий Алексеевич. Вы совершили подвиг, который будет жить в веках.
Ещё раз от души приветствую Вас с успешным завершением первого космического полёта. До скорой встречи в Москве. Желаю Вам всего наилучшего.
Я: — Спасибо, Никита Сергеевич. Ещё раз благодарю Вас, родную Коммунистическую партию, Советское правительство за большое доверие, оказанное мне, и заверяю, что и впредь готов выполнить любое задание Советской Родины. До свидания, дорогой Никита Сергеевич!
Тут же сразу по телефону со мной переговорили главный редактор «Правды» Павел Алексеевич Сатюков и главный редактор «Известий» Алексей Иванович Аджубей. Я попросил их передать мой сердечный привет читателям газет.
В эти волнующие первые часы возвращения на Землю из космоса произошло много радостных встреч со знакомыми и незнакомыми друзьями. Все были для меня близкими и родными. Особенно трогательным было свидание с Германом Титовым, который вместе с другими товарищами прилетел на реактивном самолёте с космодрома в район приземления. Мы горячо обнялись и долго от избытка чувств дружески тузили друг друга кулаками.
— Доволен? — спросил он меня.
— Очень, — ответил я, — ты будешь так же доволен в следующий раз…
Ему очень хотелось обо всём расспросить меня, а мне очень хотелось обо всём рассказать ему, но врачи настаивали на отдыхе, и я не мог не подчиниться их требованиям.
Мы все поехали на берег Волги, в стоявший на отлёте домик. Там я принял душ, пообедал и поужинал сразу, на этот раз по-земному, с хорошим земным аппетитом.
Из района приземления — в штаб космического полёта.
После небольшой прогулки вдоль Волги, полюбовавшись золотисто-светлым небом заката, мы поиграли с Германом Титовым на бильярде и, закончив этот удивительный в нашей жизни день — двенадцатое апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года, — улеглись в постели, а через несколько минут уже спали так же безмятежно, как накануне полёта.
ЖИЗНЬ ДЛЯ РОДИНЫ
Моё первое утро после возвращения из космического полёта началось, как всегда, с физической зарядки. Привычка к утренней гимнастике уже давно стала необходимостью, и ещё не было случая, когда бы я пренебрёг ею. А тем более бодрость необходима была сегодня, ибо предстояли большой день, большие разговоры, интересные встречи.
В десять часов утра в домике на берегу Волги собрались учёные и специалисты, снаряжавшие «Восток» в первый рейс вокруг Земли. Я обрадовался, увидев среди них Главного Конструктора. Он улыбался, и лицо его помолодело. Теперь, после того как человек поднялся в космос и, облетев планету, вернулся домой, всё было в порядке. Главный Конструктор обнял меня, и мы расцеловались. Наверное, так во время войны генералы приветствовали солдат, выполнивших важное боевое задание.
Я сделал собравшимся первый доклад о работе всех технических систем корабля в полёте, рассказал обо всём увиденном и пережитом за пределами земной атмосферы. Слушали меня внимательно. А я увлёкся и говорил долго. Впечатлений было много, и все они были столь необычные, что хотелось поскорее поделиться ими с людьми. Я старался ничего не забыть. Судя по лицам собравшихся, рассказ был интересен. Затем посыпались вопросы. На каждый я старался ответить как можно точнее, понимая, насколько это важно для последующей работы по завоеванию космоса.
14 апреля 1961 года. С нетерпением ожидали жители столицы встречи с первым в мире космонавтом Ю. А. Гагариным, совершившим 12 апреля за 108 минут триумфальный космический полёт вокруг Земли.
Несколько раз во время доклада я встречался взглядом с врачом Евгением Анатольевичем. Он не хотел, чтобы я переутомлялся, и показывал на часы: закругляйся, мол, товарищ…
После короткого перерыва мне снова пришлось говорить. На этот раз перед корреспондентами «Правды» и «Известий». Это было моё первое обстоятельное интервью для советской прессы, в котором я был заинтересован, так как хотелось поскорее рассказать обо всём увиденном народу и через газеты от души поблагодарить партию и правительство за высокое доверие, оказанное мне. Наша беседа велась в дружеском тоне. Журналисты понимали меня с полуслова, они многое знали о космосе. Один из них в своё время был военным авиатором, а другой редактировал в своей газете отдел науки и техники. Жаль, что во время этой беседы не было корреспондента саратовской комсомольской газеты «Заря молодёжи». Эта газета первой напечатала обо мне заметку, когда я ещё учился в аэроклубе. Можно себе представить, с каким интересом его интервью прочитали бы саратовские комсомольцы и ребята, которые, может быть, сейчас учатся летать на тех же самолётах, на которых учился летать и я.
На другой день, перед отлётом в Москву, я встретился с Дмитрием Павловичем Мартьяновым — моим первым инструктором, работавшим в то время в саратовском аэроклубе. Мы оба обрадовались друг другу.
— Спасибо вам, Дмитрий Павлович, что научили меня летать, — сказал я.
— Крылья растут от летания, — ответил он и протянул мне центральные газеты. Было приятно прочесть в них все сказанное вчера на беседе с журналистами. Как-никак это были первые корреспонденции о полёте в космос, и авторам удалось сохранить в них новизну и непосредственность моих космических впечатлений. Из газет я узнал о том, как встретили известие о моём полёте родители в Гжатске и Валя, оставшаяся дома с ребятами. Особенно тронули меня рассказ мамы о моём детстве и фотография Вали, сделанная в момент, когда ей сообщили: дана команда на приземление. Я представил себе, что пережила жена в эти минуты…
Газеты и радовали меня, и смущали. Оказаться в центре внимания не только своей страны, но и всего мира — довольно-таки обременительная штука. Мне хотелось тут же сесть и написать, что дело вовсе не во мне одном, что десятки тысяч учёных, специалистов и рабочих готовили этот полет, который мог осуществить каждый из моих товарищей космонавтов. Я знал, что многие советские лётчики способны отправиться в космос и физически и морально подготовлены к этому. Знал и то, что мне повезло — вовремя родился. Появись я на свет на несколько лет раньше, и не прошёл бы по возрасту; родись позже, кто-то бы уже побывал там, куда стремилось всё моё существо.
14 апреля 1961 года. На Внуковском аэродроме. Юрий Гагарин направляется к правительственной трибуне.
Но радио, бесконечно повторявшее моё имя, и газеты с моими портретами и статьями о полёте в космос были только началом того трепетного волнения, которое надолго захватило меня. Впереди ждали ещё большие переживания, которых не могла представить никакая самая богатая фантазия и о которых я даже не догадывался. Советский народ готовил первому космонавту небывалую встречу.
За мной из Москвы прилетел специальный самолёт «Ил-18». На подлёте к столице нашей Родины к нему пристроился почётный эскорт истребителей. Это были красавцы «МиГи», на которых в своё время летал и я. Они прижались к нашему воздушному кораблю настолько близко, что я отчётливо видел лица лётчиков. Они широко улыбались, и я улыбался им. Я посмотрел вниз и ахнул. Улицы Москвы были запружены потоками народа. Со всех концов столицы живые человеческие реки, над которыми, как паруса, надувались алые знамёна, стекались к стенам Кремля.
Самолёт низко прошёл над главными магистралями города и направился на Внуковский аэродром. Там тоже была масса встречающих. Мне передали, что на аэродроме находятся члены Президиума Центрального Комитета КПСС, Совета Министров СССР и глава Советского правительства Никита Сергеевич Хрущёв.
Точно в заданное время «Ил-18» приземлился и начал выруливать к центральному зданию аэропорта. Я надел на себя парадную офицерскую шинель с новенькими майорскими погонами, привычно оглядел своё отражение в иллюминаторе самолёта и, когда машина остановилась, через раскрытую дверь по трапу спустился вниз. Ещё из самолёта я увидел вдали трибуну, переполненную людьми и окружённую горами цветов. К ней от самолёта пролегала ярко-красная ковровая дорожка.
Надо было идти, и идти одному. И я пошёл. Никогда, даже там, в космическом корабле, я не волновался так, как в эту минуту. Дорожка была длинная-предлинная. И пока я шёл по ней, смог взять себя в руки. Под объективами телевизионных глаз, кинокамер и фотоаппаратов иду вперёд. Знаю: все глядят на меня. И вдруг чувствую то, чего никто не заметил, — развязался шнурок ботинка. Вот сейчас наступлю на него и при всём честном народе растянусь на красном ковре. То-то будет конфузу и смеху — в космосе не упал, а на ровной земле свалился…
Юрий Гагарин рапортует Первому секретарю ЦК КПСС, Председателю Совета Министров СССР Н. С. Хрущёву об успешном завершении первого в мире космического полёта.
Под звуки оркестра, исполняющего старинный авиационный марш «Мы рождены, чтоб сказку, сделать былью», делаю ещё пять, десять, пятнадцать шагов, узнаю лица членов Президиума ЦК, вижу отца, маму, Валю, встречаюсь глазами с родным, подбадривающим взглядом Никиты Сергеевича Хрущёва. Подхожу к нему и, взяв руку под козырёк, рапортую:
— Товарищ Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председатель Совета Министров СССР! Рад доложить Вам, что задание Центрального Комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено…
По-весеннему пахнут цветы. В наступившей тишине я не узнаю собственный окрепший голос. Вокруг много близких мне людей, а вижу только одного Никиту Сергеевича, вижу, какую сложную гамму чувств вызывают в нём слова рапорта.
— Первый в истории человечества полёт на советском космическом корабле «Восток» двенадцатого апреля успешно совершён, — произношу я, и мне кажется, что Никита Сергеевич слушает меня всем своим добрым сердцем.
— Все приборы и оборудование корабля работали чётко и безупречно. Чувствую себя отлично. Готов выполнить новое любое задание нашей партии и правительства, — я сделал паузу и представился: — Майор Гагарин.
Никита Сергеевич снял шляпу, крепко обнял меня и по старинному русскому обычаю трижды поцеловал.
— Поздравляю! Поздравляю! — говорил он, и я чувствовал, как он взволнован. Я ощутил отеческое тепло его рук и подумал, что, может быть, увидев мою офицерскую форму, он вспомнил своего сына Леонида. Ведь сын Никиты Сергеевича тоже был лётчиком и совсем молодым погиб в неравном бою с фашистами, защищая от врагов чистое небо Родины.
Никита Сергеевич познакомил меня с членами Президиума ЦК КПСС, а затем подвёл к моему отцу, маме, Вале, братьям и сёстрам.
Горячая встреча на Внуковском аэродроме.
— Вот и сбылась наша мечта, Юра, — сказала Валя и отвернулась, вытирая слёзы. В руках у неё был огромный букет роз — подарок Нины Петровны Хрущёвой.
На мои глаза тоже навёртывались, слезы радости и восторга. Но космонавту не положено плакать, и я через силу сдерживал свои чувства.
В этот день впервые разгулялась по-весеннему тёплая и ласковая погода. Кортеж правительственных машин направился из Внукова в Москву. Я находился в открытом автомобиле рядом с Никитой Сергеевичем Хрущёвым. На всём пути шпалерами стоял народ, приветствуя руководителей партии и правительства, приветствуя небывалое достижение нашей науки и техники. На фасадах домов — красные флаги, лозунги, транспаранты. Люди махали вымпелами, букетами цветов. Гремели оркестры. Взрослые поднимали над головами детей.
Наверное, ни один человек в мире не переживал то, что пришлось в этот праздничный день пережить мне. И вот она, наша Красная площадь, на которой совсем недавно, собираясь в полёт, я стоял перед Мавзолеем. От края до края её заполнили трудящиеся Москвы. Слегка подталкивая вперёд, Никита Сергеевич провёл меня на гранитную трибуну Мавзолея. Он видел моё смущение и старался сделать так, чтобы я не чувствовал никакой неловкости и замешательства.
Митинг открыл член Президиума ЦК КПСС секретарь ЦК партии Фрол Романович Козлов и сразу дал мне слово. У меня перехватило дыхание: шутка ли сказать, всё, что происходило на Красной площади, слушала не только наша страна, но и впервые передавалось на телевизоры всей Европы, а радио работало на весь мир.
Речь моя была краткой. Я поблагодарил партию и правительство, поблагодарил наших учёных, инженеров, техников и рабочих, создавших такой корабль, на котором можно уверенно постигать тайны космического пространства. Высказав убеждение в том, что все мои друзья, лётчики-космонавты, также готовы в любое время совершить полёт в просторы Вселенной, я закончил выступление словами:
— Слава Коммунистической партии Советского Союза и её ленинскому Центральному Комитету во главе с Никитой Сергеевичем Хрущёвым!
Торжественный кортеж на улицах Москвы.
Н. С. Хрущёв, Юрий Гагарин и Валентина Гагарина на открытой машине на улицах Москвы.
Эта здравица была подхвачена народом, до отказа заполнившим площадь и прилегающие к ней улицы.
Затем, встреченный бурной овацией народа, произнёс речь Никита Сергеевич Хрущёв. Его выступление было проникнуто глубокой верой в могучие творческие силы советских людей, в победу труда, разума и науки над разрушительными силами войны. Когда Никита Сергеевич объявил о том, что мне присвоено высокое звание Героя Советского Союза и первому присвоено славное звание лётчика-космонавта СССР, я весь вспыхнул. Ведь поколение молодёжи, выросшей после войны, с детства питало большое уважение к наградам Родины. На какое-то мгновение перед моими глазами блеснули ордена, которые я семилетним мальчишкой увидел под распахнутыми куртками лётчиков, побывавших в нашем селе после боя. Что скрывать, на мгновение я представил себя с орденом Ленина и Золотой Звездой на груди, ведь до сих пор у меня была всего одна медаль, которой я очень гордился. Советский Союз — страна массового героизма. В нашем народе Золотая Звезда считается символом бесстрашия и беспредельной преданности делу коммунизма. С каждым годом в созвездии героев появляются новые имена. К их числу советский народ прибавил моё имя, и как мне было не радоваться и не смущаться…
— Мы гордимся, что первый в мире космонавт — это советский человек, — сказал Никита Сергеевич, — он коммунист, член великой партии Ленина.
Эти слова всколыхнули всё моё существо, и я почувствовал шум крови в сердце. Великая честь быть коммунистом! Я, совсем ещё молодой, не прошедший через горнило борьбы член партии, стоял на трибуне рядом с самыми замечательными её бойцами-ленинцами — членами Президиума ЦК КПСС, а мимо Мавзолея проходили колонны трудящихся Москвы, и среди них было немало коммунистов всех возрастов. Мы были единомышленниками, были едины в своём стремлении построить коммунизм.
Никита Сергеевич сказал то, о чём все знали, но никто не говорил вслух, — об опасностях, поджидающих космонавта в первом полёте. Поздравляя на Красной площади мою жену — Валентину Ивановну, Никита Сергеевич сказал: «Ведь никто не мог дать полной гарантии, что проводы Юрия Алексеевича в космический полёт не являлись для него последними».
Каждый специалист, участвовавший в снаряжении корабля, знал, что всё могло случиться на таком длинном и пока ещё плохо изученном пути, и только один Главный Конструктор, пожалуй, на все сто процентов был уверен, что всё окончится триумфом советской науки. Находясь на старте, он смог своей несокрушимой уверенностью зарядить всех, в том числе и меня.
Три часа шумно текла живая человеческая река через Красную площадь. И когда прошли последние колонны, Никита Сергеевич, разгадав моё желание, провёл меня в Мавзолей к Ленину, которого я никогда не видел. Мы молча стояли у саркофага, всматриваясь в дорогие черты великого человека — основателя Коммунистической партии и Советского государства.
Мы прошли вдоль аллеи островерхих серебристых елей, словно часовые, замерших у высокой зубчатой стены. В Кремле меня ждала взволнованная семья. Отец рассказал, как он узнал о моём полёте. В тот день он отправился плотничать за двенадцать километров от Гжатска, в село, где строилась колхозная чайная. На перевозе через речку знакомый старик лодочник спросил его:
Москва, Красная площадь. 14 апреля 1961 года. Товарищи Ю. А. Гагарин, Н. С. Хрущёв, Ф. Р. Козлов и Л. И. Брежнев на трибуне Мавзолея.
— В каком звании сынок-то твой ходит?
— В старших лейтенантах, — ответил ему отец.
— По радио передавали, будто какой-то майор Гагарин вроде бы на луну полетел, — не унимался старик.
— Ну, моему до майора ещё ой как далеко, — сказал отец.
— Может, сродни какой? — ещё раз спросил перевозчик.
— Да мало ли Гагариных на свете, — заключил отец.
На том разговор и окончился. Старики перебрались через речку, выпили чекушку за того, кто летает, закусили таранкой, и отец, взвалив на плечи плотничий инструмент, пошёл своей дорогой, позабыв о космонавте. Часа три он помахал топором на строительстве чайной, и тут подкатывает секретарь райкома партии:
— Куда ты запропал, Алексей Иванович? Ищем по всему району. Ведь твой Юрий слетал в космос и вернулся на Землю…
Они сели в машину и помчались в Гжатск. А там, у нашего маленького деревянного домика на Ленинградской улице, уже собрался весь город…
Всей семьёй вечером мы пошли в Большой Кремлёвский дворец на приём, устроенный Центральным Комитетом КПСС, Президиумом Верховного Совета СССР и Советом Министров СССР в честь выдающегося подвига учёных, инженеров, техников и рабочих, обеспечивших успешное осуществление первого в мире полёта человека в космическое пространство. Всё было необычным и красивым. Звучали фанфары, сводный хор и симфонический оркестр исполняли «Славься» из оперы «Иван Сусанин». Никто из нашей семьи не был до этого в Кремле, не видел сверкающего белизной мрамора Георгиевского зала. С интересом прочитали мы высеченные золотом наименования воинских частей, прославивших доблесть русских солдат. Среди них были и наши, смоленские полки.
В начале приёма Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев после оглашения Указов прикрепил к моему мундиру орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза. Выступая на приёме, Никита Сергеевич Хрущёв сообщил, что все участники создания космического корабля-спутника «Восток» будут представлены к правительственным наградам. Я был рад за товарищей, чей творческий труд привёл меня на такое пышное торжество.
Москва, Кремль. 14 апреля 1961 года. Руководители партии и правительства с первым в мире пилотом-космо навтом Ю. А. Гагариным и его семьёй.
На приёме я встретил Главного Конструктора, Теоретика Космонавтики и многих знакомых специалистов — творцов космического корабля. Пришли министры, Маршалы Советского Союза, передовики производства и сельского хозяйства, известные писатели, журналисты, спортсмены… Мы, гжатские, быстро почувствовали себя среди москвичей не гостями, а членами одной большой семьи.
Было произнесено много хороших тостов, возникали короткие, но сердечные беседы, слышались тёплые слова в адрес моих учителей, все веселились от души.
Весь следующий день я находился под впечатлением приёма в Кремле. С утра в Доме учёных Академия наук СССР и Министерство иностранных дел СССР устроили пресс-конференцию. На неё были приглашены советские и зарубежные журналисты, дипломатический корпус, члены президиума Академии наук СССР, видные учёные и представители общественных организаций Москвы. Собралось около тысячи человек. Здесь мне была вручена золотая медаль К. Э. Циолковского — очень дорогой знак внимания к моим скромным заслугам.
Выступление на пресс-конференции пришлось начать не с рассказа о полёте, а отмежеванием от неких князей Гагариных, пребывающих в эмиграции и претендующих на родство с нашей семьёй. Вот уж поистине: куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй. После 12 апреля в Соединённых Штатах Америки нашлись какие-то дальние-предальние потомки князей Гагариных — седьмая вода на киселе, как говорят у нас на Смоленщине, — возжелавшие приобщиться к славе нашего народа и всерьёз объявившие о том, что они-де родичи советского космонавта. Пришлось их разочаровать.
— Среди своих родственников, — заявил я, — никаких князей и людей знатного рода не знаю и никогда о них не слышал.
Рассказав собравшимся, как протекал космический полёт, я закончил выступление так:
— Летать мне понравилось. Хочу слетать к Венере и Марсу, по-настоящему полетать.
14 апреля 1961 года. На приёме в Большом Кремлёвском дворце в честь выдающегося подвига советских учёных, инженеров, техников и рабочих, обеспечивших успешное осуществление первого в мире полёта человека в космическое пространство.
Посыпались вопросы, все больше от зарубежных журналистов. Спрашивали много и о разном. Одних интересовало моё будущее, других — размеры моих заработков, третьи пытались, что называется, навести тень на плетень и приписать мирному рейсу «Востока» военный характер. Что же, ответил и на эти каверзные вопросики. И то, что я говорил правду, одну лишь правду, придало ответам убедительную силу.
Пришлось в эти дни побывать и у своих старых знакомых — врачей. Они искали каких-то изменений в моём организме, которые, по предположениям медицины, должны были возникнуть после полёта в космос. Но они не возникли, и тот самый голубоглазый доктор — Евгений Алексеевич, отбиравший меня в космонавты, остался доволен.
— С таким здоровьем, — пошутил он, — не грех слетать и на Луну…
Ежедневно в редакции газет и ко мне домой приходило множество телеграмм и писем. Писали со всех концов Советского Союза, со всех материков Земли, знакомые и незнакомые люди. Некоторые присылали подарки Вале и моим девочкам. Многих прежних товарищей по Гжатску, Саратову, Оренбургу трудовая судьба разбросала по всей стране, и теперь они откликались отовсюду, приветствовали, напоминали милые и смешные случаи из прошлого. Очень растрогала меня весточка от Анатолия Ильяшенко, или просто Фёдоровича, как мы его называли в эскадрилье на Севере. Это он вместе с Владимиром Решетовым и Анатолием Росляковым рекомендовал меня в ряды партии. Он писал: «Ах ты, Юрка, Юрка-непоседа, когда ты уезжал, помнишь, я говорил тебе: готовься к штурму. Я был уверен, что весь мир услышит о тебе…»
Анатолий Фёдорович описывал своё житьё-бытьё. Он ушёл в запас, немного проработал чернорабочим, а затем стал летать на транспортных самолётах в Казахстане. По письму видно было, что Фёдоровичу сначала нелегко пришлось на новом поприще. Но он принадлежит к той породе людей, которых не пугают никакие трудности и не останавливают никакие препятствия. Быть таким он учил и меня, когда мы вместе служили на Севере. Да он и сам напомнил об этом в своём письме: «Ведь не зря же мы коммунисты, нам подавай любую работу, если впереди ясно видна цель».
В те дни пришло очень хорошее письмо из Парижа. Написал его Франсуа де Жоффр — офицер ордена Почётного легиона, кавалер ордена Красного Знамени, автор книги «Нормандия — Неман», которую я недавно читал. В своём обширном письме французский патриот писал: «Позвольте мне, французскому лётчику полка „Нормандия — Неман“, бывшему добровольцем в небе на вашем фронте и сражавшемуся плечом к плечу с русским народом против общего врага — германского фашизма, выразить Вам, сколь я горд и счастлив, что именно советский человек первым открыл во всю ширь мирный путь в космос и вместе с тем первую страницу исследований Вселенной и научного познания мира».
Москва. 14 апреля 1961 года. Приём в Большем Кремлёвском дворце. Н.С.Хрущёв, Маршалы Советского Союза Р.Я.Малиновский, А.А.Гречко, М.В. Захаров и К. С. Москаленко беседуют с лётчиком-космонавтом майором Ю. А. Гагариным.
Из Франции пришло много писем. Их писали разные люди, разными словами. Но все они проникнуты одним духом уважения к советскому народу, советской науке, как и письмо боевого товарища советских лётчиков-фронтовиков Франсуа де Жоффра.
Мои товарищи по прошлой службе не только писали, но и приезжали в гости. Первыми нагрянули Борис Фёдорович и Мария Савельевна Вдовины, с которыми мы крепко дружили на Севере. Приехали они в воскресенье из Калуги, где Борис Фёдорович, демобилизовавшись из армии, воспитывает молодёжь. Когда я открыл им дверь, то не сразу узнал своего прежнего командира и товарища. До этого я никогда не видел его в штатском. А тут пиджачок и шляпа, из-под которой сияют такие знакомые, небесной голубизны глаза.
— Юра!
— Боря!
Мы бросились в объятия друг другу. Обнялись и расцеловались, конечно, и наши жены. Валя тут же потащила гостей к маленькой: Галинку ведь Вдовины ещё не видели… Мы пообедали вместе — и пошли разговоры. Вспомнили всех бывших однополчан, потолковали о космосе, о Калуге и не заметили, как наступил тихий майский вечер. Борис Фёдорович украдкой поглядывал на часы и делал знаки Марии Савельевне: время, мол, уходить…
— Ну, что же, Юра, как говорится, пора нам и честь знать, — сказал он, поднимаясь, — не станем мешать, ты человек видный, тебе теперь не до нас…
Эти слова обидели меня. И чуткая Мария Савельевна поняла, как больно они задели меня и Валю.
— Как ты можешь так говорить, Борис, — сказала она, — разве ты не видишь, что Гагарины остались такими же, как и раньше?…
После вручения Ю. А. Гагарину ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и грамоты лётчика-космонавта СССР руководители партии и правительства сфотографировались с членами его семьи и родными. На снимке (в верхнем ряду справа налево): Ф.Р. Козлов, Л. И. Брежнев, В. И. Гагарина, Ю. А. Гагарин, Н.С. Хрущёв A.T. Гагарина, А, И. Гагарин, К. Е. Ворошилов, Р. Я. Малиновский. В нижнем ряду (справа налево):Б.А. Гагарин, А. И. Гагарина, В. А. Гагарин, 3. А. Гагарина.
Она была права. Мы остались такими же, как были, и останемся такими всегда. Никакая слава и почёт не вскружат нам головы, и мы никогда не оторвёмся от товарищей, с которыми съели не один пуд соли, бок о бок с которыми трудимся сейчас.
Вдовины остались ночевать. Правда, было немножко тесновато, и мы устроились на ночь по-походному: кто на раскладушке, кто на диванчике. Но так и не уснули до утра: все разговаривали, перебирали в памяти события и людей. Душевная была встреча…
Через несколько дней, 5 мая, в Соединённых Штатах Америки с базы мыса Канаверал, что в штате Флорида, запустили по баллистической траектории ракету «Редстоун» с пилотом Аланом Шепардом на борту. Ракета взлетела на высоту в 115 миль — это примерно 185 километров, после чего от неё отделилась капсула с пилотом.
Никита Сергеевич Хрущёв по этому поводу послал телеграмму президенту Соединённых Штатов Америки Джону Кеннеди. В телеграмме было сказано: «…Последние выдающиеся достижения в освоении человеком космоса открывают безграничные возможности для познания природы во имя прогресса. Прошу передать мои сердечные поздравления лётчику Шепарду».
Я просмотрел довольно объёмистую пачку американских газет и журналов, посвятивших Алану Шепарду специальные статьи и многочисленные фотоснимки. В день этого полёта на пресс-конференции президент Дж. Ф. Кеннеди, комментируя запуск американской ракеты с человеком на борту, заявил, что все люди испытывают огромное удовлетворение этим достижением. Нам предстоит пройти большой путь в области космоса, мы отстали, сказал президент, но мы работаем напряжённо, и мы намерены увеличить наши усилия.
Газета «Нью-Йорк тайме» с нескрываемой горечью отметила, что ракета, с помощью которой был запущен американский астронавт, имела мощность, составлявшую всего лишь малую часть мощности советской ракеты, а капсула весила значительно меньше кабины «Востока»; продолжительность полёта Алана Шепарда составляла лишь одну шестую часть времени полёта «Востока», а расстояние, покрытое американским пилотом, — примерно одну девяностую часть пути, проделанного русским космонавтом.
Юрий Гагарин на пресс-конференции в Доме учёных.
Я с интересом познакомился с обширными отчётами многочисленных корреспондентов, бывших свидетелями этого запуска. Старт намечался на 8 часов по нью-йоркскому времени. Но ракета с капсулой «Меркурий» и астронавтом поднялась с пусковой платформы лишь в 10 часов 34 минуты. Капсулу несла ракета «Редстоун» высотой 25,3 метра. Вес капсулы, в которой находился человек, составлял 1,5 тонны.
Алана Шепарда начали непосредственно готовить к полёту после полуночи.
Славный Маршал авиации К. А. Вершинин беседует с Юрием Гагариным.
После того как врачи осмотрели его, он занял своё место в капсуле и оставался в ней около трёх с половиной часов, ожидая, пока выверят все системы. Из-за технических неполадок выверка задерживалась. Ясно представил я состояние американца в капсуле. Видимо, часы ожидания были самыми неприятными в его жизни, ибо он оставался наедине со своими мыслями. Когда ракета взлетает, тогда уже не остаётся времени на размышления, приходится работать и все усилия мозга сосредоточивать на том, чтобы полет провести как можно лучше, Большую часть полёта американцу приходилось самому контролировать «крен и рысканье» летательного аппарата. На третьей минуте после запуска «Редстоуна» капсула отделилась от него. Через четыре минуты после запуска Алан Шепард испытал состояние невесомости, продолжавшееся около пяти минут.
Нам с товарищами вскоре довелось увидеть документальный фильм американской кинохроники об этом полёте. Мне, уже испытавшему, что такое полёт в космос, были интересны подробности подготовки ракеты «Редстоун» к запуску, её старта, полёта Алана Шепарда и приводнения капсулы с ним в Атлантическом океане вблизи от авианосца с вертолётами на борту. Вот ракета с колоколообразной насадкой на носу — капсулой пилота — медленно, как бы нехотя взяла старт и, все убыстряя полет, пошла в чистое небо. Вот кадры, автоматически снятые в самой капсуле. Крупно — лицо Алана Шепарда под гермошлемом. Его жуткие, бегающие глаза. По фигуре и лицу пилота всё время скользят солнечные блики — капсулу сильно вращает. Вот она уже на океанской волне. Пилота подбирает вертолёт. Он на палубе авианосца, он в празднично украшенной машине, он выступает с речью…
Алан Шепард сделал всё, что ему позволила сделать американская наука и техника. Это смелый человек. Я дружески жму его мужественную руку и желаю дальнейших успехов ему и его семье. Думаю, рано или поздно нам удастся встретиться.
Кстати, об Алане Шепарде и его полёте мне довелось поговорить с известным американским промышленником лауреатом Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Сайрусом Итоном и его женой. Это произошло в дни моего пребывания в Болгарии, где гостил и Сайрус Итон. Он сказал мне, а потом и журналистам, что в интересах дела мира были бы весьма полезны моя поездка в США и встреча с американским народом.
Поездка в Болгарию была вторым моим зарубежным путешествием. Накануне 1 Мая Центральный Комитет Коммунистической партии Чехословакии пригласил меня посетить Чехословацкую Социалистическую Республику. Я с радостью принял приглашение, ибо, хотя и облетел земной шар, никогда до этого в других странах не был. В Чехословакию я летел на обычном рейсовом самолёте «Ту-104». По аэрофлотовскому билету мне досталось место «2а» возле иллюминатора по левому борту. Салоны воздушного корабля заняли студенты из Объединённой Арабской Республики, товарищи из Китая и Чехословакии, а также группа советских туристов, направлявшихся в Италию. Словом, в самолёте собрался интернационал народов. Вёл нашу машину экипаж во главе с известным лётчиком гражданской авиации Героем Советского Союза Павлом Михайловичем Михайловым. Тут же в самолёте он подарил мне свою книгу «10000 часов в воздухе» с дружеской надписью: «С самыми тёплыми чувствами в память о первом заграничном рейсе от лётчика-земляка. Сегодня Вы у меня пассажиром на „Ту-104“, и, кто знает, может быть, скоро я у Вас буду пассажиром при полёте на Луну». Книга пошла по рукам, вызывая у всех улыбку.
Прага встречает Ю. А. Гагарина.
Павел Михайлович пригласил меня в пилотскую кабину. Я сел на кресло второго лётчика, взял в руки штурвал и, наблюдая за показаниями приборов, повёл машину по курсу. Так мне впервые пришлось побывать за штурвалом «Ту-104». Ничего не скажешь — отличный самолёт построил старейшина советских авиационных конструкторов Андрей Николаевич Туполев!
В самолёте царило приподнятое настроение. Со всех сторон слышались шутки, произносимые на разных языках мира.
— Не каждому дано полететь с первым космонавтом, — пошутила девушка, направлявшаяся в Италию, — буду рассказывать — никто не поверит.
Девушка тут же для подтверждения факта попросила автограф. Я посмотрел на пассажиров и смутился: если писать всем, работы хватит, пожалуй, до самой Праги.
— Автограф не для меня, — добавила девушка, — а для итальянской коммунистической газеты «Унита».
Я написал: «Большой привет товарищам из „Униты“. И эти слова напечатали в Риме.
— Высота — девять тысяч метров, температура за бортом — минус пятьдесят градусов, — сообщила стюардесса Марина Зикалина.
— Как в космосе, не правда ли, Юрий Алексеевич? — с трудом подбирая русские слова, спросил уроженец сирийского города Халеба черноглазый студент Нури Жестон.
— Там похолоднее, — ответил я, — но в кабине «Востока» было тепло. Меня согревали чувства дружбы всех свободолюбивых народов нашей планеты, в том числе и ваших земляков — арабов.
Прага, 28 апреля 1961 года. Первый секретарь ЦК КПЧ Президент Антонин Новотный беседует с советским космонавтом.
Гостеприимно встретила гостей красавица Злата Прага, засыпала весенними цветами, озарила радостными улыбками, одарила горячими рукопожатиями.
Президент Чехословацкой Социалистической Республики Антонин Новотный в знак высокой оценки исторической победы советской науки и техники при осуществлении первого в мире полёта человека в космос присвоил мне почётное звание Героя Социалистического Труда. С чувством благодарности в светлом старинном зале Пражского Града принял я пятиконечную Золотую Звезду — самую высокую награду братской Чехословакии. Эта награда по установившейся традиции вручается один раз в год, накануне 1 Мая. Мне было радостно, что вместе со мной в этот день такой награды были удостоены три лучших работника народного хозяйства страны — шахтёр Ян Мусил, техник-машиностроитель Иозеф Вагницкий и член сельскохозяйственного кооператива Иозеф Троусил, своим трудом добившиеся замечательных результатов в социалистическом строительстве.
Я побывал на крупнейшем в стране машиностроительном заводе «ЧКД — Сталинград», встретился там с рабочими, техниками, инженерами. Было приятно, что этот могучий завод вырабатывает продукцию отличного качества, направляя часть её в Советский Союз и другие страны социалистического лагеря. Рабочие подарили мне, как бывшему литейщику, удачно выполненную фигуру литейщика. Вместе с другими подарками я передал её в музей.
В Праге состоялось много интересных встреч и задушевных бесед. Навсегда запомнился сердечный разговор с Президентом республики Антонином Новотным.
— Судьба нашего народа, — сказал он, — связана с судьбой советских людей на вечные времена. Это принцип всей нашей жизни. И нет сил, которые бы могли нарушить великую дружбу наших народов и наших коммунистических партий.
Товарищ Антонин Новотный сказал, что чехословацкие коммунисты всегда получали и получают неоценимую помощь от Коммунистической партии Советского Союза, получали её и лично от Владимира Ильича Ленина.
— Ленин, — сказал он, — учил нас, помогал нашей молодой партии стать массовой, сильной, действительно коммунистической.
Показывая весеннюю Прагу, один из самых старинных и красивейших городов мира, чехословацкие друзья наряду с Пражским Градом, Карловым мостом, Мавзолеем Клемента Готвальда показали советский танк, вздыбленный на постаменте, — знаменитую «тридцатьчетвёрку», экипаж которой первым ворвался в город в мае 1945 года.
— Советские войска избавили нашу родину от гитлеровского ига, — говорили мне пражане, — и мы свято чтим всё, что связано с их великой освободительной миссией…
Находясь в Праге, я побывал в редакции журнала «Проблемы мира и социализма». В конференц-зале собрались работники этого журнала. Произошла хорошая, дружеская беседа. Работники редакции преподнесли мне памятный сувенир — только что вышедший, ещё пахнущий типографской краской номер своего журнала с автографами многих представителей коммунистических и рабочих партий мира. А я в ответ написал им: «Полёт в космос — это не личный подвиг. Это — достижение коммунизма. Я горжусь тем, что я — коммунист. Передаю через журнал „Проблемы мира и социализма“ горячий привет единомышленникам — товарищам по партиям на всём земном шаре».
Покидая Чехословакию, я любовался её зелёными полями, на которых навсегда стёрты межи частнособственнических хозяйств. Даже с заоблачной высоты, где летел наш «Ту-104», видно было, как кипели весенние работы на крупных квадратах кооперативных земель.
Среди пассажиров оказалось много французов, итальянцев, африканцев и кубинцев. Они направлялись на первомайские праздники в Москву. Пройдя в салон, где расположились летящие из Гаваны Аншен Гутиеррес, Рафаэль Кастеланос и другие кубинцы, я поздравил их с победой, только что одержанной народом героической Кубы, мужественно отразившим вооружённое нападение врагов кубинской революции, и показал им вымпел с цветами государственного флага Кубы, вручённый мне в зале Пражского Града представителями кубинского народа. Я попросил их передать сердечный привет советских космонавтов вождю кубинской революции Фиделю Кастро, которого мы, советские люди, любим и уважаем.
А через некоторое время мне довелось по приглашению Центрального Комитета Болгарской коммунистической партии, Президиума Народного собрания и Совета Министров Народной Республики Болгарии побывать в Софии, Пловдиве, Плевене, Варне и других городах этой цветущей страны. Трудящиеся Болгарии прислали тысячи писем в адрес первого космонавта. Во время полёта в Софию в воздухе я с интересом прочитал несколько десятков таких писем. Каждое из них трогало искренностью и горячей любовью к Советскому Союзу, к лагерю социализма. На многих конвертах были наклеены новые марки с изображениями советских спутников Земли и космических кораблей. Космическая тема всё больше и больше проникала в быт.
София, 22 мая 1961 года. Первый секретарь ЦК БКП Тодор Живков и Председатель Президиума Народного Собрания Народной Республики Болгарии Димитр Ганев встречают советского космонавта.
Самолёт летел над кукурузными полями Украины и виноградниками Молдавии. Он пересёк пограничную реку Прут, и вскоре под крылом возникли вышки румынских нефтепромыслов, а слева по борту проплыли сады Бухареста с его белоснежным зданием нового полиграфического комбината «Скынтейя». Прошло немного времени, и открылись живописные ландшафты Болгарии — страны, являющейся сплошным плодовым садом.
И вот я в открытой машине вместе с Первым секретарём Центрального Комитета Болгарской коммунистической партии Тодором Живковым еду по улицам зелёной Софии. Город разукрашен советскими и болгарскими флагами, на всём пути шпалерами стоял народ, приветствующий новое достижение советской науки. Болгарский язык настолько схож с нашим, русским, что я без переводчика понимал все написанное на плакатах и транспарантах, всё, что скандировали люди. А это были слова сердечного привета Коммунистической партии Советского Союза, здравицы Никите Сергеевичу Хрущёву, всему нашему народу.
Утром мы оказались уже в Пловдиве — старинном фракийском городе, построенном на зелёных холмах. На одном из них воздвигнут памятник советскому солдату-освободителю. В Болгарии его ласково называют «Алёшкой». После стотысячного митинга на центральной площади, на котором я поздравил пловдивчан с их успехами в социалистическом строительстве, мы поднялись на этот вздыбленный холм, к «Алёшке». Я положил к его ногам охапку нежных роз и долго смотрел на высеченную из камня фигуру советского воина в походной плащ-палатке, с автоматом в руках. Видимый отовсюду, как часовой, стоял он на вершине, окидывая орлиным взором освещённую солнцем страну.
Я глядел на него, как на живого, и мне казалось, что свежий ветер, летящий с Балканских гор, шевелит его молодые, слегка тронутые сединой пряди волос, выбивающиеся из-под фронтовой пилотки. И до чего же велика обобщающая сила искусства! Я вглядывался в улыбающееся лицо «Алёшки» и узнавал в нём волевые черты многих советских людей, которых я знаю.
Труженики болгарских полей приветствуют Юрия Гагарина.
Вечером я вернулся в Софию, и там мне торжественно вручили высокие награды — орден Георгия Димитрова и Золотую Звезду Героя Социалистического Труда Народной Республики Болгарии. Я оказался первым иностранным гражданином, удостоенным этого звания. Принося свою благодарность болгарскому народу, я сказал:
— Я расцениваю эти награды как награды передовой советской науке, нашему многомиллионному советскому народу, Коммунистической партии Советского Союза и её Центральному Комитету во главе с Никитой Сергеевичем Хрущёвым.
Огромное впечатление произвёл на меня традиционный праздник — День просвещения, культуры и славянской письменности — «кириллицы», который вот уже в 104-й раз отмечался болгарским народом. Два часа продолжалась могучая и красочная демонстрация в Софии, посвящённая этим любимым в народе торжествам. Она была пронизана искренним восхищением трудящихся Болгарии историческим подвигом советских людей, штурмующих космос. Во многих колоннах можно было видеть портреты К. Э. Циолковского, макеты, изображающие советский космический корабль «Восток». В небо то и дело взлетали «ракеты», сделанные руками учеников и студентов, над головами демонстрантов колыхались плакаты: «Небо! Советский человек тебя покорил!»
И снова поездка по благоухающей запахом роз стране. Плевен — город боевой славы русского оружия. Тут в огне сражений опробовалась и закалилась русско-болгарская дружба. Здесь всё напоминает о далёких днях лета и осени 1877 года, когда русские полки наголову разбили кровожадные войска султанской Турции и положили начало освобождению болгарского народа от многовекового ига янычар оттоманской империи. Парк имени храброго русского полководца Михаила Скобелева, картины известного баталиста, певца балканской кампании и славы русских солдат Василия Васильевича Верещагина, старинные пушки, саркофаги с останками павших воинов. Все это оставило заметный след в душе.
В Плевене один из старейших болгарских коммунистов боевой партизан Димитр Грыбчев рассказал о том, как в тридцатых годах, сидя в Плевенской тюрьме, он вместе с политзаключёнными читал книгу К. Э. Циолковского о межпланетных путешествиях.
— Конечно, — сказал Димитр Грыбчев, — я не думал тогда, что именно в Плевене мне придётся встретиться с первым космонавтом. Но и тогда, мучаясь и страдая в царских застенках, мы верили в силу и могущество Советского Союза — Друга и старшего брата болгарского народа.
Затем Варна — город болгарских моряков и курортов, окантованный песчаными пляжами Черноморья; Стара-Загора, Казанлыкская долина цветущих розовых плантаций и, наконец, обильно политая кровью русских солдат легендарная Шипка, с которой, кажется, видна вся Болгария. Там, на Шипке, пожилая женщина передала мне вышитый платочек с вложенной в него запиской. Её написали болгарские кооператоры. Они передавали привет нашей славной Коммунистической партии, советским учёным, называя космонавтов соколами коммунизма. Два слова — соколы коммунизма, а сколько в них настоящей поэзии, музыки и чувств! Так может говорить только свободный народ!
В этом письме, пахнущем плодородной болгарской землёй, написанном болгарскими крестьянами и переданном болгарской матерью, как бы сосредоточилась вся любовь народа, все его лучшие чувства к советским людям. Весь день я ходил под впечатлением этого ласкового письма, ласковых слов и с чудесным настроением улетел на Родину.
А здесь меня ждали новые встречи, новые поездки. Я слетал в Оренбург, побывал в родном авиационном училище, повидался с преподавателями, выступил перед курсантами.
— Думал ли ты, Юрий Алексеевич, — спросил Ядкар Акбулатов, мой бывший лётчик-инструктор, — что твоя фотография окажется в галерее портретов наших выпускников, ставших Героями Советского Союза?
— Много ещё места в этой галерее, — ответил я и показал ему на курсантов. — Кто знает, чьи портреты ещё придётся увидеть здесь?! В нашей стране ведь каждый может стать героем.
А здесь меня ждали новые встречи, новые поездки. Я слетал в Оренбург, побывал в родном авиационном училище, повидался с преподавателями, выступил перед курсантами.
— Думал ли ты, Юрий Алексеевич, — спросил Ядкар Акбулатов, мой бывший лётчик-инструктор, — что твоя фотография окажется в галерее портретов наших выпускников, ставших Героями Советского Союза?
— Много ещё места в этой галерее, — ответил я и показал ему на курсантов. — Кто знает, чьи портреты ещё придётся увидеть здесь?! В нашей стране ведь каждый может стать героем.
Все в Оренбурге напоминало о днях моей юности. И прохладные воды Урала, и изумрудная листва заречной рощи, и поросшие дикими цветами степные дали. В хорошем городе довелось мне учиться…
Ещё в космосе я решил обязательно побывать в старинном русском городе Калуге — колыбели теории межзвёздных полётов. И случай этот быстро представился — калужане пригласили меня на закладку нового музея своего знаменитого земляка К. Э. Циолковского.
Курсанты Оренбургского военного авиационного училища, в котором учился первый космонавт, у стенда, посвящённого полёту Ю. А. Гагарина в космос.
С волнением подъезжал я с аэродрома к раскинувшемуся на взгорье городу, утопавшему в свежей зелени садов, только что омытых шумным грозовым ливнем.
Первым делом вместе с товарищами мы побывали на могиле учёного, украшенной обелиском, на постаменте которого солнце золотило пророческие слова: «Человечество не останется вечно на земле, но, в погоне за светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство». Когда-то в Саратове я окончил этой фразой К. Э. Циолковского свой доклад о межпланетных сообщениях. Как тесно прошлое переплетается с настоящим!
Мы возложили венок из живых цветов На дорогую могилу и долгим молчанием почтили память великого провидца. В это время в небе возникла радуга и повисла над городом, словно венок.
Почти весь день мы провели в Калуге, где многое связано с именем К. Э. Циолковского: его домик-музей; памятник учёному из бронзы и нержавеющей стали, воздвигнутый в сквере Мира; улица К. Э. Циолковского; школа, в которой он более двух десятков лет преподавал точные науки и где сейчас обучает детей русскому языку и литературе его внучка — Марина Вениаминовна Самбурова. Я повидался с ней и с её братом Алексеем Костиным — местным журналистом. Они многое рассказали о своём деде, его жизни, его привычках. И образ гениального учёного стал для меня ещё более понятным и близким.
Юрий Гагарин среди офицеров Оренбургского военного авиационного училища.
Я был глубоко тронут, когда на митинге, собравшемся на площади имени В. И. Ленина, меня вместе с К. Э. Циолковским назвали почётным гражданином города Калуги. Много ещё впереди смелых полётов в космос, и все наши космонавты будут приезжать в этот близкий их сердцам город, воздавая должное тому, кто первым из людей в своих дерзких планах и чертежах проложил нам путь к звёздам.
Мне очень хотелось после полёта в космос побывать на своей родине — Смоленщине, погостить в Гжатске, съездить в село Клушино, где прошли детские годы, повидать земляков.
И вот они, милые моему сердцу, раздольные края. Глубокая и прохладная река Гжать, опушённая метёлками камыша, рощи и перелески, полевые дороги среди цветущей ржи и льна, смугло-золотые вальдшнепы и цоканье соловьёв. Все — как в детстве. Только добавились высоковольтные линии электропередач, да больше стало на дорогах машин, да ещё, пожалуй, масса новых, недавно построенных домов. И отец с матерью встретили меня в новом доме, все на той же Ленинградской улице, где прошло моё детство. Советское правительство построило и подарило им новый домик, окружённый небольшим яблоневым садом.
Много было радостных, приятных встреч в Гжатске. Я побывал в родной школе на Московской улице, посидел за своей прежней партой, побеседовал со своими учителями, которым многим обязан. Милые, хорошие люди, как много они сделали для меня и как много делают теперь для школьников!
На митинге, состоявшемся в городе, расцвеченном флагами, мы горячо обнялись с учителем физики Львом Михайловичем Беспаловым. Кто знает, не встреть я его, и, может быть, не был бы космонавтом. Это так важно — с детства определить свой дальнейший жизненный путь и идти по нему, не сворачивая в сторону. Лев Михайлович привил мне любовь к физике и точным наукам, познакомил с творчеством К. Э. Циолковского.
За столом, во главе которого хлопотала мама, собрались многочисленные родственники: сестра моя, Зоя, с мужем — фрезеровщиком радиозавода Дмитрием Бруевичем, хорошенькой четырнадцатилетней дочерью Тамарой и десятилетним сыном Юрой, который, в подражание мне, твёрдо решил стать космонавтом. Зоя по-прежнему работает медицинской сестрой, всё такая же худенькая, с голубенькими серёжками в ушах. Она старше меня на семь лет и все никак не может привыкнуть к тому, что я уже взрослый и все могу делать без её помощи и советов.
Брат Борис успел жениться, работает слесарем-ремонтником на радиозаводе, а молодая жена его, Аза Ивановна, — сборщица на том же заводе. Брат Валентин — шофёр на грузовике. Так наша колхозная семья стала семьёй рабочей, во главе которой по-прежнему остаётся строгий и справедливый отец.
Я побывал в нашем ветхом стареньком домике, расположенном через улицу, напротив нового. Все в нём — и запахи, и потрескивание брёвен — напоминало о детстве. На стенах, оклеенных жёлтенькими обоями, висели фотографии нашей семьи, сделанные во время пребывания в Кремле. Фотографии эти прислала маме Нина Петровна Хрущёва.
К нашему дому приходило много народу: школьники с учителями, колхозники, пришла даже группа дряхлых старушек. Их интересовало, видел ли я в небесах господа бога? Я вынужден был разочаровать их. Полёт человека в космос нанёс сокрушительный удар церковникам. В потоках писем, идущих ко мне, я с удовлетворением читал признания, в которых верующие под впечатлением достижений науки отрекались от бога, соглашались с тем, что бога нет и все связанное с его именем — выдумка и чепуха.
В первый же день моего приезда на родину радио передало радостное сообщение о том, что Президиум Верховного Совета СССР, отмечая выдающиеся заслуги Первого секретаря Центрального Комитета КПСС и Председателя Совета Министров СССР Никиты Сергеевича Хрущёва в руководстве по созданию и развитию ракетной промышленности, науки и техники и успешному осуществлению первого в мире космического полёта советского человека на корабле-спутнике «Восток», открывшего новую эру в освоении космоса, своим Указом наградил товарища Н. С. Хрущёва орденом Ленина и третьей золотой медалью «Серп и Молот».
Вместе с первооткрывателем космической эры Никитой Сергеевичем Хрущёвым было награждено много рабочих, конструкторов, учёных, руководящих инженерно-технических работников, а также научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и заводов. Семь видных советских учёных и конструкторов были награждены второй золотой медалью «Серп и Молот», а девяноста пяти ведущим конструкторам, руководящим работникам, учёным и рабочим было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Шесть тысяч девятьсот двадцать четыре человека были награждены орденами и медалями Советского Союза.
Узнав из сообщения по радио обо всём этом, я тут же связался с редакцией «Правды» и попросил передать от меня, моих родителей и земляков Никите Сергеевичу Хрущёву и всем награждённым товарищам наши самые сердечные поздравления. Ведь их самоотверженный труд так высоко поднял славу нашей Родины, проложил человечеству путь во Вселенную!
А утром, когда мы были на рыбалке, на берег нашей прохладной Гжати привезли свежие газеты. Я прочитал товарищам Указы Президиума Верховного Совета СССР и передовую статью «Правды», посвящённую великому подвигу советских людей, создавших корабль-спутник «Восток» и направивших его в космос. И тут завязалась задушевная беседа о творцах космической техники, о той заботе и внимании, которые повседневно проявляет Центральный Комитет нашей партии, Советское правительство и лично Никита Сергеевич Хрущёв к советским космонавтам и строителям наших могучих космических кораблей. Ещё и ещё раз рассказывал я землякам о волнующих встречах с Никитой Сергеевичем Хрущёвым, происшедших после возвращения на Землю из космоса, с Главным Конструктором, Теоретиком Космонавтики и другими специалистами, о моём друге Германе Титове и о других товарищах космонавтах, о полётах в зарубежные страны, народы которых горячо приветствовали новое выдающееся достижение советской науки и техники…
Поездка на родину, встречи с земляками, с рабочими и колхозниками, сам воздух, напоённый запахом полей и лесов, наполнили меня новой энергией, и мне захотелось снова засучив рукава работать и учиться — делать то, что требует от каждого из нас социалистическая Отчизна.
ЗАРУБЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ
В те дни, когда наш народ праздновал замечательную победу советской науки и техники в связи с успешным полётом космического корабля «Восток», на моё имя из многих стран стали приходить приглашения приехать в гости, рассказать о первом полёте человека в космос. Эти приглашения поступали не только от правительственных кругов зарубежных государств, но и от общественных организаций. Принять все приглашения сразу я, естественно, не мог: нужно было подвести итоги проделанной работы, принять участие в подготовке второго полёта человека в космос. Ведь сделанные мною кое-какие наблюдения во время рейса «Востока» могли быть полезными тому советскому космонавту, на которого будет возложено выполнение этой задачи.
Честно говоря, ни я, и никто из моих друзей не сомневались, что командиром космического корабля, который снова пойдёт по орбите вокруг Земли, назначат Германа Титова. К этому были все основания, и в том числе такое веское, как его полная готовность к тому, чтобы 12 апреля, если бы только потребовалось, немедленно заменить меня и занять пилотское кресло в кабине «Востока», совершить полёт в космос. Герман Титов в числе других специалистов, удостоенных правительственных наград в связи с успешным осуществлением полёта корабля «Восток», был награждён орденом Ленина. Мне было радостно узнать об этом и одному из первых сердечно поздравить друга, творческие усилия которого получили достойную оценку нашего народа.
— Лиха беда начало, — дружески похлопывая Германа по плечу, шутили товарищи, намекая на то, что после свершения нового полёта человека в космос он, наверное, будет удостоен ещё одной награды. И жизнь показала: друзья космонавты не ошиблись. Блестяще выполнив полёт на космическом корабле «Восток-2», Герман Титов стал Героем Советского Союза, был награждён вторым орденом Ленина.
Я уже писал, что в апреле, перед Первомайским праздником, мне довелось побывать в Чехословакии, а потом, в мае, — в Народной Республике Болгарии. В конце июня общество «Финляндия — Советский Союз» пригласило меня на свой ежегодный летний праздник, который проводился на севере Финляндии, в городе Кеми.
В Хельсинки, столицу Суоми — страны тысячи озёр, мы ехали поездом. По литературе и рассказам товарищей я представлял себе финнов людьми несколько угрюмыми, суровыми, как сурова сама финская природа. Но первые же встречи с трудящимися Финляндии, приветствовавшими наш поезд на всём пути от границы с СССР до Хельсинки, заставили меня изменить это мнение. Встречи были дружественные, сердечные. Слов нет, финны не очень разговорчивы, но зато как много говорили их тёплые улыбки, крепкие, мужественные рукопожатия! Многие дарили незатейливые, но сделанные от всей души подарки.
Один такой подарок, преподнесённый рабочим со станции Коувала, бережно хранится у меня дома. Это пара «тоссут», старинной финской обуви, сплетённой из бересты. В такой обуви в древней Финляндии люди по трудным дорогам проходили большие расстояния.
— Когда полетите на Луну, — шутливо сказал мне рабочий, — возьмите их с собой.
— Спасибо, — сказал я, благодаря финского товарища за символический подарок, и тоже пошутил:-На советском ракетном ковре-самолёте, да ещё в финских «тоссут», не только на Луну, но и на другие планеты можно добраться…
Мы провели в Финляндии пять дней, побывали не только в столице Хельсинки, но и в Хяменлинне — на родине выдающегося государственного деятеля финского народа Юхо Кусти Паасикиви и всемирно известного композитора Яна Сибелиуса; в Тампере — городе финских машиностроителей, текстильщиков и обувщиков, где бывал В. И. Ленин, заложивший основы крепкой дружбы советского и финского народов, и где музей, открытый в здании заседаний известной Таммерфорсской конференции большевиков, посетило уже свыше 100 тысяч человек; в лапландских городах Оулу и Кеми; в крупном балтийском порту Турку и в других городах. Мы совершали свои поездки на автомобилях, на самолёте, поездами. Нам довелось встречаться с Президентом Республики Финляндии Урхо Кекконеном, многими государственными и общественными деятелями, рабочими, крестьянами, моряками, военными, писателями и журналистами.
Встреча Ю. А. Гагарина в Хельсинки (Финляндия).
Большое впечатление на всех нас, участников этой поездки, произвёл традиционный ежегодно проводимый в Финляндии летний праздник советско-финской дружбы. На этот раз он был организован в Кеми — крупном промышленном центре северной Финляндии. В приморском парке, разбитом на берегу Ботнического залива, собрались тысячи людей. Они приехали сюда поездами, автобусами и автомашинами, прилетели на самолётах. В толпе можно было увидеть колоритные фигуры лапландских оленеводов, одетых в яркие национальные костюмы. Сюда приехала и молодёжь из международного туристического лагеря, в котором находились шведские, норвежские и советские студенты.
На празднике дружбы в Кеми губернатор Лапландской губернии Мартти Миеттунен, председатель общества «Финляндия — Советский Союз» С. К. Кильпи и другие ораторы высказали много тёплых слов как в мой адрес, так и в адрес советских учёных, инженеров и рабочих, создавших космический корабль «Восток», обеспечивших его полет по орбите вокруг Земли. Выступал, конечно, и я. Рассказал о полёте «Востока», о том, какой гигантской мощностью — 20 000 000 лошадиных сил — располагали шесть двигателей ракеты-носителя, выведшей его на орбиту; о встречах с Главным Конструктором и Теоретиком Космонавтики, о товарищах космонавтах. Буря аплодисментов поднялась в парке, когда я сообщил о том, что Никита Сергеевич Хрущёв, которого хорошо знают по его приездам в Финляндию миллионы наших финских друзей, за развитие советской космонавтики награждён орденом Ленина и третьей золотой медалью «Серп и Молот».
На следующее утро после праздника дружбы мы самолётом вылетели в Хельсинки и здесь перед отъездом в Турку провели пресс-конференцию с финскими и аккредитованными в Финляндии иностранными журналистами. Признаться, я в душе немного волновался — как-никак, а ведь это было моё первое официальное выступление перед представителями печати в капиталистической стране. Не стушуюсь ли я при каком-нибудь особенно «остром» вопросе, на которые, как предупреждали товарищи из общества «Финляндия — Советский Союз», довольно падки иные из финских корреспондентов.
Пресс-конференция состоялась в просторном холле на девятом этаже одного из лучших отелей Хельсинки — «Ваакуна», в котором расположилась наша делегация. Меня усадили за низенький столик. Принесли кофе в маленьких чашечках. Все собравшиеся, человек пятьдесят — шестьдесят, задымили сигаретами, и «атака» началась. Её возглавила корреспондентка американского агентства Ассошиэйтед Пресс.
— Мистер Гагарин, — спросила она на ломаном русском языке, — скажите, какие марки вин и коньяков вы предпочитаете?
Вопрос этот, видимо, был задан с той целью, чтобы с первых же минут увести беседу с главного русла — о достижениях советской науки и техники, разменять её на мелочи, касающиеся моей личной жизни. Отвечая американке, я постарался как можно тактичнее пояснить, что мы, советские космонавты, занимаемся столь важным делом, что позволить себе излишнее увлечение спиртным никак не можем и что для детального изучения марок вин, как это, может быть, делает кто-либо из присутствующих, просто-напросто не располагаем временем. Ответ вызвал общий смех.
Однако кое-кто из друзей американской журналистки всё же пытался «сражаться» до конца. Эти корреспонденты, прикидываясь малосведущими в космонавтике, старались вынудить меня к таким ответам на вопросы, касающиеся устройства космического корабля и советских ракет-носителей, в которых бы проскользнули сведения, до поры до времени не подлежащие разглашению. Один из журналистов — представитель редакции газеты довольно реакционного толка — затеял даже нечто вроде спора о достоинствах и недостатках американских и советских ракет.
— Если Советский Союз, — пришлось сказать ему, — своими ракетами может выводить в космос корабли весом в шесть тонн, тогда как американские ракеты пока что поднимают только полторы — две тонны груза, то всем ясно: советские ракеты обладают гораздо большей мощностью.
Надо сказать, что в те дни во многих финских газетах появились пространные сообщения о готовящемся в США полёте в космос. В то же время, ссылаясь на «авторитетные» западногерманские источники, некоторые газеты опубликовали некий «радиоперехват» с советского космодрома, из которого якобы явствовало, что новый полёт в космос вот-вот состоится в СССР. Естественно, что вопрос об этом был задан и мне.
— Ну что же, — сказал я, — возможно, что прыжок в космос, подобный недавнему прыжку американского астронавта Алана Шепарда, будет вновь совершён в США. Но мы, советские космонавты, глубоко уверены: следующий полёт человека в космос, подготовленный в нашей стране, будет куда серьёзнее и принесёт, несомненно, больше научной пользы…
Забегая вперёд, скажу, что в первых числах августа, публикуя сообщения о полёте Германа Титова, комментируя эти сообщения, многие финские журналисты припомнили мои слова и приводили их в своих статьях и корреспонденциях, посвящённых рейсу «Востока-2».
Никогда не забудутся те волнующие часы, которые довелось пережить в Финляндии, когда в помещение советского посольства в Хельсинки пришли делегации рабочих промышленных предприятий города. Многие приходили сюда прямо из цехов и с судостроительных верфей, вручали памятные подарки. Юношеская самодеятельная концертная бригада одного из заводов прямо в зале, где происходила эта встреча, исполнила песню, сложенную в честь строителей космических кораблей. Подарков было так много, что для них из соседних комнат пришлось принести столики. Вернувшись на Родину, я отдал эти подарки в Центральный музей Советской Армии и другие наши музеи.
До глубины сердца меня тронуло внимание финских коммунистов. От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Финляндии вице-председатель партии И. Мурто прикрепил к моему военному кителю Золотой значок партии. Мы крепко обнялись и расцеловались с товарищем Мурто. Искренне поблагодарив его, я сказал, что отношу этот дорогой знак внимания финских коммунистов прежде всего к Коммунистической партии Советского Союза, которой я, простой человек, обязан всем, чего достиг, и что ради её священного дела не пожалею ни сил, ни самой жизни.
Незадолго до отъезда из Финляндии мне довелось повидаться с известным финским писателем Мартти Ларни, чьё острое сатирическое перо смело бичует язвы и пороки капиталистического общества.
— Вы, Гагарин, — сказал мне Мартти Ларни с присущим ему юмором, — воочию убедились, что Земля кругла, как шар, в чём я всегда несколько сомневался, так как допускал, что политики могли превратить её в блин. Вы видели, что земной шар прекрасен, в чём у меня были тоже сомнения, потому что некоторые люди хотели уничтожить нашу планету…
Улетая из Хельсинки на Родину, я был полон впечатлений о красивой, хотя и суровой, природе Финляндии, с её хвойными лесами, гладью озёр, скалистой землёй, которую прекрасно возделывает трудолюбивый финский народ. Но самыми лучшими впечатлениями были многочисленные встречи с жителями городов и селении, встречи дружественные, преисполненные живейшего интереса финских трудящихся к Советскому Союзу, их искреннего желания крепить добрососедские отношения с советским народом, вместе бороться за мир.
Подобные чувства вместе со своими товарищами по поездкам испытал я и при посещении других стран. Июль был целиком заполнен такими поездками. Едва успев возвратиться из Финляндии и побывать на традиционном празднике Дня Воздушного Флота, мы рейсовым «Ту-104» вылетели в Англию. Лондонцы устроили нам радушную встречу как на самом аэродроме, так и на всём более чем двадцатикилометровом пути до здания советского посольства, находящегося в центре города, неподалёку от Гайд-парка.
Пять дней, проведённых в Англии, признаться, значительно изменили моё прежнее представление о британском народе, почерпнутое главным образом из художественной литературы. Куда делись описанные в ней чопорность и строгость людей? И в Лондоне, и в Манчестере, куда мы летали на турбовинтовом «Вайнкаунте», всюду: на официальных ли приёмах в Букингэмском дворце у королевы Елизаветы Второй или в здании Адмиралтейства у премьер-министра Гарольда Макмиллана; на заводском ли дворе крупнейшего машиностроительного предприятия фирмы «Метро-Виккерс» или в залах «Эрлз-Корт» — огромного многоэтажного помещения, где была открыта советская промышленная выставка; на пресс-конференциях, в крепости-музее Тауэр, в Королевском обществе (Британской академии наук), — словом, где бы мы только ни появлялись, нас всюду окружали весёлые приветливые лица. Остроумные, дружески расположенные люди с живейшим интересом расспрашивали меня и моих спутников о достижениях советской науки и техники, о жизни в Советском Союзе. И было, конечно, приятно рассказывать такой многочисленной и внимательной аудитории об успехах нашего народа в освоении просторов Вселенной, о том созидательном творческом труде, которым заняты все советские люди.
Каждый день лондонские почтальоны доставляли в советское посольство объёмистые пачки писем и телеграмм, присланных из многих уголков Англии. Авторы этих писем и телеграмм — рабочие, педагоги, крестьяне, студенты, домашние хозяйки, служащие — сердечно поздравляли меня с приездом в их страну, выражали надежду, что этот визит послужит укреплению дружбы между английским и советским народами. Очень взволновало меня письмо, на конверте которого не было адреса отправителя, и подписанное весьма лаконично, но выразительно — «Рабочий». В письме говорилось: «Как один из рабочих Англии, хочу поздравить Вас, мистер Гагарин, с великолепным достижением, а ещё больше поздравить всю Вашу страну. Добрых успехов всем советским людям. Они показали миру, на что способны народные массы, когда они получают образование».
Лондон. У могилы Карла Маркса на Хайгетском кладбище.
Чудесная встреча произошла у нас с английскими рабочими в Манчестере — крупнейшем старинном промышленном центре Англии. Она началась ещё в Манчестерском исполкоме профсоюза литейщиков, где рабочие вручили мне Золотую медаль с вычеканенными на ней замечательными словами: «Вместе мы отольём лучший мир». Принимая этот памятный подарок, искренне благодаря за него английских товарищей по классу, я сказал, что, несмотря на новую профессию лётчика-космонавта, в душе по-прежнему считаю себя рабочим, что именно поэтому мне так близко и дорого внимание, оказанное манчестерскими литейщиками.
Затем мы направились на машиностроительный завод. Там только что начался обеденный перерыв. Рабочие встретили нас у ворот завода, провели в формовочный цех. Потом на заводском дворе состоялся многотысячный митинг. Трудно передать словами то волнение, с которым я выступал на этом митинге, взобравшись на грузовик с откинутыми бортами. Всюду, куда только достигал глаз, стояли люди в спецовках, всего только на каких-нибудь полчаса вышедшие из цехов, чтобы увидеть и послушать космонавта, прибывшего из Советского Союза.
Встречаясь взглядами и с молодыми, и с пожилыми рабочими и работницами, я видел в их глазах неподдельную приветливость, самое сердечное радушие. Что-то дрогнуло в душе, и мне захотелось по-простому, по-рабочему, обнять каждого, кто пришёл на митинг, обменяться с ним крепким, пролетарским рукопожатием.
Времени на митинг было отпущено немного: администрация завода разрешила профсоюзной организации для встречи с советским космонавтом использовать только обеденный перерыв, и поэтому все выступали с короткими, но очень яркими, идущими от сердца речами. Предоставили слово и мне. Я передал манчестерским машиностроителям горячий привет от своих товарищей космонавтов, кратко рассказал о том, что видел в космосе во время полёта на корабле «Восток», сказал, что его построили советские учёные, инженеры и рабочие, труд которых направлен прежде всего на укрепление мира.
— Мне бесконечно радостно, — заканчивая выступление, сказал я, — пожать здесь, в Манчестере, тысячи мозолистых рабочих рук, которые, как и во всех странах, создают все прекрасное на Земле.
Эти слова были встречены бурными аплодисментами. Раздался заводской гудок — обеденный перерыв закончился. Однако рабочие не ушли в цеха до тех пор, пока не проводили советских гостей, ещё и ещё раз желая нам новых успехов в развитии космонавтики, в борьбе за мир. Многие в эти минуты, по существующему в Англии обычаю, старались дотронуться до моего плеча ладонью, чтобы, как о том говорит народное поверье, передать все свои лучшие чувства и в ответ взять мои.
Пока сквозь густую толпу мы пробирались к машинам, отовсюду можно было слышать возгласы, произносимые и по-английски, и по-русски:
— Привет советскому народу!
— СССР — ура!
— Спасибо Никите Хрущёву!
Почти весь день мы провели в трудовом Манчестере, который, как и вся Англия, широко раскрыл свои объятия советским людям, приехавшим в гости к британскому народу с чистым сердцем и самыми добрыми намерениями.
В Лондоне, как и несколько дней назад в Хельсинки, меня пригласили на пресс-конференцию. Только участников её было куда больше — около двух тысяч журналистов, представлявших британскую прессу, радио и телевизионные компании. Тут же, в демонстрационном зале «Эрлз-Корт», собрались и корреспонденты из многих стран Европы, из США, Латинской Америки, с африканского и азиатского континентов, из Австралии.
Как только я занял место за столом с микрофонами, установленными на небольшом возвышении, на меня буквально набросился отряд фотокорреспондентов. Непрерывно вспыхивали огни блицев, как пулемёты, стрекотали ручные киноаппараты. Отовсюду слышались гортанные выкрики:
«Юрий! Юрий!» — каждый хотел иметь снимок, на котором бы я был изображён с лицом, обращённым только к читателям его газеты или журнала. Желание вполне понятное. Но как я ни поворачивался из стороны в сторону, вряд ли всем удалось сделать нужные снимки. Наконец, спустя минут пятнадцать, фотосъёмки закончились, можно было приступать к ответам на вопросы. В зале сразу поднимается множество рук. Посол СССР в Великобритании А. А. Солдатов, ведущий пресс-конференцию, смущён: кому предоставить первое слово? Наугад он показывает рукой в центр зала. Туда сразу же устремляется радист с переносным микрофоном. Вопрос задаёт корреспондент английской «Тайме». Вслед за ним — представитель одной из британских телевизионных компаний.
— Мистер Гагарин, — спрашивает корреспондент известного радиоагентства Би-Би-Си, — что вам показалось более трудным — рейс в космосе вокруг Земли или поездки по зарубежным странам?
Ну что можно было ответить на этот вопрос? Пришлось пошутить, что, когда, мол, слетаете в космос, сами узнаете, что труднее… Шутка быстро настроила собравшихся на исключительно дружественный лад. Встав на стул, чтобы его было видно всем, человек с черным лицом, одетый в белый бурнус, — представитель одной из африканских газет — произносит приветственный спич, приглашая меня приехать в Африку. Другой, по-южному экспансивный молодой журналист, передал оду, написанную киприотским поэтом, и также пригласил в гости на Кипр. Третья, корреспондентка «Дейли мэйл», от имени английских женщин и девушек — читательниц её издания — просила принять их сестринские поцелуи, говорит, что они тоже хотят слетать в космос.
Многочисленные вопросы журналистов носили самый разнообразный характер. Представителей американских и канадских газет интересовало, как я отношусь к произведениям научно-фантастического характера, принадлежащим перу авторов Запада.
— Есть интересные книги, — ответил я, — и с научно-технической стороны близкие к действительности. Но плохо, что герои этих книг рисуются некими «сверхчеловеками». Жизнь показывает, что и космос будут осваивать не какие-нибудь «супермэны», а самые простые люди. Ведь строители советских космических кораблей да и мои товарищи космонавты — это простые люди, представители нашего рабочего класса, нашей интеллигенции. Всего несколько лет назад я был рабочим-литейщиком, а теперь стал лётчиком-космонавтом. Посмотрите: разве я похож на «сверхчеловека»? И в Советском Союзе таких обыкновенных людей, сделавших космонавтику не только мечтой, но и реальной действительностью, много.
Один из корреспондентов, поинтересовавшись, не устал ли я от той известности, которую получило моё имя после 12 апреля, заметил, что, наверное, теперь мне обеспечен отдых до конца жизни. Пришлось разъяснить, что, по нашим советским взглядам, было бы неправильным разделять общество на людей знаменитых, которым их известность даёт якобы право не работать, и на тех, кто ещё не имеет такой славы и, значит, только поэтому должен трудиться.
— У нас, в Советском Союзе — стране массового героизма, трудятся все, — сказал я. — Больше того, наши знаменитости — Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, а их в стране десятки тысяч, стараются работать как можно лучше, личным примером увлекают на трудовые подвиги других. В этом отношении мы берём за образец величайшее трудолюбие главы Советского правительства Никиты Сергеевича Хрущёва. Он награждён тремя золотыми медалями «Серп и Молот», то есть трижды удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда. Никите Сергеевичу уже не мало лет. Но его энергии, его кипучей, страстной деятельности, направленной на утверждение мира, может позавидовать любой молодой человек…
После пресс-конференции мне ещё несколько раз пришлось беседовать с английскими журналистами, выступать по британскому телевидению. И хотя это было довольно утомительно, я старался отвечать на все вопросы зарубежных корреспондентов. И надо отдать должное большинству из них — они много писали об этом в своих газетах. Значит, содержание этих бесед доходило до широкого круга читателей и в самом Лондоне, и в других городах страны. А это было главным, ибо английский народ узнавал всё больше и больше правды о Советском Союзе, о жизни и взглядах советских людей.
Вечером, накануне отъезда на Родину, мы побывали на Хайгетском кладбище, возложили венок к подножию монумента на могиле Карла Маркса. Никогда не забыть мне этих минут, когда, по-военному отдавая честь памятнику величайшему мыслителю, основоположнику научного коммунизма, я молча вглядывался в высеченный из гранита, покоряющий сердца миллионов людей мужественный облик. Вокруг на кладбище собрались тысячи жителей Хайгетского рабочего района британской столицы, И мне показалось, что сердца их в этот момент бьются в едином ритме с моим сердцем советского человека, рядового ленинской партии коммунистов, который пришёл сюда, к первому коммунисту в мире, чтобы рассказать о своём скромном вкладе в осуществление мечты человечества об освоении космоса.
Мне вспомнились вещие слова Карла Маркса о революционерах, штурмующих небо. Теперь в своём неудержимом движении вперёд по пути создания коммунистического общества советские люди, руководимые Коммунистической партией, начали штурмовать космос. И делают они это в интересах науки, благосостояния человека, для мира. Что может быть прекраснее сознания того, что и ты принимаешь участие в этом великом свершении народа!
Наутро лондонцы тепло проводили нас на Родину. Вернувшись в Москву, мы вскоре же вылетели в Польшу, чтобы вместе с польскими трудящимися принять участие в национальных торжествах, посвящённых семнадцатой годовщине со дня провозглашения народной власти.
Красавица Варшава, возрождённая после войны из руин и развалин, встретила нас традиционным «Сто лят», забросала цветами. Прямо с аэродрома мы проехали в здание ЦК Польской объединённой рабочей партии, где состоялась задушевная беседа с первым секретарём ЦК ПОРП В. Гомулкой, председателем Государственного совета ПНР А. Завадским, председателем Совета министров ПНР Ю. Циранкевичем и другими руководителями польского государства. Было приятно услышать от польских товарищей высокую оценку достижений советской науки и техники.
— Ваш космический корабль «Восток», — сказал В. Гомулка, — замечательнейшее сооружение социалистической эпохи. Вот что может сделать ум человеческий, ум людей, строящих коммунизм!
Польские руководящие деятели, рассказав о том, как народ их страны самоотверженно трудится, строя социализм, посоветовали поближе познакомиться с новой, социалистической Варшавой. Мы долго ездили по её широким светлым улицам и площадям, побывали в сооружённом советскими строителями в дар польскому народу Дворце культуры и науки, в Старом Мясте, в Муранове, где возводятся кварталы новых, современного типа жилых домов, на стадионе в Праге, любовались красивыми мостами, переброшенными через широкую и полноводную Вислу. И всюду, где бы ни появлялись наши машины, нас горячо приветствовали толпы взволнованных, радостных варшавян.
Вечером в Бельведерском дворце председатель Государственного совета Польской Народной Республики А. Завадский вручил мне почётную награду — орден Грюнвальдского креста первой степени. После этой торжественной церемонии и товарищеского ужина с представителями трудящихся Варшавы мы поездом выехали в крупнейший индустриальный район страны — Силезию.
Следующее утро застало нас в Катовицах — центре Силезского бассейна. Привокзальную площадь заполнило людское море. Нас окружили горняки в праздничной одежде и красивых форменных шапках с султанами всех цветов радуги. Под руки меня подхватили девушки в национальных костюмах, расшитых золотом и серебром. Мы сразу оказались в атмосфере большого радостного праздника, посвящённого Дню национального возрождения Польши. На фасадах домов развевались польские и советские флаги, всюду виднелись портреты В. И. Ленина, Н. С. Хрущёва, В. Гомулки. Большие транспаранты на польском и русском языках провозглашали здравицы в честь Н. С. Хрущёва — неутомимого борца за мир между народами. Через всю площадь был протянут плакат со словами «Социализм — мир — труд».
Приподнятым, праздничным настроением были охвачены все жители Силезского промышленного района. Он ведь, по сути дела, представляет собою почти один сплошной город. Я ещё никогда не видел такого огромного сосредоточения заводов, шахт, доменных печей, как здесь. Почти стокилометровая трасса, по которой ехали наши машины через Катовице, Хожув, Свентохловице, Руду Шленску, Забже и Бытом, была заполнена народом. Почти у каждого крупного предприятия кортеж машин останавливался, возникали летучие митинги. Шахтёры и металлурги преподносили цветы и памятные подарки, крепко пожимали нам руки. А мы в ответ дарили польским друзьям значки с изображением В. И. Ленина, Кремля, советских искусственных спутников Земли.
Встреча Ю. А. Гагарина с первым секретарём ЦК ПОРП В. Гомулкой и председателем Государственного совета ПНР А. Завадским.
Польские журналисты, сопровождавшие нашу группу, говорили, что в этот день более миллиона жителей Силезии вышли на улицы своих городов и рабочих посёлков, чтобы повидать советского космонавта. Временами небо хмурили тучи и накрапывал дождь. Но люди не уходили, и я, конечно, тоже не прятался. Мы ехали в открытом автомобиле вместе с членом Политбюро ЦК ПОРП Э. Тереком, заместителем председателя Совета министров ПНР П. Ярошевичем и послом СССР в Польше А. Б. Аристовым. И что из того, что наши костюмы промокли; главное было ведь в том, чтобы повидаться с возможно большим числом польских друзей, пожать как можно больше мозолистых, трудовых рук шахтёров, доменщиков и рабочих других специальностей, которые самоотверженно строят новую жизнь.
Вечером в Катовице пришло известие о том, что американский астронавт Вирджил Гриссом, повторяя прыжок в космос своего предшественника Алана Шепарда, при снижении капсулы в воды Атлантического океана из-за возникшей в ней неисправности едва не утонул. Капсула ушла на дно океана. Польские журналисты, узнав об этом, тотчас же попросили меня прокомментировать случившееся с Гриссомом.
— Хорошо, — сказал я, — что этот смелый человек, использовавший, видимо, всё, что могла дать ему американская техника, остался жив. Трагический конец его полёта был бы очень неприятен не только для тех, кто имеет непосредственное отношение к освоению космического пространства, но и для всех друзей американского народа.
Наутро мы должны были вылететь в Зелёную Гуру — один из воеводских центров воссоединённых западных земель, где собирался общепольский слёт молодёжи. Дорога из Катовице на Ченстоховский аэродром шла по тем районам, где в годы Великой Отечественной войны сражались с врагом некоторые из моих спутников. Они узнавали знакомые места, рассказывали мне: вон из той рощицы гитлеровцы пытались контратаковать наши части; у этого перекрёстка дорог был взят в плен гитлеровский генерал; а там на ровном поле, засеянном пшеницей, была оборудована полевая посадочная площадка истребительного полка. Товарищи рассказывали, как неудержима была лавина наступления наших войск и частей Первой и Второй польских армий, проводивших в январе 1945 года знаменитую Висло-Одерскую операцию, в ходе которой от гитлеровцев была освобождена Варшава и враг отброшен за Одер.
На полях Польши в боях за освобождение польского народа смертью храбрых погибло немало советских воинов. Трудящиеся республики свято хранят память о них. Проезжая по городам и сёлам страны, я видел много могил советских воинов, монументов, установленных в их честь. Они повсюду были украшены польскими и советскими флагами, большими букетами цветов. Эти знаки внимания и благодарности своим освободителям со стороны польского народа трогали наши сердца, и я сказал об этом сопровождавшим нас польским товарищам.
Приземлившись по пути в Зелёную Гуру на одном из аэродромов, мы сразу попали в объятия польских военных лётчиков. Офицер Ян Малицкий, приветствуя нас, сказал, что авиаторы единодушно решили избрать меня почётным лётчиком их авиационного полка, и торжественно вручил мне соответствующую грамоту. С благодарностью приняв её, я пожелал польским лётчикам новых успехов в овладении лётным мастерством, выразил уверенность, что придёт время, когда в их среде, как и в среде советских авиаторов, появятся свои лётчики-космонавты, с которыми, возможно, доведётся вместе побывать в просторах Вселенной.
Молодёжный праздник в Зелёной Гуре, на который собралось несколько десятков тысяч польских юношей и девушек, а также гостей из двадцати двух стран, в том числе из СССР, Чехословакии, Болгарии, Германской Демократической Республики, Финляндии, Англии, Австрии и ряда африканских государств, начался артиллерийским салютом, здравицами в честь советской науки и техники. В небо, на которое то и дело наплывали дождевые тучки, сначала взвились сотни голубей, а затем фейерверочные ракеты. На этом празднике я неожиданно встретился с товарищем по Оренбургскому авиационному училищу бывшим лётчиком-инструктором И. Крючковым. Сейчас он служит в авиационной части Северной группы советских войск, расположенных в Польше согласно Варшавскому договору. Узнав о моём приезде, он поспешил в Зелёную Гуру. Мы обнялись, вспомнили наших общих знакомых — оренбургских однополчан. Я рассказал Крючкову о своей недавней поездке в Оренбург и посещении родного училища. Было приятно встретиться за рубежом Родины с человеком, хорошо знавшим тебя по дням лётной молодости.
К вечеру мы вернулись в Варшаву и ночью прямо с правительственного приёма в честь праздника возрождения Польши, сердечно распрощавшись с товарищами В. Гомулкой, А. Завадским, Ю. Циранкевичем, министром обороны генералом М. Спыхальским и другими руководящими деятелями Польской Народной Республики, вылетели в Москву. Было жаль расставаться с гостеприимной Варшавой, с радушно встретившими нас польскими друзьями. Но время очень «поджимало», ибо через несколько часов после возвращения на Родину мы должны были отправиться в новый дальний путь — в западное полушарие, на Кубу.
Ровно полмесяца продолжалась эта поездка. Экипаж нашего «Ил-18» под командованием замечательного лётчика и прекрасной души человека Ивана Грубы мастерски провёл воздушный лайнер по маршруту протяжённостью почти в 40 тысяч километров, т. е. примерно столько же, сколько пролетел корабль «Восток» по орбите вокруг Земли. Кто-то из товарищей, сопровождавших меня в этой поездке, назвал наш маршрут орбитой мира и дружбы. И это верно: визит в героическую Кубу, в Бразилию и Канаду носил исключительно дружественный характер, проходил в обстановке сердечности.
Много тысяч километров отделяют революционную Кубу от Советского Союза, но она близка сердцу каждого советского человека. Вот почему мы летели туда в очень приподнятом, радостном настроении. Каждый из нас много читал о Кубе, о мужественной борьбе смелого и свободолюбивого кубинского народа за независимость своей родины. Всю многочасовую дорогу туда над Атлантическим океаном мы провели в разговорах об истории Кубы, о её настоящем и будущем. На борту нашего воздушного лайнера оказалась только что вышедшая в издательстве «Правда» книга очерков советских журналистов, побывавших в гостях у кубинского народа. Книга эта сразу пошла по рукам, мы все прочитали её и как-то ещё больше внутренне подготовились к ожидавшим нас встречам с кубинскими друзьями.
Так незаметно подошли последние часы полёта.
— Идём на траверзе Флориды, — сообщил Иван Груба, выйдя на минутку из пилотской кабины.
Флорида… Мыс Канаверал… Оттуда примерно в те квадраты океана, над которыми мы пролетали, опускались капсулы ракет «Редстоун» с Аланом Шепардом и чуть было не утонувшим Гриссомом. Я невольно взглянул в иллюминатор на поблёскивающие за редкой облачностью волны Атлантики. Там, оставляя за кормой хорошо заметный с высоты в 10 тысяч километров след, курсом на Флориду шёл какой-то большой военный корабль. Сообща мы определили — авианосец. Не поджидает ли он здесь падения ещё какой-нибудь ракеты? Кстати сказать, они почему-то далеко не всегда точны в своём движении. Показывали же нам на Кубе одну такую ракету, запущенную с мыса Канаверал и упавшую на кубинские поля. К счастью, она не нанесла повреждений, весь убыток — одна сражённая ею корова. По этому поводу кубинцы сложили немало весёлых, но весьма язвительных анекдотов по адресу американской ракетной техники.
Синяя гладь Атлантики сменилась зеленоватыми водами граничащего с нею Карибского моря. И вот уже под крыльями «Ил-18» появилась красноватая земля Кубы с её пальмовыми рощами и плантациями сахарного тростника. Скорее одеваться! Зная, что на Кубе всегда жарко, товарищи, снаряжавшие нас в полёт, снабдили меня и летевшего вместе со мной генерала Н. П. Каманина специальной формой — белые открытые рубашки, белые тужурки и брюки, белая обувь. К этой форме полагались ещё и военные фуражки с белыми чехлами Друзья по экипажу, критически оглядев нас, признали, что выглядим мы очень импозантно.
— Со страшной силой, — применив моё любимое выражение, определил кто-то.
Но все эти приготовления оказались напрасными. Переоблачаясь в свои белоснежные костюмы, мы не заметили огромной грозовой тучи, наплывавшей на Гавану. Едва наш «Ил-18» приземлился на гаванском аэродроме и, прорулив через строй почётного караула голубоблузых «милисианос», стоявших вдоль всей посадочной полосы, остановился на отведённом для него месте возле здания аэропорта, как грянул гром, засверкали молнии, разразился тропический ливень. Такого ливня, признаться, я никогда не видел.
Что делать? Выйти под этот ливень — значит в одно мгновение промокнуть до нитки. Но видим, встречающие нас премьер-министр Республики Кубы легендарный Фидель Кастро, президент Освальдо Дортикос, Рауль Кастро, Эрнесто Гевара и другие руководители кубинского народа, советский посол на Кубе С. М. Кудрявцев, весь дипломатический корпус, многотысячная толпа жителей Гаваны, несмотря на бушующую грозу, спокойно стоят под потоками тропического ливня и ждут нашего появления из самолёта.
— Пошли, — решительно тронул меня за плечо Николай Петрович Каманин, и мы шагнули на трап. Аэродром был залит водой. Вода хлестала нас по лицам.
Так необычно начались наши горячие, поистине сердечные встречи с кубинскими друзьями. И всё здесь было необычным: восторженные возгласы сотен тысяч кубинцев, тесно обступивших многокилометровую дорогу от аэродрома до центра Гаваны; горящие революционным энтузиазмом глаза «милисианос» — рабочих и крестьян, одетых в голубые рубашки и синие береты, с щегольски вскинутыми на плечи винтовками и автоматами; бородатые лица ветеранов кубинской революции, носящих защитные гимнастёрки с открытыми воротниками и широкие ремни с кобурами для больших пистолетов; демонстрации и спортивные праздники, в которых участвовали сотни тысяч людей — горожан и крестьян, съезжавшихся в Гавану целыми семьями на грузовиках, крытых пальмовыми листьями; многочасовые, полные огня речи обаятельнейшего и любимого народом, доступного каждому Фиделя Кастро; езда по городу на автомобилях с сиренами, лавирующих в потоке городского транспорта со скоростью ста миль в час; звучная «Пачанга» — национальный танец, который танцуют все — от премьер-министра до мальчишки — продавца газет. А самое главное — та необычайная любовь к Советскому Союзу, те широко открытые нам, советским людям, сердца кубинских трудящихся, которые внимали каждому слову, каждому рассказу о жизни нашей Родины, о трудовых успехах советских людей, строящих коммунизм.
Мы прибыли на Кубу в канун большого национального праздника — годовщины Дня 26 июля. Восемь лет назад в этот день Фидель Кастро и его соратники совершили смелое нападение на казарму Монкада в Сантьяго де Куба — один из оплотов кровавого режима американского сатрапа Батисты. Там было поднято знамя народного восстания, под которым кубинский народ спустя несколько лет одержал историческую победу. Утром в день этого праздника я вместе с сопровождавшими меня товарищами возложил венок к памятнику национальному герою Кубы поэту Хосе Марти, а затем проехал в военный госпиталь, где встретился с участниками апрельских боев против интервентов в районе Плайя-Хирон.
Мужественные защитники завоеваний кубинской революции смело отразили военное нападение интервентов на свою родину как раз в те дни, когда я только что возвратился из полёта в космос на корабле «Восток». Проходя по палатам госпиталя, я с большим волнением пожимал руки тем из них, кто пролил свою кровь в этих боях, пожелал скорейшего выздоровления и Фонсеке Санчосу, и Фаусто Диас-Диасу, и другим бойцам, которые, не щадя ни сил, ни самой жизни, самоотверженно отбивали атаки врагов. Встреча с этими простыми людьми, рядовыми кубинской революции, каким-то новым светом озарила все увиденное на Кубе, возбудила чувства ещё большей симпатии и уважения к кубинскому народу, настойчиво борющемуся за свободу и независимость своей страны. И мне подумалось: «Такой народ, глубоко верящий в правоту своего дела, поставить на колени нельзя!»
Эта мысль о непобедимости кубинского народа ещё больше укрепилась во мне в те волнующие часы, которые мы провели во время демонстрации трудящихся на площади Революции, у подножия похожего на гигантскую ракету обелиска — памятника Хосе Марти. Всю площадь залило сплошное людское море. Более миллиона кубинцев собралось сюда на митинг, посвящённый славной дате — годовщине Дня 26 июля. Когда Фидель Кастро бросил в микрофон несколько слов о том, чтобы «милисианос» пропустили собравшихся поближе к трибуне, вся площадь пришла в движение. Народ неудержимой лавиной двинулся вперёд, плотно обступил трибуну и забросал её букетами цветов.
Митинг начался оглашением указа Совета министров Кубинской Республики о награждении советского космонавта Юрия Гагарина недавно учреждённым орденом «Плайя-Хирон». Президент Освальдо Дортикос прикрепил этот орден на мой военный костюм и крепко обнял меня. Затем в свои крепкие объятия меня, как отец сына, заключил могучий Фидель Кастро. Это вызвало взрыв энтузиазма у всех участников митинга. «Мы с Фиделем и Хрущёвым! Мы с Фиделем и Хрущёвым!» — долго скандировала площадь.
Мне предоставили слово. Я сказал, что награждение орденом «Плайя-Хирон», первым кавалером которого я стал по воле кубинского народа, — это прежде всего ярчайшее проявление нерушимой советско-кубинской дружбы, признание заслуг советского народа в борьбе за мир, признание того, что все 220 миллионов советских людей являются искренними и преданными друзьями трудящихся Республики Кубы. Закончил своё выступление словами из приветственной телеграммы Н. С. Хрущёва и Л. И. Брежнева:
«Кубинский народ в борьбе за свободу и независимость своей родины всегда может рассчитывать на братскую помощь и поддержку со стороны советского народа».
Куба. Приём в Президентском дворце. Премьер-министр доктор Ф. Кастро, Ю. Гагарин и президент О. Дортикос.
Чтобы рассказать о всех встречах с кубинцами, передать всю ту теплоту и сердечность, которые окружали нас, советских людей, во время этой поездки, надо написать целую книгу. Через неделю, возвращаясь из Бразилии в Канаду, мы на несколько часов ещё раз задержались в Гаване. Уже ночью, прощаясь с нами, Фидель Кастро подарил мне форму солдата революционной кубинской армии. Я в свою очередь отдал ему на память свою авиационную фуражку. Тотчас надев её на свою крупную, покрытую густыми, чуточку вьющимися чёрными волосами голову, Фидель Кастро приехал в ней на аэродром. Таким я и запомнил его — в защитной гимнастёрке, с пистолетом на боку, в бело-голубой с крылатой эмблемой фуражке, мужественного, пламенного человека с обрамлённым бородой открытым лицом и горящими глазами революционера.
— Мучча грасиас, Фидель! Большое спасибо!-крикнул я на прощание от имени всех моих товарищей.
— Салюд Никите Хрущёву! — ответил он ещё раз, приветственно подняв обе руки.
И все провожающие подхватили:
— Салюд Хрущёву!
На пути с Кубы в Бразилию, так же как и при обратном полёте, для заправки самолёта горючим и отдыха экипажа мы делали остановки на принадлежащем Голландии острове Кюрасао, расположенном в ста милях от южноамериканского континента, ночевали в местном отеле на берегу океана. Архитектура здания отеля выдержана в морском стиле — окна похожи на иллюминаторы крупного океанского теплохода, одна из стен выполнена в виде носовой части корабля, а номера в отеле называются каютами.
Здесь, на Кюрасао, где примерно 110-120 тысяч жителей, выходит пять газет, рассчитанных на население всей группы Малых Антильских островов. И местные корреспонденты, конечно, не преминули воспользоваться такой счастливой для них возможностью, как посадка советского «Ил-18» с космонавтом на борту, для того чтобы организовать летучую пресс-конференцию. Она происходила прямо в отведённом мне номере, то бишь каюте отеля. Эта пресс-конференция, как, впрочем, и в других странах, на мой взгляд, прошла хорошо. Во всяком случае, я постарался как можно полнее ответить на все вопросы, интересовавшие журналистов. Но уже после беседы с ними разыгралась довольно юмористическая сценка, о которой, пожалуй, стоит рассказать.
Вечером мы всем экипажем пошли ужинать в ресторан отеля. Я был в штатском. Время от времени к нашему столику подходили люди, чтобы взять автограф, сказать мне приветственное слово. Кюрасао — перекрёсток морских и воздушных дорог, и в отеле всё время шумно — много ожидающих либо рейсового самолёта, либо прихода какого-нибудь торгового судна.
Под конец ужина к нам подошёл весьма тучный — весом, как он сам сказал нам, в 132 килограмма — мужчина в изрядно помятом костюме.
— Моё имя Циммерман. Агентство Юнайтед Пресс, — представился он на ломаном русском языке.
Приняв за меня одного из членов нашего экипажа, он стал назойливо просить его об интервью.
— Наше агентство, — говорил Циммерман, — самое осведомлённое в мире. Ваше интервью со мной завтра же опубликуют сотни американских газет.
Все мы с вполне понятным лукавством следили, как наш товарищ отбивает атаки Циммермана.
— Бизнес есть бизнес, — старался убедить корреспондент. — Вы уже сделали свой бизнес. Дайте возможность сделать его и мне.
Надо было видеть, как растерялся этот «журналист», когда понял, что ведёт разговор вовсе не с Гагариным.
— Как же так, — сказали ему мои друзья, — всему миру знакомо лицо Гагарина, а вы, представитель столь известного агентства, так обмишурились?…
Долго ещё Циммерман преследовал нашу группу, стараясь всё же заполучить нужное ему для бизнеса интервью. Он делал это и в кабине лифта, и на набережной, куда мы вышли подышать воздухом перед сном, и по очереди стучался в каждый из занимаемых нами номеров. Но интервью, конечно, он не получил. Это был, пожалуй, единственный случай, когда я отказался побеседовать с представителем зарубежной прессы. Уж больно несло от этого субъекта тем, что он сам назвал бизнесом, причём самого низкого пошиба.
На Кубе всё время было жарко. Продолжая полет дальше на юг, мы думали, что в Бразилии будет ещё теплее. Однако там, за экватором, в южном полушарии, конец июля и начало августа считается зимней порой, и температура не превышала летней температуры средних широт нашей страны. В пасмурные дни даже было чуть-чуть прохладно. Но встречи с бразильскими трудящимися оказались очень жаркими. Бразильский народ и в новой столице государства — в заново строящемся городе Бразилиа, и в Рио-де-Жанейро, и в Сан-Пауло встречал нас с большим радушием и сердечностью.
В Рио-де-Жанейро — одном из красивейших городов мира, с его знаменитой набережной — пляжем Капакабана, вытянувшейся на много миль вдоль океана и застроенной небоскрёбами, мы прилетели поздним вечером. Замечательна была картина щедро освещённого, сияющего неоновыми огнями реклам города, открывшаяся нам с борта «Ил-18», подошедшего к аэродрому на большой высоте. После моего возвращения на Родину Герман Титов рассказывал, что он тоже любовался огнями Рио-де-Жанейро, пролетая над ним на «Востоке-2».
Из многочисленных встреч в этом крупнейшем городе страны мне особенно запомнились две: с бразильской молодёжью в студенческом клубе и с рабочими — станкостроителями, химиками и электриками, происходившая в клубе металлургов. Надо было видеть горящие глаза молодых юношей и девушек, которые со всех сторон обступили группу советских людей, послушать их бурные, полные огня выступления, чтобы понять — и здесь, за многие тысячи километров от родной Москвы, живёт немало истинных друзей Советского Союза. Такая же сердечная, дружественная обстановка сложилась и в клубе металлургов, куда рабочие пришли семьями, как на праздник. Отказавшись от услуг полиции, которая, к слову сказать, далеко не всегда была склонна к тому, чтобы вокруг советских людей собиралось много народу, рабочие сами взяли на себя поддержание должного порядка, и он был действительно образцовый.
Первым из выступавших с приветственными словами, обращёнными к советским гостям, был молодой электрик Пауло Бастос, недавно побывавший в СССР и Чехословакии. Он рассказал собравшимся о впечатлениях, вынесенных из этой поездки, сравнил положение рабочего класса Бразилии со счастливой жизнью трудящихся стран социалистического лагеря, призвал крепить с ними дружественные связи.
Бразилия. В профсоюзе металлургов в Рио-де-Жанейро.
— Успехи советского народа, — сказал он, — залог успеха дела мира во всём мире.
Буря оваций в честь Советского Союза поднялась в зале клуба, когда, рассказывая о полёте советского космического корабля «Восток» и о его строителях, я с гордостью заявил, что в Советском Союзе звание рабочего считается одним из самых почётных.
— Советские люди, — сказал я, — питают самые дружественные чувства к народу Бразилии, восхищаются его трудолюбием и повседневной борьбой за укрепление независимости своего государства. Советский народ — миролюбивый народ, он хочет жить в мире и дружбе с Бразилией и надеется, что эта дружба будет укрепляться, станет нерушимой в общей борьбе за дело мира.
В заключение нашей встречи с бразильскими рабочими был исполнен «Интернационал». Пели его каждый на родном языке — бразильские друзья на португальском, мы, советские люди, на русском. Но слова партийного гимна были одинаково понятны всем — они звали плечом к плечу смело идти на борьбу за новую, счастливую жизнь всех народов.
Через день наш «Ил-18» приземлился на аэродроме города Сан-Пауло, насчитывающего более четырёх миллионов жителей. Этот город справедливо называют индустриальным сердцем страны: в его районе сосредоточено около 90 процентов промышленных предприятий Бразилии, на которых трудятся многие сотни тысяч рабочих.
В час нашего прилёта слегка дождило, но потом погода разгулялась, и город, освещённый мягким августовским солнцем, предстал перед нами во всей своей красе. В нём удивительно удачно сочетается архитектура старинных зданий с новыми, недавно отстроенными домами небоскребного типа. Широкие, с переброшенными через них мостами и виадуками проспекты были заполнены потоками автомобилей, оживлёнными толпами людей. Все узнали советских гостей и устроили нам бурную овацию. Многие жители несли самодельные плакаты с написанными на них по-португальски и по-русски словами пролетарского привета Советскому Союзу, призывающими к укреплению дружбы между бразильским и советским народами.
В Сан-Пауло мы пробыли всего одни сутки. Но и за это время, отведя на отдых всего несколько часов, я постарался встретиться как можно с большим числом жителей города: выступить перед рабочими в закрытом спортивном зале; побывать на завтраке в клубе журналистов, меню которого, к слову сказать, состояло из специальных «космических» блюд — салата «Восток», жаркого «Гагарин» и мороженого «Юрий»; нанести визит губернатору штата и мэру города; дружески побеседовать с делегациями трудящихся, пришедшими в гостиницу. Эти встречи и беседы показали, как был прав известный бразильский писатель и общественный деятель лауреат Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Жоржи Амаду, сказавший мне в Рио-де-Жанейро:
— Окружая вас и ваших товарищей, сеньор Гагарин, теплом и восторгом, бразильский народ приветствует в то же время Советский Союз и его народ.
В конце поездки по стране мы провели ещё один день в её новой столице — городе Бразилиа, удивлявшем необычным видом некоторых правительственных зданий, возводимых в абстракционистском духе. Здесь я посетил национальный конгресс и министерство авиации. Затем в президентском дворце мне был вручён орден «За заслуги в области воздухоплавания» — высшая награда, установленная в Бразилии для офицеров авиации.
Ночью «Ил-18» поднялся в воздух и лёг курсом на север. Известный американский промышленник и финансист лауреат Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Сайрус Итон, с которым мне уже доводилось встречаться в столице Болгарии — Софии, пригласил принять участие в пагуошском митинге сторонников мира, который собирался на его родине, в Канаде. Надо было поспешить туда, а затем скорее возвращаться на Родину. Ведь мы уже путешествовали почти две недели, а там, я это чувствовал всем сердцем, уже готовился к полёту в космос Герман Титов.
В Гаване на борт нашего воздушного лайнера работники советского посольства передали только что полученный номер «Правды» с опубликованным в нём проектом новой Программы КПСС, которую должен рассмотреть и утвердить XXII съезд партии. Всем экипажем мы жадно вчитывались в строки этого исторического документа, всенародное обсуждение которого уже началось в Советском Союзе. Знакомясь с основными положениями проекта Программы, я думал о том, какое огромное счастье выпало на долю нашего поколения — осуществить яркую, красивую, благороднейшую мечту передовых людей всего мира — построить коммунизм.
Встречи с людьми самых различных социальных убеждений, происшедшие за последнее время в ряде стран, показали, с каким неослабным интересом человечество следит за тем, как советский народ своим героическим трудом прокладывает дорогу к самому справедливому и самому прогрессивному обществу на земле. Коммунизм, который уже начала строить наша великая Родина, выполняет историческую миссию избавления всех людей от социального неравенства, от всех форм угнетения, эксплуатации, от ужасов войны и утверждает на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство и Счастье всех народов.
В проекте Программы партии я с гордостью прочитал и то место, в котором было сказано о значении развития советской космонавтики. «Большие возможности в открытии новых явлений и законов природы, в исследовании планет и Солнца, — говорилось в проекте Программы, — создали искусственные спутники Земли и космические ракеты, позволившие человеку проникнуть в космос». Читая эти строки, я подумал о Главном Конструкторе, Теоретике Космонавтики и всех строителях наших космических кораблей, о Германе Титове и других товарищах по работе и живо представил, как в это время и они внимательно изучают замечательнейший партийный документ нашего времени. У каждого из них, моих единомышленников по великой цели освоения просторов Вселенной, как и у меня, роятся, наверное, новые смелые планы космических полётов, планы, которые, я верю в это всей душой, будут блестяще осуществлены советским народом. Я рассказал об этом своим спутникам, и мы, летя в Канаду, долго говорили о величественных замыслах нашей партии, изложенных в проекте её новой Программы, о сияющей красоте ленинского пути, которым она ведёт наш народ к вершинам коммунизма.
В Канаде на аэродроме Галифакс нас встретили Сайрус Итон, его жена и дочь. Вместе с послом СССР в Канаде А. А. Арутюняном мы тотчас же выехали в местечко Пагуош — на родину Сайруса Итона. От Галифакса до этого небольшого селения, расположенного на берегу океана, около 200 километров. День был субботний, и жители небольших очень чистеньких городков и фермерских посёлков, мимо которых мы проезжали, с радостью выходили навстречу. Хвойные леса, берёзовые рощицы, поросшие осокой берега небольших речушек, поля со снопами сжатого хлеба и стогами сена напоминали наш, русский пейзаж. Мне даже на какое-то мгновение показалось, что машины идут не по канадской, разделённой то белой, то жёлтой осевой линией шоссейной дороге, а где-то в Подмосковье или на Смоленщине. И так, честно говоря, захотелось на Родину! Захотелось увидеть Валю, ребятишек, побывать у своих стариков, встретиться с братьями и сестрой… Вернусь домой, думалось мне, и сразу к ним, в родной Гжатск…
В Пагуоше возле обшитого сосновыми досками и крашенного в весёлые светлые тона дома Сайруса Итона, стоящего на пригорке возле старого разлапистого дуба, нас уже ждали многочисленные представители канадской общественности, приехавшие сюда из различных уголков Канады и из Соединённых Штатов Америки. Домик на пригорке уже давно получил в Канаде образное название «Дома мыслителей». Именно в нём несколько лет назад проходила первая Пагуошская конференция сторонников запрещения ядерного оружия и всеобщего и полного разоружения. Именно тут в прошлом году Сайрусу Итону была вручена международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами».
После небольшого ленча, организованного попросту, на лужайке, во время которого каждый становился со своей тарелкой в очередь к поварам, раздающим еду, начался митинг. Он проходил неподалёку от «Дома мыслителей». Его открыл крупный мужчина в берете и национальном канадском костюме, состоящем из шерстяной блузы, короткой клетчатой юбки, шерстяных до колен чулок и больших грубого покроя ботинок, напоминающих лыжную обувь. Духовой любительский оркестр исполнил канадский гимн, а затем неожиданно заиграл «Интернационал». Митинг транслировался на всю страну по радио и телевидению. Приложив руку к козырьку фуражки, я подумал, что совсем будет неплохо, если канадские радиослушатели и телезрители прослушают наш партийный гимн: ведь мы, коммунисты, стоим в первых рядах борцов за мир, являемся авангардом всего прогрессивного человечества!
На митинге в Пагуоше, продолжавшемся свыше двух часов, выступило 15 человек. Мне понравилась речь Сайруса Итона. Он сказал:
— Полет корабля «Восток» показывает, что в СССР есть много людей, обладающих огромными возможностями в борьбе за научный и технический прогресс…
В провинции Новая Шотландия (Канада). Ю. Гагарин зачитывает послание Н. С. Хрущёва участникам митинга в Пагуоше.
Затем было предоставлено слово мне. Поблагодарив за приглашение посетить Канаду — самую крупную страну североамериканского континента, под бурные аплодисменты всех собравшихся я зачитал послание главы Советского правительства Н. С. Хрущёва всем участникам пагуошского митинга с наилучшими пожеланиями северному соседу СССР — канадскому народу — в труде и укреплении дела мира.
Только поздним вечером, после пресс-конференции с канадскими и американскими журналистами, проехав ещё около 200 километров, мы добрались до фермы Сайруса Итона, находящейся неподалёку от Галифакса. Плотно поужинав и удобно разместившись в просторном, срубленном из брёвен доме, улеглись на покой. Обычно я засыпаю мгновенно Но в эту ночь мне не спалось, я всё время думал о Германе Титове. Видимо, и он думал обо мне. Ведь именно в эти часы на космодроме Байконур уже шли последние приготовления к старту «Востока-2», а затем он, вознесённый на орбиту могучей ракетой, начал свой суточный полет вокруг Земли.
И когда под утро в доме захлопали двери и раздались оживлённые голоса Сайруса Итона, Н. П. Каманина и других товарищей по поездке, я быстро поднялся с постели, оделся и вышел к ним, совершенно уверенный, что Герман Титов — в космосе. Да, это было так: «Восток-2» уже совершал второй виток вокруг планеты!
Надо ли говорить, сколько было у нас радости! Её разделяли с нами наши гостеприимные хозяева — Сайрус Итон и его семья. Они захлопотали, стараясь создать как можно больше удобств для связи с Москвой, для перевода на русский язык непрерывных радиосообщений о полёте Германа Титова, транслируемых канадскими и американскими радиостанциями.
Первой моей мыслью было как можно скорее передать телеграмму первооткрывателю космических полётов — Никите Сергеевичу Хрущёву и поздравить его с новой выдающейся победой советской науки и техники. Мы быстро написали эту телеграмму и тут же, хотя и была очень плохая слышимость, передали её по телефону в редакцию «Правды». Теперь надо было составить радиограмму в адрес Германа Титова.
— Пиши, — сказали мне товарищи, передавая авторучку и блокнот. — «Космос. Титову».
— Может быть, «майору Титову»?-подсказал кто-то.
— Дойдёт и так, — возразил Николай Петрович, — в космосе один Титов.
«Дорогой Герман, — писал я, — всем сердцем с тобой. Обнимаю тебя, дружище. Крепко целую».
Нахлынувшие вдруг чувства большой искренней любви к другу, смело свершающему новый, более сложный, чем довелось выполнить мне, полет в космосе, так переполнили меня, что я даже запнулся — что же сказать дальше?
— Пиши, — подбодрили меня товарищи, — пиши: «С волнением слежу за твоим полётом, уверен в успешном завершении твоего полёта, который ещё раз прославит нашу Родину, наш советский народ. До скорого свидания».
— Подпишем все вместе? — спросил я друзей.
— Нет, — запротестовали они, — Герману будет приятно получить радиограмму именно от тебя. Так и подписывай: «Твой друг Юрий Гагарин».
На борту «Востока-2» эта радиограмма, пройдя полсвета, прозвучала в то время, когда Герман, пролетев в космосе более 200 тысяч километров, уже пошёл на шестой виток вокруг Земли. Когда мы встретились в районе приземления, он сердечно поблагодарил меня за неё.
Небесные братья Ю. Гагарин и Г. Титов.
Пока мы составляли депешу в космос, на ферме Сайруса Итона шли приготовления к отъезду на аэродром. Туда, к самолёту, уже был вызван Иван Груба со всем экипажем. Мы вручили привезённые с собой подарки Сайрусу Итону, его жене и дочери — очень славной девушке, начавшей изучать русский язык, и помчались в Галифакс. Погода была плохая. Туман закрывал землю, над нею низко, чуть ли не касаясь верхушек деревьев, нависли дождевые облака. Но мы верили в лётное мастерство командира нашего «Ил-18». Всем нам хотелось как можно скорее вылететь на Родину, чтобы поспеть в район приземления «Востока-2» к тому времени, когда Герман закончит программу своего полёта и вернётся на родную советскую землю. Сайрус Итон и все окружающие нас канадские друзья хорошо понимали наше возбуждённое состояние и всячески помогали организации вылета «Ил-18».
И вот тепло, по-дружески распрощавшись с ними, мы уже в воздухе. Иван Груба виртуозно пробил облака, над нашим воздушным лайнером засияло солнце.
Летя над Атлантикой, каждый из нас то и дело вглядывался в высокое чистое небо — казалось, вдруг он увидит «Восток-2», проходящий где-то над нашим «Ил-18». И весь путь до Исландии, а затем в ночном небе над Северным морем и Скандинавией мы провели в непрерывных разговорах о полёте Германа. По картам отмечали пройденный им путь, живо обсуждали перехваченные в эфире сообщения московского радио. Вспомнили, что ровно шестнадцать лет назад, 6 августа 1945 года, полковником американских военно-воздушных сил Робертом Льюисом была сброшена на японский город Хиросиму первая атомная бомба, убившая и искалечившая сотни тысяч мирных жителей, что от радиационных заражений крови ещё и сейчас в Японии умирают люди. Мрачную дату — 6 августа 1945 года, день первой атомной смерти — ныне в истории человечества перечёркивает новая, светлая дата — 6 августа 1961 года, день нового триумфа советской науки, достижения которой в освоении космоса прежде всего направлены на благосостояние человека, на дело мира.
Когда стало известно, что Герман отдохнул, поспал и продолжает выполнять программу полёта, я тоже решил прилечь. Но и на этот раз спалось тревожно. Хотя я и твёрдо верил в безотказность нашей первоклассной космической техники, верил в силы и возможности своего друга, всё-таки чувство беспокойства всё время жило в душе. Ведь близилось время приземления «Востока-2» — заключительного и очень трудного этапа полёта. Прикорнув ненадолго, я вскочил и с помощью летевших со мной журналистов написал добавление к статье, уже переданной с борта «Ил-18» в «Правду».
«Час назад, — говорилось в этом добавлении, — на борт нашего самолёта, летящего из Канады в Москву, поступило очередное сообщение, что „Восток-2“ продолжает свой блестящий рейс над планетой. Проделав гигантскую работу на орбите вокруг Земли, Герман Титов уже отдохнул в полёте. Его пульс отличный. Самочувствие бодрое. Все ручное и автоматическое управление кораблём работает безукоризненно.
По часам вижу — близится время посадки. Я знаю, сейчас у Германа Титова наступают самые ответственные минуты: приземление в заданном районе. 12 апреля в эти же часы суток я тоже испытывал волнение и хорошо понимаю всю ту ответственность, которую несёт Герман Титов, и всем сердцем разделяю с ним его чувства. Я уверен, что этот отличный парень с честью выдержит все испытания и полностью выполнит сложную и нелёгкую программу второго в истории полёта человека в космос. Герман Титов — коммунист, он выдержит всё, что выпадет на его долю. Сейчас мы оба — он по орбите, опоясывающей планету на огромной высоте, а я из западного полушария — летим на восток, навстречу солнцу. Мы скоро обнимем друг друга, мой верный крылатый товарищ!»
Бортрадист Алексей Бойко тотчас же передал эту радиограмму в Москву. Снова взошло солнце и радостным светом нового дня залило воды Балтики, зелёные поля братских социалистических республик нашей Родины. «Ил-18» всё ближе и ближе подходил к Москве.
Мы приземлились на Внуковском аэродроме почти в то же время, когда Герман Титов приземлился в тех самых местах, куда немногим больше ста дней вернулся из космоса и я. Через некоторое время мы вылетели к нему.
Я застал Германа Титова в знакомом мне двухэтажном живописном домике, в котором я отдыхал после своего возвращения из космоса. Сухощавый, гибкий, сильный и необыкновенно ловкий, он, несмотря на все тяготы суточного пребывания на орбите, дышал здоровьем, и только в красивых выразительных глазах его чувствовалась усталость, которую не могла погасить даже улыбка. При виде его у меня дрогнуло сердце. Мы обнялись по-братски и поцеловались, объединённые тем, что каждый из нас пережил в космосе. Этот мужской поцелуй был нежнее и крепче всех других поцелуев. Я даже подумал: «Чем чувства проще, тем они сильнее».
С чисто профессиональным интересом перелистал я бортовой журнал космического корабля, лежавший на столе. Записи в нём были сделаны чётким, разборчивым почерком, на страницах встречались беглые рисунки: пятиконечные звёзды и спирали. «Совсем как на страницах рукописей Пушкина», — подумал я, вспомнив любовь своего друга к творчеству великого поэта. Я даже подумал, что хорошо было бы опубликовать записи наблюдений, сделанных в космосе.
Не сговариваясь, мы отложили обмен мнений на следующий день и около часа гуляли на крутом, поросшем густой травой берегу Волги, прислушиваясь к волнующим гудкам пароходов, всматриваясь в голубые зарницы не то затухающей, не то разгорающейся грозы. Ныли комары, и, как перед дождём, летали стрекозы. К домику приходило много людей. Космонавт охотно разговаривал с ними, фотографировался, дарил автографы. Мягкая улыбка счастья витала вокруг его губ. Пришли пионеры, принесли букеты полевых цветов, повязали Титову красный галстук.
Незаметно наступил вечер, и нас позвали ужинать. За столом, на котором было много фруктов, собрались космонавты. И опять-таки никто не спрашивал о полёте. Все деловые разговоры перенесли на другой день.
Герман взял стакан чаю, жадно вдохнул его аромат, залюбовался золотистым цветом, с удовольствием выпил, сказал:
— Вода в космосе куда менее вкусна.
Космонавт-Три, переплетая пальцы обеих рук, заметил, что в последнее время появляются произведения, посвящённые покорению советскими людьми космоса. Космическая тема захватила мастеров искусств, вторглась в кино, живопись, литературу. Особенно много пишут стихов. Сочиняют и начинающие талантливые молодые люди, пишут и признанные поэты.
Я сказал, что киевский поэт Леонид Вышеславский, чьё стихотворение «Освободитель» было упомянуто в моих записках, опубликованных в «Правде», прислал мне рукопись своего нового поэтического сборника «Звёздные сонеты». В рукописи сорок восемь сонетов. Шесть из них мне особенно понравились, и я передал их в «Правду».
Пришёл врач Андрей Викторович, напомнил Герману Титову, что пора спать, но тут к нему явился корреспондент «Правды» с просьбой написать для газеты автограф и протянул бланк фототелеграммы. Кто-то подал ручку, наполненную чёрной тушью, и Герман написал:
«Читателям „Правды“.
От всей души приветствую читателей «Правды» и в их лице весь советский народ с блестящей победой советского строя, нашей науки и техники.
Я рад, что партия и правительство оказали мне доверие продлить и приумножить то, что сделано нашей Родиной в освоении космоса.
Сделано много, но предстоит сделать ещё больше!»
Это мы прочитали на второй день, просматривая «Правду» и другие газеты. Все они были посвящены полёту «Востока-2».
Пришли корреспонденты центральных газет, попросили Титова провести пресс-конференцию. Она состоялась на втором этаже.
Отдохнувший за ночь Герман выглядел свежо и бодро. Он вошёл быстро, переставил со стола вазу с букетом, затем потянулся к ней, вынул розу и то нюхал её, то обрывал лепестки, и я впервые заметил, что руки у него маленькие, сухие, приятные.
На вопрос, как он себя чувствует, ответил:
— Вы это сами видите… Отдохнул и готов снова приступить к работе, — и провёл рукой по тщательно выбритой щеке.
— Ваша первая мысль, первое чувство, когда вы вернулись на Землю и увидели своих соотечественников? — спросил корреспондент «Красной звезды».
— Когда я приземлился, то подумал: ну вот, работа закончена, работа, в которой принимали участие многие специалисты страны. Я испытывал радостное чувство исполненного долга, радовался тому, что порученное задание выполнено и я вновь на советской земле.
Кто-то поинтересовался, сколько раз чередовались день и ночь в продолжение полёта.
— На каждом витке, — ответил майор Титов. — Таким образом, — сказал он шутливо, — за одни сутки я отработал семнадцать дней и семнадцать ночей.
С увлечением космонавт говорил о космическом корабле как одном из совершеннейших творений современной техники, щурил зеленоватые глаза и улыбался.
— Управлять кораблём легко и приятно, — сказал он, — можно его ориентировать в любом положении, направлять куда надо, и там, где нужно, приземлять. В полёте я чувствовал себя хозяином — пилотом корабля. Корабль был послушен моей воле, моим рукам.
Титов говорил стоя, жестикулируя руками. В такой позе его было легко рисовать.
С теплотой и сердечностью отозвался Герман о создателях космического корабля:
— Это не только замечательные специалисты, но и прекрасные, душевные люди. При всей их занятости они находили время побеседовать со мной, ответить на все мои вопросы.
Он с похвалой отозвался о научных и производственных коллективах, участвовавших в создании корабля и в его подготовке к полёту.
Титова спросили:
— Как вы спали в космосе и какие видели сны?
Под дружный смех присутствующих космонавт ответил, что он всегда спит хорошо и снов никогда не видит.
— Сны смотреть некогда, — отшучивался он, — во сне надо отдыхать. В полёте я хорошо выспался. Постель, правда, не пуховая, но выспаться можно.
Титову задали вопрос: совпадают ли его ощущения и впечатления с теми, что видел и испытал Гагарин?
— Все полностью совпадает, — ответил он.
Беседа была столь интересна, что даже я, уже знакомый со всем рассказываемым, слушал её с большим вниманием.
В заключение пресс-конференции журналисты поздравили Германа Степановича Титова с знаменательным событием в его жизни: Центральный Комитет КПСС принял его в члены ленинской партии. В ответ на это Герман Степанович сказал:
— Я безмерно благодарен Центральному Комитету нашей партии за оказанное мне доверие. Я заверяю ЦК КПСС, Советское правительство, что и впредь буду выполнять все задания так, как это положено коммунисту.
Первая пресс-конференция Титова продолжалась свыше часа. Отщёлкали фотоаппараты, погасли ослепительные вспышки блицев. Космонавт, попрощавшись с журналистами, вышел из комнаты. В коридоре его поджидали врачи. Режим дня Германа Титова продолжал оставаться строго подчинённым требованиям науки.
Вечером я улетел в Москву и увидел своего друга на другой день на Внуковском аэродроме. Погода разгулялась вовсю. Светило солнце. Титова встречал весь Президиум Центрального Комитета КПСС во главе с Н. С.Хрущёвым.
* * *
Дорога в космос! Большое счастье выпало мне оказаться на её широком просторе, первому совершить полёт, о котором давно мечтали люди. Лучшие умы человечества прокладывали нелёгкий, тернистый путь к звёздам. Полет 12 апреля 1961 года — первый шаг на этом нелёгком пути. Но с каждым годом советский народ — пионер освоения космоса — будет проникать в него все дальше и глубже, ничто не сможет остановить нашего устремления в иные миры, к планетам Вселенной. И я верю, что и мне доведётся вместе с моими товарищами космонавтами совершить ещё не один полет, и с каждым разом все выше и дальше от родной Земли. Ведь советские люди не привыкли останавливаться на полпути.
Много имён назвал я в своих записках — пока только первой части книги, в которую, несомненно, будут вписаны новые страницы. Пока это только начало, я ещё молод и не собираюсь складывать крылья. Ведь неспроста Дмитрий Павлович Мартьянов, впервые, как орёл своего птенца, поднявший меня в небо, говорил:
— Крылья растут от летания.
И Мартьянов и другие товарищи, с которыми довелось делить и радость успехов и горечь неудач на пути к цели, дороги мне тем, что на каждом отрезке жизни делали меня настоящим человеком. С каждым годом всё больше и больше людей принимало участие в моём воспитании. Сотни замечательных сынов Отечества были и продолжают оставаться моими наставниками. Каждый из них следует ленинским законам воспитания молодого поколения, и, пользуясь случаем, я приношу им здесь свою сыновнюю благодарность.
Я пишу эти заключительные строки своих записок, а по улице, широкой и красивой, шумно идут весёлые девушки и юноши, одетые в форменные костюмы ремесленников. Не так давно и я принадлежал к их задорному, охваченному романтикой подвигов племени. Ни у кого из них пока нет Золотых Звёзд Героя, орденов, лауреатских медалей. Но у них все впереди, все дороги жизни с их благами и радостями, завоёванные нашими дедами и отцами, открыты им.
Молодое поколение, перед которым Родина широко распахнула двери в радостную, творческую жизнь. Страна, как заботливая мать, воспитывает его на легендарной истории своей героической Коммунистической партии, на трудовых подвигах народа — творца и созидателя. Это для них — молодых хозяев страны, призванных покорять пространство, и время, и космос, — Родина открыла самые лучшие школы и стадионы, построила лучший в мире Московский университет, где на бронзовой статуе профессора Н. Е. Жуковского, высечены вещие слова: «Человек… полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума».
Молодёжь Страны Советов смело смотрит в прекрасное будущее. Это ей выпало на долю великое счастье — построить коммунистическое общество. Впереди у каждого молодого советского человека большая и серьёзная учёба и работа. Стране нужны инженеры и агрономы, врачи и педагоги, слесари и трактористы. Для человека любой профессии найдётся у нас интересное и полезное дело. Советская молодёжь самая талантливая в мире. Наши лётчики летают быстрее, выше и дальше всех. Наши учёные создают космические корабли, штурмуют Северный и Южный полюсы земного шара. Это они, молодые патриоты, преодолевая летнюю жарынь и зимние ураганы, героически осваивают целинные и залежные земли. В их самоотверженном труде раскрываются мужественные черты высокого морального облика советского народа, вдохновлённого великими целями мирного созидательного труда — строительства коммунизма.
Успех первых космических полётов побуждает к рвению и мужеству все молодое поколение. Молодёжь чувствует, как у неё вырастают крылья. «Всё новые и новые советские люди, — говорил Никита Сергеевич Хрущёв, — по неизведанным маршрутам полетят в космос, будут изучать его, раскрывать и дальше тайны природы и ставить их на службу человеку, его благосостоянию, на службу миру».
Да, мы все делаем для укрепления могущества нашего социалистического государства, и наша жизнь, вся, до последней кровинки, до последнего дыхания, принадлежит прекрасной Советской Родине.



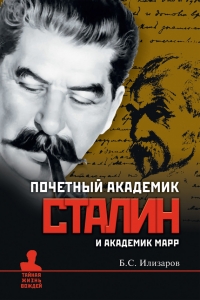

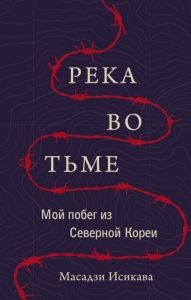

Комментарии к книге «Дорога в космос», Юрий Алексеевич Гагарин
Всего 0 комментариев